Красный Ярда [Георгий Гаврилович Шубин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Красный Ярда
Пролог
По народному поверью, ночью к родившемуся ребенку приходят судички и предсказывают судьбу.Тридцатого апреля 1883 года три судички, феи-предсказательницы, с незапамятных времен странствовавшие по чешской земле, добрели до матери ее городов — Золотой Праги. Поздно ночью они незаметно вошли в квартиру пана учителя Йозефа Гашека, проникли в детскую комнату и, став у колыбели, задумались над судьбой только что родившегося мальчика. Мудрые судички давно не ладили между собой и предсказывали детям разные судьбы. Младшая, добрая судичка, пророчила счастливую жизнь, старшая, злая — несчастливую, а средняя, ни добрая, ни злая, выслушав их, предсказывала обычную судьбу, в которой были и счастье, и несчастье. Взглянув на младенца, младшая судичка обрадовалась и, не скрывая своего чувства, сказала: — Мальчик будет счастливым, веселым и озорным. Будет он знаменитым писателем! Старшая судичка, обиженная тем, что младшая начала предсказывать первой, поглядела на ребенка и задумалась. Младенец открыл глазенки, уставился на нее и поморщился. — Мальчишка только что появился на свет, а уже недоволен, — проворчала старшая. — Этак он станет великим бунтарем и насмешником. — Ну, не сердись, сестрица! — ласково произнесла младшая. — Ребенок не виноват в том, что ты устала и что он родился на нашей многострадальной земле. Вспомни, как мы предсказывали судьбы писателям Карелу Гавличеку-Боровскому и Яну Неруде. Оба они крепко спали в своих колыбельках, а когда выросли, то сильно беспокоили австрийскую полицию. Эти писатели осмеивали и бичевали все дурное. Их не сломили никакие преследования. У нас при императоре Франце-Иосифе Первом каждый чех может стать писателем-сатириком, если мы предскажем ему такую судьбу. — А что за прок писателям от их беспокойного ремесла? — не сдавалась злая судичка. — Живут в нужде. Каких только мытарств не испытывают из-за своих ехидных сочинений. Нет, я не завидую чешским писателям! — Хорошие писатели любят свою родину, — объясняла ей младшая судичка. — Свое счастье они видят в борьбе за счастье народа. Конечно, очень жаль их — уж больно недолог их век. Мы живем много сотен лет, а они умирают, не прожив и одной сотни. Гавличек давно умер, а Неруда доживает последние годы. Подумай только, что будет с чешской землей, если в ней переведутся сатирики. Мещане только и ждут этого. Но они не дождутся. Пусть этот мальчик станет самым знаменитым чешским поэтом-сатириком! Пусть его узнает весь мир! — Его узнает весь мир, если он сам сумеет вырваться из нашего чешского мирка, — тихо добавила средняя судичка. — Эк вы, раздобрились! — ехидно усмехнулась старшая судичка. — Хватит ему славы народного писателя. Как он может стать всемирно известным писателем, если о нашей земле ничего не знают даже соседи? Кроме того, пусть он будет не поэтом, а прозаиком. — Ну, не упрямься, сестрица! — упрашивала злую судичку добрая. — Я ведь не раз тебе уступала!.. Тем временем средняя судичка повернулась к младенцу и торжественно произнесла: — Быть тебе, мальчик, знаменитым писателем-сатириком. Что писать — стихи или прозу — решай сам! Не успела средняя закрыть рот, как злая судичка протараторила свое суровое предсказание: — Будешь ты, мальчишка, не только знаменитым писателем, но и неукротимым бунтарем. Исколесишь полсвета и многое увидишь. Будешь великим бродягой и неугомонным жизнелюбцем. Будешь ты, чтобы не плакать, смеяться всю жизнь. А жить ты будешь недолго. — В уме ли ты, сестрица! — возразила ей добрая судичка. — Разве такое надо ему пророчить? Смех доставит ему много радости, — и, повернувшись к младенцу, добавила: — Твои книги, мальчик, будут умными и веселыми. Ты и твой герой будете родными братьями Гонзы, веселого и хитроумного парня, которому мы несколько веков тому назад предсказали счастливую судьбу. Как и Гонзу, тебя и твоего героя полюбят люди. — Славная, завидная судьба у тебя, мальчик, — согласилась средняя судичка. Злая судичка с укором взглянула на сестер: — Во время войны, которая разразится в начале будущего столетия, австрийцы заберут тебя в армию, и ты погибнешь на поле боя. — Пожалей его, сестрица! — умоляла ее добрая судичка. — Пусть он лучше сдастся в плен, а потом храбро сражается за свободу Чехии. — Ну, ладно, — смилостивилась злая судичка. — Пусть будет по-твоему. Только он там не выживет. Его убьют в драке пьяные матросы. — Не убьют, — твердо сказала средняя и, наклонившись над ребенком, прошептала: — Остерегайся своих земляков, малыш. Иные из них хуже иноземцев. — Пусть он останется целым и невредимым, — пожелала младшая судичка. — Пусть он пройдет полсвета, наберется ума-разума и станет не только великим писателем, но и правителем большого царства-государства… — Он недолго будет править этим государством, — заметила средняя. — Он вернется к писательскому ремеслу. За свою короткую жизнь ему нужно очень много написать. Мальчику действительно не хотелось царствовать — он зашевелился и готов был расплакаться. — Нам пора уходить, — сказала старшая судичка. — Сейчас проснется мать. — Да, пора идти, — согласились ее сестры. На пороге младшая судичка обернулась и, ласково улыбаясь, сказала младенцу на прощание: — Будь счастлив, малыш! Никогда не плачь и не унывай! Смейся всю жизнь!К. Я. Эрбен
Глава первая
Петухи поют перед рассветом.В густом тумане, заполнившем долину Влтавы, по обоим ее берегам, спала Золотая Прага — мать чешских городов. Ночная мгла словно навсегда скрыла от глаз самые высокие горы и башни — исчезли Вышеград и Градчаны, Петршин и Витков, костелы и дворцы, доходные дома и лавки. На Староместской площади, возле ратуши и Тынского храма, вцепившись когтями в Марианскую колонну, маячил австрийский двуглавый орел. Когда над площадью гремел гром и сверкали молнии, австрийский герб дрожал от страха и казался уже не грозным двуглавым орлом, а безобразным, неподвижно повисшим в воздухе нетопырем, на голове которого торчало что-то круглое — то ли императорская корона, то ли солдатская каска, то ли ночной горшок. Ночью куда-то исчезали слуги черно-желтого орла — австрийские солдаты, австрийские полицейские, австрийские судьи, австрийские тюремщики, австрийские сыщики, австрийские чиновники, австрийские цензоры. Вместе с ними убирались восвояси и божьи слуги — римско-католические священники и иезуиты. Покидали свои посты корыстолюбивые, придирчивые таможенные чиновники, которые все еще собирали пошлину на влтавских мостах. Тогда, под покровом темноты, встречались сестры-судички и веселый парень Гонза — сказочные герои, перед которыми австрийские власти были бессильны. Не спали и куранты Староместской ратуши, построенные и украшенные искусными мастерами. Неустанно, день и ночь, отсчитывали они время. Когда часы били, на башне ратуши совершалось маленькое представление. Фигурки на старинных курантах оживали. Скупец хватался за мошну, щеголь охорашивался перед зеркалом, турок, давний враг монархии Габсбургов, испуганно вертел головой, смерть дергала шнур. Над циферблатом открывалось окошечко, и в нем плавно двигались святые апостолы во главе с Христом. Появление последнего апостола, Иуды, сопровождалось адским грохотом. Под этот грохот предатель проваливался в преисподнюю. Окошко закрывалось, и петух, стоявший над ним, взмахивал крыльями и громким криком возвещал наступление нового часа. Староместские куранты знают, что время течет то быстро, то медленно, и никогда не останавливается. Кому же, как не им, знать это? Они были свидетелями великих событий и перемен на чешской земле. Они помнят и расцвет Золотой Праги, и ее упадок. Как быстро летело время при императоре Карле IV, чешском короле, когда рядом с пышным вельможным Старым Местом закладывалось и расцветало Новое Место, город нищих ремесленников и богатых купцов, когда был основан университет, ректором которого потом стал славный магистр Ян Гус; оно мчалось, как всадник на взмыленном скакуне в те годы, когда «божьи воины», предводительствуемые непобедимым Яном Жижкой, сражались с железными рыцарями императора Сигизмунда. И как медленно оно потекло после поражения чешских войск на Белой горе. С этого момента куранты отсчитывали столетия бедствий. Чешское государство было уничтожено, народ попал под власть Габсбургов, которые к титулу австрийского императора прибавили титул короля чешского. Теперь бой пражских курантов напоминал похоронный звон. Тридцать лет завоеватели жгли и грабили чешскую землю. Ее народ едва не погиб — из четырех миллионов чехов уцелело около миллиона. Обезлюдели города и села. Пылали замки и усадьбы непокорных панов. Многие ученые, философы, писатели, художники, музыканты, педагоги, проповедники либо погибли, либо предпочли смирению перед завоевателями горестное изгнание за пределы родины. Иезуиты в черных сутанах первыми возвестили наступление тьмы — они разрушали памятники, ломали статуи, рвали картины, жгли старинные рукописи, книги, даже библии и деяния святых. Для них Чехия была «мятежной гидрой», страной еретиков-гуситов. Они хотели сжечь ее дотла. Чудовищный костер полыхал на чешской земле, и казалось, что на нем после Яна Гуса горел весь народ. Эту печальную годину в своей истории чехи окрестили эпохой ночи, тьмы, мракобесия, временем умирания, засыпания, погребения заживо. Но свет светил во тьме, и тьма не объяла его… На короткое время он забрезжил и над чешской землей. В начале XIX века в Чехии, Моравии и Словакии появилось целое созвездие филологов, философов, историков, этнографов, писателей, художников, музыкантов, артистов, собирателей древностей. Они знали, что носителями родной культуры остались крестьяне и ремесленники. Только в их семьях еще говорили на чешском языке, пели народные песни, по-старому одевались и плясали. Желая помочь своему народу, патриоты просвещали его и обогащали его культуру. Народ назвал их «будителями», а это время — эпохой пробуждения, возрождения, воскресения. Будители обратили свои взоры на славянский мир и особенно на Россию, в которой видели надежного друга и союзника. Австрийские власти, чиновники, жандармы и иезуиты подавляли малейшее стремление чехов к свободе и независимости. Чешский народ не мог примириться со своей рабской судьбой. Против австрийских поработителей восставали гуситы, псоглавцы, моравские заговорщики, ремесленники, студенты, рабочие. Народ ненавидел как австрийских поработителей, так и их чешских прислужников. Для народа лоскутная Австро-Венгрия была мрачной тюрьмой, а старый император Франц-Иосиф I — главным тюремщиком и палачом. Одни чехи считали Австро-Венгрию черно-желтой Бастилией, Могилой народов, Ракоуском, «Раковией» — страной рака, животного, питающегося падалью; другие видели в Австро-Венгрии нетопыря, пугающего людей ночью; третьи представляли ее в виде бездушного бюрократа, за которым маячил все тот же двуглавый орел с крыльями из штыков и лапами, сжатыми в когтистые кулаки. Пражские куранты отсчитывали последние годы ветхому императору и его империи. А пока была ночь, и Прага спала крепким сном.
Глава вторая
Нет никого, кто бы всем одарен был щедро богами.На двенадцатый день мальчика окрестили в старинном костеле св. Штепана, кафедральном соборе Нового Места. Под сводами храма торжественно прозвучали три имени, которыми нарекли ребенка родители и церковь, — Ярослав Матей Франтишек — в честь славянского князя, евангелиста Матфея и богом данного императора Франца-Иосифа Первого. Родители Ярки то и дело меняли квартиры, стараясь снять их подешевле. Жили Гашеки то в Новом Месте, то на Виноградах. Из одного жилья в другое переезжали бедная мебель, изображения святых. Ярка часто болел и, как объясняла мать, после воспаления среднего уха потерял музыкальный слух. Мальчик не оправдывал пословицы: «Что ни чех, то музыкант», и родителям это было обидно. Жизнь не баловала семейство Гашеков. Юношей Йозеф Гашек влюбился в барышню Каченку, дочь Антонина Яреша, баштыря — смотрителя княжеского рыбного пруда, и был с нею помолвлен. Тринадцать лет невеста ждала, когда он выбьется в люди, но Йозеф Гашек так и не закончил университет, а без диплома он не мог и мечтать о месте учителя математики в имперско-королевской гимназии. Прослужив два года в реальном училище Сланского, пан учитель Гашек наконец обвенчался с Катержиной Ярешовой. Они мечтали иметь ребенка, но их первенец, Йозеф, прожил всего несколько недель. Супруги были безутешны и воспрянули духом только после рождения второго сына, Ярослава. Ярке не было года, когда в семье появилась сирота Манка, дочь его дяди Мартина Гашека. Отец Ярки стал опекуном и хранителем ее приданого — пятнадцати тысяч гульденов. Спустя два с половиной года у супругов Гашеков родился еще мальчик — Богуслав, Божка. После его рождения к Гашекам переехал отец пани Катержины. Антонин Яреш овдовел, вышел на пенсию и решил доживать свои последние дни у дочери. Дети полюбили старого баштыря, его сказки и истории. В них дед выглядел то могучим богатырем, храбро сражавшимся с браконьерами, то хитрым героем лукавых сказок, всегда одолевающим управляющего-обжору. Ярка любил гулять с дедом по Новому Месту. Здесь жили ремесленники, кузнецы, бондари, плотники, каменщики, пивовары, мясники, колбасники. Особенно его тянуло на Карлову площадь. Там выступали бродячие артисты и красиво, по команде офицера с саблей, маршировали солдаты под бой барабана. Однажды утром Яреш пошел за табаком и взял с собой внука, который любил глазеть на табаки и сигары в ярких, раззолоченных коробках, красовавшихся на витрине табачной лавки. Они дошли до Карловой площади, и дед Антонин едва успел войти в лавку, как шалунишка-внук повернулся на каблучках и куда-то исчез. Старик заглянул во двор: мальчишка словно сквозь землю провалился. Дед в отчаянии бегал по площади и спрашивал прохожих, не видели ли они четырехлетнего мальчика в темной шляпе и высоких сапожках. Прохожие только пожимали плечами. Старик вернулся домой один. Супруги Гашеки всполошились и стали искать сына. Полицейские Нового Места были подняты на ноги, но и они не нашли мальчика. Пани Катержина горько плакала, думая, что ребенка увели цыгане. Но деда не покидала надежда. Он снова пошел на Карлову площадь. Во дворе старых казарм, где помещался военный госпиталь, дед Антонин увидел необыкновенное зрелище. У самых ворот маршировал его пропавший внук, лихо сдвинув шляпу на затылок. У него в зубах торчала длинная трубка, а из нее, как из фабричной трубы, валил густой дым. Солдаты, находившиеся здесь на излечении, веселились, наблюдая за проделками шалуна. Когда Антонин Яреш подошел вплотную к воротам, внук заметил его, бросил трубку солдату, сидевшему рядом, и подбежал к деду. Старик готов был отчитать озорника, но тот как ни в чем не бывало спросил: — Дедушка, ты уже купил табак? Старик только покачал головой: — Идем, дурачок… Ярде шел седьмой год, когда его отвели в школу, в класс пана учителя Босачека. Учился Ярка хорошо. Много озорничал и смешил товарищей — за это они называли его «Гашек-шашек», «Гашек-шут». Любимой игрой Ярки было «ледяное побоище» между новоместскими и смиховскими ребятами. Вооруженные рогатками и снежками мальчуганы сходились на льду Влтавы. Победители обшаривали карманы пленников, отбирали трофеи — перочинные ножи, монетки, рогатки, лакомства и образки святых. На спинах побежденных они писали мелом обидные слова и в таком виде отпускали домой. Пани Катержина пыталась скрыть от мужа Яркины грехи — быстро отмывала сына, чинила одежду, не переставая бранить его за дурное поведение. После школы Ярда поступил в гимназию — там он увлекся языками, литературой и историей. Историю преподавал Алоис Ирасек, известный историк и писатель. Его патриотическими рассказами, повестями и романами зачитывались и стар и млад. В жизни Гашеков ничего не менялось — только дети росли. Их надо было кормить, одевать, обувать, учить. Йозеф Гашек днем преподавал в училище, вечером репетировал отстающих учеников. Семья кое-как сводила концы с концами. На одной из блеклых фотографий Ярда видел двух стариков в славянских костюмах — родителей отца — Франтишека Гашека и его жену Анну. Дед, потомок старинного крестьянского рода из Южной Чехии, трудолюбивый пахарь и веселый музыкант, в душе был бунтарем. Когда в 1848 году в Праге восстали рабочие, он отправился туда. Революция увлекла его, он познакомился с ее вождями — студентом-центурионом Йозефом Фричем и знаменитым русским революционером Михаилом Бакуниным. Дед Франтишек сражался рядом с ними на баррикадах и вернулся домой героем. Но в характере Йозефа Гашека ничто не напоминало отца-бунтаря — он не осуждал ни бездушный абсолютизм Габсбургов, ни своего начальника, который скудно оплачивал его труд, и безропотно тянул свою лямку. Слабовольный и мнительный, он убедил себя, что болен раком. Мысль о скорой смерти превратила его в угрюмого ипохондрика и заставила искать утешения в трактире. Он ушел из реального училища и поступил на службу в банк «Славия». Работа там была скучная и однообразная, но платили ему за нее больше. Так пан учитель Гашек стал мелким чиновником. Во время эпидемии инфлюэнцы пан Гашек тяжело заболел и почти полгода не вставал с постели. Деньги уходили на врачей, а больной хирел на глазах. Он не верил в выздоровление, стал набожным и суеверным. Рядом с ним постоянно лежало распятие из черного дерева — семейный талисман Ярешей. Когда никого возле не было, он брал распятие и шепотом произносил какие-то обеты. Пани Катержина со страхом наблюдала за мужем, и ее сердце сжималось от дурного предчувствия. Однажды Йозеф Гашек позвал к себе детей, чтобы проститься с ними. Ярда, Божка и Манка подошли к постели больного и опустились на колени. — Не плачьте… Бог милостив. Помолитесь за меня… — хрипло сказал умирающий, и черное распятие выскользнуло из его пальцев. Учитель отмучился, а муки его семьи только начинались. У пани Катержины не осталось ни гроша. В банке «Славия» ей выдали жалкое отступное пособие. Пани Катержина нашла работу в конфекционе — за скромное жалованье шила белье. Всю тяжелую и грязную работу она взвалила на плечи Манки, а сама с утра до ночи сидела с иглой. Поговорив с приходским священником, она устроила к нему Ярду министрантом — служкой. По вечерам в будни и утром в воскресенье Ярда ходил в костел и помогал патеру — подавал ему требник и воду для омовения рук. Если требовалось причастить умирающего, Ярда, одетый в красивое облачение, сопровождал патера, несшего святые дары, звонил в колокольчик. Прохожие останавливались, крестились, священник благословлял их. Мальчишки не без зависти смотрели на своего сверстника, а потом нещадно дразнили его. Ярде было не по душе с постным видом ходить возле патера, но мальчик смирялся: как ни мал заработок министранта, а все же деньги. В церкви Ярде очень нравилась музыка. Вслушиваясь в голос органа, Ярда забывал все на свете, путал и нарушал порядок мессы. Это сердило священника, однажды он в сакристии ударил Ярду. Мальчик сорвал с себя облачение, швырнул его в лицо патеру и выбежал вон. — Опять дрался, — тихо сказала мать, увидев разбитую губу и опухшую щеку сына. — Как ты будешь прислуживать патеру с таким лицом — ума не приложу… Ярда молчал. Мать ничего не узнала от сына. Только тогда, когда патер отдал ей несколько монеток — заработок Ярды — и побранил мальчика за нерадивость и гордыню, пани Катержина поняла все. Никакие уговоры и просьбы не могли заставить Ярду вернуться к патеру. Летом, когда мальчиков отпустили на каникулы, пани Катержина поехала с детьми в родные места. В Ражицах они поселились у дальних родственников. Пани Катержина навестила ветхий домишко возле ражицкого рыбного пруда, где прошло ее детство. На месте старого дуба, непременного героя Ярешовых рассказов, рос маленький дубок. Пани Катержина вспомнила гибель огромного дерева во время страшной грозы и вдруг поняла, как много лет прошло с тех пор и как мало радости было в ее жизни. На следующий день пани Катержина увезла детей в Мыдловары, к родственникам мужа. Перед юными пражанами открылся новый мир — край их родителей. Деревенские радости захватили мальчиков — они собирали грибы и ягоды, играли с ребятами, жгли костры, пекли картошку, рассказывали друг другу страшные истории о водяных, русалках, привидениях и о таинственных происшествиях в пражском доме Фауста. Досыта наевшись картошки с кислым молоком и вдоволь наговорившись, дети засыпали у костра или на душистом сене. За лето братья окрепли и выросли. Мать радовалась, глядя на сыновей: теперь они будут меньше болеть. Поездка в деревню совершенно переменила Ярду. Он неохотно ходил в гимназию, потерял всякий интерес к учению и остался на второй год в четвертом классе. Еще недавно весь мир казался Ярде похожим на Прагу и ее предместья, а теперь он узнал другую жизнь и других людей. Новый мир властно звал его к себе, а он не хотел и не мог противиться этому зову.Гомер
Глава третья
— Я тоже учился аптекарскому делу, — ответил Швейк, — в Праге у пана Кокошки на Перштыне.В Ярде неожиданно пробудился дух деда-бунтаря. Когда начались раздоры между чехами и немцами, он целыми днями пропадал на улице. Поводом для травли чехов были статьи в немецких газетах о том, что чешские рабочие отказались стать на колени перед императором Францем-Иосифом I, когда тот возвращался в свой дворец, и освистали его. В ответ немцы сожгли несколько чешских домов в Жатце, Духцове и Мосте. Чехи не оставались в долгу — они колотили немцев, били стекла в их домах, срывали уличные таблички на немецком языке и разогнали буршей, маршировавших с Вацлавской площади на Пршикопы с песней «Вахт ам Райн». На Житной улице сооружались баррикады. Учебные заведения закрылись, поговаривали о введении военного положения. Божка сидел дома, а Ярда куда-то исчез. Шитье валилось из рук, когда пани Катержина представляла своего любимца лежащим в луже крови или посаженным в полицейский участок. Ярда вернулся домой веселый. Зная характер матери, он начал с того, что чмокнул ее в щеку. Мать поморщилась: — Чем от тебя пахнет? — Ничем… А, керосин! Я помог одному старичку нести бутыль… Мать поняла, что пахнет не столько керосином, сколько враньем. Она велела ему хорошенько вымыться и идти к столу. Ярда повиновался. Пани Катержина снова принялась за работу, но с кухни, куда ушел Ярда, донеслось приглушенное хихиканье Божки и Манки. Что он им рассказывает? Пани Катержина вошла на кухню. Воцарилось молчание. Ярда как ни в чем не бывало ел жареные почки и нахваливал их. Выбрав минуту, когда Манка осталась на кухне одна, мать спросила: — Над чем вы тут смеялись? — Ярда рассказывал нам, как чешские студенты колотили буршей. Утром, после завтрака, Ярда как всегда пошел в переднюю. — Никуда не ходи! — строго сказала мать. — В городе неспокойно. — Пан учитель Гансгирг велел мне принести из магазина Гафнера материалы для школьной коллекции. Вот счет, по нему уже уплачено. Имя Гансгирга, как Ярда и ожидал, подействовало. Пани Катержина знала, что этот учитель хорошо относится к Ярде. Занимаясь у него, Ярда увлекся минералогией. Кто знает, может быть, это его призвание. Она колебалась, и Ярда воспользовался этим: — Я не могу обмануть пана Гансгирга. Ярда поцеловал мать и выбежал на улицу, на ходу застегивая пальто. Запах керосина напомнил ему вчерашний день. Он не солгал матери, что помог старичку нести керосин, но скрыл — куда. А как запылал от этого керосина забор роскошной усадьбы немца Плешнера! Старичок не остался в долгу: привел Ярду в свой трактир, угостил сосисками, кнедликами, черным пивом и хлопал Ярду по плечу, довольный тем, что Ярда — истый чех, патриот. До магазина учебных пособий в Вршовицах Ярда добрался без приключений. Пан Гафнер скучал: покупателей не было, и приход Ярды обрадовал его. Они долго рассматривали минералы в магазине, потом Ярда рассовал по карманам образцы для Гансгирга и простился с хозяином. Путь Ярды лежал мимо казармы. Над ее воротами возвышался двуглавый австрийский орел, едва ли не последний в Праге — австрийские гербы везде были сорваны. Этот орел служил квартирой для воробьев, которые свили гнезда за его крыльями и под хвостом и запачкали ворота и стену. Ярде вдруг показалось, что загадил казарму сам черно-желтый хищник. «Наложил от страха, но еще держится!» — подумал Ярда. В толпе возле казармы шныряли мальчишки с рогатками. Из-за угла показался конный полицейский отряд, окруженный штатскими. — Хохлатые! Петухи! — закричали чехи при виде полицейских, и несколько камней полетело в их сторону. Жребий брошен! Ярда поднял камень и ловко сбил с полицейского шапку с петушиными перьями. Всадники врезались в толпу. Люди попятились, напирая на задних. Кто-то вскрикнул. Ярда почувствовал горячее дыхание, увидел прямо перед собой морду коня, отступил и угодил в объятия толстого полицейского. Сопротивляться было бесполезно. Ярда зашагал по булыжной мостовой рядом с такими же «преступниками». Немцы провожали их издевательскими репликами, а чехи одобряли. В полицейском управлении Ярду обыскали. Нашли минералы. Хотя они были завернуты в бумажки с надписями по-чешски и по-латыни, следователь не поверил объяснениям Ярды. Ярду отвели в одиночку. Пока позволял скупой зимний свет, он ходил от стенки к стенке, рассматривая рисунки и надписи, сделанные его предшественниками. Ярда хотел нацарапать: «Здесь сидел Соколиный Глаз, вождь апачей», но раздумал: кто оценит его шутку в этом богом проклятом месте? Сев на соломенный тюфяк, Ярда стал размышлять. В дверь проник узенький лучик света, загремел замок, и на пороге появился тщедушный старичок-полицейский с лампой в руке, похожий на согнутый гвоздик, к шляпке которого зачем-то прицепили пышные усы. — Гашек? — тихо спросил он. Ярда кивнул. Полицейский зашептал: — Ты влип в скверную историю. Твое дело хотят передать в военный суд. Родные есть? — Есть. Мать и брат. Отец умер… — Умер… — сочувственно повторил «гвоздик». — На бумагу и карандаш, пиши домой, да скорее. Ярда с благодарностью взглянул на старичка и, примостившись у лампы, нацарапал записку. В коридоре старичок развернул бумажку, прочел и вздрогнул. Прочел еще раз, словно не веря своим глазам, и побежал неровной старческой рысцой к пану Оличу. Чехи шепотом говорили об его исключительной честности, способности распутывать сложные дела и, где только возможно, спасать «своих». Олич бегло прочел записку Ярды и усмехнулся: — Кто писал это? — Мальчик. Лет четырнадцати. Сидит в пятом номере. Настоящий маменькин сынок. Разве станет такой кидаться камнями в полицейских? Дал ему бумаги, а он написал это — в шутку, что ли? — Хорошо. Я займусь им. Вскоре Ярду вызвали к Оличу. Тот протянул ему записку и попросил прочесть ее вслух. Взяв записку, Ярда медленно прочел, боясь выдать себя дрожью в голосе:Ярослав Гашек
«Дорогая мамочка! Завтра не ждите меня к обеду, так как утром я буду расстрелян. Передайте пану Гансгиргу, что у Гафнера, во Вршовицах, продается прекрасный аметист для школьной коллекции, а полученные мною минералы находятся в полицейском управлении. Если к нам зайдет мой одноклассник Войтишек Горнгоф, скажите ему, что меня вели по улице двадцать четыре конных полицейских. Когда будут мои похороны, пока неизвестно».— Тут все правда? — спросил Олич. Ярда заерзал на стуле: — Я кое-что прибавил. Меня вели двое пеших полицейских. Конные присоединились к нам после того, как разогнали толпу. Они, видимо, ехали по своим делам. Остальное — правда. — Ты увлекаешься минералогией? — Да. — Зачем ты ходил с образцами по улицам? Ого! Полицейские до сих пор называли образцы камнями! Этот кое в чем разбирается. — Я ходил в магазин Гафнера по просьбе учителя, — ответил Ярда. — Вы можете проверить, лгу я или нет. Олич выдвинул ящик — в нем лежали минералы. — Назови-ка их! Ярда назвал. Взгляд Олича потеплел: — Минералы ты назвал правильно. Я тоже в них разбираюсь. Дома у меня коллекция образцов чешских руд — моя гордость. Олич встал и, резко повернувшись, зашагал по кабинету. — Больше не шатайся по улице, да еще с камнями. Я выпишу тебе пропуск. Ступай домой. Минералы пока останутся здесь, мы сами передадим их твоему учителю. Он остановился перед Ярдой: — Я верю тебе. Человек, который увлекается минералогией, не станет швыряться образцами. Подобрать же камень с земли можно не только для коллекции… Ярда похолодел. Но Олич как ни в чем не бывало быстро написал пропуск, отдал его Ярде и, легонько хлопнув по плечу, выпроводил мальчика из своего кабинета. С гимназией Ярде пришлось распроститься. Его исключили из гимназии «за неуспешность в науках», а не за участие в политических беспорядках. Такое исключение — еще не волчий билет, и Ярда мог подыскать себе службу. Пани Катержина смирилась с судьбой, посоветовалась с опекунами Ярослава, и недоучившегося гимназиста устроили учеником к Фердинанду Кокошке, владельцу аптеки «У трех золотых шаров», на Перштыне. Как у многих пражских аптек, ее дверь была украшена деревянной головкой китайца — когда в аптеку входили, головка кивала. В аптеке пахло сухими травами и разными снадобьями. Молодой человек — приказчик Таубен — провел Ярду к хозяину. Пан Кокошка был удивительно похож на гнома, а на его бледном, пухловатом лице выделялась черная, как у цыгана, борода, подстриженная лопаточкой. Она выглядела приклеенной. Пан Кокошка устроил ему небольшой экзамен — заставил писать латинские этикетки и складывать на счетах какие-то суммы. Ярда считал медленно, но с заданием справился. Потом пан шеф долго рассказывал, что и как он должен делать. Ярда внимательно слушал его. Отдельные поучения Кокошки удивили Ярду. — Если явится какой-нибудь привереда и потребует небесную лазурь, — говорил хозяин, — ты разбейся в лепешку и достань ему эту лазурь. Думай о нем что хочешь, но виду не показывай. Без товара клиента не отпускай. Спросит зубную щетку — предложи и зубной порошок. Спросит порошок — предложи и зубную щетку. Товар расхваливай. Если надо — приври, только умеючи. Мне же врать не смей. Мои приказания — закон. Остальному тебя научит Таубен. Пока ты будешь помогать моему работнику Фердинанду Вавре. Он у нас мастер на все руки, но страшный болтун. Его разговоры в одно ухо впускай, из другого выпускай. В аптеке ничего не ешь и не пей — можешь отравиться. Кокошка вызвал Таубена и велел отвести Ярду на чердак. По пути Таубен показал Ярде подвалы: в одном хранилось масло, в другом — пустая посуда. Неожиданно Таубен спросил: — О чем это тебе рассказывал Радикс? — Кто? — переспросил Ярда. — Радикс. Пан шеф у нас называется Корнем, Корешковым королем. По-латыни Радикс. Понял? Что он говорил? — Пан Радикс учил меня, как следует вести себя с покупателями. — Ясно! — издевательски произнес Таубен. — Пересказывал Евангелие от святого Ацидума. Так мы зовем его жену — святая Кислота, по-латыни Ацидум. Едкая баба. Хозяин у нее под каблуком, повторяет все, что она ни скажет. А он — добряк… Деревянные ступеньки скрипели, пахло травами и мышами. Остановившись у двери с надписью «Чердак лавки», приказчик крикнул: — Эй, Фердинанд, принимай помощника! — и ушел. Ярда толкнул дверь. В углу кто-то громко храпел. Косой солнечный луч разреза́л полумрак, причудливо вырывая из него то стеклянный бок реторты на треноге, то каменную ступку, то мешок с травами — предметы казались таинственными, как в обиталище алхимика. За бочонками на душистых травах спал человек. Ярда с трудом растолкал его. — Немного вздремнул… — сказал он, потягиваясь. — А ты кто? — Ученик аптекаря, — объяснил Ярда. — Ты не ученик аптекаря, а помощник батрака! — весело уточнил Фердинанд, вставая. Ярда с интересом глядел на него: батрак ему понравился. У него был высокий лоб, умные, добрые серые глаза, волнистые каштановые волосы и темные усики. Судя по красному носу, он не отказывался выпить, а может быть, служил раньше в погребке. Костюм батрака отливал всеми цветами радуги — масло, олифа, лаки и бронзовый порошок, казалось, состязались — кто больше вымажет пиджак и брюки. По дороге на чердак Таубен успел шепнуть Ярде, что батрак — «соцан», то есть социал-демократ, и посоветовал остерегаться разговоров с ним. Но Фердинанд уже расположился с доской для резки трав и объяснял: — Дело наше несложное — кроши мельче, береги пальцы. Делай все, что делаю я. Будем помогать друг другу. Так заведено у рабочих. Хозяева знают это и мешают нам объединяться. А мы, парень, еще такие дураки, что предаем своих, пожираем друг друга. Не переставая говорить, он посвящал Ярду в тайны своего дела. Вскоре Ярда привык и к аптеке, и к батраку, а запахи целебных зелий, кореньев, эфира, благовонных масел и терпентина ему даже нравились. Фердинанд вел долгие беседы с мальчиком, и им обоим не было скучно на чердаке. Батрак вполголоса напевал песни рабочих-социалистов, Ярда подтягивал. Фердинанд был единственным человеком, который не говорил ему: «У тебя нет слуха». Содержание песен было для него важнее музыкального дарования. Кокошка, довольный успехами Ярды, перевел его вниз, в лавку, где мальчик помогал Таубену. Здесь Ярда на собственном опыте узнал многое из того, что ему рассказывал Фердинанд. Прежде всего оказалось, что в лавке и вокруг были одни жулики. Кабатчица покупала какой-то подозрительный спирт и разбавляла его водой, хозяин придумывал невероятные лекарства, которые предлагались и людям и животным. Пан Таубен ловко обворовывал шефа, управляющий приютом, хихикая, рассказывал что-то о негритятах. Фердинанд объяснил, что для приюта готовят мазь от вшей с графитом, а не со ртутью, разницу в ценах делят между собой Таубен и управляющий, сиротки ходят черные, а вши не дохнут; дворничихин сын Пепик ворует из подвала аптечную посуду и снова несет ее в аптеку, сама дворничиха держит в страхе Кокошку, — видимо, знает что-то о его делах, и он угощает ее настойками, а мальчишке по воскресеньям дает деньги. Ярде был противен этот мирок жуликов и торгашей, он отводил душу только с батраком на чердаке, а на людях держался скромно, услужливо и по совету хозяина ходил изучать аптекарское дело к аптекарю Пруше. Однажды он наозорничал. Пан Кокошка велел ему и Фердинанду приготовить лекарство от вздутия живота у коров — отруби, смоченные аировым маслом. Лекарство шло плохо, надо было его рекламировать, и хозяин собственноручно нарисовал плакат — стадо коров на зеленой травке. Ярда от скуки пририсовал одной коровке бороду лопаточкой — точь-в-точь, как у Кокошки, и был изгнан к Фердинанду на чердак. Фердинанд выполнял поручения в городе, а Ярда крошил травы для лекарств. В это время с улицы донеслась любимая песня батрака:
Глава четвертая
Что помешает мне, смеясь, говорить правду?Ярде шел семнадцатый год, когда он стал студентом Чехославянской торговой академии. Он ежедневно ходил на улицу Ресселя, в красивое трехэтажное здание, где из юношей готовили не только образованных коммерсантов, но и активных вожаков чешской буржуазии, мечтавшей превратить свою нацию в нацию торгашей. Академия была не по душе Ярде, но он обещал матери хорошо учиться и выполнил это обещание: на второй курс его перевели с хорошими оценками и освободили от платы за обучение. На правах студента Ярда пользовался большей свободой, чем раньше. Он не водил дружбы с купеческими сынками — богатыми бездельниками, которые думали только о развлечениях, зато сблизился с русскими студентами, учился у них русскому языку и увлекся русской литературой. Товарищи не удивлялись, откуда у Ярды такое желание учиться — он, несомненно, хотел выбиться в люди. Их поражало другое: зачем он столько времени тратит на изучение иностранных языков. Собравшись вместе, они говорили: — Хватит с нас обязательных — чешского и немецкого. Зачем тебе русский и французский? — Русский и французский еще могут пригодиться, — замечал кто-нибудь. — Но Ярда учит английский, а недавно взялся за венгерский. Шесть языков! Ярда отвечал уклончиво. Он и сам не знал, почему его так привлекают языки. Они давались ему легко, не то что стенография. Ярду раздражали стенографические значки и закорючки, которые он, сердясь, называл «муравьиными ножками». В Прагу приехал на гастроли Московский Художественный театр. Пьеса Максима Горького «На дне» потрясла чешских зрителей. Ярда жадно набросился на книги Горького, и русский писатель стал его кумиром. Он решил отправиться странствовать по примеру Максима Горького. В деревнях и на дорогах ему непременно встретятся интересные люди, и он потом напишет о них. Первое же путешествие — он бродил по Присазавскому краю — разочаровало его. Гордых бродяг и цельных людей он не нашел, а те, кто встречался ему, были жадными кулаками или забитыми бедняками. Деревня лишилась своего поэтического ореола. Тогда, в Южной Чехии, он был ребенком и многого не понимал. Не была деревня и «одной семьей», как наперебой твердили в своих выступлениях политики-аграрии. Сам Ярда вызывал неудержимое веселье мальчишек-пастухов костюмом «а ля Максим Горький» — русской косовороткой и крылаткой, длинными, до плеч, волосами, суковатым посохом. Но оставалось еще одно место, где могли быть смелые, цельные люди, — Словакия, страна Юрая Яношика, друга бедняков и грозы богачей. Ярда Гашек отправился туда вместе с братом Богуславом. Он навсегда полюбил этот край, его заснеженные вершины, зеленые альпийские луга, горные потоки и крутые тропинки, но больше всего полюбил его жителей, которых угнетали чешские и венгерские буржуа и которые, несмотря на это, сохранили свой язык, свои нравы и обычаи, свои пляски и легенды о Яношике. Да, это были гордые и сильные люди. Они упорно трудились, отвоевывая у суровой природы все, что нужно для человеческого существования. Но странно, почему-то Ярде запоминались не прекрасные романтические картины, а те истории, в которых этот романтизм бывал побежден действительностью. Следуя обычаям предков, молодые пастухи-югасы порой нападали на какого-нибудь ненавистного мироеда, но чаще это были просто озорные выходки, уже ничем не напоминавшие грозные налеты храброго Яношика и его дружины. Ярда узнал о вражде двух священников — католика и евангелиста. Югасы украли у католика кур и свинью и поднесли их в дар евангелисту от имени католика, которому в это же время поднесли теленка — собственность священника-конкурента. Пастыри решили помириться, но один югас не выдержал и проговорился. Священники так и остались врагами. Товарищи считали Ярду бывалым человеком: шутка ли — целое лето ходить пешком по Словакии! Они с уважением рассматривали его посох — суковатую палку, украшенную жетонами и значками с гербами городов, где он побывал. Кто-то шутил: по этому посоху гимназисты лучше узнали бы географию чешских, моравских и словацких земель, чем с помощью карты и розги. Познакомившись с молодыми пражскими литераторами, Ярда много времени проводил с ними, слушал их выступления. Он сам попытался описать то, что узнал и увидел. Первые его рассказы увидели свет в газете младочехов «Народни листы». Их приняли там благосклонно и посоветовали не расставаться с жанром этнографического этюда. Успех окрылил Ярду. Его новому другу, первокурснику академии Ладиславу Гайеку, везло меньше: он писал стихи, подражая поэтам-декадентам. Гайек, уроженец южночешского городка Домажлицы, был белобрыс и невысок ростом. Чтобы казаться «интересным», он гулял в высоком цилиндре и с тросточкой, прихрамывая, как лорд Байрон. Его всюду сопровождал лохматый флегматичный сенбернар. Гашек ценил эту забавную тягу к оригинальности у юного провинциала и порой подстрекал Ладю на новые чудачества. Как-то Ярда сидел в кафе и ждал Гайека, который, по обыкновению, опаздывал. Кельнер поглядывал на столик под пальмой, но Гашек делал вид, что читает газету. Ладя явилсядовольный: он выцарапал в редакции несколько крон почувствовал себя богачом. В ожидании заказа Ладя завел с Гашеком разговор о фельетоне в журнале «Час». Там зло высмеивали ректора Торговой академии Яна Ржежабека, австрийского прихвостня, прожившего несколько лет в России и награжденного царскими орденами. Фельетонист именовал Ржежабека «Журавиком», но это не меняло дела — намеки были весьма прозрачны. Вдруг Ладя вздрогнул: — Смотри, вошел профессор Юнг! — Ну и что? — лениво спросил Ярда. — Он не Ржежабек, не придирается к мелочам, не фискалит. Ярда не лгал. Юнг резко отличался от остальных профессоров. Он недавно вернулся на родину из САСШ, где прожил почти двадцать лет и на собственном опыте узнал, что такое американский образ жизни. Кроме преподавания, Юнг занимался литературной деятельностью, переводами, редактировал журнал партии реалистов «Час» и время от времени печатал в нем под псевдонимом те самые фельетоны о Ржежабеке, которые так восхищали Ладю и других читателей, знакомых с порядками в Торговой академии, печатал, чтобы отвести душу. И вот теперь этот Юнг не только вошел в кафе — он направился к их столику! — Добрый вечер, друзья! Как поживаете? — весело спросил он. — Могу я посидеть с вами? — Пожалуйста, пан профессор. Мы будем очень рады… — поспешил ответить Ладя. Юнг опустился на стул и подозвал кельнера. Потом улыбнулся, словно вспомнив что-то забавное, и обратился к Ярде: — Вы, юноша, если не ошибаюсь, Ярослав Гашек? — Да, — подтвердил Ярда. — А это мой друг Ладислав Гайек, первокурсник нашей академии. — Вы, — глядя на Гашека, сказал профессор, — на днях доставили мне большое удовольствие. Студенты удивленно взглянули на Юнга. — Я прочел ваш рассказ о словацких эмигрантах. Это прекрасная история, хотя по форме и напоминает анекдот. Правдивый анекдот. История лаконична, в ней есть приятный юмор. Это рассказ о словаке, который едва не эмигрировал в Америку, но раздумал, потому что из-за океана вернулся другой словак с пустыми карманами. Ваш рассказ оказался мне по душе — жаль, что я не встретил такого человека, когда сам собирался в Штаты. Смешно сказать, я тоже мечтал разбогатеть, как ваши герои, а вернулся ни с чем. — Вы вернулись на родину с богатым жизненным опытом, вы переводили Байрона и Пушкина на чешский язык. Юнг горько усмехнулся: — Переводил я не для печати — для души. А есть надо было каждый день. Я бродил по Америке пешком, исходил несколько штатов. А кем работал, даже вспомнить трудно — и журналистом, и нотариусом, и кассиром, и переводчиком, и даже проповедником, как наш поэт и журналист Клацел… Заметив, что Ладя украдкой на пальцах подсчитывает его профессии, Юнг сказал: — Не старайтесь, юноша! Десяти пальцев не хватит, чтобы их подсчитать. Я и сам не все помню… Я едва не стал мистиком — меня спасли от этого Байрон и Пушкин. Зато я мог бы легко сделаться жуликом, В Америке это не трудно. Один мазурик вовремя подмажет правосудие и выйдет из грязи чистым, другой не подмажет и попадет за решетку. Там существует уйма нечестных способов делать деньги. Словацкие, польские, чешские, украинские крестьяне, приезжающие в Америку, труднее других привыкают к тамошним порядкам и мучаются больше других. А привыкнуть к «американской религии» благочестивым славянским крестьянам нелегко. Вы знаете, что сказал о ней Марк Твен? Деньги — вот бог. Золото, банкноты, акции — бог отец, бог сын, бог святой дух, един в трех лицах, — Юнг откинулся, наблюдая, какое впечатление произвели слова великого юмориста на его слушателей, и продолжал: — Не став ни верующим, ни миллионером, ни настоящим американцем, я скопил денег на пароход и вернулся домой. — Как делаются в Америке чешские газеты? — спросил Гашек. — Они мало чем отличаются от американских. Печать — тоже дело бизнеса. Свободная американская печать более чем свободна. Законы стоят на страже свободы печати, но нет законов, охраняющих граждан от газетной клеветы. Славянской печати присущ тот же дух сенсации. Вот вам один забавный случай. Некой американской чешке, сообщала чешская газета, была сделана ампутация ноги, после чего больная скончалась. Напечатали подробный некролог. Вскоре редакция получила известие о том, что женщина не умерла, а следовательно, не была похоронена. Похоронили только отрезанную ногу. Женщина потребовала опровержения некролога. Бойкий журналист, которому это поручили, написал опровержение по всем правилам и дал ему заголовок — «Одной ногой в могиле». Студенты рассмеялись. Юнг посмотрел на Ладю и понял, что сейчас юнец прощается с детской мечтой об Америке — стране воинственных индейцев, смелых трапперов и неунывающих бродяг. Юнгу стало жалко первокурсника, и он сказал: — У вас все впереди, окончите академию, станете коммерсантами и поедете в Америку. Он помолчал и обратился к Гашеку: — Что послужило основой рассказа? Гашек ответил, что описал случай, о котором ему рассказали в Малых Карпатах. — Этот рассказ — удачное начало для молодого писателя, — сказал профессор. — Вам только нельзя успокаиваться. Больше трудитесь, работайте — и станете хорошим писателем. Вас не привлекает слава чешского Марка Твена? Юнг хотел добавить, что не очень верит в коммерческое будущее Гашека, но промолчал. Сравнение Юнга щекотало самолюбие Ярды, хотя было немного обидно: все старания походить на Максима Горького оказались напрасными. Ярда знал, что сделал слишком мало, чтобы приблизиться и к русскому, и к американскому писателю. Он даже не подозревал, что ему еще предстояло самое трудное — стать самим собой, Ярославом Гашеком.Квинт Флакк Гораций
Глава пятая
Фигаро: …Министр …распорядился отрешить меня от должности под тем предлогом, что любовь к изящной словесности несовместима с усердием к делам службы.Летом 1902 года Ярда Гашек окончил Торговую академию и получил диплом-абсолюториум первого класса. Такой документ давал выпускнику право служить в самом образцовом торговом заведении, тем более что в абсолюториуме профессора отметили его высокие умственные способности, похвальное нравственное поведение, хорошие знания общих и коммерческих наук, умение изящным слогом составлять документы. Ярду Гашека приняли на службу в страховой отдел банка «Славия». Банковским чиновником умер отец, с банковского чиновника начнет свою карьеру Ярда. Ему положили жалованье в тридцать гульденов и велели явиться на службу после каникул. Взяв в попутчики друзей-студентов Виктора Яноту и Яна Чулена, Ярда снова отправился путешествовать. Некоторое время они кружили по Западной Словакии. Когда Чулен добрался до родного дома, Виктор и Ярда взяли проводника и отправились на гору Дюмбиеры. В долине реки Ваг стоял туман. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь него. В ущельях лежал снег. По сторонам блестели стелющиеся сосны. Проводник дошел с ними до своей деревни и покинул их. Ярда и Виктор пошли одни. Погода стала портиться. Тучи сгущались и надвигались на горы. Поднялся страшный ветер, заморосило. Взбираться на вершину стало опасно. — Поворачиваем оглобли, — сказал Ярда Виктору, — поищем какой-нибудь шалаш. Теперь они не шли, а катились по влажному мху. Спускались во мгле, застревали в зарослях карликовых сосен, можжевельника и папоротника, проваливались в ямы, спотыкались о камни. Вскоре на них обрушился ливень. Еле пробираясь сквозь мокрые, колючие кусты, они спускались неведомо куда. Вдруг неподалеку от них послышалось протяжное пение — мужской голос пел бесконечную пастушескую песню о баранах. Ярда и Виктор воспрянули духом. Близость человека придала им смелости, они забыли об осторожности, поскользнулись и шлепнулись в воду. Песня затихла. Потом тот же голос, который пел, ворчливо спросил: — Кого это черти носят в такое ненастье? — Мы путешественники. Заблудились. Хотим погреться. Отведите нас, пожалуйста, в какой-нибудь шалаш, — ответил Ярда. — Ступайте за мной. Ярда и Виктор не заставили дважды просить себя и, выбравшись из ручья, пошли за мужчиной в широкополой шляпе. — Я думал, сюда забрели цыгане или пастухи. В такую погоду тут никто не шатается. Теплый и сухой шалаш показался им настоящим раем. В очаге полыхал огонь, языки пламени лизали закопченный котел, в котором что-то булькало. — Раздевайтесь и сушите одежду, — предложил пастух, — а я принесу что-нибудь поесть. Пастух быстро вернулся с горшком овечьего молока и пресными лепешками, вскипятил молоко и дал путникам выпить горячего. Приятное тепло разлилось по их жилам. Они пили не спеша, оглядывая пастушеский приют. В шалаше не было ничего лишнего. На полках — деревянные ковши, миски, глиняные горшки и кружки; ниже, в кожаных мешках, — головки овечьего сыра, приготовленные для копчения. Возле очага лежали поленья, источавшие смолистый запах. У самых дверей, на широкой скамье, в беспорядке валялись кожухи, меховые безрукавки, шаровары и холщовые рубахи, а над скамьей висели широкополые шляпы, окованные пояса, валашки и двустволки для защиты шалаша и стада от воров и медведей. Под скамьей лежали самодельные факелы — толстые суки, обмотанные смоленой паклей. Ими освещались и шалаш, и овечий загон. Пастух приготовил ребятам постель. Виктор сразу уснул, а Ярда наблюдал за тем, как пастух делал сыр. Он запомнил все операции пастуха и мог бы теперь сам приготовить сыр, но его веки слипались от усталости. Он лег рядом с Виктором, и ему то снился шумный дождь, то казалось, будто он плавает в сыворотке… Ярду разбудил шорох у дверей — в шалаш вошел охотник. — Где медведи? — спросил он. — Ты охотишься на них в шалаше? — ядовито спросил пастух. Но охотника это не смутило. Он сел у очага и начал так расписывать свои охотничьи похождения, что у Ярды сон как рукой сняло. В самом интересном месте рассказ нового Мюнхаузена был прерван собачьим лаем и звоном колокольчиков — это пастухи пригнали овец. Ярда поднялся, взял факел и пошел к пастухам. Он светил им, пока они доили овец, и носил надоенное молоко в сарай. Ему явно не хватало еще пары рук и ног, и он разбудил Виктора. Вдвоем они помогали пастухам-югасам, и скоро все овцы были подоены и загнаны. Югасы радовались, что туристы заменили старого бачу, уехавшего на ярмарку. Затем они постелили вокруг очага овечьи шкуры, выкурили на сон грядущий по трубочке и захрапели. Под утро всех разбудил громкий лай. — Медведь! — прошептал, крестясь, старый югас и сорвал со стены ружье. — Зажигайте факелы! — крикнул охотник. Все повиновались. За дверью слышались рычанье и царапанье. Потом кто-то дернул дверь, и она открылась. В шалаш ввалился пьяный пастух с овцой. Он нес какую-то околесицу, и было совершенно непонятно, как он, пьяный, нашел в такую непогоду шалаш. Охотник опустил ружье и тихо выругался. Тем временем югасы разули «медведя» и уложили спать. Утром Ярда и Виктор позавтракали вместе со всеми. Бача еще спал, овца бродила по шалашу, тихо бебекая… На дорогу пастухи дали парням головку брынзы и немного лепешек. С Ярдой и Виктором вышел охотник. Он посоветовал им не подниматься на Дюмбиеры — после такого ливня, когда земля — вязкая, трава — мокрая, — можно легко свернуть себе шею. Тут же из него, как из рога изобилия, посыпались рассказы о гибели путников, охотников и пастухов… Охотник был прав, и Ярда сказал Виктору: — Пошли в Левочу. Там нас должен ждать перевод — надо же хорошенько попировать перед смертью! Они спустились в Ясную, а оттуда пошли через Попрад в Левочу. Несколько раз им удалось проехать на попутных телегах. После странствий по грязным дорогам они выглядели как настоящие бродяги. Левочане с ужасом сторонились их. На почте им не повезло: перевода еще не было. Друзья пошли куда глаза глядят и вышли на главную площадь — там были ратуша, «клетка позора» и самая старая словацкая типография. Все это не сулило никакой еды, и, равнодушно пройдя мимо готического храма, построенного немецкими бюргерами, друзья увидели за воротами садик. Сев в укромном месте на скамью, они огляделись — над развесистыми деревьями вздымались древние крепостные стены и круглые башни — это еще больше подавляло и без того павших духом друзей. Виктор вынул путеводитель и стал читать: — «Левоча — один из одиннадцати городов, оставленных Сигизмундом в залог польскому королю»… — Какое мне до всего этого дело? — раздраженно прервал его Ярда. — Кому нужна эта Левоча? Разве я могу отдать ее тебе в залог? — «Сначала в Левоче жило больше немцев, — невозмутимо продолжал Виктор. — Еще до сих пор здесь живет немало немцев-евангелистов». — Ну, а что нам за дело до немцев-евангелистов? — злился Ярда. — Лучше прочти-ка, где мы сегодня будем ночевать и что будем жрать? В этот момент Виктора осенило: — У немецких евангелистов должен быть приют для супликантов. С этого момента мы, — и он гордо подняв путеводитель, — супликанты! Мы — собиратели пожертвований в пользу евангелической общины. — Суп-суп-суп-ликанты! — озорно пропел Ярда, чье голодное воображение нарисовало дымящийся суп я ароматное жаркое… — Если Генрих Четвертый считал, что Париж стоит обедни, и стал католиком, то мы, католики, прикинемся евангелистами. Обед стоит этого! Теперь у друзей появилась цель — они искали евангелический приют. Им сказочно повезло: на улице они увидели священника-евангелиста. Он сам отвел их в приют и сдал на руки опекунше этого богоугодного заведения, фрау Майер. Почтенная шестидесятилетняя фрау впустила друзей в маленькую келью, ушла и больше не возвращалась. Супликанты стали нервничать. Виктор вышел на разведку и, вернувшись с кухни, сообщил, что старуха варит мясо. Время шло, но фрау Майер не появлялась. Тогда Ярда пошел на кухню сам. Там было темно. Идя обратно, Ярда заблудился и по ошибке ввалился в комнату опекунши. Старуха проснулась и сказала: — Я забыла вас покормить. Сейчас приготовлю вам ужин. Идите и ждите у себя. — Старуха подаст нам яйца всмятку, — пошутил Ярда. Тот махнул рукой. Он уже ни во что не верил. Скоро фрау Майер принесла кастрюлю с едой, миски и ложки. — Вот вам клецки, — сказала она и поспешно ушла. Друзья вооружились ложками, зачерпнули загадочную жидкость, глотнули ее и, как по команде, выплюнули. — Это же отрава! — воскликнул Виктор. — Бурда какая-то, а не клецки! — промолвил Ярда, мешая в кастрюле тростью. На дне что-то звякнуло. Ярда насторожился: — Железные клецки или… — Что ты нашел? — спросил Виктор. — Ключ от пещеры Али-баба! — торжественно произнес Ярда, доставая из кастрюли огромный ключ. Как ни голодны были друзья, находка рассмешила их. Нахохотавшись до слез, они уснули. Утром голод дал знать о себе еще сильнее. На вопрос о завтраке фрау Майер ответила, что завтрака супликантам не положено. Ключ, извлеченный из приютского варева, подошел к кухонному шкафу, Там ничего не было, кроме пяти молитвенников, изгрызанных мышами, да сигарет. — Курение притупляет голод, — важно произнес Ярда, забирая сигареты. — Кури! — Идем на почту, — жалобным голосом сказал Виктор после первой затяжки. — Может быть, там уже есть деньги. Счастье улыбнулось им: почтовый чиновник отсчитал деньги Ярде и Виктору, и они со всех ног побежали в ресторан. После сытного обеда они, согласно пословице, совсем иначе взглянули на Левочу. Она показалась им чистенькой, уютной и гостеприимной. Их потянуло осмотреть достопримечательности — и ратушу, и готический храм, и резьбу по дереву знаменитого мастера Павла Левочского, его алтарь и статуи святых. Ярде особенно понравилась фигура святого — привязанный к столбу, он умирал от голода. — Подумать только, нас ждал тот же удел! — философски вздохнул Ярда, оглядывая мученика. — Ты ошибаешься, — прервал его Виктор. — Мученик попадет прямо в рай, а тебя и меня за то, что мы стали евангелистами, отправили бы к чертям в пекло. Из Левочи друзья пошли на восток. Они побродили по Спишскому Подградию, заглянули в Спишский замок и Словацкий рай. Изумительно красивые горы Словацкого рая покорили их. Идя дорожками и тропинками по долинам и ущельям, они долго любовались водопадами, каскадами, ключами, пещерами и пропастями. Особенно восхитили их трехъярусный водопад в Соколиной долине и Медвежья пещера. После осмотра огромной ледяной пещеры в Добшине друзья поняли, что даже необыкновенное становится привычным, приедается… Ярда сорвал для Манки несколько горечавок и эдельвейсов. Из Добшина путешественники пошли в Бойне. Их путь лежал через Пештяны. Под Пештянами, в поле, словачка убирала картофель. Эта статная, красивая женщина изнемогала от непосильного труда. — Что же ты одна копаешь? У тебя нет мужа? — спросил Ярда. Уловив сочувствие в голосе юноши, она удивленно взглянула на путешественников и ответила: — Муж у меня жестянщик, работает на стороне. Старшая дочь была служанкой в доме распутного купца и принесла от него ребеночка. Теперь она сидит с детьми — со своим и тремя моими. Юноши переглянулись. Вот она какая, словацкая женщина! — Мы поможем тебе, — сказал Ярда. — Чем же я вам заплачу? — вздохнула она. — Я еще и с ростовщиком-то не рассчиталась! — Денег нам не надо, — поддержал Ярду Виктор. — До Праги доехать нам хватит. Силы — не занимать… Ярда и Виктор помогли женщине убрать урожай. Эти юноши показались ей кем-то вроде божьих ангелов, и она, наверное, ни за что не поверила бы, что они уехали поездом, а не улетели… После сказочной свободы служба в банке казалась Ярде чем-то вроде тесного сапога. Пришлось искать отдушину — и он скоро нашел ее. Двоюродный брат Ярды Роман Гашек был председателем Вольного литературного общества «Сиринкс», объединявшего молодых поэтов-декадентов. Поскольку и Ярда пописывал стихи, то Роман решил, что подобный кружок — как раз то, что нужно брату. Молодые поэты объявили себя жрецами аркадского бога лесов Пана. В отличие от своего папеньки, пронырливого Гермеса, Пан был проницательным, но весьма легкомысленным богом. Забавляясь с нимфами, он довел нежную Сирингу до того, что ей пришлось скрыться от него на дне реки и превратиться в зеленый шумящий тростник. Горюя о красавице, Пан сделал из тростинок «сиринкс» — свирель, играл на ней незатейливые мелодии и плясал с нимфами. Устав от плясок, Пан скрывался в лесной чаще, потягивал молодое вино и пророчествовал. Члены «Сиринкса» охотно подражали козлоногому божеству — запирались в отдельной комнате кафе, пили пиво и читали стихи. Ярде нравились развлечения сиринксовцев, их смешная песенка с припевом: «Долой литературу!», но рассуждения о французском символизме, вычурные вкусы, салонные манеры молодых поэтов, напоминавшие одежду с чужого плеча, преклонение перед западноевропейским искусством в ущерб своему, национальному, претили ему. Он разделался со стихами сиринксовцев на свой лад: стал писать на них пародии. Ладя Гайек пришел в восторг от стихов своего друга и предложил издать их. — Тут и полтора десятка не наберется. Кто же станет их издавать? — спросил Ярда. — Надо написать еще, — не отступал Гайек. — Возьмем твои самые символистские стихи — они вполне сойдут за пародии, — нашелся Ярда. — Издадим под одним переплетом? Твои и мои?.. — Конечно! — радуясь своей выдумке, ответил Ярда. Начались поиски издателя. Выбор друзей пал на однокашника-неудачника Яна Зельха. Учился он плохо, но торгашеская жилка у него была, как говорится, от бога, а деньгами его снабжал папаша. Гашек сыграл с ним роль ловкого коммивояжера: посулив приличный барыш и сияние издательской славы, он вырвал у Зельха согласие. Зельх поверил Ярде и выплатил обоим поэтам приличный аванс. Когда Ярда прослужил испытательный срок, начальник отдела сообщил ему, что теперь он — стопроцентный банковский чиновник. Ярда не догадался поблагодарить пана шефа, не выразил радости по поводу этой новости. Начальник затаил недовольство подчиненным и стал присматриваться к нему. Ярда почувствовал, что от этого бездушного, придирчивого чинуши лучше держаться подальше. Однажды начальник заметил, что Гашек занимается посторонним делом. Подкравшись сзади, он выхватил листок и увидел… стихи! Это было стихотворение о веселом Пане — деревенском патере, который вместе с нимфой-учительницей искал дьявола под цветущими черешнями. Вся история напоминала забавные анекдоты эпохи Возрождения о сластолюбивых попах-пройдохах. — Пан Гашек! Встаньте! — начал шеф нудным голосом. — Я знавал вашего отца, царствие ему небесное. Он был порядочный чиновник, и вам следовало бы брать с него пример. Ему, я уверен, никогда не пришла бы в голову мысль во время службы марать банковский бланк непристойными стихами. Вы и бездельничаете, и порочите духовных и светских наставников юношества. Не-хо-ро-шо! Гашек молчал. Начальник решил подловить его и стал задавать ему каверзные вопросы: — Пан Гашек, к каким округам относятся Плугаржовицы, Житновес и Дешеницы? Гашек отлично знал административное деление Чехии по справочникам, реестрам и собственному опыту — он ответил без запинки. Неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта пытка, но начальник почувствовал, как его подчиненные, бросив свои дела, откровенно восхищаются новичком: он ни разу не ошибся. Пан шеф величественно покинул комнату, захватив с собой стихи. Ярда скорчил ему вслед гримасу, взял чистый бланк и переписал стихотворение. — Ушел, чертов придира! — вздохнули за его спиной, и Ярда понял, что среди его коллег не все согласны с паном шефом, будто бог создал человека только для карьеры чиновника. Некоторое время спустя в трактире «У деревец» состоялась встреча авторов сборника, которому дали название «Майские возгласы», с издателем и художником. Все с удовольствием рассматривали обложку, нарисованную Карелом Броусеком, — на фоне весеннего зеленого поля буйно цвела розовая яблоня. Обложка была хороша тем, что походила на все обложки, выполненные в модной тогда манере «югендштиль», или стиле модерн. Броусек допытывался у Ярды: — Я читал ваши стихи и удивлялся: почему вы чередуете их? На четных страницах печатается Ладислав, на нечетных — ты. Впервые слышу о таком расположении. Взяли бы и напечатали вначале все стихи одного, потом — другого. — Тогда получится нехорошее число — по тринадцати стихотворений у каждого, — объяснил Ярда. — Наш издатель — суеверный человек. Да и прекрасным читательницам так будет интереснее. Броусек вполне удовлетворился ответом Ярды. Зельх угощал компанию, Броусек и Ярда наперебой рассказывали разные потешные истории. Друзья расстались поздно вечером. На следующий день Ярда исчез. Как выяснил Ладя, он не ночевал дома. Пани Катержина не находила места от тревоги, банк «Славия» разыскивал своего служащего, а Ярда бродил неизвестно где. Сборник стихов вышел в свет без Ярослава. Ладя любовно поглаживал розово-зеленые книжечки и вдыхал их запах. Шутка ли! До сих пор он и Ярда печатались только в газетах и журналах, а теперь у них вышла книжка! Ладя чувствовал слабость от счастья. Зельх не разделял его радости: — Черт бы побрал твоего приятеля! Я ухлопал на книжку уйму денег. Ее надо продавать! — Сдай на комиссию, — посоветовал Ладя. — Что ты! Книготорговцы по миру меня пустят!.. Ладя скромно молчал, опустив белесые ресницы. — Вот что! Идем-ка продавать стихи вместе. Начнем со «Славии», — предложил Зельх. Гайек мялся. Зельх подтолкнул его к выходу и сунул ему в руки пачку сборников. Подойдя к банку, Зельх взглянул на Гайека, который плелся сзади. Вид у молодого поэта был такой несчастный, что Зельх понял: его компаньон провалит все дело. — Стой тут и жди меня! — строго, как маленькому, сказал Зельх. Он пробыл в банке недолго. По размерам пачки, по лицу Зельха и по тому, что один сборник он держал под мышкой, Ладя понял — экспедиция Зельха потерпела неудачу. Он вдруг позавидовал уличной кошке, которая хотела было перебежать дорогу Зельху, но передумала и нырнула в подвальное окно. Издатель не спускал с Лади горящих глаз. И Ладя со стойкостью первых христианских мучеников пошел ему навстречу. Вначале Зельх издавал только нечленораздельные звуки, потом разразился потоком ругательств. Чиновники не пожелали покупать стихи, но нашелся один любитель, некто Сыроватка. Он купил сборник, просмотрел его и потребовал деньги назад. Тут все чиновники словно с цепи сорвались, состязаясь в насмешках над Зельхом и стихами. — Еле ноги унес. Плакали мои денежки. Больше всего меня злит то, что я оказался таким дураком перед этими болванами! Ладя молчал. Зельх перелистал сборник, который держал в руке. Он сам раскрылся на двадцать девятой странице. Зельх взглянул на Ладю и стал громко читать, не обращая внимания на прохожих:П. О. Карон де Бомарше
«30 мая 1903 года Вы не явились в канцелярию. После осведомления нам стало известно, что Вы вообще выбыли из Праги и что не известно ни место Вашего пребывания, ни время Вашего возвращения. За грубое нарушение служебных обязанностей мы освобождаем Вас с сего дня от службы и сообщаем Вам, что больше не рассчитываем на Ваши услуги».Ниже стояла затейливая подпись наивного служки Меркурия — управляющего банком, который думал, что увольняет нерадивого чиновника, и не понял, что этот нерадивый чиновник сам освободил себя от банка и перешел на службу в ведомство чешской сатиры и чешского юмора.
Глава шестая
— Я хотел бы стать месяцем, — проговорил молодой цыган. — Плавал бы там, наверху, и никто бы меня не поймал.Ярда Гашек сидел в деревенском трактире, доедая гуляш, и задумчиво глядел в окно. Неподалеку от трактира раскинулось огромное кукурузное поле. Ветер мерно качал высокие стебли, они величественно кланялись и столь же величественно распрямлялись, словно танцевали какой-то церемонный танец. Рядом с красивыми растениями особенно жалкими казались глиняные цыганские хибарки, разбросанные по краям поля. В деревне жили венгры, но со всех сторон к ней лепились временные хижинки — полуоседлый цыганский табор. Цыгане мирно уживались с венграми: нанимались к ним сторожами, вели собственное хозяйство, не воровали, а субботними вечерами веселили своих хозяев музыкой и танцами. Смеркалось. В трактир входили новые посетители. Все они курили и громко говорили об урожае, о болезни коров. Скоро в трактире стало нечем дышать. За синеватой завесой дыма Ярда увидел нескольких человек, одетых по-цыгански. Среди них была совсем юная девушка в лимонно-желтой шали. Старый хромой цыган, замыкавший это шествие, громко крикнул: — Да здравствует наш депутат, благородный господин Капошфальви! На присутствующих этот возглас не произвел особого впечатления, видимо, они привыкли к тому, что здешние цыгане участвовали в политической жизни. Ярде это было ново, и он с интересом ждал, что еще скажет старый цыган. Цыгане пришли в трактир играть, хотя день был не субботний. Из реплик соседей Ярда понял, что сегодня будет петь юная цыганка. Он взглянул на нее и залюбовался: она стояла в стороне от мужчин, настраивавших скрипки, придерживая шаль у пояса изящными руками, на ее груди переливалось монисто, а глаза сверкали ярче блестящей шали и золотых монет. Две толстые черные косы лежали на ее груди поверх мониста, несколько волнистых прядей девушка кокетливо выпустила на висках, и они, прихотливо изгибаясь, обрамляли ее смуглое личико с яркими губами и нежным румянцем. — Маричка, спой! — кричали посетители. Цыганка спокойно повела глазами и занялась бахромой шали, то заплетая ее в косички, то распуская. Мужчины начали играть. Старый цыган усердно пилил свою скрипку, извлекая из нее то грустные, то задорные мелодии, остальные вторили ему… Ярда понял, что Маричка — гвоздь программы, дива этой маленькой труппы, и будет выступать последней. Ярда ждал ее пения, как чуда. Но она пела ни хорошо, ни дурно, голос у нее был низкий, глубокий. Зато ее лицо разгорелось, стало еще красивее. Она дерзко и капризно поводила плечами. Гостям пение Марички, видимо, очень нравилось — после первой песни они долго выражали свое восхищение, а она, привычная к этим восторгам, опустила ресницы и перебирала пальцами бахрому шали. Ярда наблюдал за нею, когда неожиданно возле него кто-то опустился на свободный стул. Он поглядел на нового соседа — то был юноша-венгр, одетый по-городскому. Приветливо взглянув на Ярду, юноша сказал: — Простите, я давно слежу за вами… Вы не из Праги? — Да, — Ярда вгляделся в простодушное лицо юноши. — А вы хорошо говорите по-чешски! — Спасибо. Но я ведь тоже немного пражанин… Перешел на второй курс Карлова университета. Я — юрист. — Очень рад! — весело откликнулся Ярда. — Я тоже. Простите… — вдруг вспыхнул юноша. — Я не представился. Меня зовут Янош Фереш, я — сын здешнего старосты. Ярда назвал себя. Они разговорились. Маричка кончила петь. Старик обходил слушателей с деревянной тарелкой. Когда он приблизился к Ярде и Яношу, Ярда посмотрел на цыганку и встретился с ней глазами. Делать было нечего: пришлось бросить старому цыгану одну из последних монеток. За взгляд красавицы это было не такой уж большой платой. Маричка улыбнулась. Ярда вытащил из петлицы полевой цветок и хотел передать ей, но она уже не глядела на него — ее глаза высматривали кого-то в дверях, а улыбка сменилась беспокойством. Ярда поглядел в ту сторону и увидел хмурого молодого цыгана. — Барро, Маричкин жених, — объяснил Янош. — Очень ревнивый. И не любит, когда она поет в трактире. — А почему он такой мрачный? — спросил Ярда. — Ему не повезло. Он украл жеребенка и угодил в тюрьму. Ярда улыбнулся: сочетание слов «не повезло» и «украл жеребенка» ему понравилось. — А он очень любит Маричку и не мог дождаться, когда его освободят — взял и удрал до срока. — Маричка, наверное, гордилась этим? — Может быть, и гордилась бы… Но все вышло иначе: его схватили в лесу. Он сидел на пеньке и любовался восходом луны. «Три месяца, говорит, я не видел, как восходит луна. Эх, хорошо бы забраться на луну. Смотрел бы я оттуда на жандармов да поплевывал бы на них». Мне это рассказал лесник, наш кум, — в то время он встретился с Барро в лесу. Кум не знал, что цыган бежал. А тут жандармы выскочили из кустов и связали Барро. Вот и вся история. Потом Маричка спросила его: «Почему ты не зашел ко мне?» Он говорит: «Луна задержала. Я на нее залюбовался и забыл про жандармов». Маричка выслушала его и начала упрекать, что луну он любит больше невесты. Все село на него пальцами показывало… Да, был среди цыган последний поэт, романтик, но и его никто не понял. Янош замолчал, а потом сказал загадочную фразу: — Наши цыгане пляшут под дудку тех, кто больше платит. Трактирные завсегдатаи стали расходиться. — Далеко живет этот старый цыган? — спросил Ярда. — Вы хотите пойти к нему в гости? Барро зарежет вас: он видел, что Маричка вам улыбалась. — Попрошусь переночевать. — Все равно зарежет. Знаете что? У нас есть прекрасная комната — в ней вы и переночуете. — Нет, — решительно ответил Ярда. — Я не люблю летом спать в доме. Предпочитаю сеновал. — Конечно, можно и на сеновале переночевать, но мне как-то неловко… — Я люблю спать на сене. Они забрались на сеновал Ферешей по лесенке, приставленной к слуховому окну. Ярда уютно расположился на душистом сене. Янош собирался спуститься, когда Ярда сказал: — А ваш отец не будет сердиться, что здесь ночует бродяга? — Что вы, — отозвался Янош, — какие пустяки! А кроме того, ему сейчас не до этого, он занят политикой. Если бы не ночь, я кое-что рассказал бы вам, но сейчас пора спать. — О политике я готов слушать когда угодно, — ответил Ярда. Зашуршало сено, скрипнули доски — и возле Ярды очутился Янош: видно, ему не терпелось поговорить с кем-нибудь об отце. Ярда предложил: — Давайте говорить «ты», хорошо? — Хорошо! — обрадовался Янош. — А теперь о политике. Мой отец, как я тебе говорил, здешний староста. Он хочет попасть в парламент, но на его пути стоит помещик, который уже десять лет избирается депутатом от нашего округа. И на этот раз, конечно, выберут господина Капошфальви, а не отца. Капошфальви — потомственный дворянин, у него герб и родословная, а мой отец хоть и господин староста, а всего лишь простой крестьянин… Теперь Ярде стало понятно, что это за Капошфальви, о котором кричал в трактире цыган, но связь между благородным господином, скрипачом-цыганом и отцом Яноша была пока не ясна. — Отец спит и видит, как бы побить на выборах этого Капошфальви. А тот тоже не дремлет, подкупил всех цыган, в первую голову Маричкиного отца, чтобы его хвалили. Цыгане таскаются по трактирам и орут: «Да здравствует наш депутат, благородный господни Капошфальви!» Отец, как услышал это, совсем лишился сна. Надо же было ему прохлопать такое! У цыган куча детей, зато нет никаких политических убеждений. За деньги эти субъекты готовы орать что угодно… Участие цыган в политической жизни округа уже не удивляло Ярду. Он усмехнулся и сказал: — Хочешь, я тебя научу, как обставить господина Капошфальви? — Не шутишь? — с тревогой спросил Янош. — Для меня это очень важно. Я боюсь, как бы отец от политики не свихнулся. Что я должен сделать? — Принеси мне стакан молока и кусок хлеба. — Отец за победу над Капошфальви выкатит тебе бочку вина! — Это только аванс. Янош бесшумно выскользнул из окошка. Вскоре он принес кувшин молока и пышный домашний пирог. С удовольствием ужиная, Ярда расспрашивал Яноша об его отце, о жизни деревни и, наконец, о старом цыгане: — У него много детей? — Маричка и двенадцать мальчишек. Чертова дюжина. — Хорошее число! Оно сулит провал господину Капошфальви. Сходи-ка утром к этому цыгану, дай ему денег и попроси его, пусть он научит своих мальчишек громко славить благородного господина Капошфальви. Воцарилась долгая пауза. Потом Янош холодно сказал: — Я не понимаю. — Сейчас поймешь. Ты должен подучить его ребятишек кричать такие слова: «Да здравствует наш депутат благородный господин Капошфальви! Да здравствует наш благородный отец!» Янош расхохотался: — Это мне нравится. А еще я сделаю знамя, на котором будут написаны эти слова. — Отлично! Не забудь еще одну мелочь: пусть они идут в одних рубашках. Оба долго веселились, обдумывая детали торжественного шествия, и крепко уснули на сеновале, зная, что наутро им предстоят интересные дела. Ярде снилась хохочущая Маричка, только смеялась она над ним, а не над Барро. Яношу снилась Прага и друзья-студенты. Время от времени он ворочался и что-то шептал по-чешски. Утром Янош выдал Ярду за своего пражского знакомого, после чего Ярде предложили погостить в доме старосты. Оба молодых человека решительно принялись за дело, отыскали цыгана и его семью, сделали знамя… Воскресным утром друзья пошли к церкви. Там уже было много прихожан. Нарядно одетые, они прогуливались по площади перед церковью. Чинные походки, серьезные лица — все говорило о том, что сюда пришли не легкомысленные гуляки, а добрые христиане. Но это спокойствие благочестивого воскресного дня было нарушено самым нелепым образом: на площадь из-за угла вышла вереница грязных цыганят. Ярда готов был дать голову на отсечение, что таких чумазых он еще никогда не видел. Самый старший торжественно нес зеленое знамя, на котором белели слова, придуманные Ярдой, остальные бежали сзади в одних рубашонках, надетых на голое тело, и громко славили своего отца, благородного господина Капошфальви. Никто из прихожан не мог удержаться от смеха при виде детей благородного господина. Женщины хохотали до слез, но все же несколько кумушек шепнули своим соседкам о том, что господин Капошфальви лет семь тому назад интересовался одной цыганкой… Слух о детях помещика разнесся по всей округе. Вечером отец Яноша, довольно подкручивая усы, говорил: — Цыгане — ненадежная публика. Они перестарались. Капошфальви снимает свою кандидатуру. Янош отвел отца в сторону и что-то зашептал ему на ухо. Те, кто не слышал смех старого Фереша в этот воскресный вечер, не могут до конца оценить поговорку: «Смеется тот, кто смеется последним». Староста смеялся от души. — Это правда? — спросил он, когда немного пришел в себя. Янош поклялся. Решено было держать эту историю в тайне. Фереш позвал жену и велел ей накрыть праздничный стол. Когда веселье было в разгаре, младший брат Яноша сбегал за старым скрипачом и Маричкой. Ярда мог еще раз полюбоваться красавицей, послушать ее пение, а когда она подсела к столу, то и шепнуть ей несколько нежных словечек по-цыгански. Маричка слушала и весело смеялась, а старик, захмелев, повторял, что староста Фереш — лучший человек на свете, любит цыган и цыганам отец родной. Фереши оставляли Ярду погостить, но ему было пора возвращаться домой. Хозяева дали Ярде на дорогу вкусной еды и вина, подвезли до ближайшего городка и тепло простились. Он зашел на почту и получил перевод. На билет до Праги этих денег ему не хватало, и он поехал в Остраву.Ярослав Гашек
Глава седьмая
Стерегут меня жандармы Каждый час и миг, В них хранителей я вижу, Ангелов своих…Когда Ярда вышел из поезда, в карманах у него не было ни гроша. Он вспомнил о шахтере Коцоуреке, с которым познакомился на первомайской манифестации в Праге, и написал объявление:Карел Гавличек-Боровский
«Разыскивается шахтер Йозеф Коцоурек. Упомянутому следует немедленно явиться на Главную площадь в ресторан «Под лоджиями», где его ожидает добрый друг — писатель Ярослав Гашек. Тот, кто приведет Йозефа Коцоурека в указанный ресторан или сообщит упомянутому, что он разыскивается, получит щедрое вознаграждение».Развесив объявления в людных местах, Гашек вошел в ресторан и скромно сел в уголке. Посетители ресторана, одетые в простые рабочие блузы, прониклись симпатией к юноше и пригласили его в свою компанию. Ярда согласился. Скоро он стал здесь своим человеком — шутил, рассказывал забавные истории о словаках и венграх, а потом сочинил куплеты об Остраве:
Глава восьмая
Делай, что хочешь.Перестав служить Гермесу и Пану, Ярда отправился к Сатане, кумиру чешских анархистов, подружился с его жрецами, окопавшимися на Жижкове и Виноградах. Он ходил в кафе пана Оченашека «Деминки», где молодые поэты-демократы собирались по вечерам. Всех их объединял апостол новой жизни Станислав Нейманн. Апостол успел отсидеть в Новоместской тюрьме и в Пильзене за свои антиавстрийские стихотворения. Некоторые поэты-сиринксовцы перешли к нему, когда он основал журнал «Новый культ». Пан Оченашек, стараясь как-нибудь отделить шумную компанию от остальных посетителей, отвел ей отдаленную комнатку, которую обслуживал кельнер Колинский. Запрети хозяин юношам шуметь — и отхлынут постоянные клиенты. Оставить все как есть — затаскают в полицию. Уж больно остры на язык эти поэты. Младочехи у них — трусливые прислужники Габсбургов, национальные социалисты — мошенники, соцаны — болтуны. Хороши одни анархисты. Только и слышно: Кропоткин, Бакунин, Прудон, Штирнер. Крикун Франя Шрамек мечет громы и молнии в адрес старого императора, полицейских и священников. Все они дружно хвалят русскую революцию. Конечно, пан Оченашек — человек, далекий от политики, его не волнуют все эти страсти, лишь бы дело шло хорошо, но все-таки как-то спокойнее, когда молодые поэты читают французские стихи, пишут друг на друга пародии и заигрывают с белошвейками. Тут полиции нечего делать. Размышления хозяина прервали новые клиенты. Пан Оченашек узнал их и торжественно ответил на их приветствие: — Милости прошу, господа Шмераль, Зауэр, Боучек и Гашек! Чем могу служить? — Нам туда… — негромко сказал Боучек, указывая на дверь за спиной хозяина. В маленькой комнате сидела дружина Нейманна — семеро молодых мужчин и молодая дама, жена апостола. — Друзья! Мы пришли к вам с открытыми сердцами, чтобы засвидетельствовать вам наше глубокое почтение, — учтиво поклонился Боучек. — Лучше бы вы не опаздывали! — сказал Шрамек, недовольный тем, что прервали его речь. Гости расселись, и Шрамек снова заговорил: — Мы — анархокоммунисты. Осуждаем богатства современного общества как несправедливые; осуждаем его организацию труда как неразумную; осуждаем его нравственные отношения как фальшивые. Впереди нас ждет жестокая борьба за преобразование общества. Будущее человечества зависит от ее успехов. Мы — за свободу печати, за освобождение науки и искусства от капиталистической зависимости. В капиталистах мы видим паразитов, существующих за счет физического и умственного труда человечества. Свобода там, где нет авторитетов, в анархии. Франя Шрамек выпил остывший кофе и продолжал: — Мы выступаем против милитаризма, церквей, государства, правительств, национальных привилегий. Мы стремимся к общине, устранению частной собственности. Я верю в такое будущее! Все одобрительно зашумели. Карел Томан постучал ложкой по блюдечку, требуя тишины: — Друзья, мне кажется, мы сегодня достаточно спорили, достаточно делились своими мыслями… в прозе, — он обвел всех глазами и остановил взгляд на Нейманне. — Станда, мы хотим услышать твое «Кредо», за которое ты сидел в Новоместской тюремной башне. «Кредо» Нейманна стало политическим манифестом анархистов. Все знали его наизусть, но любили слушать, как читает Нейманн. Нейманн встал, горделиво поднял голову и начал читать звучным голосом, чеканя каждое слово: — Верую в Сатану, что есть жизнь, познанье и гордость… Потом поднялся Франтишек Гельнер. Словно желая умерить оптимизм Нейманна изрядной долей холодного уныния, Гельнер вернулся из вселенских сфер на порочную землю: он упрекал друзей за то, что они праздно проводят время, ходят по увеселительным заведениям, слишком много говорят о разрушении основ и безобидно пародируют друг друга. Он осуждал своих единомышленников за то, что они разучились по-настоящему любить и размениваются на случайные флирты. Гашек заметил, что стихи Гельнера никого не обидели — либо за анархистами водились подобные грешки, либо осуждение нравов стало амплуа Гельнера. Лишь Нейманн шутливо выбранил его: — Франта, ты предвзято критикуешь наше учение. Анархокоммунизм — не только разрушение и неверие, он — и созидание, и вера в счастье. Апостол призывал своих учеников не продавать господам свои руки, сердца и убеждения, а поэта Франту Гельнера — отрешиться от неверия в свои силы. Доводы апостола всем понравились. Анархисты считали себя борцами, и никто из них не думал, что Гельнер и вправду обвиняет их в том, что «их меч покрыла ржавчина». — Богумир, — обратился Нейманн к Шмералю, — расскажи нам, как русские рабочие отрешаются от неверия в свои силы. Мы должны черпать веру в наше дело у русских. Взгляды присутствующих обратились в сторону Шмераля — он заведовал иностранным отделом в газете «Право лиду» и всегда был в курсе мировых событий. — Я шел к вам, Станда, — протирая стекла очков, отозвался Шмераль, — и думал, что товарищи обязательно будут говорить о русской революции. Анархистам это надо знать. Вы слышали о кровавом воскресенье. После него народ разуверился в царе и стал верить только себе. Он сам, своими силами, борется теперь за лучшую жизнь. События в Лодзи и в Одессе говорят о новом подъеме русской революции. Теперь народ борется против самодержавия с оружием в руках. К нему присоединяются армия и флот… Шмераль рассказал о том, как бились лодзинские рабочие с казаками и полицией. Потом перешел к самому главному: — Когда в Одессе вспыхнула всеобщая забастовка, в порт вошел броненосец «Потемкин». Корабль поднял на мачте красный флаг и поддержал рабочих. То, что сделала команда «Потемкина», может повториться на других кораблях. Флот перестает поддерживать царизм. — Слава «Потемкину»! — крикнул Боучек. — Русские рабочие — молодцы, — сказал Шрамек. — Они показали нам, как надо бороться за коммуну. — Долой Николая Второго! — пробасил Гельнер. В комнату вбежал хозяин с вытаращенными от ужаса глазами и предупредил: — Господа! В моем заведении — никакой политики! Когда он вышел, Михал Каха решил, что настало его время. Открыв печную дверцу, он вынул из печки две большие пачки с листовками и, шепча что-то каждому на ухо, роздал их. — Хорошо бы отнести эти листовки на фабрики, заводы, в мастерские, — сказал он Гашеку. Гашек взял несколько листовок и спрятал их за пазуху. Анархисты стали расходиться. Ярда простился со всеми и направился домой. Было поздно. Только кое-где прохаживались полицейские. Ярда вспомнил о листовках, которые сунул ему Каха. Не нести же их домой! Самым подходящим местом для агитации ему показался двуглавый орел над дверями полицейского участка. В лапы этой птичке он решил сунуть листовки. Но орел был надежно прикреплен к металлической вывеске. Ярда вынул из кармана перочинный нож, чтобы поддеть лапу, державшую скипетр, когда лапа полицейского легла ему на плечо. Ярду втащили в полицейский участок. — Кто дал вам право портить двери участка? — спросил у Ярды полицейский начальник. — Я сам взял это право, — ответил Гашек. — Не понимаю, — раздраженно бросил тот. — Я объясню. Это старая история. Однажды два брата, одетые в шкуры животных, взяли каменные молотки и пошли на охоту. Они увидели огромного медведя и одновременно бросили в него свои молотки… — Это сказка… — Нет, это быль, — не моргнув глазом, продолжал Ярда. — «Я убил медведя», — сказал старший брат. «Нет, я, — возразил младший. «Но я имею право на него!» — сказал старший, ударил молотком младшего и убил его. Разве, пан начальник, старший не сам добился этого права? — Это — бредни подвыпившего анархиста, молодой человек! — сказал полицейский начальник, поняв, куда гнет Ярда. — Вы меня не удивите! Я знаю вашего брата — проспитесь и опять ведете себя как порядочные люди. Вы, вероятно, слушали анархистскую болтовню в «Деминках». Идите-ка домой. Нам и без вас хватает работы! Гашек вышел из участка и задумался. Несмотря на свою молодость, он успел познакомиться с разными партиями. Младочехи, жалкие трусы-приспособленцы, не могли защищать свой народ от произвола австрийских властей. Реалисты-масариковцы — просто краснобаи. Национальные социалисты — не национальные рабочие, а штрейкбрехеры. Христианские социалисты носятся со своим непротивлением злу насилием. Социал-демократы на словах клянутся в верности Марксу, а на деле отказываются от него, все время говорят о всеобщем избирательном праве и о культурно-национальной автономии, как о социальной панацее. Они восхищаются борьбой русских рабочих, а сами не могут расстаться со своими канарейками. Анархокоммунисты понравились Ярде своей решительностью. Они выступали против всякого государства, значит, и против австрийского. Какой же порядочный чех станет защищать это государство? Они — противники частной собственности. Это тоже нравилось Ярде, он сам ничего не имел. Они ненавидят религию и церковь, у Ярды тоже не было никакой любви к попам и их сказкам. Выходило, что он, Ярда, был анархокоммунистом задолго до знакомства с ними. Одного не знали его друзья — как строить новое, коммунистическое общество. Не знал этого и Ярда. В гимназиях и Торговой академии этому не обучали. Многие из анархокоммунистов писали стихи, интересовались живописью и театром, любили пошутить и подурачиться. У них было много сил, энергии, задора, но они не знали, к чему их приложить. Правда, они активно действовали в рабочем Жижкове и среди северочешских шахтеров. Не податься ли на север? Анархокоммунисты послали Ярду Гашека в Прамен под Ломом. Ярда стал редактором и администратором журнала «Омладина». Он писал, редактировал и распространял журнал. Сотрудники жили коммуной, но когда вечером начинался дележ заработка, Ярде вспоминалась страшная сказка о разбойниках, слышанная в детстве: «Это — тебе, это — тебе, это — мне». Спали тоже вместе, в редакционной комнате. Намаявшись за день, все засыпали крепким сном, не думая, что за ними следит недреманное око полиции. Жандармы обычно являлись в полночь — время, отведенное для привидений. — Именем его величества государя императора! Откройте! — провозглашали призраки в австрийских мундирах. Заклинание действовало безотказно: кто-нибудь из сотрудников открывал двери. Жандармы шарили в шкафах, постелях, печке, пальто, корзине для бумаг и, перевернув все вверх дном, исчезали. Однажды, глядя, как начальник жандармов прощупывает пиджак главного редактора, желая выяснить, не спрятано ли что-нибудь за подкладкой, Ярда спросил: — Что вы ищете? Начальник улыбнулся: — Ничего. Привычка… — Обследуем на всякий случай, — добавил его подчиненный, выворачивая карманы Ярдиных брюк. Гашеку надоел этот дом с привидениями. Если жандармы пропускали иногда ночь-две, то клопы были на редкость пунктуальны и изо всех сил досаждали сотрудникам «Омладины», словно тоже состояли на службе в имперско-королевской полиции… Он стал замечать, что анархисты были далеко не такими, какими они себя изображали. Кроме того, у коллег Гашека появилась скверная привычка прикарманивать его заработок. Ярда подсчитал, что на недоплаченные ему деньги можно купить велосипед — вещь по тем временам дорогую. Он уже не колебался: оставив на столе редактора подробный счет, писатель сел на редакционный велосипед и отправился в новое путешествие.Франсуа Рабле
Глава девятая
Человек живет на свете, Весь свой век шагая: Одолеет одну гору, Впереди — другая!На двух колесах Ярда Гашек добрался до границы, пересек ее и очутился в баварском городе Нюрнберге, столице миннезингеров и пивоваров. Заезженный велосипед Ярда продал старьевщику и отправился дальше пешком. В небольшом городке Гёхштедт Ярде не повезло. Когда он выходил из трактира, где вдоволь наелся копченого мяса с капустой и отведал превосходного баварского пива, к Ярде приблизился жандарм и, добродушно улыбаясь, спросил: — Куда идешь? — В Диллинген, — соврал Ярда. — До него сорок километров. — Сорок пять, — уточнил Ярда. — А из Диллингена? — В Швабию, в город Ульм. — А из Ульма? — В Швейцарию, в город Линдау. Неизвестно, какой пункт Ярда назвал бы последним, продлись эта игра еще полчаса. Но жандарм прервал ее: — Есть у тебя документы? Гашек показал ему кучу разных документов. — А деньги? — Есть. — Сколько? Гашек достал кошелек, вытряхнул восемь пфеннигов. — Маловато. Плохи твои дела, — очень по-домашнему, по-отечески сказал жандарм и строго прибавил: — Именем его величества короля баварского вы арестованы за нарушение закона о бродяжничестве. Так Гашек попал из огня да в полымя — убегая от австрийских жандармов, он попал в руки баварских. Гёхштедтский жандарм взял его за воротник, отвел в управление, а оттуда — в тюрьму. — Возьми ключ, — сказал тюремщик арестованному, — сходи на склад, выбери постель и деревянные башмаки, да поживее… Гашек выполнил распоряжение тюремщика. Тот вручил ему Библию и повел по скрипучей винтовой лестнице в верхнюю башенную камеру. Щелкнул замок. Узник остался один. Читать Библию не хотелось. Став ногами на койку, Ярда мог смотреть в окно. На соседней крыше было большое аистиное гнездо, аисты то и дело летали куда-то за кормом для птенцов. Ярда нашел жизнь аистов весьма интересной и наблюдал за ними, пока его не вызвали на допрос. — Почему вы бродяжничаете? — спросил его следователь. — Я путешествую, а не бродяжничаю, — возразил ему Гашек. — Надо любить свою родину и не покидать ее. — Я люблю свою родину и люблю путешествовать. — Надо трудиться, зарабатывать деньги. — Я тружусь, зарабатываю деньги. «Странные здесь люди, — думал Ярда, рассматривая подозрительно черную шевелюру уже пожилого следователя, — им почему-то нравится играть в вопросы и ответы, как маленьким детишкам». — Вы мало зарабатываете. Вы — бродяга. По законам Баварии бродягой считается всякий, кто не живет в данном месте, не имеет постоянного места жительства и в момент задержания имеет при себе менее трех марок. По всем пунктам вы подходите под определение бродяги. — Меня обокрали, — печально сказал Гашек. — В Нюрнберге. И Ярда пространно рассказал только что придуманную им историю кражи в гостинице, добавив: — Я думаю, что меня обокрал не баварец. Следователь удивленно вскинул на него глаза. — Если бы вор был баварцем, он непременно оставил мне три марки на случай встречи с жандармом, — пояснил Ярда. Следователь помолчал, потом спросил: — А почему вы не заявили на месте, что вас обокрали? — Я не мог сидеть и ждать, когда поймают вора — он же укатил куда-то на моем велосипеде! Я думал наняться в работники. Это вернее. Следователь задумался, записал что-то и сказал: — Вы будете осуждены на трое суток тюремного заключения за бродяжничество! — В Австро-Венгрии я добропорядочный гражданин и исправный налогоплательщик![1] — с горечью в голосе произнес Ярда. — В Германии меня обокрали, и я стал бродягой! Его пышная тирада осталась без ответа. Ярда снова оказался в башне. Первым делом он посмотрел в окно. Папаша-аист, покинувший гнездо как раз в тот момент, когда Ярду вызвали на допрос, уже вернулся. Гашек наблюдал за жизнью этих птиц. Пока наводились справки в Нюрнберге, пока диллингенский окружной суд оформлял решение и прислал его, прошло полтора месяца. Недаром в народе говорят, что аист приносит счастье: выйдя на волю, Ярда перестал быть бродягой. За лишнюю отсидку ему выплатили компенсацию — по марке двадцати пфеннигов за каждые сутки, а всего — пятьдесят марок сорок пфеннигов! Выходило, что сидя на королевских харчах, наблюдая за аистами и читая Библию, можно заработать больше, чем на сборе хмеля или даже на юморесках! Редкостная справедливость баварских судей привела Ярду в восторг: ради такого легкого заработка в Баварию стоит приехать когда-нибудь еще. Дружески помахав аисту, кружившемуся над городом, Ярда пошел через Донауверс в Нойбург. Видимо, баварцы много времени посвящали нищим и бродягам. На воротах Нойбурга Ярда прочел два обращения. В более древнем, стихотворном, написанном затейливой готической вязью, нойбуржцы желали счастья путнику и недвусмысленно предупреждали его, что в их городе следует попрошайничать не слишком громко. Второе, более современное, гласило: «Бедные путешественники! Вам окажет помощь городская полиция!» Ярде понравилась эта приписка, и он спросил у первого попавшегося прохожего, где находится полиция. Придя по указанному адресу, Ярда увидел подвыпивших полицейских, сидевших на полу и занятых карточной игрой. Полицейский комиссар с пьяных глаз перепутал Гашека со своим сыщиком, и только случайно подвернувшийся трезвый полицейский помог ему разобраться. Полицейский комиссар велел этому трезвому полицейскому написать записку в трактир «Дунайская роза». Там Гашеку разрешалось переночевать, съесть две порции ливерной колбасы, кусок хлеба и выпить три литра пива. Гашек честно выполнил все это. Трактирщик то ли был нелюбопытен, то ли привык к таким посетителям, но ничем не выдал своего отношения к Гашеку. Утром Ярду разбудил стук в дверь: — Вставай, идем работать! — сказал полицейский, входя к Ярде. Гашек быстро собрался и вышел вслед за полицейским, ломая голову, какой труд ему уготован. Молча они дошли до городской каменоломни. Указав на три кучи камня, полицейский сказал: — Раздробишь это в щебень и перевезешь на шоссе. Вон тачка. Ярда истово взялся за работу. Глядя на него, полицейский тоже проникся желанием трудиться и начал отвозить щебень на шоссе. Так время пошло быстрее, и полицейский вскоре освободился для своих прямых занятий — питья пива и карточной игры. Ярда заработал пятьдесят пфеннигов и остался в трактире «Дунайская роза» еще на два дня. В этом маленьком городишке порой появлялись туристы, и тогда между двумя местными гидами начиналась яростная конкурентная борьба. Бедные туристы не могли ничего добиться от своих гидов касательно древностей — гиды водили их по трактирам и пивоварням, заставляя накачивать себя пивом, а все их рассказы состояли из яростной ругани по адресу конкурента. Ярде повезло: как только гиды поняли, что он не нуждается в их услугах, они заключили перемирие, подружились с Ярдой и стали угощать его, рассказывая веселые анекдоты о своем городишке. Они посетили трактиры «У корабля», «У большого чубука», «У победоносного баварца», «У последних ворот». Подлинной жемчужиной оказалась Монастырская пивоварня — там к прекрасному пиву подавалась ливерная колбаса, которую готовили францисканские монахи для богомольцев. Судя по трогательному пиетету, которым была окружена эта колбаса, паломники из южных германских земель устремлялись сюда ради нее, а не ради чудотворного образа святого Иллиодора. Из Нойбурга Гашек пошел берегом Дуная. Ингольштадт, Майлинг, Гроссмеринг, Фобург, Мюнхсмюнстер быстро остались позади. Ярда задержался только в Нойштадте, ожидая почтового омнибуса до Айнинга. Занять место в омнибусе было не так-то просто. Чуть ли не полдеревеньки спешило в Айнинг на похороны. Чтобы как-нибудь поместиться, расселись на коленях друг у друга. Ярде достался толстый кожевник, который уютно устроился на его коленях и время от времени нюхал табак. По бокам Ярды сидели купец и трактирщик. На коленях первого сидела жена, на коленях второго — дочь, стройная восемнадцатилетняя девушка. Ехали молча. Насколько позволяли соседи, Гашек смотрел вокруг, на холмы и поля. Хмель вился на шестах, на земле лежали спелые арбузы, дыни и тыквы. Картофель пожелтел и высох. По берегам Дуная клонили свои длинные ветви плакучие ивы. — А вы зачем едете в Айнинг? — поинтересовался у Ярды толстый кожевник. — Хочу осмотреть древнеримскую крепость, — ответил Ярда. Кожевник угостил Ярду понюшкой «бразильского» табака. Табак оказался таким крепким, что после первой же понюшки Ярда вылетел бы из омнибуса, не сиди на его коленях толстый кожевник. — Айнинг! — крикнул возница и протрубил в рог. Трактирщик пригласил Ярду к себе, угостил его вкусным, немного горьковатым пивом. Ярда спросил дорогу к развалинам крепости, и трактирщик, весело улыбаясь, привел к столику Ярды гида. По пестроте занятий этот айнингский гид мог поспорить с любым американским бродягой. Бывший унтер-офицер кирасирского полка, он теперь совмещал в своем лице обязанности церковного сторожа, сторожа хмеля, скотобоя, полицейского и гида. В крепость пошли, когда стало смеркаться. По дороге гид не раз прикладывался к таинственной фляжке, говоря, что это помогает от ревматизма. Лекарство оказалось таким сильным, что вскоре гид потерял способность передвигаться, и Ярде пришлось подталкивать его, чтобы добраться до крепости. На развалинах гид сам превратился в руину, упал на древние камни и громко захрапел. Осмотрев римскую крепость, Ярда отправился в Мюнхен, а оттуда — в Швейцарию. В Швейцарии Ярда из туриста превратился в паломника: он побывал на Боденском озере, в Констанце — местах, где прошли последние дни магистра Яна Гуса, в домике, где Гус жил перед церковным судом, и в Готлибенском замке, куда магистра заточили перед казнью. Ярда исходил пешком весь Бернский кантон и так обносился, что на него стало страшно смотреть. Возвращаясь домой, он заглянул в Домажлицы, чтобы навестить Ладю Гайека и разжиться кое-каким костюмом и ботинками. На всякий случай Ярда послал Ладе открытку, боясь, как бы отец Лади, управляющий сберегательной кассой, не упал в обморок, когда к нему в дом неожиданно ввалится бродяга… В доме Гайеков все сидели за праздничным столом. В это время под окнами раздалось веселое пение:Чешская народная песенка
Глава десятая
Я предложил сначала описать наше путешествие, продать издателю и вырученные деньги употребить на то, чтобы проверить, во многом ли мы ошиблись.Пани Катержина делала все, чтобы ее Яроушек меньше исчезал из дома и не бродяжничал. Перебирая в уме родственников, она никак не могла понять, в кого пошел ее сын. Теперь она не упрекала его и молча ждала, когда он остепенится. Пани Катержина никогда не видела, как Ярда пишет. Это происходило где-то вне дома, в том мире, куда она не была вхожа. Ярда приносил ей только номера газет и журналов. Хотя Яроушек часто подписывал свои юморески другими именами, она знала, что писал их ее озорник. Однажды пани Катержина задержалась с обедом. Ярда время от времени осведомлялся, готовы ли жареные почки. — Подожди полчасика, — успокаивала мать Ярду. — Тогда я сбегаю в трафику, — сказал Ярослав и, накинув пальто, вышел из дома. Почки были готовы, а Ярда не появлялся. Пани Катержина села обедать без него. Увидев, что ближайшая трафика закрыта, Ярда пошел дальше и встретился с художником Ярославом Кубином. Вместе они отправились на проспект Юнгманна и заглянули в трактирчик — там обычно собирались молодые художники, артисты и литераторы. — А вот и македонский атаман! — шепнул Кубин Гашеку, указывая на нового посетителя. Этого необыкновенного человека нельзя было не заметить. Его странный полувосточный, полуевропейский наряд, глиняная арабская трубка, торчавшая из черных усов, смуглое лицо и глаза, блестевшие, как антрацит, невольно приковывали внимание. Гость снял широкополую шляпу, поздоровался со всеми по-болгарски и по-чешски и сел рядом с Гашеком. Атаман опоздал родиться лет на четыреста. Говорили, что он родом из Македонии. Непоседа, безудержный фантазер и искатель приключений, он тем не менее имел в Софии небольшое кожевенное предприятие. Временами ему надоедала оседлая жизнь, атаман отправлялся путешествовать и заезжал в Прагу. Он был славянином и всю свою сознательную жизнь боролся за освобождение балканских славян от турецкого ига. В армии атаман дослужился до капрала. На визитных карточках, которые он раздавал знакомым, стоял титул «македонский атаман». Рассказы атамана о смелых внезапных налетах на турецких пашей, недвусмысленные намеки на то, что турки бегут при одном его имени, всегда кончались горячими призывами вступить в его храбрую дружину. Он не скупился на посулы, потрясал ножом, схваченным со стола, и показывал, как ловко он и его молодцы расправляются со своими врагами. Его необычайная страстность, яркая речь, представлявшая собою смесь всех славянских языков, свирепо шевелящиеся усы были чем-то вроде пряной приправы к пиву с сосисками. — Момче! — атаман широко отвел руку в сторону, обнял Гашека и привлек его к себе. — Момче! Ты хотел вступить в мою дружину. Мы можем принять тебя. Сегодня я уезжаю в Софию. Ты готов? Ярда понял, что попался. Когда-то, желая вытянуть из атамана побольше смешных небылиц, он горячо поддержал его патриотические планы и попросился в дружину. — Едем! — ответил Ярда. — Надо выпить за успех дела! — подзадорил их кто-то из компании поэта Догнала. Атаман подозвал кельнера, заказал сливовицу и, угостив всех присутствующих, пустился в пляс. Долго веселиться было некогда — атаман, Гашек и тут же завербованный Кубин поспешили на вокзал. На перроне их ждали еще два волонтера. Путешествие начиналось весело. Атаман вербовал бойцов в свою дружину даже в вагоне. — Встретимся в Софии! — говорил он им на прощание. О своем путешествии Гашек рассказывал, что по дороге он попал в Румынию, в Трансильванские Альпы и побывал на охоте незадачливого румынского короля. Триста загонщиков подставили под его ружье ручного черного медведя, но монарх, едва завидев зверя, испугался и не выстрелил… В Софии атаман собирал дружину, чтобы вступить в схватку с турками, но один из его кредиторовопротестовал какой-то старый вексель, и атамана упекли в долговую тюрьму. Операция против турок сорвалась. Гашек и Кубин решили побродить по Балканам. Писатель стряпал, а художник писал портреты, иконы и вывески. Когда у Кубина не было заказов, друзья ходили по церквам и мыли иконы. Кубин легко применялся ко вкусам заказчиков и ради заработка писал то иконы, то собачек, то портреты детей. Однажды какой-то кулак заказал ему портрет своего годовалого сына. Художник нарисовал только головку ребенка. Кулак посмотрел на портрет и заорал: — А где руки и ноги? Кубин не сказал ни слова, взял уголь и внизу, под головкой ребенка, на свободном маленьком куске бумаги пририсовал ножки и ручки. Головка оказалась раза в три больше конечностей, но заказчика это не смутило. Он остался доволен и хорошо заплатил художнику. Ярда шутил — не догадайся Кубин пририсовать ребенку тараканьи лапки, деревня линчевала бы их обоих… В Хорватии друзья расстались. Художник вернулся в Прагу, а писатель продолжал странствовать. Он задержался в Далмации и поступил там на службу — служил практикантом делопроизводителя и за пятьдесят три золотых помогал наместнику защищать интересы Австро-Венгрии. В Праге гадали, куда исчез Гашек. Одни говорили, что кто-то видел его на пароходе, плывшем в Африку, другие уверяли, что он добрался до Сицилии, а там его сняли с парохода и под конвоем отправили в Австро-Венгрию. Как продолжалось это путешествие, никто толком не знает. Мистифицируя друзей, наш герой утверждал, что побывал в Италии, заглянул в Венецию. Она поразила его обилием церквей и храмов. Видимо, Венеция сильно нуждалась в замаливании своих грехов. — Я не такой уж грешник, чтобы ходить по всем церквам! — сказал себе Ярда. Но он не устоял от искушения посмотреть собор святого Марка с его знаменитой античной квадригой, захваченной венецианцами при взятии Константинополя, и кафедральный собор Мария Глориоза деи Фрари — усыпальницу дожей. Ярде понравились две египетские колонны возле Дворца дожей — одну из них украшало изваяние покровителя Венеции — святого Федора на крокодиле, а другую — крылатый лев святого Марка. — Настоящий зверинец! — заметил Ярда. Вечером, стоя у палаццо Гримани, Гашек наблюдал за ссорой между гондольером и молодой женщиной. Ярда привык к тому, что венецианцы стараются выжать из туристов побольше денег, и решил, что гондольер затеял ссору с женщиной именно с этой целью. Скоро венецианка перешла от бурных итальянских жестов, мимики и возгласов к действию: резким движением она столкнула мужчину в канал, подбоченилась, глядя, как он там барахтается, крикнула еще что-то и пошла, вызывающе покачивая бедрами. Мужчина выбрался из канала, снял куртку и принялся выжимать ее. Случай свел Ярду с этим гондольером на следующий день. Ярде нужно было добраться до Дворца дожей. Гондольер долго торговался. Назвав последнюю цену, Ярда сказал: — Больше не дам, Витторе! Имя, слышанное им несколько раз во время вчерашней перебранки, подействовало как заклинание. Гондольер, изящно поклонившись, пригласил Ярду в свою гондолу и, когда тот устроился в ней, спросил: — Синьор, откуда вы меня знаете? Мешая французские, немецкие и итальянские слова, Ярда объяснил ему, что видел его вчера у палаццо Гримани. Витторе понимающе кивнул, взялся за весло и принялся грести. Вскоре они подплыли к тому месту, где вчера искупался гондольер. Витторе остановил лодку, вынул четки и прочел несколько молитв. — Во сне мне явился святой Антоний, — стал рассказывать гондольер о своей жене, — и велел мне жениться на ней, иначе в Венеции начнется мор… Ярда заметил одну любопытную особенность речи Витторе: почти в каждую фразу он вставлял слова «Per obbedir la» — с вашего позволения. Проплывая мимо знаменитых дворцов, кампанилл и храмов, Витторе скороговоркой, словно на аукционе, называл их. У Ярды в голове началась страшная путаница от всех этих палаццо — Контарини делла Фигуре, Бальба, Фоскари, Джино Джустиниани… — Я женился на Марте, с вашего позволения, — продолжал Витторе. — Вначале мы жили душа в душу, но потом она, с вашего позволения, стала изменять мне. Я все терпел. Некоторые советовали мне мстить. Все любовники Марты — гондольеры. Если я буду, с вашего позволения, убивать их, в Венеции не останется гондольеров. На днях она продала кое-какие вещи, взяла деньги из своего приданого, чтобы, с вашего позволения, купить лодку бездельнику Беппо. Он, видите ли, захотел стать гондольером! Скоро у нее наберется больше любовников, чем дохлой рыбы в лагуне! — Витторе сделал неподражаемый жест, выражающий отчаяние. — Я встретился с нею вчера у палаццо Гримани и сказал, что она нехорошо ведет себя. Я не ругал ее дурными словами, хотя она этого заслужила, я просил ее не швырять мои деньги на своих любовников. Она засмеялась, накричала на меня и, с вашего позволения, столкнула в канал. Витторе обругал какого-то гондольера, едва не опрокинувшего его гондолу, и сказал проникновенным голосом: — Я не могу долго сердиться на Марту, потому что люблю ее. Когда у меня нет пассажиров, с вашего позволения, я сочиняю песни о ней. Витторе громко пропел о своей любви, лихо нажал на весло и довольно ловко остановил гондолу у Дворца дожей. Ярда догадался, что весь рассказ хитрого Витторе был точно рассчитан на этот путь. Если бы пассажиру понадобилось ехать дальше, гондольер угостил бы его более длинной историей. Встретив искательный взгляд Витторе, он окончательно убедился, что вся эта история придумана для развлечения туристов. «Форрестьере» охотно платят за «венецианский колорит». — Марта, наверное, уже купила гондолу негодяю Беппо! — вздохнул Витторе. Пришлось добавить ему на чай. Группа, к которой примкнул Ярда, чтобы осмотреть Дворец дожей, была немногочисленной — высокая голубоглазая учительница-пруссачка, студентка-англичанка, трактирщик-сицилиец и подвыпивший староста из Штирии. Гид, стараясь заработать обещанные ему деньги, нес несусветную чепуху на трех языках — немецком, английском и итальянском. Он долго водил их по археологическому музею, показывал им разные достопримечательности — геральдические знаки, статую царя Пергама, место сидения путешественника Марко Поло, зал Четырех дожей, зал Совета Десяти, комнату Трех инквизиторов, застенок с орудиями пытки, а потом повел на Мост вздохов. Чем больше гид восхвалял Венецию, тем мрачнее делался сицилиец: — Палермо заткнет за пояс двадцать таких Венеций! Иностранцев поразил застенок с его темными и низкими камерами. Когда вода в каналах поднималась, узники тонули в этом застенке. В одной камере сохранилась надпись, сделанная кем-то из узников и подновляемая для туристов: «Избавь меня, боже, от тех, кому я верю, а от тех, кому не верю, — спасусь сам». Орудия пытки вызвали у туристов ужас — тиски для пальцев, испанские сапоги, клещи, крюки… Ярда невольно вспомнил рассказы Эдгара По, а сицилиец презрительно произнес: — У нас, в Сицилии, мучали больше и лучше! Немка вздыхала и читала стихи Байрона, посвященные Мосту вздохов, косясь при этом на англичанку. Англичанка кисло улыбалась, глядя на воду. Сицилиец звонко плюнул в канал. Вечерело. Гид торопился — он говорил об упадке Венеции, а по неписаному уговору все его коллеги ценили описание славы Венеции дороже и снижали цену, когда речь заходила о падении ее могущества. Расплатившись с гидом, Ярда пошел на площадь святого Марка. Там туристы кормили нахальных голубей. Крылатые попрошайки проносились у самого носа Ярды, норовили усесться на плечи и голову… Он вывернул карманы и нашел для них немного крошек. Пока голуби клевали, он пересчитал деньги. Их, как всегда, было мало, и Ярда решительно зашагал в порт. Ему повезло: капитан парохода, отправлявшегося а Триест, взял Ярду помощником кока.Проспер Мериме
Глава одиннадцатая
Нашим властям не следует поддерживать авиатику — пропеллеры могут вызвать бурю в политической атмосфере Чехии.В Вену вели все дороги. Казалось, это знал даже паровичок, который важно пыхтел между скалами. Ярда то и дело подбрасывал уголь в его ненасытную топку. Подъезжая к Вене, машинист паровоза дал кочегару адрес своего брата, носильщика. Носильщик приютил Гашека у себя и взял подручным на вокзал. Утром и вечером Ярда работал со своим хозяином на перроне, а днем выгружал с ним уголь на товарной станции. Так Ярда жил в «веселой Вене». Тяжелая работа поглощала все его время, и он думал только о том, чтобы скопить денег на билет, расплатиться с носильщиком за койку и оставить несколько крон на то, чтобы посмотреть Вену, которая ничего не знала и не желала знать о нем. Он экономил каждый геллер. Самый дешевый обед в кафе стоит две кроны, чашка кофе — двадцать восемь геллеров, проезд в трамвае и омнибусе (в зависимости от расстояния) — от восьми до пятидесяти геллеров, посещение общественной уборной (в зависимости от класса) от шести до десяти геллеров. В Праге жизнь была дешевле. Но Ярда не унывал — он был уверен, что не пропадет и в Вене. Наконец-то нужная сумма была накоплена, и Ярда стал знакомиться со столицей. Чего только не было в Вене! Музеи, театры, цирк, народные представления в Пратере, кабаре, оркестры, стадион с ножным мячом, теннисом и гольфом, игорные клубы, водные бассейны, Дунай с катаниями на лодках, регатами, ипподром с его скачками, состязаниями велосипедистов и летаниями на воздушных аппаратах — все это манило и туристов, и жителей Вены. Развлекайся, как хочешь, лишь бы позволило время и выдержал кошелок! Кошелек был главным препятствием для Ярды — все эти удовольствия слишком дорого стоили, бесплатной была только музыка. На каждой площади играли духовые оркестры — профессиональные и любительские. Вена оправдывала славу музыкального города, здесь можно было наслушаться музыки на десять лет вперед. Бурно и задорно, как волны Дуная, катились по улицам города веселые мазурки, быстрые польки, знаменитые вальсы… Гуляя по Франценсрингу, Ярда увидел здание рейхсрата. Желание побывать в этом месте, где делалась не только имперская, но и чешская политика, всегда почему-то связывалось у Ярды с охотой посетить знаменитый шенбруннский зверинец. Теперь рейхсрат оказался прямо перед ним, и Ярда направился к красивому зданию, украшенному великолепными квадригами и бронзовыми фигурами укротителей коней. Ощутив в руке монету, швейцар пропустил его внутрь. В рейхсрате было мало народа. Стоя на галерее, Гашек окинул беглым взглядом зал. Внизу стоял стол, за которым сидели важные господа, а неподалеку от стола, на трибуне, стоял толстый оратор и что-то говорил. Зал был наполовину пуст, а те депутаты, которые сидели в креслах, не слушали оратора и клевали носом. Гашек удивился этой мертвой тишине. Парламент помнил немало бурь, обструкций, бешеных рукопашных схваток, кабацких сцен. Как-то один депутат затеял здесь драку, и, чтобы успокоить задиру, на него вылили графин воды. Был случай, когда председательствующего стукнули металлической чернильницей. Особенно бурно проходили дебаты о культурно-национальной автономии и равноправии языков. Депутаты кричали, оскорбляя друг друга, называя своих противников свиньями — славянскими или немецкими. Однажды дело дошло до того, что председательствующий вызвал на заседание рейхсрата жандармов, чтобы удалить из зала двенадцать депутатов-скандалистов. Сейчас, как на зло, выступали скучные ораторы, толкли воду в ступе и не проявляли никакого желания затеять драку. Гашек зевнул и вышел на свежий воздух. Сколько бы ни выступали здесь чешские депутаты, представлявшие разные политические партии, в Чехии все оставалось без перемен. Шагая по Франценсрингу, Ярда увидел летнее кафе. Он сел за столик под полосатым зонтом, заказал кофе и булочки и огляделся. Рядом сидели молодые люди примерно одного с ним возраста, одетые в яркие клетчатые костюмы, на их длинных ногах блестели американские рыжие ботинки и высокие гетры, а на стуле рядом лежали спортивные кепи английского покроя. Подобного рода молодых людей Ярда встречал и в Праге. Он не любил их подчеркнутый снобизм, но как возможные герои юморесок они интересовали его. Попивая кофе, Ярда наблюдал за ними. Молодые люди с жаром говорили о воздушном празднике, который должен состояться на ипподроме Фройденау: — Там будут аэропланы, летающие шары, змеи, цеппелины… — перечислял один, вертя в пальцах пенсне. — Соревнования будут в полетах по скорости, высоте и длительности пребывания в воздухе, — подхватил другой, более всех смахивавший на англичанина. Самый юный из их компании спросил «англичанина»: — А кто там будет из иностранцев? «Англичанин» вытащил афишку, подал ему со словами: — На, держи! Здесь все сказано. Афишка пошла по рукам. Молодые люди прерывали чтение восторженными возгласами, называли марки аэропланов, качества машин… Удивительно, как все это помещалось в их головах. Слушая поклонников «авиатики», Ярда обратил внимание на старого чиновника, сидевшего поблизости. Вначале этот человек читал «Фрайе Прессе», но оживленная трескотня молодых соседей раздражала почтенного венца, и он, сложив газету, проворчал: — Ни к чему хорошему эти летания не приведут. Летатели только зря ломают себе шеи и выбрасывают деньги на аэропланы… Он сказал это негромко, но юнцы в клетчатых костюмах словно ждали такого вмешательства. Старший перестал вертеть пенсне, нацепил его на переносицу, словно желая рассмотреть, какая букашка посмела высказать свое мнение о летателях, и холодно процедил: — Вы ошибаетесь. У авиатики великое будущее. Его товарищи молчали, готовые поддержать своего вожака. — Бог не дал человеку крыльев, значит, и летать ему не надо. — Вы — ретроград! — ответил самый юный поклонник авиатики. — На месте властей я запретил бы эти полеты… — продолжал старик, но «англичанин» не дал ему кончить фразу, подошел к столику, развернул «Фрайе Прессе» и, указав пальцем какой-то столбец, спросил: — А это вы читали? Старик взглянул на юнца, потом опустил глаза, отыскивая то место, которое указал ему «англичанин». Но тот опередил его и громко прочел: — «Его величество государь император Франц-Иосиф I почтит этот праздник своим присутствием». — Разве это не признание авиатики? — откликнулись товарищи «англичанина». Гашек решил подлить масла в огонь: — А я слышал, что государь император будет раздавать награды особо отличившимся летателям. Юнцы с восторгом приняли это сообщение, ни на секунду не усомнившись в его истинности, и с новым жаром накинулись на старого чиновника. Гашек сразу показался им своим, хотя на нем не было ни клетчатого костюма, ни рыжих ботинок. Они бросали на него заговорщицкие взгляды и, наверное, пригласили бы за свой столик, но Ярда расплатился и ушел. Смеясь своей выдумке, Гашек добрался до Нойер Маркт, откуда трамвай «Л» ходил до Шёнбруннского парка. Гашек много раз видел изображения парка и замка на почтовых открытках, в путеводителях и альбомах. Шёнбрунн сравнивали с Версалем. Действительно, парк был прекрасен. В течение многих десятилетий тысячи людей трудились для удовольствия и прославления австрийских императоров, ухаживали за газонами и цветниками, подбирали редкие деревья, чтобы глаз отдыхал, следя за тончайшими изменениями оттенков листвы, кусты и деревья искусно обрезались, создавались хитрые пересечения аллей-лабиринтов. В нарядной зелени белели мраморные статуи, искрились серебристые струи фонтанов… В парке было все, чем Габсбурги любили поражать воображение гостей, — зверинец, фазаний двор, оранжерея с экзотическими растениями. Все эти чудеса служили лишь оправой для главной драгоценности — замка Шёнбрунн. Замок был летней резиденцией императора. Гашек осмотрел замок снаружи, обошел Глориэтту, изящную колоннаду, увенчанную орлом. Возле пруда толпились туристы, рассматривая скульптурную группу «Фетида просит Нептуна охранять Ахиллеса во время его путешествия». Гашека не интересовало, кого из членов дома Габсбургов следовало подразумевать под Фетидой, Ахиллесом и Нептуном, — он понял эту аллегорию по-своему. Как бы ни просили нимфы богов за отпрысков царствующего дома, ничто не спасет Габсбургов. С неистовым Ахиллесом их роднит только пята. Пока еще она давит… Направляясь к выходу, Гашек увидел у ворот шпалеры жандармов, а за их спинами — зевак. Все ждали возвращения императора с прогулки. Выйти из парка было невозможно, и Гашеку волей-неволей пришлось достоять вместе с зеваками и жандармами. К счастью, старенький монарх не заставил себя ждать. Он ехал в открытой коляске, любезно улыбался «своему народу» и как-то конвульсивно помахивал в ответ на приветствия сухонькой обезьяньей ручкой в белой перчатке. Публика побежала за коляской, освободив дорогу к выходу. Гашек воспользовался этим и покинул парк. В воскресенье, перед отъездом в Прагу, Гашек бродил по Пратеру. Здесь веселились небогатые люди. Он смотрел, слушал, пил пиво с незнакомыми рабочими и ремесленниками, которые выбирались на Пратер всей семьей, смеялся над проделками Кашпара — немецкого Петрушки, который, как полагается народному герою, побеждал и черта, и смерть, и даже полицейского. Прощаясь с Веной, Гашек поднялся над Пратером в вагонетке исполинского железного колеса и оттуда, с высоты шестидесяти четырех метров, взглянул на город. Вдали, у Дуная, словно стрекоза, пролетел маленький аэроплан, и Гашек с грустью подумал, что так и не достал билет на ипподром, где сейчас проходят соревнования «летателей». Колесо сделало еще несколько кругов, вызывая приятное чувство полета, и остановилось. До поезда оставалось немного времени. У Ярды не было никаких вещей, и он пошел прямо на вокзал Франца-Иосифа. Бравый носильщик нес в вагон первого класса два тяжелых чемодана и картонку. Гашек помог ему. Когда носильщик освободился, они выпили по кружке пива и вернулись на перрон. Ярда пригласил носильщика в Прагу, дал ему адрес и вошел в вагон. Пассажиров было мало. Утомленный прогулками по Вене, Ярда чувствовал, что его клонит ко сну. Усевшись на свое место, он быстро задремал под мерное постукивание колес. Впечатления последних дней, причудливо переплетаясь, теснились в его воображении. Неожиданно на первый план выплыла освещенная ярким солнцем кокетливая Глориэтта. Гашек силился вспомнить, чего не хватает этой колоннаде. Прежде чем он вспомнил, что на Глориэтте должен быть орел, распластавший крылья перед взлетом, раздалось негромкое мерное жужжание, и на место бронзовой птицы опустился, покачивая плоскостями, легкий биплан. В машине, между крыльями, сидел знакомый Гашеку худенький человек с усиками — «летатель» Ян Кашпар. Раздались аплодисменты, приветственные возгласы. Гашек понял, что он и Кашпар находятся на ипподроме. А вот и трибуна для почетных гостей. На ней сидит император Франц-Иосиф Первый. Многочисленные придворные, генералы и члены императорской семьи — все, как один, даже дамы, — в клетчатых костюмах — окружают его с разных сторон. Возле трибуны за столиком сидят суровые господа в цилиндрах и треуголках. Гашек догадался, что это комиссия по проведению воздушного праздника. Перед комиссией стоит Ян Кашпар, чешский Блерио, и докладывает, что готов лететь. Кашпар держит в руке веревочку, к которой привязан биплан с заведенным мотором. Император встает с места, спускается с трибуны, подходит к биплану. Летатель Кашпар толкает Гашека в бок, чтобы тот не забыл поклониться. Франц-Иосиф ласково глядит на Гашека и спрашивает: — Вы не боитесь высоты, молодой человек? — Не боюсь, ваше величество! — бойко отвечает Гашек. — А я, — искренне признается император, — теперь боюсь ходить по земле. Ветру ничего не стоит повалить человека, даже императора. Мой лейб-медик советует мне глотать железо, чтобы я был тяжелее. Император молчит, некоторое время жует губами и спрашивает: — Что же вы будете делать в воздухе? — Мы, ваше величество, хотим продемонстрировать уважаемой публике все возможности чешского аэроплана и свое мастерство по таким показателям, как высота, полет при сильном ветре, время пребывания в воздухе, наименьший разбег при взлете, точность подъема и спуска, устойчивое планирование, полет с пассажирами, — бойко рапортуют Кашпар и Гашек, слово в слово повторяя текст афишки. — Мы сочли бы за великое счастье, — добавляет от себя Гашек, — если бы вы, ваше величество, согласились полететь с нами в качестве пассажира… тем более что вы мало весите. Император улыбается и кивает головой: — Благодарю вас, храбрые летатели. Я полечу с вами. Председатель комиссии преграждает путь к биплану: — Ваше величество, каждый гражданин Австро-Венгерской империи перед полетом должен предъявить документы, обязательные для воздухоплавания, а именно: удостоверение личности, характеристику о безупречном поведении, справку о прививке оспы, диплом о знании немецкого языка, разрешение венского окружного начальника с указанием, на какую высоту летатель собирается подняться. Кроме того существуют необходимые условия, которые должен подписать летатель: 1) он должен поклясться, что по приказу властей немедленно опустится на землю; если он превысит высоту, дозволенную окружным начальником, власти призовут публику, и она опустит его на землю; 2) если летатель не подчинится и не опустится на землю, то власти отдадут его под суд за клятвопреступление… Император, слушая председателя, розовеет, краснеет, багровеет, наконец, не в силах больше сдерживаться, топает ногой и пронзительно кричит: — Бюрократ! По-обезьяньи легко император прыгает в самолет, за ним — Гашек. Кашпар выпускает из рук веревочку, собираясь сесть с ними, но биплан, очутившись на свободе, разбегается по полю, взлетает и плавно, как пратеровское колесо, набирает высоту. Счастливое чувство полета, такое полное, какое бывает только в детском сне, охватывает Гашека, когда рядом с ним раздается дребезжащий голос императора: — Выше! Выше! Мы завоюем весь мир! Император тянется к Гашеку, хватает его цепкими костлявыми пальцами. Гашек с отвращением стряхивает старческие руки. Биплан колеблется, теряет равновесие, и престарелый монарх вываливается из машины, падает, вертясь в воздухе, и кричит: — Austriae est imperare orbi universo![2] Гашек вздрогнул от ужаса и проснулся. На лице соседа он заметил некоторое смущение, а по движению руки понял, что сосед только что шарил у него в кармане. Но вагонный воришка мигом пришел в себя и, как ни в чем не бывало, услужливо сказал: — Вставайте, приехали!Ярослав Гашек
Глава двенадцатая
Будем жить и любить, моя подруга! Воркотню стариков ожесточенных Будем в ломаный грош с тобою ставить!Осматривая руины моравского замка Хельфштейн, Ярда упал и повредил себе руку. Кое-как остановив кровь, он спустился в городок, повстречал белокурую девушку, дочь учителя, и рассказал ей о своем несчастье. Девушка отвела путешественника к себе в дом. Вместе с матерью она перевязала руку Ярде. Хозяйки и гость разговорились. Узнав, что Ярда — пражанин, Слава Горникова — так звали юную мораванку — сказала, что осенью она будет учиться в Праге. Ярда обещал показать Славе столицу. В Праге под видом кузенов Ярда и Ладя Гайек разыскали Славу — та не скучала и уже успела подружиться со своими однокурсницами, ученицами женской торговой школы Вильмой Вараусовой, Хеленой Милотовой и Ярмилой Майеровой. Юноши быстро научили приятельниц преступать строгие школьные правила, водили их в кафе и танцевальные залы. Девушкам льстило, что их друзья — молодые литераторы. Им нравились стихи Лади о любви, смешные рассказы Ярды. Вскоре внимание Гашека приковала девятнадцатилетняя Ярмила — Ярма — миловидная девушка в пенсне, дочь владельца скульптурной мастерской. Она не так бросалась в глаза, как хорошенькая Милотова, кокетливая Вараусова или белокурая Слава с ее знаменитой «русской» косой. Чтобы оценить Ярмилу, надо было познакомиться с ней поближе, — она была умна, начитанна. Ярде понравилось, как она говорила о Киплинге, своем любимом писателе, чей роман «Свет погас» о судьбе ослепшего художника Дика они читали вместе. Ярмила была немногословна, но всегда говорила остроумно, за словом в карман не лезла. Однажды, когда Ярда шутки ради принялся доказывать, что драмы Ибсена — на самом деле комедии и играть их надо как комедии, Ярмила, посмеявшись вместе со всеми над забавными доводами Ярды, смело выступила в защиту Ибсена, обернув против Гашека его же высказывания. Ярда веселился больше всех и признал себя побежденным. Замечания Ярмилы о юморесках самого Ярды были дельными, уместными, а если ей что-нибудь не нравилось, она говорила об этом весело и необидно. Ярда даже не заметил, как не на шутку увлекся этой девушкой. Теперь ему казалась привлекательной и ее внешность — Ярмила и вправду была недурна собой. Росту она была среднего, стройная, гибкая. Ее смуглое лицо обрамляли вьющиеся темно-русые волосы, которые она заплетала сзади и туго стягивала лентой, завязанной бантом. Нежный подбородок девушки украшала ямочка. Ярмила одевалась со вкусом, по моде, кое-что шила себе сама. Из своих нарядов она особенно любила синий костюмчик с матросским воротником. Не будучи красавицей, Ярмила умела понравиться тонким кокетством. Ее не портило даже пенсне, задорно сидевшее на вздернутом носике. Ярмила тоже была не равнодушна к Ярде. Ей нравился этот немного странный, ни на кого не похожий юноша. Ее забавляли его рассказы о столкновениях с «хохлатыми», о путешествиях. Он казался ей и озорным, и смелым. В Ярде Ярмилу удивляло то, что он, отлично знавший торговое дело, готовый всегда помочь ей разобраться в торговых науках, отказался быть паном с белым воротничком и предпочел твердому заработку неверные литературные гонорары. Знание иностранных языков возбуждало у нее зависть — Ярда мог договориться с кем угодно и где угодно. Она была свидетельницей того, как он говорил по-русски с русскими студентами, занимающимися в Торговой академии. Ярмиле захотелось изучить этот язык. Ярда раздобыл ей грамматику и вызвался быть ее учителем. Оба были в восторге — лучшего предлога для свиданий не придумать, а Ярмила горела желанием изучить русский язык. Теперь они встречались постоянно. Ярда оказался строгим преподавателем, он заставлял ее выполнять все упражнения и учить правила. Ярмила старалась. Эти занятия, интересные только для них, отдалили Ярду и Ярмилу от остальных знакомых. Обучая Ярмилу русскому языку, Ярда однажды услышал от нее, что «Митя» — женское имя, и долго смеялся над ошибкой Ярмилы. Она смеялась вместе с ним, и в память об этом забавном недоразумении Ярда окрестил ее Митей, а себя назвал Гришей. Русские имена стали для них талисманами, помогавшими им в изучении русского языка и науки любви. Родители Ярмилы не одобряли выбора дочери. Ее избранник не внушал им доверия. Мужем Ярмилы они видели солидного инженера, чиновника, а не анархиста, атеиста, бродягу, журналиста с сомнительной репутацией, пишущего забавные, но несерьезные вещички… Надо было спасать положение, и нежные родители отправили Ярму на лето к старшей дочери, которая жила в городке Либань со своим мужем-инженером. Но Майеры плохо знали и свою дочь, и Гашека. Между влюбленными завязалась оживленная переписка на русском языке. Русский язык стал языком их любви. Ярда требовал, чтобы Ярмила во время каникул занималась русским языком, и писал ей стихи размером «Евгения Онегина» — по-чешски и по-русски. В этих стихах он изображал себя пражским Евгением, мечтающим о встрече с возлюбленной, бродящим по городу с книгой в руках и сигарой во рту. Но как ни прекрасны были эти письма, влюбленным этого было мало. Ярда, привыкший путешествовать, шутя преодолевал сто километров, отделявшие Прагу от Либани, чтобы тайно в лесу повидать своего дорогого Митю. Казалось, действительность была в заговоре с супругами Майерами. Она ничего не желала знать о романтике Ярославе Гашеке, то и дело напоминая ему, что он — писатель-юморист, подсовывала ему новых героев для юморесок, услужливо предлагала бесчисленные сюжеты рассказов. Кто только не встречался Ярде на этих дорогах! Фабриканты, инженеры, торговцы, ремесленники, корчмари, крестьяне, священники, архитекторы, редакторы, писатели, простаки, жулики, цыгане, чехи, мораване, немцы… Однажды он возвращался в Прагу поездом. Рядом с ним сидели крестьяне и оживленно беседовали об урожае. Ярда был еще во власти воспоминаний о встрече с Ярмилой, о ее счастливых глазах, робких поцелуях. Эти воспоминания прервал сосед Ярды справа, спросив его: — Каковы виды на урожай у вас, под Либанью? — Ячмень редкий, рожь высокая, — небрежно ответил Ярда. Но ни краткость ответа, ни нелюбезный тон не остановили собеседника. Тот же крестьянин спросил: — А куда вы едете? — В Роудницы, — соврал Ярда. — Вы там живете? — не унимался крестьянин. — Нет, еду за машиной для очистки мака! — увлеченный собственной фантазией, ответил Ярда. Крестьяне попросили его рассказать о макочистилке. Гашек тут же сочинил характеристику технических данных несуществующей машины. Он говорил складно, уверенно. К нему подошли пассажиры, сидевшие поодаль. Всем было интересно знать, что это за машина. — Мак — самая выгодная культура, — разглагольствовал Ярда, оглядывая слушателей. — Ныне маковое масло используется в живописи и при лакировке. Но его будущее велико. Чтобы масло отвечало кондициям, мак надо очень тщательно чистить. Иначе наши американские закупщики не берут его… — А эта… макочистилка — тоже американская? — прочавкал беззубый старичок. — Американская, — подтвердил Ярда и, почесав затылок, добавил: — Только эту машину надо тщательно выбирать, чтобы не попасть впросак. — Чего там выбирать? Написано: для очистки мака, и чисти себе мак! — отозвался простоватый молодой парень. — Видно, что ты не имел дела с американскими машинами! — наставительно сказал Гашек. — Ты знаешь, где находится Америка? В дру-гом по-лу-ша-рии! Там все не так, как у нас. Некто Вогрызек из-под Йичина выписал брюквоуборочную машину, а потом чуть не повесился на ней. — С ума он спятил, что ли? — Вогрызек не знал, что там, в Америке, брюква растет не в земле, как у нас, а на деревьях. Я сам читал об этом в американской сельскохозяйственной газете. Для нашей брюквы эта машина не годится. Так вот, жена вытащила Вогрызека из петли и говорит ему: «Попробуй-ка снять ею яблоки!» Вогрызек хлопнул себя по лбу, чмокнул жену и потащил машину в сад. Теперь она снимает у него яблоки. За небольшую плату он одалживает машину соседям и скоро окупит ее. Крестьяне удивленно переглядывались. Один из них спросил, какая машина лучше для разбрасывания удобрений — шестирядная или восьмирядная. Гашек посоветовал купить восьмирядную. — Чем больше рядов, тем лучше, — объяснил он. Воцарилось молчание. Его неожиданно нарушил толстый парень, сидевший у окна: — А у нас во время факельного шествия в день смерти магистра Яна Гуса свинья сожрала поросенка. Не знаете, почему? — Ваша свинья была мачехой этому поросенку, — уверенно сказал Ярда. Парень вытаращил глаза и хлопнул Ярду по колену: — Вот это да! Мать этого поросенка сдохла от краснухи, и мы подложили его к свинье мясника. — Мачехи поедом едят чужих детей! — резюмировал Ярда, и все согласно закивали. В другой раз Гашек возвращался домой пешком. Он уже миновал древние Либицы, резиденцию знаменитого рода Славников, который дал чехам святого Войтеха. Не испытывая никакого почтения к патрону чешских бродяг, Ярда смачно плюнул на угол насыпи, оставшейся от замка святого. Небесные силы не дремали: стоило Ярде выйти на дорогу, как на святотатца обрушился ливень. В неистовом шуме дождя он отчетливо услышал, как кто-то пел заунывным голосом:Гай Валерий Катулл
Глава тринадцатая
В уголовный суд меня вели двое полицейских. У одного под мышкой была папка с делом, у другого — моя черная трость. Втроем мы представляли собой живой ребус, который легко разгадывали прохожие.Вскоре их любовь подверглась новому испытанию. Ярда посетил митинг анархистов, состоявшийся на Славянском острове. Хотя анархисты осуждали венское правительство за его решение пополнить армию новыми контингентами призывников и речи ораторов носили антимилитаристский характер, митинг прошел спокойно. Это заметил даже полицейский комиссар, который дружески простился с председателем митинга и пожал ему руку. Жест был почти символическим: с каждым новым митингом революционный дух анархистов все более выветривался. Анархисты направились на Вацлавскую площадь, куда собирались колонны всех рабочих партий, чтобы провести общую пражскую демонстрацию против австро-венгерского милитаризма. Возле костела св. Игнатия анархистов встретила цепь полицейских. До сих пор шествие было совершенно спокойным, но неожиданное препятствие вызвало противодействие со стороны демонстрантов. Полицейский инспектор потребовал, чтобы демонстранты немедленно разошлись. Полицейские поняли его слова как команду разогнать анархистов, а те ринулись в долгожданную схватку. Репортер анархистской газеты «День» Ярослав Гашек упорно сопротивлялся полиции и в числе других был отведен в участок. Все задержанные твердили, что они — жертвы полицейского произвола. Гашеку показали черную трость и спросили: — Это ваша трость? — Моя, — ответил Гашек. — Вы признаете, что во время беспорядков вы ударили этой тростью по голове старшего полицейского Иоганна Шнидерля? — Я никого не ударял. — Трость ваша? — Моя. Но я ею никого не ударял. Во время мирного шествия какой-то молодой человек выхватил у меня трость, ударил по голове ближайшего полицейского, вернул мне трость и, вежливо поблагодарив, скрылся. Удивительно воспитанный молодой человек! Когда он взял мою трость, я подумал, что больше ее не увижу! — А палец Шнидерля вывихнул тоже неизвестный молодой человек? — Бог шельму метит. Ваш Шнидерль в участке хотел ударить меня по лицу, но я вовремя уклонился, и он угодил рукой по стене. — Скажите, пан репортер, почему вы на улице кричали: «П о д д а й т е и м»? — Я кричал женщине, которая толкала коляску с инвалидом: «Н а б л ю д а й т е з а н и м!» Вслед за моим предостережением конный полицейский опрокинул эту коляску на мостовую. Спросите свидетелей — они все видели. В пользу Гашека дали показания знакомые анархисты и жена портного пани Мария Мюллерова — все они были рады хоть чем-нибудь насолить «хохлатым». «Хохлатые» не сдались: они выставили против этих свидетелей своих людей и одержали победу. Дело Гашека передали в суд. Судьи признали писателя виновным в нападении на представителей власти и вынесли решение: подвергнуть Ярослава Гашека тюремному заключению с легким режимом сроком на один месяц. В глазах Ярмилы, патриотически настроенной барышни, Ярда стал героем. Еще бы! Он боролся с полицией, попал в тюрьму! Ярма писала узнику и получала от него изумительные письма, нередко в стихах. Подругам Ярмилы Ярда писал, что к нему применяют средневековые пытки, и умолял их не рассказывать об этом Ярмиле. На самом деле он вначале клеил кульки, а потом был «использован по специальности» — как тюремный писарь, мундант. Гашек с удовольствием копался в тюремных документах, обогащая свои знания и стиль. Он рассказал Ярме о тюремном житье-бытье, о загадочной тюремной баланде из гороха и круп, которая почему-то называлась «философией жизни», как учение модного философа Анри Бергсона, о банном дне и дне набивания соломенных тюфяков. Тюремные надзиратели относились к мунданту Гашеку с некоторым почтением, хвалили его за усердие. Писатель тоже сочувственно относился к надзирателям — эти невежественные и забитые люди не по собственной воле, а от нужды несли здесь нелегкую и презираемую службу. Один из надзирателей старался помочь Гашеку чем только мог и всячески расхваливал его перед начальством. Однажды тюрьму инспектировало какое-то важное лицо, и этот надзиратель, введя высокопоставленного гостя в мундантскую, торжественно сказал: — А здесь у нас одни порядочные люди! После этого заявления Гашек советовал своим четырем товарищам почаще изображать аллегорическую группу: «Порядочность за решеткой». Иногда мунданты подшучивали над своим надзирателем, говоря ему, что порядочность сидит за решеткой, а непорядочность гуляет на свободе. Крамольность этой мысли не смущала надзирателя. Он вздыхал и говорил философски: — Так уж повелось! Накануне выхода Ярослава из тюрьмы Ярмила получила его гонорары, прислала ему вещи, которые он просил — башмаки и галстук, — а на следующее утро уже ждала его, сидя на скамейке на Карловой площади. Он подошел к ней, напевая тюремную песенку:Ярослав Гашек
Глава четырнадцатая
— Больше всего я люблю собак, — сказал Швейк. — Это очень доходное дело для того, кто умеет ими торговать.Расставшись с шефом-издателем Фуксом, Гашек не спеша шел домой и думал: «Бедняга Фукс, как долго он терпел меня!» Эти веселые размышления стали постепенно вытесняться грустными. Как примет его уход из «Мира животных» Ярмила? Гашек мысленно представил себе настроение тестя и тещи, когда они узнают, что он, едва женившись, нарушил слово — потерял постоянную службу. Ему нужно было срочно найти что-нибудь, и он стал соображать, кто бы мог помочь ему. Гашек не заметил, когда и где увязалась за ним приземистая лохматая серая собачонка. Больше похожая на грызуна, чем на хищника, она обросла густой шерстью, которая свисала у нее на боках до земли и, казалось, вылезала даже из глаз. Он свистнул, и чудна́я собачонка поняла свист как приглашение следовать за ним. Она покрутилась у него в ногах, отбежала на несколько метров вперед, изогнула свое длинное тело полумесяцем и завиляла обрубком хвоста. Едва он поравнялся с ней, как она снова забегала у его ног, потом отбежала вперед и опять остановилась. Писатель улыбнулся: беспризорная собачонка увидела в нем товарища по несчастью. Он погладил ее, строго сказал: — Сиди! — и вошел в колбасную. Выйдя на улицу со связкой сосисок, Гашек увидел, что его знакомая терпеливо ждет у дверей. Он бросил собачонке сосиску. Та сожрала ее и весело побежала за ним. Собачка немного отвлекла его от невеселых дум. Может быть, она позабавит и Ярмилу… Когда Гашек вошел в квартиру, жена отложила последний номер «Мира животных» и радостно бросилась к нему, но негромкое рычание, раздавшееся снизу, испугало ее. Собачка стояла возле Гашека и всем своим видом показывала, что он принадлежит только ей. — Нравится тебе эта собачка? — спросил Гашек. Ярмила брезгливо посмотрела на собачонку: — Кто? Эта волосатая гусеница? Откуда она у тебя? — Мне подарил ее на прощание пан Фукс. Это редкий гибрид гусеницы, крысы и собаки, химера во вкусе «Мира животных». В ее повадках, к счастью, преобладают собачьи черты… Гашек хотел придумать что-то еще, но его слова о прощальном подарке пана шефа насторожили Ярмилу. — Ты ушел от Фукса? — Не совсем так… Он попросил меня уйти. Фукс больше не нуждается в открывателях новых животных. «Жизнь животных» Брэма для него то же, что Коран для мусульманина… Ярмила опустилась в кресло. Сообщение Гашека сильно огорчило ее. Он взглянул на жену и увидел на ее лице то же выражение отчаяния, какое бывало на лице пани Катержины, когда она узнавала об очередной его неудаче. Ярмила спросила с надеждой: — Ты нашел какую-нибудь новую службу? Гашек отрицательно покачал головой. — Чем же мы будем кормить эту химеру? — Что-нибудь придумаем, — уверенно сказал Гашек. — Идеи не валятся с неба, — холодно заметила Ярмила. — Эврика! — воскликнул вдруг Гашек после непродолжительной паузы и поднял с пола собачонку. — Они валяются у наших ног! Вот кто будет нас кормить! — Шутник! Недаром тебя дразнят «Гашек-шашек»! — Я никогда еще не был таким серьезным, как сейчас. Ты знаешь, что это за собака? Это — рука провидения, перст божий, указующий нам новый путь… Я не променяю эту собачку на черного пуделя Мефистофеля. — Нам не хватает только нечистой силы, — печально улыбнулась Ярмила. — Хорошо. Я скажу яснее. Мы будем торговать собаками. Ярмила не нашла в себе силы ни возразить, ни улыбнуться. — Конечно, можно было бы открыть конный завод или ферму йоркширских свиней. Это доходные предприятия, но для них требуются большие деньги и время. Лучше начать с собаководства и собакоторговли. Надо только поставить это дело на солидную кинологическую основу. — На какую основу? — На кинологическую. Кинология — наука о собаках. У обоих нас есть торговое образование, будет и кинологическое. Мы уже сейчас легко отличаем собак от кошек, коз, свиней и других животных. Мы создадим первую в истории человечества торговую фирму по продаже собак и назовем ее Кинологическим институтом. Ты, Ярма, возглавишь эту фирму. Ярмила расхохоталась. — Я говорю это всерьез. Мне нельзя возглавлять фирму. Я могу еще устроиться куда-нибудь, а для тебя это отличное занятие. Дело будем вести вместе. Нам понадобится помощник — опытный кинолог, собаковод и собаковед в одном лице. — Мои родители не вынесут этой затеи… — слабо сопротивлялась Ярмила. — Они будут гордиться тобой, когда ты по-настоящему покажешь свои предпринимательские способности. Соглашайся! — От всего этого у меня голова идет кругом, — призналась Ярмила. — Если у нас нет иного выхода, придется торговать собаками. — Отлично! — воскликнул Гашек. — Ты даже не представляешь себе, как много ты сделаешь для чешской литературы. Помнишь стихи Карела Гавличека-Боровского? И Гашек с чувством прочел:Ярослав Гашек
«Милостивый государь! Когда я должен приступить к исполнению своих обязанностей? С совершенным почтением. Ладислав Чижек».У Гашека словно камень свалился с плеч. Он написал ответ этому Чижеку и предложил ему явиться на Кламовку как можно быстрее. Гашеки стали изучать кинологию и прочли множество трудов по собаководству. Теперь они козыряли перед своими друзьями и знакомыми различными «собачьими» словечками и терминами, поражая их кинологической эрудицией. Родоначальница собачьего питомника Кинология болталась под ногами посетителей, вызывая у них немалое изумление. На вопросы любопытных, откуда у Гашеков эта фантастическая собачка, писатель совершенно серьезно отвечал: — Я сшил ее из четырех разных собак. Вскоре явился Чижек. Гашек в это время сочинял тексты рекламных объявлений и плакатов — он рекомендовал дарить детям собак — самую полезную и дешевую игрушку. «Пусть ваш ребенок попробует сломать или разобрать на части эту игрушку!» — написал Гашек и взглянул на человечка, подошедшего прямо к столу. — Я — Чижек! — представился посетитель. Уже с первых слов Чижека Гашек понял, что соискатель прекрасно разбирается в собаках. Он с большим воодушевлением рассказывал о том, как сам торговал ими. Лицо Чижека, изрытое оспой, раскраснелось, глаза горели. Гашек внимательно слушал его, а потом спросил: — Кто поставлял вам собак? Чижек пожал плечами и, удивленный странным вопросом хозяина фирмы, промычал что-то. Гашеку понравилась эта неопределенность — она придавала фигуре Чижека комичную таинственность. — Приступайте к исполнению обязанностей кинолога, — сказал Гашек. — Жалованье будет назначено в зависимости от вашей активности. Проявите ее лучшим образом. Ваша задача: своевременно просматривать газетные объявления о продаже собак и покупать животных для нашего института. — Какие нужны вам, пан шеф? — Любые. Пока нет никаких. Надо срочно искать собак. Клиенты осаждают меня, ругаются, вот-вот разнесут институт в пух и прах. — Понимаю… — сказал Чижек и пошел покупать собак по объявлениям. Тем временем Гашек принимал клиентов и заговаривал им зубы. — Мы, уважаемый пан профессор, держим кинологический питомник в деревне, — объяснял Гашек, когда его просили показать собаку. — Собакам вредно жить в городе, взаперти и без воздуха. Наша фирма служит не мамоне, а науке. Самые последние кинологические труды рекомендуют содержать собак прямо на свежем воздухе. Сейчас наши питомцы резвятся на загородной ферме, среди них и тот пудель, которого вы ищете. Какой вам нужен? — Белый, карликовый, — ответил профессор. — Оставьте нам заявку на белого карликового пуделя, залог пять крон и почтовую марку. Владельцу мясной лавки был нужен сенбернар. — Поставщики из Швейцарии обещали прислать нам партию сенбернаров через неделю или немного позже. Вам большого? — Возить тележку… — Тогда большого. У нас был один такой. Его хотела купить владелица горного санатория в Татрах — ей потребовалась собака для разыскивания заблудившихся туристов. Чутье у него было первоклассное. Дрессировал собаку наш сотрудник. Перед тем как забрать сенбернара, она решила сделать ему экзамен, надела на него попонку с карманчиками для лекарств и фляги с коньяком. Пес понюхал флягу и зарычал. Хозяйка перепугалась. Оказалось, что наш сотрудник дрессировал сенбернара с настоящим французским коньяком, а она налила во флягу какой-то подкрашенной сивухи. Пес чуть не растерзал бедняжку. Вот это чутье, не правда ли? Если вам нужен сенбернар, оставляйте заявку, залог в десять крон и почтовую марку. Гашек не покидал салона, пока не вернулся Чижек. Кинолог привел свору разнопородных собак, а за пазухой держал полуслепого щенка добермана, для которого ловко прикрепил в кармане пузырек с соской. — Вам не нужны кролики? — весело спросил Чижек своего шефа. — Один в Збраславе продает старого шпица и дает бесплатно прекрасную крольчиху. Писатель посмотрел на своего кинолога. Тот моментально угадал, что хочет сказать Гашек. — Иначе, пан шеф, ничего не получается. Приходится ставить пиво, разговаривать… Вот этого сеттера, например, я выпросил за кружку портера. В салон вошла владелица Кинологического института. — Целую ручки пани хозяйке! — завопил Чижек. — Хороший сеттер, правда? — По-моему, это не сеттер, а пойнтер, — тихо, но твердо сказала Ярмила. Чижек низко поклонился собаке, едва не ткнувшись носом в худую таксу, вертевшуюся у ног Ярмилы, и сказал: — Сеттер или пойнтер… Кто их разберет. Сама собака не знает, какой она породы… Чижек достал ножницы. Он стриг собак, купал их и кормил варевом из крупы и костей. Ярмила внимательно рассмотрела собак и напомнила Чижеку, что заявка была оставлена на черного, а не на белого шпица. — Пани хозяйка, вы говорите, что он придет за собакой завтра? — спросил Чижек и, получив утвердительный ответ, сказал: — Успеем. К утру он будет черным! Супруги с интересом наблюдали за его работой и смеялись. — Господь бог, создавая мир из ничего, напрасно не привлек к этому делу нашего кинолога, — заметил Гашек. — Он боялся конкуренции, — в тон ему сказала Ярмила. Гашек занялся составлением рекламных объявлений о дрессировке и ломбарде для собак. Он писал:
«Наши собаки обладают приятными манерами и повадками. Мы делаем кротких собак злыми, а злых — кроткими». «Храните своих собак в нашем кинологическом ломбарде за небольшую плату. Гарантируем отличное питание и уход!»Ярмила долго не могла понять своего мужа — то ли он, как ребенок, играет с Чижеком в магазин, то ли продолжает свои чудачества, начатые в «Мире животных», — чудачества, которые приносили одни неприятности. Некий Франтишек Кочка, владелец цирка «Франтишек Кочка и вдова», просил фирму супругов Гашеков послать в Венгрию, в Дебрецен, двух молодых гиен. Гашек списался с фирмой Гагенбека, заплатил ей немалые деньги. Вскоре гиены были отправлены из Гамбурга в Прагу. Покупка гиен сильно подкосила фирму. Чижек из кожи лез, стараясь покрыть новые расходы, и целыми днями бродил по Праге и ее окрестностям, держа наготове собачьи лакомства — сосиски и жареную печенку. Он ловил и подманивал собак. Полиция задержала его, когда он хотел увести прекрасного дога. На суде Чижек вел себя благородно — он не выдал того, кому поставлял собак. Кинологический институт остался без Чижека как без рук. Породистые собаки были проданы, а новые не поступали. Кормить дворняжек не имело смысла. Гашек выпустил их — такие собаки могли лучше прокормиться сами. Как назло, куда-то запропастилась Кинология. Исчез талисман фирмы. — Кинолог арестован, талисман потерян. Зловещие предзнаменования! — с комически-мрачным видом говорил Гашек. — Ничего, придут деньги от Кочки, и все поправится! — весело говорила Ярмила. Вскоре транспортное агентство сообщило, что гиены вернулись из Венгрии. В Дебрецене их никто не выкупил. Франтишек Кочка подрался, сел в тюрьму, цирк развалился, и гиены оказались не у дел. При виде голодных, потерявших товарный вид гиен Гашек сказал: — Наша счастливая звезда закатывается. — Надо их откормить и продать зоологическому саду или цирку, — посоветовала Ярмила. В библейской легенде семь тощих коров пожрали семь толстых. Две отощавшие гиены окончательно сожрали фирму супругов Гашеков, но при этом сами подохли. Фирма супругов Гашеков обанкротилась. Вскоре они переехали во Вршовицы, сняли там однокомнатную квартиру. Она была такая маленькая, что кухня служила им одновременно кухней, столовой и рабочим кабинетом для Гашека. Повсюду громоздилась нарядная мебель, вывезенная с первой квартиры, — для нее не хватало места, и новое жилище напоминало склад мебельного магазина. Мечты Ярмилы о красивой жизни, о жизни-празднике не сбывались. Несбывшиеся мечты и надежды казались теперь такими же ненужными, как и наваленная до потолка мебель. Ярмиле было непонятно, как этого не замечает муж. Она не знала, что Гашек считал своим домом весь мир, а мирок, в котором она видела счастье, был тесен ему. Теперь он все чаще уходил из дома, чтобы вернуться поздно вечером. Где он бывал и что делал — Ярмила не знала. Чутьем она угадывала, что у нее нет соперницы-женщины. Соперницами Ярмилы были литература и политика. Писатель подумывал о создании своей партии — партии юмористической, способной высмеять всю политическую жизнь Чешского королевства и Австро-Венгрии. Возвращаясь домой, Гашек играл под окнами на губной гармошке победную, жизнеутверждающую мелодию — фанфары из оперы Сметаны «Либуша». Возможно, сам композитор от такого исполнения переворачивался в гробу, но Ярмила, заслышав фанфары, бежала открывать дверь, втайне надеясь, что Яроушек несет ей какую-нибудь счастливую весть. Всякий раз ее ждало разочарование. Гашек возвращался домой после очередной встречи с друзьями, нетвердо держась на ногах, ласково смотрел на готовую расплакаться жену и приносил ей очередную повинную…
Глава пятнадцатая
Шагал солдат по дороге: раз — два, раз — два!Он пришел домой навеселе — это случалось с ним все чаще и чаще. Обычно Ярослав просил прощения у жены, но в этот раз, кое-как повесив пальто и шляпу, сразу прошел к столу, взял листок бумаги и перо. — Хочу немного поработать, — объяснил он. Ярмила не возразила ему, но глядя, как муж еле царапает пером по бумаге, иронически пожала плечами и ушла в комнату. Лежа на кровати, она вглядывалась в узкую полоску света под кухонной дверью и глотала слезы, чувствуя себя одинокой и обиженной. Гашек сидел за столом, мучительно пытаясь вспомнить все, что хотел записать. Он помнил только — о солдате… О каком? Четыре года назад вышел его рассказик о доблестном шведском солдате — шведом он стал из цензурных соображений. Вся доблесть героя состояла в том, что он замерз на посту во имя своего короля и даже успел отставить оружие в сторону, боясь повредить его, когда упадет мертвый. Бедняга! Такими хотели видеть чешских воинов австро-венгерские монархи! А года два спустя Иван Ольбрахт напечатал более острый рассказ о рядовом Умаченом. Этот солдат за год совершил кругосветное путешествие только потому, что во время занятий шагистикой капрал забыл скомандовать «Хальт!». Конец солдата был бесславен: обожравшись выданным ему годовым довольствием, он умер за бога, отечество и короля… То, о чем он думал, было интереснее… — Иди спать! — позвала его Ярмила. — Не могу, — ответил Гашек. — У меня такая идея, такой замысел… Утром, когда он еще спал, Ярмила нашла на столе бумажку с каракулями и, прочитав слова: «Идиот в роте», выбросила ее в мусорную корзину, уверенная, что Ярослав не вспомнит о ней. Она ошиблась: едва открыв глаза, Ярослав сразу стал искать свои заметки. Ярмила указала на корзину с мусором: — Я выбросила твои каракули… Она с удивлением смотрела, как муж роется в мусоре, с торжеством вытаскивает смятый листок, расправляет его и радостно восклицает: — Вот он! И, встретив недоуменный взгляд жены, писатель пояснил: — Вчера мне пришла в голову гениальная идея, а сегодня я не могу ничего вспомнить… — Немудрено, — стараясь подавить ехидные нотки в голосе, сказала Ярмила. — Ты вчера еле на ногах стоял. Как ты еще мимо дома не прошел — удивляюсь… Но писатель не слушал жену. Бережно разглаживая бумажку, он силился разобрать собственные каракули: «Идиот в роте. Он сам отправился на медицинскую комиссию, желая доказать, что может нести службу как нормальный солдат». Дальше нельзя было ничего прочесть. — Все думаешь о своем гениальном замысле? — спросила Ярмила, видя, что он не столько ест и пьет, сколько смотрит в одну точку. Муж не ответил. Она потрясла его за плечо и повторила вопрос. — Замысел этот поистине гениальный, — серьезно сказал он. — Для начала окрести своего героя, — неожиданно заражаясь творческими муками Ярослава, посоветовала Ярмила. Гашек радостно взглянул на нее: — Умница! Хорошая подсказка. Вот что значит интеллигентная жена! — он поцеловал Ярмилу, сдвинул в сторону посуду и еду — все, что осталось от завтрака, взял бумагу. — Я придумал! Назову своего бравого солдата Йозефом Швейком, по имени депутата Австро-Венгерского парламента. Героем рассказа будет Йозеф Швейк, бравый солдат, тот самый «идиот», которого ты едва не выбросила с мусором! Так герой Гашека, еще безымянный солдат, пережил свое первое приключение — едва не погиб в мусорной корзине. Но ему, как всякому истинно народному герою, суждено было не раз находиться на грани жизни и смерти, воскресать и продолжать свой путь — этот бравый солдат был той же породы, что Иван-дурак, Гонза или Петрушка. Шведский солдат и рядовой Умаченый бесславно погибли — эти же выходили из любых передряг живыми и невредимыми. Вслед за первым рассказом — походом бравого солдата Швейка в Италию, который появился на страницах юмористического журнала Йозефа Лады «Карикатуры» 22 мая 1911 года, вышли другие рассказы, сразу завоевавшие чешского читателя. Этого солдата нельзя было спутать ни с кем. Он был усерден до невероятия, все распоряжения начальства своим старанием доводил до абсурда, путал ранец с винтовкой и все же был образцовым служакой. Между строк чешский читатель без труда находил авторскую мысль — лишь идиот может служить Габсбургам верой и правдой, мы же не идиоты и знаем, что к чему! Успех Швейка был так велик, что последний рассказ Гашек предложил одновременно двум конкурирующим журналам — «Карикатуры» и «Проказник». Лада, обиженный таким поступком друга и не менее Гашека любивший всякие розыгрыши, поручил писателю Карелу Вике написать рассказ «Слава и смерть бравого солдата Швейка», чтобы наконец покончить с необыкновенным героем. Этот рассказ, подписанный «Ярослав Ашек», лег на стол цензора вместе с рассказом самого Гашека. И тут случилось чудо: цензор зарезал рассказ Вики и выпустил в свет рассказ Гашека. Швейк не мог умереть. Цензор спас смертельного врага Австро-Венгерской империи! Бравый солдат Швейк смело пошел вперед. Со страниц юмористических журналов он шагнул на страницы книги «Бравый солдат Швейк и другие забавные истории». Это была первая книга рассказов Гашека. Ее выпустили в свет издатели Гейда и Тучек с рисунками художника Карела Штроффа. Швейк радовал Гашека, но недолго. Писатель был им недоволен, его герою явно чего-то не хватало. — Не тот Швейк, не тот, — признался как-то Гашек своей жене. — Ты думаешь, что забыл свой замысел? — спросила она. — Нет. Я выжал из своего героя все, что мог, но он не устраивает меня. Швейк глупее, чем мне хотелось бы. — Что же плохого в том, что он глуп? Так смешнее. Гонза тоже глуп, — вступилась за Швейка Ярмила. — Дорогая Ярма, ты, как всегда, права. Но здесь дело не в одной только глупости. Глупость восхвалял Эразм Роттердамский. Он сумел спрятать под маской глупости истинную мудрость. — Гонза тоже только кажется глупым. — Верно. Помнишь английские баллады о хитрых горожанах? Чтобы не платить налогов, они прикинулись дураками. — Баллада, где кто-то из них сажал в землю подковы, чтобы выросли лошади? — Да. Шериф понял, что с таких дурней взятки гладки, и оставил их в покое. Хуже было с жителями немецкого города Шильды. Те, наоборот, славились умом. Они тоже хотели избавиться от поборов, но так прочно вошли в роль глупцов, что глупцами и остались. — Печальная, но поучительная история, — полушутя, полусерьезно заметила Ярмила. — Нам, чехам, все время приходится строить из себя дураков, но мы, слава богу, еще не поглупели. — Успокойся. Ярма, я не считаю, что чехи поглупели. Я думаю о Швейке. Он — только глуп, ему нечего терять. Я сам начинаю повторяться… Может быть, я плохо знаю военных? Это замечание встревожило Ярмилу, но она сказала с насмешкой: — При твоей любви все испытывать тебе только не хватало заявить, что ты готов служить государю императору до последнего дыхания… — Как верноподданный гражданин и честный налогоплательщик… Ярмила, смеясь, закрыла уши руками, но по движениям его губ угадывала обычный забавный набор официальных фраз и словечек. Когда Ярослав замолчал, она открыла уши и, продолжая смеяться, сказала: — Ты был пастухом, шахтером… Ярослав слушал ее внимательно. Она хорошо помнила все его приключения и профессии. Лучший биограф писателя — его собственная жена. — Я еще не был ни сумасшедшим, ни солдатом… — добавил он, когда она кончила. — Хвала господу богу и нашему престарелому императору, что пока не побывал ни в казарме, ни в сумасшедшем доме… Он сделал паузу, пристально взглянул на Ярмилу, ожидая, что она скажет. Она ответила как всегда: — Гашек-шашек!Г.-Х. Андерсен
Глава шестнадцатая
Объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!Сказочные герои рождаются необычным способом. Мифы древних греков рассказывают, что мудрая богиня-воительница Афина вышла из головы Зевса, богиня любви Афродита родилась из морской пены. Партия умеренного прогресса в рамках закона родилась в пражских трактирах из пивной пены, но вышла оттуда не нагая, как Афродита, а в полном вооружении, подобно Афине Палладе — с программой, уставом, девизом, гимном, знаменем и лидером — Ярославом Гашеком. Трактир «У Золотого литра», кофейня «У славянской Праги» и ресторация «Коровник» оспаривали честь называться местом рождения ПУПРЗ, но штабом партии стал «Коровник», который обладал наибольшими достоинствами. Пивной зал вполне подходил и для заседания исполкома, и для собраний партийного актива. За восемьдесят геллеров здесь подавали вкусный и сытный обед из двух блюд, за небольшую доплату — третье, сладкое блюдо. Жена ресторатора умела прекрасно готовить, ресторатор отлично разбирался в пиве. Пиво в «Коровнике» всегда было отменное. ПУПРЗ устраивали и клиенты пана Звержины — студенты, холостяки, молодожены и новобрачные, заходившие сюда на свадебный обед после венчания в костеле св. Людмилы. Немаловажным было и то, что секретарь исполкома партии Эдвард Дробилек приходился зятем самому ресторатору, благодаря чему легко поддерживалось единство действий ПУПРЗ и «Коровника». Весной 1911 года, когда были объявлены дополнительные выборы в сейм Чешского королевства, Прага оказалась центром шумного политического скандала. Он не мог спугнуть двуглавого орла, все еще маячившего на Староместской площади. Черно-желтый монстр спокойно дремал, вцепившись своими дряхлыми, но цепкими лапами в Марианскую колонну, и только изредка вздрагивал, когда мимо него проходили колонны рабочих. Но топот ног стихал, и двуглавый хищник снова засыпал на своем насесте. Густой туман стоял над Прагой. В молочном мраке этого полуреального, полуиллюзорного мира люди напоминали не то собрание гофмановских живых кукол, не то музей восковых фигур. Чешские вожди походили и на живых кукол, и на восковые фигуры. Это малоспособные, крикливые бездельники. Они не понимали ни прошлого, ни настоящего и еще меньше представляли себе будущее. Гофмановские живые куклы — творения злых волшебников, восковые фигуры — плод различных причуд, фигуры чешского политического паноптикума — порождение злых сил черно-желтого чудовища. Вожаки чешских политических партий оживали во время выборов в австро-венгерский рейхсрат или сейм Чешского королевства. Они боролись между собой за теплые местечки. Исполком ПУПРЗ принял решение участвовать в земских выборах и выдвинул своим кандидатом лидера партии. Ресторатор и его супруга охотно согласились обслуживать партию в предвыборное время. Активисты ПУПРЗ разъясняли в «Коровнике» избирательную программу партии и агитировали за своего кандидата. Эдвард Дробилек и Вилем Кун рисовали плакаты с партийными лозунгами и вывешивали их в окнах. За неделю до дня выборов, в воскресный вечер, когда заведение пана Звержины было набито до отказа, состоялась встреча лидера ПУПРЗ со своими товарищами и избирателями. Ярослав Гашек, серьезный и празднично одетый, точно в восемь часов вошел в зал вместе со своими соратниками. Все, кто сидел за столами, тотчас встали и дружно запели партийный гимн. После гимна доктор Грюнбергер сказал несколько слов сам и предоставил слово кандидату от ПУПРЗ Ярославу Гашеку. — Чешский народ! — начал он свою речь. — В 1492 году Колумб открыл Америку. С тех пор прошло несколько столетий. Как видите, прогресс в стране, открытой Колумбом, появился не в один миг, а постепенно, не насильственным, а мирным путем в рамках закона. Этот прогресс — историческая заслуга знаменитого чеха Колумба. Сама Америка никогда бы не достигла своего нынешнего уровня цивилизации. Колумб не знал, какие плоды принесет человечеству открытая им Америка. Создавая новую политическую партию, мы тоже не знаем, что совершит она для блага человечества и прежде всего для тебя, дорогой чешский народ! Всех вас, вероятно, интересует политическая программа нашей партии. Она прекрасно выражена девизом, начертанным на партийном знамени: «Умеренный прогресс в рамках закона». Чешский народ! До того как ты попал под власть Габсбургов, на божий свет должны были сначала появиться Пршемысловцы, Ягеллоны, Люксембурговцы и только после них ты попал под господство Габсбургов. Чешская нация может похвастаться многими партиями. Одни твердят тебе, что прогресс происходит сразу, мгновенно, другие — отрицают его вообще. Не верьте им! Верьте тем, кто считает, что все совершается путем умеренного прогресса в рамках закона! После этих слов раздались одобрительные аплодисменты. Когда соратники Гашека успокоились, он заявил, что Партия умеренного прогресса смело смотрит в будущее и видит гарантию своих успехов в постоянном живом интересе полиции к ее деятельности. Гашек поблагодарил полицейского комиссара Слабого и его помощников за внимание к деятельности ПУПРЗ. — Наши противники не дремлют. Мы должны сорвать с них маски. Они — испытанные герои политических скандалов, фразеры и демагоги. Я представлю вам целую галерею таких героев. Среди них вы найдете допотопного онемеченного принца, депутата-святого, кулака-пророка, младочеха-фабриканта, интеллигента-философа, социал-демократа-ревизиониста и других. Всем вам известна фигура благочестивого принца Фердинанда Лобковица. Он майор, рыцарь ордена Железной короны и командор ордена святого Стефана, тайный советник, камергер, маршал сейма Чешского королевства, депутат рейхсрата. Сначала принц был военным, потом стал скотоводом и виноделом. Отец бедняков, он не платит своим детям ни гроша, дабы они не стали на стезю порока. На сессиях сейма этот маршал спит, а, проснувшись, тарабарит на ломаном чешско-немецком языке. Он носит разные чулки: один — красно-белый, славянский, другой — черно-желтый, австрийский… Сапожник Йозеф Мысливец — непогрешимый вожак католической партии. Еще в юношеские годы он молил бога, чтобы тот взял его к себе, на небо. Журнал «Крест» передал его чистую молитву богу, и господь бог сделал его сначала доктором права, а потом — святым. Мысливец — первый святой-депутат. Он проповедует слово божье на чешской земле и скоро станет патроном ее сапожников. Его устами глаголет и дух святого Фомы, и дух святой Инквизиции. Опасаясь, что ткачи переметнутся к социалистам, он несет им слово святого Фомы и заверяет, что, если они проголосуют за него не только в сейм, но и в рейхсрат, то после смерти попадут в рай. Собравшиеся захихикали. — Говорят, младочехи столь твердолобы, что мясники точат на их лбах свои ножи. Самый твердолобый, фабрикант Карел Крамарж, сделался лидером младочешской партии. Крамарж живет в Австро-Венгрии и в России. Когда в Чехии разражаются политические бури, Крамарж едет в Крым, на свои табачные плантации, когда бури затихают, возвращается на родину. Его политическая тактика — держаться в стороне от хода исторических событий. Эта тактика — основа открытой нм позитивной политики, политики, ничего не решающей и изобретенной им без участия мышления. Нация, которая имеет не только позитивную политику, но и табачные лавки, никогда не погибнет. Рядом с Крамаржем — вождь партии национальных социалистов Вацлав Ярослав Клофач. Символы партии — золотой гусь на булавочке, славянская трехцветная лента, молот и перо с красно-белой гвоздикой. Лидер этой партии — опасный путешественник. Побывал Клофач в России — там убили Плеве, побывал в Сербии — там убили короля Александра, побывал в Турции — там свергли султана, побывал в Вене… там ничего не произошло. Абсолютно ничего! Партия Клофача — партия демагогов, штрейкбрехеров, шпиков и ловкачей. Клофач — вождь-мошенник. Путешествуя за рубежом, он обогащался. Как? По-разному. От турецкого султана он получил полмиллиона пиастров и двух гаремных красавиц за то, что продал ему Австрию, от русского царя — гонорар в сумме около двух миллионов крон за книгу «Практические стороны панславизма». Клофач охотно продал бы Австрию Сербии за три миллиона крон, если бы та пожелала ее купить. — А что вы можете сказать об аграриях? — крикнул кто-то из зала. — Девиз аграриев: «Деревня — одна семья», — продолжил свою речь Гашек. — В эту семью они запихивают и помещиков, и кулаков, и бедных крестьян, и батраков. Я знаю одного агрария, который сделал головокружительную карьеру. Он родился одновременно с теленком. Теленок сдох, а будущий аграрий выжил. В шесть лет он весил сорок килограммов и его показывали на сельскохозяйственной выставке. Когда у них дома появился трехголовый козленок, отца избрали старостой. Юный аграрий понял, что политическую карьеру можно сделать только в деревне. Как только у него появился двухголовый теленок, его избрали старостой вместо отца. Теперь этот аграрий разводит плимутроков. Одна несушка снесла ему яйцо весом в четверть килограмма. Оно демонстрировалось на выставке под его именем, хотя было высижено овцой. Как только из него вылупился восемнадцатикилограммовый петух, агрария избрали окружным старостой. Благодаря борову Адольфу он стал земским депутатом. Когда же йоркширская матка принесла аграрию тридцать поросят, его избрали депутатом в рейхсрат. Год спустя аграрий вырастил породистого осла и выставил его в Праге. Осел получил золотую медаль. Посетители не знали фамилии агрария и говорили, показывая на него: «Вот этот осел». Потом этого агрария-осла избрали в земский комитет… Речь Гашека неоднократно прерывалась взрывами смеха, и хозяин ресторации, опасаясь за целость посуды, запретил кельнерам разносить кружки с пивом. — Вожаки реалистической партии — философы. По Брэму, реалисты — живые, чувствующие, теплокровные, двурукие млекопитающие (биманы), родственные отряду обезьян (питеков). Сами реалисты утверждают, что реалист — нечто ощущаемое. Такими ощущаемыми являются профессор Масарик, д-р Гербен, д-р Дртина, поэт Махар и д-р Халупный. Они делят свой реализм на теоретический и практический, первый — на метафизический и собственно теоретический, а последний — на трансцендентальный, естественнонаучный и идеальный. Эту философию очень трудно понять. Они сами не разбираются в ней. Партия придерживается больше политического реализма — д-р Халупный определяет его как нечто метафизическое и признанно теоретическое, основанное на практической основе идеального реализма. По-видимому, это означает: некто купил яблоки, но ел сливы, а когда посадил сливовые косточки, вырастил финиковые пальмы. Другой приверженец реализма Ян Гербен дает более понятное определение политического реализма: «Политика реализма есть реализм политики». Это то же, что: «Ян Гербен есть Гербен Ян». Лидер ПУПРЗ перешел к характеристике праворевизионистских лидеров Чехославянской социал-демократической партии, уделив особое внимание Франтишеку Соукупу и Антонину Немцу. — Соукуп — дервиш партии, Немец — архипастырь ее газеты «Право лиду». Древнечешское слово «соукуп» означает «посредник». Он — посредник между буржуазией и пролетариатом. На собраниях Соукуп сначала многозначительно поднимает перст, а потом стучит кулаком по столу, словно требуя скальпа. Зато с жандармами доктор права Соукуп очень кроток — он знает, что властями дозволено, а что не дозволено. Он страстно хотел стать депутатом, но все время проваливался на выборах. Четырнадцать депутатов — социал-демократов по очереди отказались от своих мандатов в его пользу. Переступив порог рейхсрата, Соукуп гневно обрушился на австрийское правительство за то, что оно не обеспечило депутатов шелковой туалетной бумагой. Вслед за Колумбом он отправился в Америку, познакомился там с индейцами, неграми, ковбоями, методистами, мормонами, чешскими эмигрантами, жителями Дальнего Запада. В одном варьете он проговорил о чешской социал-демократии битых три часа. Его выступления считались аттракционом первого класса и, подобно выступлениям эквилибристов, были гвоздем программы. В Чехии же страстное желание Соукупа стать депутатом рейхсрата едва не погубило Чехославянскую социал-демократическую партию. Антонин Немец, напротив, всюду заявляет, что партия быстро растет — порукой тому его огромный живот, на котором сияет золотая цепь. Этот живот вырос у Немца потому, что он боролся за улучшение материального положения рабочих. Он шел во главе обездоленных демонстрантов, несших транспарант со словами: «Мы умираем от голода!», а на митинге поглаживал себя по животу, восторженно восклицая: «Мырастем, товарищи!» Его живот уменьшался, когда партия теряла мандаты. Но он был и остается прорицателем ее успехов, ее лучшего будущего. Кажется, живот Немца вот-вот лопнет, и из него, как из легендарной горы Бланик, выскочат новые, пролетарские богатыри, готовые разгромить крупный капитал. Тогда Антонин Немец станет никому не нужен, из него сделают чучело и поместят под стеклянный колпак. Лидер Партии умеренного прогресса закончил характеристики противников и призвал своих товарищей решительно бороться с пустословием и фразерством не только в чужих партиях, но и в своих рядах. — Наши противники написали на своих знаменах высокопарные слова; «Свобода, Равенство и Братство», — сказал в заключение лидер ПУПРЗ. — Мы чужды высокопарности. Наш девиз «Да здравствует Сливовица, Ром и Бренди!» Неизвестно откуда на столе перед Ярославом Гашеком возникли три бутылки — по их форме и цвету содержимого все догадались, что это и есть напитки из только что произнесенного девиза. Чокнувшись со всеми, Гашек продолжал: — Дорогие товарищи и друзья! Сестры и братья! Милые дамы и уважаемые господа! Наши избиратели и гости! Разрешите мне приветствовать и поблагодарить вас за доверие, которое вы оказали Партии умеренного прогресса в рамках закона и мне, ее члену. Будучи руководителем ПУПРЗ и ее кандидатом, я должен оценить свои дела как можно объективнее и обстоятельнее, чтобы не упустить ни одной примечательной черты моего характера. Не только мое замечательное дарование и огромные способности, но, главным образом, мой чудесный талант и необыкновенно цельный характер придают моей особе достоинства, каких нет у моих соперников, кандидатов от государственно-правовой партии и национально-социальной партии, Виктора Дыка и Вацлава Хода. Вы можете подумать, почему я восхваляю себя сам? Отвечаю: я знаю себя лучше других и наверняка не скажу о себе ничего, что не соответствовало бы истине — ведь смешно говорить о себе, преувеличивая. Но не следует быть и чрезмерно скромным. Скромный человек скажет о себе: я — осел! Я же смело могу сказать о себе: я — гений! В истории человечества нельзя найти более одаренного человека, чем я. Возьмите и перелистайте любой из моих необычайно талантливых рассказов — вы заметите в нем глубокий смысл, соответствие его действительности, а прекрасный язык моих рассказов превосходит язык знаменитой Кралицкой библии. Я не раз видел, как читатели откладывали журнал, если в нем не находили моих юморесок. Я сам принадлежу к числу своих поклонников. Каждую юмореску с большим наслаждением читает моя супруга Ярмила, самая милая и интеллигентная женщина на свете. Я тоже восторгаюсь собой и говорю: великолепно, прекрасно! Ну и голова у тебя, Ярослав Гашек! Я — живое доказательство того, насколько лживы утверждения наших бессовестных критиков, которые кричат, будто в Чехии нет ни одного писателя с мировым именем. Достоинства моего характера органически связаны с моим талантом. У меня прекрасная душа. В австрийском парламенте еще не было такого благородного депутата, каким мог бы стать я, если вы, уважаемые друзья, изберете меня. Последние слова лидера партии вызвали всеобщий восторг — члены исполкома подняли кружки и, выпив за здоровье своего лидера и кандидата, дружно запели партийный гимн, недавно написанный поэтом Йозефом Махом и утвержденный пленумом. В зале с особым пафосом звучали те слова, которые выражали сущность политической доктрины партии и прославляли ее творца. В этих словах прозвучал и ответ их противникам:В. М. Гаршин
«Все как один голосуйте за кандидата ПУПРЗ Ярослава Гашека, выдвинувшего программу национализации дворников!» «То, чего не даст вам Вена, дадим мы!» «В нашей канцелярии — меню для избирателей!» «Каждому, кто проголосует за кандидата ПУПРЗ, — бесплатный вкусный обед!» «Тот, кто проголосует за нашего кандидата, получит карманный аквариум!» «Если вы проголосуете за нашего кандидата, мы защитим вас от землетрясения в Мексике!» «Сегодня здесь состоится панихида по провалившимся кандидатам!»Кроме этих лозунгов, ежечасно вывешивался бюллетень с предварительным подсчетом проголосовавших за лидера ПУПРЗ. Уже к обеду поползли слухи, что число голосов, поданных за Гашека, в несколько раз превышает число всех избирателей Виноградского избирательного округа. Это вызвало крайнее беспокойство руководства партий-соперниц. Все они тревожились напрасно. Когда вскрыли урны и подсчитали голоса, то оказалось, что большинство их было подано за кандидата Вацлава Хоца. Виктор Дык и Ярослав Гашек провалились. На этих выборах прошли в сейм социал-демократы Антонин Немец и Франтишек Модрачек, а также аграрий Швейк. После подсчета голосов состоялась обещанная панихида. Исполком ПУПРЗ выразил своему лидеру глубокое сочувствие. К нему присоединился и провалившийся соперник — Виктор Дык. Он сказал, что пан Гашек вел себя в борьбе с Хоцем, как мужественный спартанский царь Леонид, героически павший при Фермопилах. Как только Дык замолчал, Гашек лег на пол у ног Дыка и замер. Дык посмотрел на него, грустно сказал: — Я тоже потерпел поражение в борьбе с Хоцем. Отныне мое место рядом с Гашеком, — и растянулся на полу возле лидера ПУПРЗ. Все старались сделать грустные лица, но судороги смеха мешали им. Ладе стало жаль Гашека и Дыка, а еще больше — членов исполкома, у которых, того и гляди, мог начаться тик или пляска святого Витта. Он поднялся и сказал: — Господа! Мы рано хороним нашего дорогого и уважаемого лидера. Я полагаю, что в ближайшее время еще не раз будут распущены и имперский рейхсрат, и земский сейм. Как только объявят о новых выборах, мы начнем новую агитацию за лидера нашей партии, и количество голосов за него удесятерится. Я не сомневаюсь, что через несколько лет наш лидер и кандидат ПУПРЗ вступит в стены сейма и рейхсрата как победитель. Слова Лады обладали силой заклинания: Гашек и Дык проворно вскочили на ноги. Члены исполкома, обрадованные воскресением своего лидера, еще раз чокнулись и разошлись по домам. На этом участие ПУПРЗ в избирательной кампании закончилось, но яркая звезда Гашековской партии не перестала сверкать на политическом небосводе Чехии. Теперь она стала героиней книги «Социально-политическая история партии умеренного прогресса в рамках закона», произведения столь крамольного, что оно увидело свет лишь полвека спустя.
Глава семнадцатая
Из «Мира животных» я спокойно перебрался в «Чешское слово», нисколько не изменив своим политическим убеждениям… Я просто променял бульдогов на новую партию.Бескорыстно служа своей партии, Гашек совершенно забыл о семейном очаге и теперь, уступая просьбам Ярмилы, нашел себе службу — стал сотрудником официоза национальных социалистов «Чешское слово». Эта газета пользовалась дурной славой. О ней говорили: «Если чешской рыбе место на чешском столе, то «Чешскому слову» место в чешском сортире». Друзья не верили, что Гашек взялся за эту работу по убеждению, — и дураку было ясно, что он не имеет ничего общего с этой партией, жалели писателя. Должность, которую Гашек занимал в «Чешском слове», была весьма далека от политики — он заведовал отделом «ломаных ног» или «черной хроники». Чтобы рассеять возможные недоразумения, Гашек опубликовал «Открытое письмо», в котором писал:Ярослав Гашек
«Слухи о том, что в связи со вступлением в редакцию «Чешского слова» я будто бы изменил своим политическим убеждениям, не соответствуют действительности. Только невеждам неизвестно, что политическая линия «Чешского слова» та же, что и «Мира животных».Редакция «Чешского слова» очень нуждалась в талантливом писателе и молча проглотила пилюлю. Черная хроника, едва к ней прикоснулось перо Гашека, превратилась в самое увлекательное чтение. Место вымышленных животных теперь заняли вымышленные люди и происшествия. Эти юморески-миниатюры оказались совершенно новым и притом нескучным жанром. Благодаря фантазии Гашека «черная хроника» никогда не пустовала, а пражане получали к утреннему кофе и правдивые истории, и пародии на обывательские слухи:
«Молочница Франтишка Воднага, приехав в пятом часу утра к своей стойке на Коронной улице, заметила прилично одетого мужчину, привязанного к дереву. Едва она перерезала путы, как незнакомец, даже не поблагодарив свою спасительницу, скрылся в предрассветном тумане».Иногда Гашек шутил над своими друзьями и знакомыми, высмеивая их привычки и слабости:
«Вчера днем из трамвая маршрута № 6, на полном ходу, выпрыгнул пятнадцатилетний школьник Мрквичка, проживающий на Хлумовой улице. При падении мальчик сломал себе ногу. Мой приятель, редактор газеты «Право лиду» Богумил Новотный, тоже любит выпрыгивать из трамвая на полном ходу. Я предостерегаю его не делать этого во избежание несчастного случая!»Описывая пожар, случившийся в коптильне, Гашек сообщил:
«Опилки в копченых колбасах пана Бребурды горели ярким пламенем».Эта фраза очень огорчила колбасника. Он и так пострадал от пожара, а теперь газета подрывала его репутацию. Гашек уважил просьбу погорельца и поместил в очередном номере опровержение:
«В связи с сообщением о пожаре в коптильне пана Бребурды мы позволим себе сделать маленькое уточнение: «опилки в копченых колбасах пана Бребурды не горели ярким пламенем».Писатель играючи вел отдел «ломаных ног» — он великолепно знал и нравы маленького чешского человека, и нравы чешской прессы, и сам не раз бывал героем всевозможных происшествий. Однажды поздно ночью Гашек шел с Малой Страны на Новое Место. На Карловом мосту он услышал позади себя шаги, оглянулся и увидел человека. Гашек решил разыграть его. Подойдя к статуе Яна Непомуцкого, он снял пиджак, разулся и перекинул ноги через парапет. — Подождите меня! — закричал почти рядом с Гашеком прохожий. Гашек сделал вид, что не слышит. К писателю подбежал его знакомый, театральный парикмахер. — Ярда, ради бога, не топись… — пролепетал он. — Иди с богом, не мешай! Парикмахер обхватил Гашека и потащил его вниз. Отбиваясь, писатель влепил ему две оплеухи — от первой шляпа парикмахера слетела в воду, а от второй посыпались искры из глаз. Теперь спасатель испугался за свою жизнь и заорал: — По-мо-ги-те! — Не трогай меня, скотина! — закричал Гашек, пытаясь снова забраться на парапет и оглушительно икая. «Он словно мухоморов наелся!» — думал парикмахер, борясь с самоубийцей. На шум прибежали полицейские. Увидев запоздалых гуляк у статуи святого, полицейские забрали обоих. Парикмахер объяснил, как было дело, а Гашек неистовствовал: орал, обрывал пуговицы на мундирах стражей порядка, требовал отпустить его. Втроем они доставили Гашека в полицейский участок. — Как выглядел этот пан? — спросил полицейский комиссар своих подчиненных. — Был в невменяемом состоянии, буйствовал. — Еле стоял на ногах. — Что вы скажете? — обратился комиссар к парикмахеру. — Он трезв — от него ничем не пахнет. Я думаю, у него мозга за мозгу заскочила. Показания свидетелей возмутили Гашека. Комиссару пришлось успокаивать его: — Пан писатель, я хорошо вас знаю. Не волнуйтесь и расскажите, как было дело. — Я — жертва трех хулиганов. Они напали на меня. Прошу вас строго наказать их за покушение на мою личную свободу. Парикмахер удивленно пожал плечами: — Пан писатель рехнулся… Комиссар махнул рукой в сторону парикмахера и снова спросил: — Пан писатель, почему вы хотели утопиться? Гашек молчал. Потом улыбнулся и сказал: — Я сделал математическое открытие: пять плюс три равно четырем. Он сказал это так убежденно, что парикмахер испуганно пискнул и прошептал: — Пан писатель рехнулся… — Нет, пан Гашек, — ласково возразил комиссар, — пять плюс три равняется восьми, а не четырем. Зачем вы залезли на парапет? Вы хотели утопиться? — Когда я сделал математическое открытие, меня стало тошнить. Я боялся осквернить место у ног святого. — Пан комиссар, — вмешался парикмахер, — я готов заявить под присягой, что он собирался топиться. Комиссар молча взглянул на полицейских. — Собирался топиться, — дружно ответили те на его немой вопрос. — Вы слышали? — обратился комиссар к писателю. — Все свидетельствуют, что вы собирались топиться. — Не собирался, — решительно возразил Гашек и объяснил, глядя на всех ясными глазами: — Была лунная ночь. Лунный свет ослепил меня. Я поглядел в воду и увидел там горящий телячий язык. Мне хотелось поймать его… Дальше Гашек понес такую чушь, что все разинули рты от изумления, а парикмахер изредка вздыхал, приговаривая: — Пан писатель рехнулся… Комиссар позвал врача и коротко объяснил, в чем дело. Врач выслушал его и обратился к Гашеку: — Пан писатель, расскажите мне, что случилось с вами ночью. — Я не пан писатель, а тело без духа. — Ну, ну. Разве тело писателя может лишиться духа? — У меня забрали дух вот эти разбойники, — объяснил Гашек и, повернувшись к полицейским и парикмахеру, заорал: — Отдайте мой дух, вы, воры! Писатель вскочил со стула и отвесил полицейским по хорошей оплеухе. Он замахнулся и на парикмахера, но комиссар и врач повисли у него на руках. — Как вас зовут? — спросил врач. — Ян Непомуцкий. — Сколько вам лет? — Около пятисот. — Вы так давно родились? — Я не родился. Рыбаки выловили меня из Влтавы. Врач предложил Гашеку прогуляться. — Я люблю гулять, — отозвался Гашек и вдруг подозрительно прищурился: — А вы не бросите меня во Влтаву, как король Вацлав Четвертый? Гашека отвезли в больницу Психиатрического института. Его раздели, вымыли в ванне с теплой водой, окатили холодной и вытерли мохнатым полотенцем. Он вымылся гораздо лучше, чем в знаменитых «Карловых лазнях» — пражских банях. Врачи осмотрели его, накормили лекарствами и прописали долгий сон. После ночи, проведенной на Карловом мосту и в участке, такое лечение оказалось как нельзя кстати. Гашек выспался, отдохнул. Врач постукал его молоточком по коленке, заглянул в глаза и попросил что-нибудь спеть. — Хорошо, я спою, раз здесь нет граммофона, — ответил Гашек и запел народную детскую песенку:
Глава восемнадцатая
— Там каждый день что-нибудь происходит, а если не будет никакого шума, то мы его устроим сами, — пообещал Швейк.Йозеф Лада услышал резкий звонок и неохотно направился к двери. Сейчас ввалится к нему какой-нибудь обиженный журналом субъект и начнутся нудные объяснения. Но в приоткрытую дверь просунулась толстая палка. — Гашек! — облегченно вздохнул художник. — На, Пепик! Бей меня, сколько душе угодно! — сказал писатель, протягивая палку Ладе. — Я теперь соломенный вдовец, — пояснил Гашек. — Пусти меня жить в кухню. Я буду спать на диване и писать рассказы. Напишу, постучу тебе в стенку, ты прочтешь и — сразу в номер. Обоим выгодно. — А тебе не будут мешать наши друзья? Они как соберутся у меня в редакции, так их до ночи не выгнать. На шум даже соседи прибегают. И от жалобщиков покоя нет. — Это меня не смущает. Сколько возьмешь за постой? — Не дури, — сказал Лада. — Ложись спать. Спокойной ночи. Утром Лада проснулся от громкого стука. Он выскочил на лестницу. Там стоял Гашек и со страшным грохотом приколачивал к двери, ниже таблички «Редакция журнала «Карикатуры», — свою. Она была черная, с серебристыми буквами, как кладбищенские надписи:Ярослав Гашек
Лада полюбовался табличкой и покачал головой: — Ну и ловкач же ты, Ярда! Так началась веселая, шумная жизнь двух друзей. Ладу особенно поражала способность Гашека безо всяких черновиков, планов, буквально за несколько часов создавать рассказы, фельетоны, юморески. Казалось, он не сочиняет, а переписывает выученное наизусть. Рассказ рождался, едва Гашек опускал перо в чернильницу. Писатель даже не правил, не перечитывал его. Часто, глядя на приятеля, Лада вспоминал первую встречу с ним. Художник представлял себе писателя похожим на Вольтера — узколицым, с лукавыми глазами, хищным носом, тонкими губами, искривленными в ехидной усмешке… Но в маловыразительном, розовом, пухлом лице Гашека не было ничего саркастического, глаза — небольшие, с ласковым, искренним взглядом. Он напомнил Ладе сытого купеческого сынка, наивного гимназиста. Только когда Гашек заговорил, художнику стало ясно, как обманчива эта внешность. Котелок у этого парня варил! В свою очередь Гашеку тоже нравился этот близорукий долговязый парень. С ним было легко. Несмотря на его богемные замашки, он, живя в Праге, сохранил самобытные черты пришельца с берегов тихой Сазавы. Он не отказывался подурачиться с друзьями, посидеть в пивной, шикарно курил длинную трубку, рисуя в воздухе целые дымные пейзажи, но в глубине души оставался простым деревенским парнем. Художник и писатель невольно тянулись друг к другу, не задумываясь о том, что их сближает родство талантов. Живя под одной крышей, они выпустили сборник забавных историй — пародий на бытовой и исторический анекдот — «Каламайку». Герои этой книги — охотники, бочары, трубочисты и император Карл Пятый. Тексты Гашека и рисунки Лады отлично дополняли друг друга. Не худшими соавторами они были, когда затевали розыгрыши и проделки. Тут их фантазия никогда не иссякала. Они попробовали свои силы даже в опере. На дружеской вечеринке им предложили написать оперу в честь пани Насковой, солистки Национального театра, прибывшей к ним в гости со своим мужем, сотрудником «Карикатур». — Открытие Америки! — предложил тему Йозеф Мах. — Почему именно открытие Америки? — раздались голоса. — Из патриотических соображений. Америку, как утверждает пан Гашек, открыл чех Колумб. Гашек сказал Ладе: — Попробуем. Где твоя губная гармошка? Когда Лада достал свой инструмент, Гашек пояснил: — Уважаемые дамы и господа! Мы исполним в честь пани Насковой оперу «Открытие Америки» без увертюры, поскольку пан Лада еще не сочинил ни лейтмотива, ни основных тем. Я буду создавать либретто, а ван Лада — музыку. — Я же должен заметить, — сказал Лада, — что мой друг пан Гашек будет сочинять либретто, не изучив предварительно всей литературы о Колумбе. Следовательно, вы должны в знак уважения почтительно снять перед ним и его творением шляпы. Мне же придется сочинять музыку на слова Гашека, который знает четыреста чешских, немецких, русских и венгерских песенок, но поет их все на один мотив, а это — нелегкая задача, и вам следовало бы в знак уважения ко мне… — …наголо обрить себе головы! — закончил Гашек. Лада поднес к губам гармошку и выдавил из нее несколько аккордов. Гашек принял позу оперного певца и начал речитативом первое действие оперы: «Колумб на приеме у испанских королей». — Колумб мечтает открыть Америку. Он умоляет короля Фердинанда и королеву Изабеллу дать ему денег и корабли. Но монархам Кастилии и Леона наплевать на Америку. Колумб начинает прельщать монархов несметными богатствами. Королева, после мучительной душевной борьбы, сдается. Борьбу в душе скупой Изабеллы Лада передал дисгармоническим визгом, а перелом в душевном состоянии Фердинанда — более спокойной мелодией. Гашек продолжал: — Монархи дают Колумбу три никуда не годных каравеллы с командами матросов-алкоголиков. Паруса наполнились ветром, якоря подняты, и каравеллы выходят в открытое море. Лада старался изо всех сил — он передавал эту сцену невероятной смесью чешских и словацких песен. Сначала он исполнил на гармошке «К вам ходил я ежедневно, тра-ля-ля!», потом сыграл «Танцуй, танцуй», после чего снова пропел «тра-ля-ля!» и закончил песенкой «Аничка, душечка», где привычное «ай-яй-яй!» заменил все тем же «тра-ля-ля». Задорное Ладино траляляканье выражало радость Колумба и его команды по поводу открытия. После этого наступил антракт. Пани Наскова подошла к авторам оперы, присела в церемонном реверансе и сказала: — Господа! Я за всю свою жизнь не слышала ничего подобного. Ваш талант, пан Йозеф Лада, я смело ставлю выше талантов трех нынешних кумиров — Рихарда Вагнера, Рихарда Штрауса и Антонина Дворжака! Ни одному из них еще не удавалось написать оперу экспромтом и лично исполнить ее. Ваше новаторство можно сравнить только с музыкальным подвигом Монтеверди. Что касается либреттиста, пана Ярослава Гашека, — тут последовал еще более почтительный и глубокий реверанс, — то я не знаю среди либреттистов никого, равного ему по блеску таланта. Надеюсь, что в скором времени ваша опера будет поставлена на сцене Национального театра… — Мы, не думали о славе, — скромно сказал Гашек, — мы только хотели доставить вам удовольствие. Воодушевленные похвалой известной певицы, авторы оперы начали второе действие — «Колумб в море». Оно оказалось еще более драматичным. — Каравеллы плывут уже несколько дней, — пел Гашек. — Матросы все время пьют ром. Наконец на корабле не осталось ни капельки рома. Матросы бунтуют. Они схватили Колумба, чтобы выбросить его за борт. Лицо Гашека было комически непроницаемым, а Лада старательно извлекал из гармошки тревожные звуки, выражая страх за судьбу Колумба. В этот момент с мачты раздается крик: «Земля! Земля!», и матросы отходят от Колумба. Композитор напрягал все силы, чтобы передать в музыке на редкость драматическую ситуацию, выжимал из гармошки все звуки, какие только таились в ней, и едва не проглотил инструмент… — Увы! Это была ложь! — пел Гашек. — Никакой земли на горизонте нет. Сторожевой матрос пожалел Колумба и спас его от рассвирепевших матросов. Колумб проклинает всех святых. С губ Гашека сорвался поток смешных проклятий. Лада, а вслед за ним и все гости, захохотали. Проклятия сыпались одно смешнее другого. Казалось, им не будет конца. Лада забыл, что он композитор, и теперь катался по дивану от смеха, держась за живот. Гости вели себя не лучше. Один Гашек невозмутимо созерцал эту веселую вакханалию, время от времени разражаясь новыми проклятиями. Когда запас ругательств иссяк, он спокойно наблюдал за гостями, постепенно приходившими в себя. Подойдя к Ладе, писатель хлопнул его между лопаток и заставил поклониться слушателям. Любовь к веселым шуткам и розыгрышам приводила Гашека и Ладу на сеансы «живой фотографии» — в кинематограф. Они ходили туда не столько ради фильмов, сколько ради музыки или публики. У них были два любимых кинематографа — один на проспекте Фердинанда, другой — на Ечной улице. В первом им нравился оркестр — музыканты играли так фальшиво, что даже Гашек понимал это и смеялся от души. Часто музыканты играли, не обращая внимания на то, что происходит на экране — когда героиня бежала топиться, оркестранты исполняли веселый марш. Выбрав наиболее напряженный момент в фильме, кто-нибудь из друзей закрывал окошечко проектора шляпой. Публика сердилась, топала ногами, требовала назад деньги. Тогда окошечко кинопроектора открывалось, фильм шел своим чередом, и публика успокаивалась. Второй кинотеатр посещали бедняки — мастеровые, кучера, дворники. Они и без проделок Гашека и Лады бурно реагировали на все, что происходило в фильме. Когда на экране мчался поезд, зрители в первых рядах не знали, куда спрятаться от него. Мужчины опускали головы за спинки стульев, а женщины кричали, словно паровоз наехал на них. В одном фильме разбойник собирался бросить ребенка в огонь. Какой-то парень сорвался с места, подбежал к экрану и, погрозив кулаком, заорал: — Негодяй, что ты делаешь с ребенком? Оставь его! Стоило на экране появиться экипажу, кучера принимались громко обсуждать то, что они видели: — Ну и кляча! Ну и рыдван! Ну и кучер! Если зрителям что-нибудь нравилось, они ласково просили киномеханика: — Руда, будь добр, покажи это местечко еще разок!.. Однажды Лада заболел. Гашек трогательно ухаживал за ним, кормил и поил его с ложечки, терпеливо, как настоящая сиделка, исполнял все капризы больного, вызывал врача, бегал в аптеку за лекарствами и в трактир за обедами. Заботливость друга тронула художника. Каково же было изумление Лады, когда Гашек предъявил ему счет, включив в него все услуги, оказанные им больному!Ярослав Гашек
имперско-королевский писатель,
парижский концессионный прорицатель
и
отец нищих духом.
Два звонка.
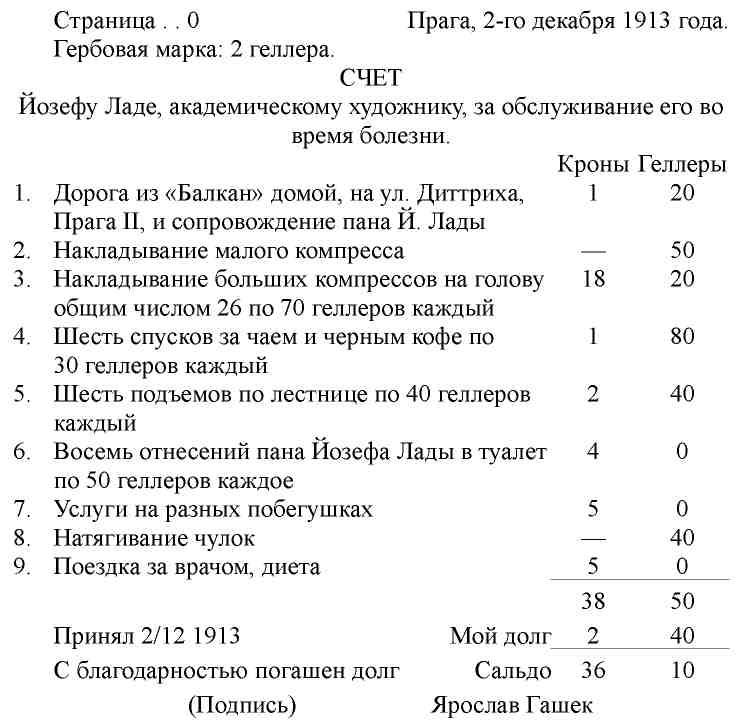 Точность и аккуратность, с которыми был составлен счет, показывали, что Гашек не зря окончил Торговую академию. Ладе было жаль выбросить такой документ, и он сохранил его для истории!
Напряженная творческая работа обоих юмористов в течение дня сменялась вечером самыми неожиданными проделками.
Как-то Гашек спросил своего друга:
— Пепик, приближается день твоего патрона, святого Иосифа. Ты будешь его праздновать?
Лада только пожал плечами:
— Нет… У меня в карманах пусто.
— Как все это нескладно и несправедливо! — грустно произнес писатель. — У тебя есть именины, но нет денег, у меня есть деньги, но нет именин… Слушай, Пепик! Я покупаю у тебя именины за пять крон!
— Мой патрон, — сообразив, в чем дело, начал торговаться Лада, — перворазрядный святой, он — супруг самой девы Марии. Дешевле, чем за десять крон, не отдам!
— Не больно гордись своим святым. Как-никак, он — покровитель рогоносцев. По рукам! Приглашаю тебя ко мне на именины.
Девятнадцатого марта, в день святого Иосифа, Гашек оделся по-праздничному, повязал самый лучший галстук Лады, торжественно принимал торты, цветы, всю корреспонденцию, которая приходила на имя художника, пел и курил сигары.
Гашек дал праздничный обед в ресторане, а вечером повел гостей в кафе. Они поздравляли его, дарили ему ром, сигары, пиво, вино, играли в его честь туши на рояле и гармонике, пели хором и танцевали проклятый римским папой новый модный танец танго, жгли бенгальские огни, стреляли из детских пистолетов и дурачились, как только могли. Гашек сиял, его друзья всерьез поверили, что они веселятся на именинах писателя, а не художника.
— Вот как надо справлять именины! — сказал Гашек Ладе. — На твоих именинах даже коза не промемекала бы!
Лада молчал, но как только пробило полночь, громко объявил, что день святого Иосифа кончился, обещанных десяти крон он не получил, и снял галстук с шеи Гашека, потребовал возвращения всех тортов, подарков и поздравлений. Эта выходка художника развеселила всех, особенно — Гашека. Препираясь с Ладой, он пытался всучить ему деньги.
После именин Гашек исчез. Ладу это не удивило. Он знал, что писатель вернется и вернется совершенно неожиданно. Художник просыпался и находил на столике у кровати лакомство или игрушку — яблоко, апельсин, персик, пряник, гусиную ножку, ливерную колбасу, лакрицу, волчок, свистульку. Так писатель давал знать хозяину о своем возвращении. Лада шел на кухню. Там на диване лежал Гашек и, протягивая свою суковатую палку, говорил:
— На, бей! Бей меня, сколько твоей душе угодно!
Точность и аккуратность, с которыми был составлен счет, показывали, что Гашек не зря окончил Торговую академию. Ладе было жаль выбросить такой документ, и он сохранил его для истории!
Напряженная творческая работа обоих юмористов в течение дня сменялась вечером самыми неожиданными проделками.
Как-то Гашек спросил своего друга:
— Пепик, приближается день твоего патрона, святого Иосифа. Ты будешь его праздновать?
Лада только пожал плечами:
— Нет… У меня в карманах пусто.
— Как все это нескладно и несправедливо! — грустно произнес писатель. — У тебя есть именины, но нет денег, у меня есть деньги, но нет именин… Слушай, Пепик! Я покупаю у тебя именины за пять крон!
— Мой патрон, — сообразив, в чем дело, начал торговаться Лада, — перворазрядный святой, он — супруг самой девы Марии. Дешевле, чем за десять крон, не отдам!
— Не больно гордись своим святым. Как-никак, он — покровитель рогоносцев. По рукам! Приглашаю тебя ко мне на именины.
Девятнадцатого марта, в день святого Иосифа, Гашек оделся по-праздничному, повязал самый лучший галстук Лады, торжественно принимал торты, цветы, всю корреспонденцию, которая приходила на имя художника, пел и курил сигары.
Гашек дал праздничный обед в ресторане, а вечером повел гостей в кафе. Они поздравляли его, дарили ему ром, сигары, пиво, вино, играли в его честь туши на рояле и гармонике, пели хором и танцевали проклятый римским папой новый модный танец танго, жгли бенгальские огни, стреляли из детских пистолетов и дурачились, как только могли. Гашек сиял, его друзья всерьез поверили, что они веселятся на именинах писателя, а не художника.
— Вот как надо справлять именины! — сказал Гашек Ладе. — На твоих именинах даже коза не промемекала бы!
Лада молчал, но как только пробило полночь, громко объявил, что день святого Иосифа кончился, обещанных десяти крон он не получил, и снял галстук с шеи Гашека, потребовал возвращения всех тортов, подарков и поздравлений. Эта выходка художника развеселила всех, особенно — Гашека. Препираясь с Ладой, он пытался всучить ему деньги.
После именин Гашек исчез. Ладу это не удивило. Он знал, что писатель вернется и вернется совершенно неожиданно. Художник просыпался и находил на столике у кровати лакомство или игрушку — яблоко, апельсин, персик, пряник, гусиную ножку, ливерную колбасу, лакрицу, волчок, свистульку. Так писатель давал знать хозяину о своем возвращении. Лада шел на кухню. Там на диване лежал Гашек и, протягивая свою суковатую палку, говорил:
— На, бей! Бей меня, сколько твоей душе угодно!
Глава девятнадцатая
Война — дело до того безумное, что поэты справедливо считают ее порождением фурий.Беззаботная жизнь друзей оборвалась в тот день, когда в городе Сараево прозвучали выстрелы Гаврилы Принципа. Убийство эрцгерцога Фердинанда и его жены Софии стало поводом для давно назревавших событий. Гашек узнал об этом в трактире «У Чаши», где сидел за кружкой пива со своим приятелем Франтой Зауэром. Какой-то господин явился в зал с газетой, и все принялись читать некролог. В нем восхвалялись добродетели эрцгерцога, которых у него никогда не было. Хищный империалист и солдафон, эрцгерцог Фердинанд спал и видел себя на троне вместо дядюшки, Франца-Иосифа, занимавшего это место уже шестьдесят пять лет, а «Народни политика» изображала его и Софию нежными голубками, свившими уютное гнездышко в чешском замке Конопиште, неподалеку от Праги. Посетители трактира приуныли, хотя они нисколько не жалели наследника трона. Все понимали: войны не избежать. Прислушавшись к разговорам, Гашек сообразил, что скоро сюда явятся шпики. Быстро расплатившись, он увлек Зауэра на улицу. — Конопиштские крестьяне радуются… — сказал Гашек. — Сквалыга на том свете, и теперь в парке можно собирать грибы и хворост. — Верно! — расхохотался Зауэр, не ожидавший такой эпитафии. — Я совсем забыл об этом. — Худо то, что старый Прохазка[3] погонит нас воевать. У меня же нет никакого желания драться за дом Габсбургов. — У меня тоже нет охоты драться за прогнивший дом Габсбургов или за ту жижковскую развалину без сортира, где я сейчас живу, — согласился Зауэр. Военная машина Австро-Венгрии быстро пришла в движение. 28 июля ветхий император Франц-Иосиф I, всю жизнь желавший, по его словам, «в согласии с нациями объединить все страны и племена монархии в великое государственное целое», подписал манифест «Моим нациям», в котором обвинял Сербию в том, что она якобы устраивает заговоры и покушения на его родственников, толкает народы Австро-Венгрии на путь безумия и государственной измены:Эразм Роттердамский
«Козни нашего злобного врага вынуждают Меня после долгих лет мира во имя сохранения чести и безопасности своей державы, защиты ее силы и могущества, взяться за меч… Это решение Я принимаю в сознании полнойответственности перед Всевышним. Я все обдумал, взвесил и хладнокровно вступаю на стезю, диктуемую Мне долгом. Я полагаюсь на Свои народы — во всех бурях они сплачивались вокруг Моего трона и были готовы на любые жертвы во имя чести, величия и могущества родины. Я опираюсь на силу, мощь, мужество вооруженных сил Австро-Венгерской державы. Я верю, что Всемогущий дарует силу Моему оружию».Манифест был длинен и написан высокопарным слогом. Читая его, Гашек вспомнил Рабле — охваченный шовинистическим угаром, военачальник короля Пикрошоля выражался куда лаконичнее и честнее: «Затопчу, загрызу, захвачу, разнесу, сокрушу!» — кричал он. В вихре событий, когда никто не знал, во что выльется война с Сербией, а пораженческие настроения чехов еще не созрели, Ярослав Гашек проводил опасные психологические опыты. Однажды, сидя в пивной, он прикинулся пьяным и громко воскликнул: — Да здравствует Сербия! Смерть императору Францу-Иосифу! Посетители, словно ошпаренные, сорвались с мест и побежали вон, опрокидывая стулья, оставляя еду, пиво, шляпы и сумочки. Гашек сидел на своем месте, блаженно улыбался и неторопливо кончал трапезу. Потом он встал, расплатился и вышел на улицу. Проходя мимо садика, писатель увидел, что в нем сбились, словно овцы перед грозой, сбежавшие посетители. Гашек плюнул и пошел дальше. Несколько дней спустя писатель облачился в славянский костюм и поселился в гостинице «У Валешов». В регистрационной книге он написал о себе: «Иван Сергеевич Толстой, купец из Москвы. Цель приезда — ревизия Генерального штаба Австро-Венгрии». Эти сведения были моментально переданы в полицию. Полицейские явились в номер, связали опасного постояльца и отвели к полицейскому комиссару Климе. — Я так и думал! — воскликнул Клима. — Это, конечно, пан Гашек! Отпустив подчиненных, Клима обратился к писателю: — Что это вам, пан Гашек, взбрело в голову беспокоить нас в такое трудное время? — Не понимаю, — ответил Гашек по-русски. На все вопросы комиссара писатель отвечал по-русски: «Не понимаю». Клима вышел из себя: — Не прикидывайтесь идиотом! Гашек немного подурачился, а потом сказал на родном языке: — Не сердитесь, пан комиссар. Как сознательный гражданин и исправный налогоплательщик я счел своим долгом проверить, хорошо ли функционирует в такое трудное время имперско-королевская полиция… — Что же вы не сказали об этом сразу? — спросил Клима. — Хотел узнать, понимаете ли вы по-русски. Клима долго не мог прийти в себя от ярости. Наконец успокоившись, он сказал, что посадит пана писателя на пять суток, и пусть пан писатель сам, на своей шкуре, узнает, как функционирует имперско-королевская полиция. Пять суток в интересной компании пролетели быстро. Гашек узнал, что австрийские войска отступают на восточном фронте и, случайно встретившись с комиссаром Климой, спросил: — Пан комиссар, наши войска уже в Москве? — Вам было мало пяти суток? — клокоча от злости, поинтересовался Клима. — Я могу вам дать еще столько же! Выйдя из тюрьмы, Гашек задумался: в карманах у него не было ни гроша. Судьба послала ему спасителя в лице Лады. По виду Гашека Лада понял, что ему нужно, и повел его в трактир. Суп сразу разочаровал их — в невкусном жидком вареве плавало несколько зернышек риса. Гашек помешал ложкой в тарелке и заметил: — У нас неравные порции. Тебе дали на одну рисинку больше. — Разрежем ее пополам! — предложил Лада. — Это не выход, Пепик, — серьезно сказал писатель. — Будем сами готовить обеды. Шеф-поваром буду я! Лада не слишком поверил другу. Но Гашек горячо взялся за дело. В лавке возле костела «Святой Мартин в стене» они купили всю необходимую посуду, возле дома Лады — провизию и уголь, после чего Гашек приступил к делу. Плита дымила. Писатель чистил ее. Стоял такой шум, словно русские уже вошли в Прагу, дверца плиты держалась на честном слове, зато тяга была — первый сорт! Гашек принялся делать на рисовальной доске Лады кнедлики со сливами. Тугое тесто плохо склеивалось. Писатель не растерялся, зашил кнедлики белыми нитками и сварил их. Друзья пообедали на славу. Теперь каждое утро начиналось с похода на рынок. Сонный Лада нес корзинку, а Гашек устраивал действо — придирчиво выбирал мясо, зелень, торговался, шутил или разражался смехотворными жалобами на дороговизну. Обеды Гашека были подлинными чудесами кулинарии, а названия их — настолько соблазнительны, что Лада, едва заметив меню на дверях ванной, уже глотал слюну. Да и у кого не закружилась бы голова от таких названий: «Мамзель Нитуш», «Мадам Помпадур», «Пренк Биб Дода», «Приматор Диттрих» — а это были только супы! В кулинарном искусстве Гашек всегда импровизировал и, в отличие от Дюма-отца, не записывал рецептов… В самый разгар этой приятной жизни Гашеку прислали повестку. Ему предписывалось явиться на Стршелецкий остров, где находился мобилизационный пункт, в определенный день и час, вымытым и выбритым. Государь император нуждался в помощи Гашека, но писателя не устраивало время, указанное в повестке, и он написал в мобилизационный пункт:
«Уважаемые господа! В связи с крайней занятостью я не могу принять ваше любезное приглашение посетить вас в указанное время. Я обещаю вам: как только немного освобожусь от дел, воспользуюсь вашим любезным приглашением и навещу вас. С нижайшим почтением.Военные власти не стали ждать, когда писатель освободится — явились к нему сами и отвели его под конвоем на медицинскую комиссию. Стоя в очереди к врачу, Гашек слушал, о чем говорят мобилизованные. Кто-то сказал, что до войны этот врач был ветеринаром. Все возмутились: — Конечно, для австрийцев и венгров мы — свиньи, ослы, собаки, лошади. Вот нас и осматривают коновалы… Гашек молчал. Ветеринар ему понравился. Гашеку никогда еще не попадался врач, который из солидарности с пациентами болел бы всеми их болезнями. — На что жалуетесь? — спросил этот врач худого бледного человечка. — У меня язва желудка, — пролепетал тот. — И у меня язва желудка! — последовал ответ. — А я все-таки служу государю императору… К нему подходили больные грыжей, ревматизмом, туберкулезом. И врач отвечал им: — И у меня грыжа. И у меня ревматизм. И у меня туберкулез. А я все-таки служу государю императору. — А вы на что жалуетесь? — спросил врач у Гашека. — У меня, доктор, размягчение мозгов! — гаркнул писатель. — И у меня размягчение мозгов! — радостно подхватил врач. — А я все-таки служу государю императору! Размягчение мозгов не помешало Гашеку — его определили в 91-й Чешско-Будейовицкий пехотный полк. Лада, освобожденный от военной службы из-за близорукости и неврастении, хотел услышать от Гашека, чем закончилась история на Стршелецком острове, но тот прикинулся, что не желает говорить со шпаком, ушел на кухню, курил там длинную трубку и изводил музыкального Ладу, исполняя на один мотив австрийские военные песенки. Лада молча терпел. Гашек не выдержал, вышел к нему, и остаток вечера они провели в веселых разговорах. Гашек сел в трамвай, который шел к вокзалу. Но в Чешские Будейовицы он не поехал. У него неожиданно пошла носом кровь. Писатель отправился в военный госпиталь. Главный врач Ян Семирад признал кровотечение очень опасным и оставил писателя у себя, объяснив, что ему необходим покой. В госпитале Гашек пробыл неделю, веселя Семирада цитатами из манифеста императора «Моим нациям». — Вам незачем торопиться на фронт, — говорил ему врач. — Что вы, доктор! — отвечал Гашек. — После долгих лет мира я хочу во имя безопасности державы взяться за меч. Так решило Провидение. 10 февраля 1915 года Семирад выписал Гашека из госпиталя и сказал ему на прощание: — Вы отвергли мой благоразумный совет, как Сербия — предложения государя императора, и теперь сами несите ответственность за все последствия…Ярослав Гашек».
Глава двадцатая
Я предал государя императора.По дороге в Чешские Будейовицы у Гашека разболелись ноги. Он с трудом вышел из поезда и, не найдя на привокзальной площади извозчика, заковылял в Марианские казармы. Прохожие оборачивались на прихрамывающего человека в распахнутой крылатке, под которой виднелись темный пиджак, красная жилетка и кавалерийские галифе. Цилиндр и желтые гамаши делали костюм Гашека совершенно неотразимым. Часовые, которым Гашек предъявил мобилизационное предписание, козырнули ему, еле сдерживая смех, и сказали, куда идти. Писатель шел по длинному коридору, с удовольствием рассматривая портреты австрийских полководцев и плакаты, прославлявшие военно-политический союз Австро-Венгрии и Германии. Идея этого союза передавалась высокопарными геральдическими или обычными солдатскими символами. Перед глазами Гашека мелькали разные «пары» — пара скрещенных государственных флагов, пара орлов, пара императоров, пара пехотинцев и пара матросов. Другие плакаты относились к серии «За бога, императора и отечество!» и повествовали о невероятных подвигах австрийцев и пруссаков. Два последних плаката приковали внимание Гашека — на одном из них был изображен министр иностранных дел Великобритании сэр Эдуард Грей, вздернутый на виселицу. Подпись гласила: «Боже, покарай Англию!» Плакат «Боже, покарай Россию!» отдавал прямо-таки мистикой: скелет душил в своих объятиях бородатого казака… Тон обращения к богу напоминал военный приказ, и Гашек подумал, что бог тоже получил мобилизационное предписание и служит в войсках Австро-Венгрии. Штаб направил Гашека в госпиталь. Купив по дороге трубку с надписью «Боже, покарай Англию!», писатель почувствовал, что теперь ему сам черт не брат. Госпиталь оказался не таким радушным, как в Праге, в нем не было доброго Яна Семирада. Милосердные братья (так они назывались по ошибке) скоро заметили, что Гашек не принимает прописанных ему лекарств и стали вливать их в него силой. Писателя поили слабительным, мучили клистирами по три раза в день. Здесь не было больных — одни симулянты, так считало и полковое, и госпитальное начальство. Цель процедур — как можно скорее доказать солдату преимущества казарменной жизни по сравнению с госпитальным лечением. Выйдя из госпиталя, Гашек стал вольноопределяющимся, снял комнатку в доме на Чешской улице и теперь вел полуштатский образ жизни. Он писал рассказы и посылал их своим пражским издателям. Занятия стрельбой, шагистикой и другими военными науками время от времени перемежались сидениями на гауптвахте. В первый раз он попал туда за то, что дал пощечину кадету, который заставил его ползти по-пластунски в лужу, второй — за самовольную отлучку: он целую неделю не являлся в школу. Начальство сочло Гашека дезертиром, но он вернулся. Оно направило Гашека к психиатру. Тот не нашел в его психике никаких отклонений. Начальник школы не знал, какое применение найти этому странному вольноопределяющемуся, и, поломав голову, приказал ему сочинить патриотические стихи для украшения учебной аудитории. Гашек быстро выполнил приказание и представил такие вирши:Ярослав Гашек
«Через несколько минут мы куда-то далеко уезжаем. Возможно, я вернусь казачьим атаманом. Если меня повесят, пришлю тебе на счастье кусок своей веревки».Оглядывая унылый пейзаж, темную полоску леса вдали и поле, перепаханное русскими снарядами, Гашек понял, что вряд ли удастся стать казачьим атаманом. Австрийцы закопались в землю, как кроты. Они терпеливо сдерживали и атаки неприятеля, и натиск обезумевших вшей. Гашек написал оду, в которой восхвалял патриотизм этих насекомых — кусая австрийских солдат, они не давали им уснуть на посту, пробуждали боевой дух, поднимали бдительность. Ода была встречена громким смехом и сразу пошла по рукам. Все, кому не лень, переписывали ее и посылали домой. Особенно веселило солдат окончание:
Глава двадцать первая
По моим грехам мне мало, чтобы меня при всем народе сожгли на костре, — этак я дешево отделаюсь.Став «братом», членом добровольческой дружины, Гашек целиком отдал себя в распоряжение «Союза чехословацких обществ в России», выполнял его многочисленные поручения и был направлен в орган этого союза — еженедельник «Чехослован». Оказавшись на положении полувоенного, полуштатского человека, Гашек мог свободно общаться с людьми — и с земляками, осевшими в Киеве, и с добровольцами, и с русскими. Чем глубже он знакомился с делами, тем яснее видел слабость чехословацкого движения, у которого не было ни четкой политической программы, ни опытного руководства. Абсурдным было стремление чешских политиков возвести на чешский престол какого-нибудь великого князя из династии Романовых. В самой России дела были не так уж хороши. Самодержавие гнило на корню и не было способно вести успешную войну против Тройственного союза. При царском дворе орудовала сильная германофильская партия. Гашек слышал темные разговоры о близости царицы — внучки королевы Виктории — к неграмотному сибирскому мужику Гришке Распутину. Он казался Гашеку мрачной стихийной силой, перед которой были безвольны и царь, и царица. Окопные солдаты называли Распутина антихристом. Придерживаться избранного пути Гашеку было нелегко. Делать ставку на самодержавие он не собирался, в освободительную миссию России верить не переставал — надо идти с русским народом, понять, чего хочет он. Но как может помочь братьям-славянам русский народ, если он сам не свободен? Ждать, когда и там, и тут поднимется мощное движение народов, когда они заключат оборонительный и наступательный союз? Так уже до него думали Александр Герцен, Михаил Бакунин, Йозеф Фрич… Надо было будить патриотическое сознание солдат, которые еще побаивались Габсбургов, — он стал писать статьи и фельетоны о «добрых чехах», чей «голубиный» характер и слепой страх перед властями приносили им одни неприятности. Впервые он мог, не придумывая ни «шведских» солдат, ни «турецкой» полиции, говорить о монархии Габсбургов то, что думал. Он вспомнил о своем герое и написал повесть «Бравый солдат Швейк в плену». Писатель без оглядок на цензуру создал целую вереницу сатирических портретов офицеров-«чехоедов», тупых солдафонов, безумных генералов, полицейских. Киевский Йозеф Швейк — уже не прежний симпатичный «идиот», а окончательно оболваненный «добрый чех»-австрофил. Швейку снится крамольный сон — он бреет государя императора и нечаянно отрезает ему нос. Императорский нос и во сне, и наяву преследует Швейка — бедняга вылавливает его даже из фасолевого супа. В таком кошмаре живут все народы Австро-Венгрии. «Тут было от чего сойти с ума», — говорит писатель. Славянам, не желающим умирать за интересы своего векового врага, остается либо сойти с ума, либо сдаться в плен. Швейк выбирает плен. Маленький человек подавлен, растерян, не нашел пути к истинной цели — не нашел ее пока и автор. Самая блестящая юмореска — история лавочника Петишки, торговавшего портретом государя императора Франца-Иосифа I. По мере того как падал престиж дома Габсбургов, дешевел и портрет. Петишка стал продавать его вместо пятнадцати крон за две. Лавочника посадили в тюрьму. Он стал жертвой своего верноподданничества. Эту юмореску высоко оценила Вена. Правительство Австро-Венгрии объявило писателя государственным преступником, внесло его в «Реестр солдат-дезертиров» и дало краткий словесный портрет для сыщиков, чтобы они могли легко расправиться с автором рассказа, «содержащего государственную измену и оскорбление монарха». В феврале 1917 года в России совершилась буржуазно-демократическая революция. Ее отголоском оказалась борьба за гегемонию в «Союзе чехословацких обществ». Западники-«петроградцы» решили, что настало их время, — монархисты-«киевляне» были, по их мнению, слишком отсталыми. Ожидался приезд в Киев председателя Чехословацкого национального совета Томаша Масарика, готовились к открытию третьего съезда союза обществ. Эта мышиная возня все больше и больше раздражала Гашека. Его возмущали мелочность и провинциальность земляков, занятых дележом теплых местечек. Все это походило на борьбу чешских политических партий довоенного времени — вожаки союза искренне верили в свою миссию, всерьез проводили свою смешную политику. Писатель с горечью понял, что чехословацкое движение не оправдывает его надежд. Горечь была тем сильнее, что сам он не мог противопоставить этой мелкой грызне ничего, кроме своего смеха. В день открытия третьего съезда в первом номере еженедельника «Революция» был напечатан фельетон Гашека «Клуб чешских Пиквиков». На съезде республиканцы-масариковцы Клецанда, Макса, Павлу, Чермак одержали победу над монархистами-дюриховцами. Всеми делами теперь заправляло русское отделение Чехословацкого национального совета — Одбочка. Во главе движения чехов и словаков встали новые, но столь же бездарные люди, — петроградские масариковцы и киевские социал-демократы. У власти оказались почти все герои гашековского фельетона. Они стали мстить Гашеку — освободили от работы в «Чехословане» и клубе Союза, а затем переводили из части в часть, позоря в глазах солдат. За два с половиной месяца он побывал и стрелком, и телефонистом, и пулеметчиком, и полковым писарем. Начальство отзывалось о нем как о «бесхарактерном человеке, принадлежащем к таким людям, для которых следовало бы создать особый исправительный концентрационный лагерь». В Ремчицах состоялся суд. Писателя судили за фельетон «Клуб чешских Пиквиков» и за то, что он распространял его среди солдат. 16 мая 1917 года, в три часа дня, члены суда важно расселись за большим столом, позади которого висели красно-сине-белые флаги и штандарт с изображением двухвостого льва. — Встать, суд идет! — рявкнул председатель суда Черный. Конвоиры ввели Гашека. Соблюдая все судебные формальности, Черный предложил Гашеку взять адвоката, но тот заявил, что будет защищаться сам. Прокурор предъявил Гашеку обвинение в клевете на руководство Одбочки. — Какую цель преследовали вы, пан Гашек, публикуя этот фельетон? — спросил председатель, теперь уже не называя его «братом». — Агитационную, — последовал ответ. — Тогда прочитайте свой фельетон вслух, чтобы с ним познакомились и судьи, и братья! — сказал председатель, подавая обвиняемому еженедельник «Революция». — Уважаемые судьи и братья! — начал Гашек. — Чтение собственного сочинения для меня самая ужасная кара. Все развеселились. — Я должен сказать несколько слов, — продолжал обвиняемый. — Петроградская газета «Чехослован» спрашивает меня: «Пан Гашек, такую «свободную чешскую печать» вы хотите ввести в свободной Чехии?» Я отвечаю: хочу, чтобы каждый свободный гражданин в свободной стране свободно выражал свободные, а не рабские мысли и свободно отвергал несправедливые обвинения. Обвинять меня в клевете на руководителей Одбочки — несправедливо. Я не политический деятель, а рядовой солдат и писатель-юморист. Вы выслушаете мой фельетон и сами решите, клевета это или правда. В фельетоне я даю юмористические портреты деятелей Клуба Союза чехословацких обществ. Различие в политических взглядах этих деятелей связано с различием расстояний их путешествий, различие идейных направлений — со степенью консервативности их убеждений. Все они напоминают диккенсовских пиквикистов, ни с того, ни с сего ударившихся в политику. Писатель обрисовал портрет Владимира Халупы, трусливого провинциального буржуа-патриота, ранее не смевшего даже пикнуть против австрийских властей. До войны его никто не знал. Утром он судил бедняков, после обеда развлекался. В России он проводит политику своего прокуренного деревенского трактира. Он любит путешествовать из Киева в Петроград и обратно на деньги клуба, а потом читать об этом в газетах. Братья переглядывались и ухмылялись. Гашек сделал паузу, глотнул воды и продолжал: — Доктора прав Йозефа Патейдла в Чехии знали только его клиенты, дела которых он проигрывал. Патейдл любит прихвастнуть. Он убежден: государственный переворот в России совершил он и его петроградские приятели. За обедом этот политик неожиданно откладывает в сторону нож и вилку. «Нет, — говорит он, — так дело не пойдет!» Вы готовы услышать от него какое-нибудь великое откровение, а он объясняет: «Пусть дают побольше кнедликов и поменьше томатного соуса!» Он пишет капитальный труд «Логика болтовни с пятого на десятое». Патейдл тоже путешествует. Он проехал меньшее расстояние, чем Халупа, зато приобрел более сильный насморк. Когда Патейдл чихает, его коллеги говорят не «Будьте здоровы!», а «Долой союз чехословацких обществ!» Он вытирает нос и добавляет: «…и Дюриха!» Братья уже не скрывали своего отношения к фельетону и веселились от души. — Доктор Кудела — мистик, клерикал-евангелик. Он читает лекции на политические, клерикальные и спиритические темы. Эти лекции — мистические излияния его души о тайнах вселенной. Они напоминают фокусы индийских факиров, театр теней и проповеди иезуитов. В борьбе со своими противниками он использует слухи, сплетни и «околопартийные интриги». Превращаясь в бесконечно малую величину таинственного космоса, он боится стать политическим нулем и проспать чешскую революцию. Баланс его политической деятельности — две драные подметки, которые он истоптал во время агитационных вылазок против Союза чехословацких обществ и Дюриха. Братья-гуситы расхохотались — они явно принимали сторону подсудимого. Судья предложил Гашеку прекратить чтение и не комментировать фельетон. — Пусть читает до конца! — бурно запротестовали братья. Судье пришлось уступить. — Теперь я представлю вам Яна Шебу, — продолжал Гашек. — В прошлом он был банковским чиновником, устроителем пикников, пел куплеты в кабаре. Он — не политический оратор, а конферансье. В отрицании истины Шеба нашел подлинное осуществление своих художественных устремлений. Он может доказать, что муха больше слона. Пан Ярослав Папоушек[4] — из семейства попугаев-выскочек. Его приручил Богдан Павлу. Папоушек ничем не отличается от других попугаев. Он прекрасно подражает звукам и, воспроизводя человеческую речь, заикается. У него большой нос, но маленькая голова. Ему приходится экономить свои мысли, а чужие брать напрокат у Богдана Павлу. Сообщите Папоушку год своего рождения, и он точно угадает, сколько вам лет. Желая внести романтическую струю в чешскую революцию, он переписывается с Богданом Павлу посредством тайных знаков. Самой таинственной фигурой клуба чешских пиквикистов является «доктор» Фишер. Этот герой загадочен, загадочно и его докторское звание. Стоило студенту-медику проехать несколько верст по русской железной дороге, и он превратился во врача. Фишер совершил великий революционный подвиг — лечил больного Штефаника. Он утверждает, что виновником разлива Днепра является председатель Союза чехословацких обществ пан Вондрак. Таковы портреты наших героев. Эти герои никогда не были и не являются политиками, и мы простим им их мелкое тщеславие. — Как вы оцениваете свой фельетон? — спросил судья Гашека. — Это чепуха, — сказал он, бесшабашно махнув рукой. — Братья! — обратился к залу Черный. — Вы слышали, как обвиняемый оценивает свое сочинение. Его фельетон — пасквиль. Гашек оскорбляет честь всеми уважаемых руководителей — братьев Халупы, Патейдла, Куделы, Шебы, Павлу, Фишера. Он собирается показать и других братьев в таком же неприглядном свете. Гашек заслуживает строгого гражданского, общественного, политического и морального осуждения. Автору фельетона чуждо чувство любви к родине, к руководству нашим движением, к нашему войску, к дисциплине. Суд предлагает обвиняемому до вынесения приговора публично отречься от фельетона и подписать текст извинения для нашей печати. — Если я не отрекусь, судьи сожгут меня на костре? — ответил Гашек вопросом на вопрос. Намек на казнь Яна Гуса развеселил немногих. Гашек понял, что лучше не дразнить собак: — Я согласен публично извиниться перед обиженными мною братьями. Черный сказал: — Пана Гашека мы неплохо знали еще в мирное время. За эти годы он нисколько не изменился и ради денег пойдет на что угодно. — Я не получил за фельетон ни копейки! — выкрикнул Гашек и тут же осекся, потому что его оправдания только подливали масла в огонь. — Пан Гашек — бесхарактерный человек, — спокойно, словно об отсутствующем, продолжал говорить Черный. — Он должен подписать отречение. Правда, никто не может гарантировать, что, подписав его сегодня, он не отречется от него завтра. Но мы примем меры: его отречение будет опубликовано в «Чехословане», «Чехословаке» и в «Слованском вестнике». Судья прочел текст отречения и намекнул, что, подписав его, обвиняемый избегнет строгого наказания. Обиды чешских пиквикистов мало трогали Гашека. До последней минуты он верил, что сумеет выкрутиться. Мысль о том, что новые вожди Одбочки в своей злобе могут поступить почище австрийских властей, заставила его трезво взглянуть на происходящее. В самом деле, для Австрии он — государственный изменник, солдат, нарушивший присягу, «предавший государя императора»; Чехия пока еще под властью Австрии; здесь, в России, он — чужестранец, которому не на что и не на кого опереться. Руководители Одбочки легко могли обвинить его в предательстве — измене чешским интересам, в покушении на авторитет чешских национальных вождей — и поступить с ним как угодно. Гашек, казалось ему, выбрал наименьшее зло. — Я согласен отречься от своего фельетона, — сказал он, — но прошу заменить последнюю фразу. Там говорится, что я искренне сожалею о совершенном и отбываю на фронт. Я не отбываю на фронт, а нахожусь на нем. Пребывание на фронте не может быть наказанием — ведь я сам, добровольно, безоговорочно вступил в дружину. — Верно! Фронт — не наказание для патриота-добровольца! — закричали братья. Их крики обрадовали Гашека: оговорка насчет последней фразы настроила солдат в его пользу. Судьи, не споря с ним, удалились и через несколько минут вернулись с готовым приговором: — Вольноопределяющийся Ярослав Гашек за клевету на руководство Одбочки и публичное оскорбление братьев Халупы, Павлу, Патейдла, Куделы, Шебы, Папоушека и Фишера осуждается на семь дней тюремного заключения при Первом пехотном полку имени Яна Гуса, — объявил председатель. — Кроме того, в печати должно быть опубликовано открытое извинение обвиняемого. Суд предупреждает вольноопределяющегося Гашека, что в случае публикации нового подобного фельетона к нему будет применено более строгое наказание. Братья зашумели. Одни одобряли решение суда, другие были недовольны. Под этот шум часовые увели Гашека в полковую тюрьму. Все газеты, кроме петроградского «Чехослована», напечатали извинение Гашека без его поправки. Богдан Павлу ничего не напечатал — хитрый редактор «Чехослована» не хотел прославиться как герой фельетона. Зато надсаживался писатель Йозеф Копта — обвинив Гашека в дурном вкусе, нечестности и страсти к наживе, он придумал и сумму гонорара — 200 рублей. Солдатский юмористический журнальчик откликнулся на ремчицкое судилище нескладными виршами:Мольер. Первое прошение королю по поводу комедии „Тартюф“.
Глава двадцать вторая
…В это время не будет на земле ни королей, ни господ, ни подданных, не будет ни налогов, ни податей и никого, кто бы стал принуждать кого-либо к чему-либо, ибо все будут равны между собой как братья и сестры…Ремчицкое судилище не прошло бесследно для Гашека. Мысль, что «братья» поступили с ним не по-братски, неотступно преследовала его, пока он сидел на гауптвахте. Потом думать об обидах было некогда — в июне 1917 года Временное правительство предприняло наступление. Первый пехотный полк имени Яна Гуса успешно участвовал в прорыве обороны противника под Зборовом и Красной Липой, продвинулся вперед, захватил много пленных и трофеев. После этого наступления началось обычное окопное сидение. Гашека избрали секретарем полкового комитета. Солдаты приходили к нему по личным делам. Командир роты видел в этих сборищах влияние большевиков, ослабление единоначалия и дисциплины, но запретить сборища не решался и действовал через своих прихвостней. Какой-то аноним в ротной газете «Шлеги» пытался осмеять секретаря полкового солдатского комитета:Из старинного анонимного сборника таборитов-хилиастов. 1420 г.
«Гашек говорил о революции. Нет такого места, где бы он не говорил о ней. Гашек говорил о революции на меже, стоя на столе, за трибуной, на бричке. Я хорошо помню, как он однажды выступал, лежа в кровати. И тоже говорил о революции».По мнению анонима, секретарь полкового комитета ничего не делал, только склонял слово «революция» во всех падежах. Настроение многих братьев было созвучно устремлениям Временного правительства. Редкие из них спокойно наблюдали за братанием русских и австрийских солдат, во время которого русская махра оказывалась в австрийских кисетах, а австрийские консервы — в карманах русских шинелей. Все их разговоры сводились к жестам. Солдаты показывали друг другу, у кого сколько детей и какие они маленькие. Сидя в окопах. Гашек ничего не знал о нуждах русского мужика, одетого в серую шинель. Ему казалось, что Февральской революции вполне достаточно, чтобы начать новую жизнь, надо только выгнать немцев из России и других славянских стран. Именно в таком духе он написал для «Чехослована» «Письмо с фронта». Швиговский напечатал его и стал хлопотать, чтобы Гашека вернули в Киев. Это удалось. Гашек простился с 7-й ротой. В поезде он узнал потрясающую новость: в Петрограде — новая революция! Захвачен Зимний дворец, арестовано Временное правительство. Керенский скрылся. Вся власть перешла к большевикам. Штаб их Военно-революционного комитета в Смольном. Там же состоялся Съезд Советов, который сформировал правительство — Совет Народных Комиссаров. Красным премьером назначен известный большевик — Владимир Ульянов (Ленин). Попутчики Гашека на все лады обсуждали новость. Он молчал, раздумывая над событиями последнего времени. Ему очень повезло, он едет в Киев! Там, наверное, удастся узнать побольше. В редакции «Чехослована» с ним заговорили о восстании в Петрограде, но он махнул рукой: — Я — окопная крыса, сам узнал новости только в поезде. Дайте мне табачку… Молодой редактор Бржетислав Гула поделился с ним куревом, а поэт Рудольф Медек сунул в руки Гашеку несколько газет. Быстро пробежав глазами столбцы, Гашек остановился на декрете о мире и декрете о земле и, постукивая трубкой по столу, сказал: — Я мало знаю большевиков, но если они оказались способны в первый же день своего правления издать такие декреты, то честь им и слава! — Удержатся ли? — спросил Гула, не столько обращаясь к Гашеку, сколько выражая желание, чтобы удержались. Медек презрительно повел носом: — Рекламная штучка. Да и идеи не новые. Более четырехсот лет тому назад гуситы и король Иржи из Подебрад говорили о всеобщем, справедливом мире… — …среди христиан, — ядовито уточнил Гула. — Только среди христиан. Остальные для Иржи из Подебрад — турки. — Гула прав, — отозвался Гашек. — Ты, Рудла, ошибаешься. Идею мира выдвинули табориты, а не Иржи из Подебрад. Он ухватился за нее после того, как предал чашников, к которым раньше принадлежал сам, захватил власть, а потом испугался, как бы ее не отняли. Он боялся и турок, и своих крестьян. Его идея мира продиктована страхом. Большевики же рассуждают, как хозяева. — Вот ты только что с фронта, — прервал Медек Гашека. — Скажи, бегут русские солдаты, братаются с немцами? — И бегут, и братаются. — Теперь, когда они узнают, что им дают землю, разбегутся по домам! — Кто знает? — иронически протянул Гула. — Может быть, они только теперь и станут по-настоящему воевать. Медек злился. Гашек решил вернуться к началу разговора: — Я думаю, что настоящими продолжателями дела таборитов могут быть только те, кто обеспечит народам свободу, равенство, братство, мир, землю. Если это делают большевики — пусть будут они. Дело не в названиях, а в сути. Нам нужно разобраться в их политике. Если они не только обещают, но и будут выполнять свою программу, нам следует поддержать их и помочь им. В комнату заглянул шеф-редактор. — Молодец! — сказал Швиговский, приветствуя Гашека. — Прибыл вовремя. Как это вам удалось так быстро примчаться к нам? — Я показывал ваше письмо машинисту, а тот приказывал кочегару все время подбрасывать уголь. — Рад видеть вас в хорошем расположении духа. Что вы думаете о событиях в Питере? Гашек понял, что Швиговского интересуют не столько питерские новости, сколько его настроения. Он уклончиво объяснил, что все время сидел в окопах, а из них видел только фронт, да и тот в развале. Возвращение в Киев из окопного ада вначале обрадовало Гашека, он снова увлекся своей работой, поражая коллег неутомимостью, способностью откликаться на быстро меняющиеся события. Но чем яснее становилась программа действий Масарика, с легким сердцем продавшего чехословацкий легион Антанте за ее обещание государственной независимости Чехии, тем больше он убеждался в том, что его «братьев» втягивают а авантюру. Особенно возмущало Гашека курьезное заявление Масарика: «Кратчайший путь во Францию и домой — самый длинный: через Сибирь и вокруг всего света!» — Масарик попал в сети Антанты, — заявил Гашек во время очередного спора в редакции. — Наивен он и как идеолог. Профессор хочет соединить Петра Хельчицкого с Яном Жижкой. Он сказал, что чехи и словаки — культурные нации. Братья должны быть готовы к тому, чтобы принести себя в жертву своим нациям и всему человечеству. Мы триста лет приносили себя в жертву Габсбургам. Не много ли? Теперь нас собираются закласть для Антанты. Довольно быть голубиной нацией, мы — не голуби, а потомки таборитов. Хватит ворковать, пора действовать. Судя по начинаниям большевиков, они ближе к осуществлению гусистского коммунизма, чем вся Антанта с ее потрохами. Нам надо соединить Жижку с большевиками. Швиговский остолбенел: у штрафника, вызванного им в Киев, иная политическая линия, чем у «Чехослована», у него — собственное мнение о Ленине и большевиках! Анархиста, видимо, не исправят ни фронт, ни могила. От него лучше избавиться. И Швиговский сказал: — Сейчас такая неразбериха, что не знаешь, кому верить, что думать. Главное — поддерживать боевой дух в наших парнях. Поезжайте-ка на север. Там, возле Конотопа, неплохо действуют наши части. Привезите для «Чехослована» новые материалы. Гашек стал полевым корреспондентом. Спустя некоторое время немцы нарушили перемирие и начали наступление. Масариковское руководство корпуса провозгласило «вооруженный нейтралитет», — лживый лозунг о «невмешательстве» в русские дела. Оно отдало приказ частям отходить на восток. По воле масариковцев, думал Гашек, братья становятся союзниками немцев и врагами русских…
Глава двадцать третья
Часы прогресса на нашей планете скоро будут звонить в Москве.С отступавшими легионерами Гашек добрался до Конотопа. Там он узнал, что немцы заняли Киев и что связь с ним прервана. Невольно расставшись с «Чехослованом», он почувствовал облегчение — настала пора все узнать самому, увидеть все своими глазами. Писатель сел в поезд, битком набитый беженцами, и через двое суток очутился в Москве. Москва не знала ни Гашека-писателя, ни Гашека-легионера. Это была не старая идиллическая Москва, о которой он думал в юности, а город-крепость, под защиту которого, как в давние времена, стекались русские люди. Казалось, вся Россия снялась с насиженных мест и искала здесь правду, хлеб, убежище… С тощим рюкзаком, в котором лежали полкаравая хлеба, грязное белье и теперь уже никому не нужные заметки о конотопском отступлении, писатель вышел из Брянского вокзала на площадь. Гашек спросил у милиционера, где находится городской военный комиссариат. Тот подозрительно посмотрел на беженца в мятой легионерской шинели и только после придирчивой проверки документов объяснил дорогу. Гашек шел тем же путем, которым когда-то двигался в своей коляске Наполеон. Писатель шагал не спеша, читал вывески, разглядывал дома и людей. Какой-то человек в чиновничьей шинели и пенсне, непохожий на дворника, неумело мел тротуар возле недостроенного здания. У булочной выстроилась длинная очередь. Переминаясь с ноги на ногу, люди ожидали хлеба и переговаривались. Гашек понял, что Москва голодает и мало чем отличается от прифронтового города. На глаза Гашеку попались два храма — один темно-серый, другой — в стиле незатейливого ампира, с надписью по фасаду: «Тихона Чудотворца, что у Арбатских ворот». Он увидел фигуру на постаменте и подошел ближе. На бронзовой скамье, низко опустив голову, сидел сгорбленный человек, охваченный скорбью. Широкая альмавива небрежно спадала с его плеч. Гашек узнал Гоголя. Гашек медленно обошел памятник. Это было как наваждение: он бежал с Украины и встретился с Гоголем в Москве, а в Сорочинцах, в Киеве, сейчас хозяйничают немецкие солдаты. Казалось, скорбный человек на бронзовой скамье знал об этом. Вся тяжесть мира давила на его плечи, но, даже отлитый из металла, он не был атлантом. Он смотрел на людей, как мудрый судья, который не столько карает, сколько печалится о несовершенстве человеческой природы. Сама скорбь Гоголя стала шире рамок его века: весь мир истекал кровью на полях сражений, страдал от голода и непосильного труда в тылу. После встречи с бронзовым Гоголем Гашек почувствовал тревогу и усталость. Он вышел на площадь и увидел вывеску, от которой пахнуло родным и близким, — «Пражская колбасная». Он невольно ускорил шаг. Чех Роман Якль до революции преподавал в гимназии, а теперь превратился в разбитного трактирщика. Гашек перекусил у него, чем бог послал, узнал последние новости и отправился в Моссовет. Здесь ему повезло: в военкомате его сразу взяли на учет. Он стал москвичом без крова над головой. Решив, что на худой конец придется ночевать на вокзале, Гашек вышел на улицу, небрежно застегнул шинель и неожиданно налетел на молодого человека, шедшего навстречу. Тот не обиделся и добродушно, словами песни, спросил: — О чем задумался, детина? — Простите, — извинился Гашек. — Есть о чем. — Не отчаивайтесь, — приободрил его москвич, — Все уладится, — и, окинув быстрым взглядом Гашека, спросил: — Вы кто? Пленный или беженец? Гашек усмехнулся: — Скорее, беженец. Вначале я убежал от австрийцев к русским, потом от русских к чехословакам, а теперь от чехословаков снова к русским, но возвращаться к австрийцам не собираюсь. — Я что-то не понимаю вас, — сказал москвич, желая вызвать Гашека на откровенность. — Вы похожи на колобок из сказки: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел…» Гашеку понравился этот молодой человек. Он говорил образно и доброжелательно. Они познакомились. Москвича звали Сергеем Бирюковым. Он заведовал хозяйственным отделом Моссовета. Недавно вернулся с Украины. — Полтора месяца тому назад я воевал в отряде Знаменского, сражался с гайдамаками. Мы могли бы там встретиться, — сказал Бирюков. — Это была бы невеселая встреча, — ответил Гашек. — Наши легионеры хуже гайдамаков. Они тоже против Советской власти. А солдату нелегко разобраться, на чьей стороне правда. Я приехал сюда, чтобы узнать все из первых рук. — Надолго? Гашек вынул трубку и, набивая ее, задумчиво сказал: — Нет. Даже на ночь негде остановиться. — Да, в Москве плохо с жильем, — согласился Бирюков. — Мы ее разгружаем, а люди в нее бегут и бегут. — Бирюков замолк, подумал немного и, взяв Гашека за рукав, предложил: — Идем ко мне! Бирюков предоставил Гашеку угол в своем скромном жилище. Москва целиком захватила Гашека — он бродил по улицам и площадям, читал газеты, посещал митинги, слушал кадетов, меньшевиков, эсеров, чешских социал-демократов, русских большевиков, посещал концерты московских чехов, вечера поэтов-будетлян, колбасную Якля. Гашек скоро заметил необыкновенное воодушевление, царившее в городе. По Тверской маршировали батальоны красногвардейцев и красноармейцев. Люди знакомились с первыми декретами большевиков. Будетляне обращались к народу со своими декретами — декретами о демократизации искусств. Они хотели «воспеть революцию духа Вселенскую», разрисовать пустые заборы, крыши, фасады, тротуары, заполнить щиты стихами, а на балконах давать концерты. Однажды, оказавшись на Кузнецком мосту, Гашек увидел толпу, теснившуюся возле щита, на котором висела «Газета футуристов». Его внимание привлекло «Открытое письмо рабочим». Заявление футуристов напомнило Гашеку его прошлое, когда он сам выступал с шумными манифестами от имени Партии умеренного прогресса в рамках закона, подвергая осмеянию программы и лозунги чешских политических партий, и когда он посещал вечера поэтов-анархистов. Там тоже говорили заумно и любили пошуметь. Словно в ответ на эти мысли Гашек увидел «Декрет о демократизации искусств», в котором прокламировалось: «Все искусство — всему народу!» Гашек прочел стихотворения Маяковского «Революция» и «Наш марш». Они показались ему трудными. Странно: когда стихи читал сам автор, Гашек понимал их лучше. Футуристы пишут сложно, но их можно понять. У будетлян есть такой же задор, какой был у него и его друзей в «Коровнике». Впрочем, русские футуристы пошли дальше — они не только разрушают, но и созидают… На углу Неглинной оказалось еще больше публики — из-за скопления людей даже трамваи остановились. Молодые люди окружили высокую пожарную лестницу, на которую взобрался художник Бурлюк. Он прибивал свою картину — какое-то шествие на фоне буро-красного пейзажа. Рядом на стене висел женский портрет его же кисти — дама из кубиков и брусков. Публика вела себя бурно: сторонники футуризма или просто любители пошуметь одобряли картины, кто-то свистел, кто-то хохотал, уличные мальчишки визжали, а люди постарше неодобрительно шептались или отворачивались. К пожарной лестнице приблизился поэт-будетлянин Василий Каменский. — Сарынь на кичку! — закричали молодые поклонники поэта. Каменский улыбнулся и крикнул Бурлюку: — Браво! — Не мешайте работать! — сердито отозвался Бурлюк, балансируя на своей шаткой лестнице. Каменский с видом хорошо поработавшего человека оглядывал стену. Какой-то юноша тронул его за рукав: — Вася, на Пречистенке наши ребята повесили громадные плакаты со стихами Маяковского и с твоими. — Молодцы! — широко улыбнулся Каменский. — Приходите сегодня в Политехнический на вечер будетлянской поэзии! Бурлюк кончил свою работу и стал медленно спускаться. В одном глазу у него блестел монокль — респектабельная деталь, совершенно неуместная в сочетании со стеной, украшенной картинами, и пожарной лестницей, — все это придавало Бурлюку забавный гротескный вид. Но москвичей, привыкших к выходкам будетлян, ничто не удивляло. — Боже, упаси нас от такого искусства! — вздохнул, крестясь и глядя на даму из кубиков, чиновник в темной шинели. — Футуристы хотят расписать всю Россию кубиками, квадратиками, треугольничками! Произведения футуристов, их манера выражаться, их призывы демократизировать искусство казались москвичам чем-то новым и неслыханным, но у этих шумных молодых людей были почтенные предшественники, жившие несколько веков назад, — утописты мечтали о таком искусстве, которое служило бы народу — любой гражданин должен наслаждаться им и творить сам; пусть, гуляя по городу, он повсюду видит прекрасные картины и слышит музыку… Гашек не заметил, как снова очутился у «Пражской колбасной». Там сидело много посетителей, почти все — земляки. Гашек сел за стол и прислушался. Все говорили о Брестском мире и осуждали большевиков. Гашек понял, что у Якля собрались чешские и русские реакционеры, их подголоски — эсеры и меньшевики. Посетители колбасной были возбуждены. Если бы Гашек возразил им, они растерзали бы его. Сказать же им правду Гашек очень хотел — его возмущало то, что эти люди, не способные решать свои национальные дела, осуждают тех, кто несет себе и всем другим народам мир и свободу. Наскоро закусив, Гашек расплатился с Яклем и покинул колбасную — ему стало ясно, что у Якля он не найдет себе единомышленников.Ярослав Кратохвил
Глава двадцать четвертая
По всему миру гремели слова: «Революция, Ленин». Они действовали, как лакмус, вызывали классовое размежевание…— Бежим в Политехнический музей. Там будет выступать Ленин. Я раздобыл два пропуска, — сказал Бирюков Гашеку. — Ленин? — переспросил Гашек. — Ты не шутишь? — Не шучу. Сегодня — годовщина Февральской революции. Там соберется весь Моссовет. В музее было полно людей. Бирюков и Гашек с трудом продвигались вперед. Когда они очутились возле дверей Большой аудитории, депутаты Моссовета еще только входили в нее. Двери располагались на разных уровнях, по три с обеих сторон, депутаты входили в нижние двери и садились на березовые скамьи с высокими спинками и пюпитрами для записывания. Бирюков и Гашек поднялись на балкон, возвышавшийся над задними рядами. Они не видели всего зала, зато перед ними была как на ладони сцена, три подъемных учебных доски, большой стол, покрытый красным бархатом, и кафедра, служившая трибуной. Они сидели над аппаратной с диапроектором и под стеклянным фонарем, сквозь который лился дневной свет. Хотя в аудитории было около тысячи мест, людей собралось гораздо больше. Впереди сидели депутаты, за ними — делегаты, журналисты, гости. Когда друзья устроились, в левые нижние двери стали входить на сцену люди. В аудитории поднялся шум — все встали, захлопали в ладоши и закричали: — Ленин! Ленин! Ленин! Гашек и Бирюков хлопали в ладоши и не спускали глаз с Ленина. Наконец-то Гашек увидел того, о ком слышал самые разноречивые рассказы! Ленин не походил на известных Гашеку расфранченных рабочих вождей. Даже по тому, как Ленин взошел на подиум, писатель понял, что этому человеку совершенно чужды поза, претенциозность, нескромность, столь обычные у вожаков чешских социал-демократов. Гашеку невольно вспомнились рассказы русских солдат, представлявших Ленина как человека, который у богатых берет, бедным дает — он и его «большаки» отобрали у помещиков земли, у буржуев — заводы и отдали беднякам. Члены президиума уселись за стол — Ленин занял место на левом конце, с края. Председатель Моссовета Михаил Николаевич Покровский доложил о положении в столице. Потом выступали делегаты и депутаты, которые советовали, как бороться с нуждой и как помочь армии. В конце сессии председатель Моссовета предоставил слово Председателю Совета Народных Комиссаров Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину. Когда Ленин шел к кафедре, депутаты и гости поднялись со своих мест и закричали: — Да здравствует мир! Да здравствует Ленин! Да здравствует мировая коммунистическая революция! Глава советского правительства подвел итоги первого года революции и изложил задачи, связанные с заключением Брестского мира. — Да, это неслыханно позорный мир, — сказал Ленин. — Как ни тяжело нам, но мы вырвались из войны и дали народу передышку. Советская власть теперь — достояние не только городов, но и самых глухих уголков страны. И Романов, и Керенский, и вся русская буржуазия обанкротились. Гашек слушал Ленина и восхищался простотой и убедительностью ленинских аргументов. — Мы никому не изменяем, — продолжал Ленин. — Мы никого не предаем, мы не отказываем в помощи своим собратьям… Эти слова Ленин сказал словно нарочно для Гашека, который еще в Киеве слышал, будто бы Ленин настроен против славян и хочет заключить договор с немцами, их вековыми врагами, нанести удар Антанте, которая стремится помочь чехам и словакам освободиться от австрийского гнета. — Мы должны принять ужасные условия мира, — объяснял Ленин. — Нам нужно выиграть время для того, чтобы подошли союзники. Гашек поднял голову и прислушался: — Как ни велика наша ненависть к империализму, как ни сильно наше чувство негодования и возмущения против него, мы должны сознавать, что теперь мы оборонцы. Мы защищаем социализм, защищаем социалистическое отечество. Мы победили царизм и русскую буржуазию, мы должны собрать силы, чтобы победить международную буржуазию. У нас будет союзник и помощник — международный пролетариат. Вместе с ним мы победим всех империалистов… — Слышишь, что говорит о тебе Ленин? — тихо спросил Сергей Гашека. Гашек кивнул. В это время все захлопали в ладоши, хлопал вместе со всеми и Гашек. Зал гремел, кричал, ликовал. — Да здравствует Ленин! — Да здравствует мировая революция! Ур-ра-а! Когда юбилейная сессия Моссовета закончилась, Бирюков и Гашек поспешили на улицу. Они хотели еще раз посмотреть на Ленина, но пока выходили, он уехал. — В колбасной Якля, — заговорил Гашек, — кадеты, меньшевики, эсеры, легионеры с утра до ночи хоронят Россию, а Ленин строит планы возрождения России, думает о ее будущем. Хотя я не коммунист, но не колеблясь пойду за Лениным и буду до конца своей жизни защищать советскую революцию. Это — ваша и наша, чешская, революция… — Давно пора! — заметил Сергей. — Поживешь в Москве и станешь большевиком. Писатель разыскал чешских коммунистов. Они вели активную работу по организационному оформлению чехословацкой компартии в России, готовили съезд социал-демократов-интернационалистов и решили издавать газету. Редакция газеты «Прукопник» («Пионер») находилась на Неглинной, на втором этаже гостиницы «Европа», неподалеку от того места, где будетляне вывешивали свои картины и щиты со стихами. В сорок четвертом номере гостиницы частенько бывали Алоис Муна, Ярослав Гандлирж, Вацлав Ружичка, служащие чешско-словацкого отдела при Наркомате по делам национальностей Карел Кнофличек, Йозеф Бенеш и Арно Гаис. В редакции Гашека встретили доброжелательно. Его знали как талантливого писателя и журналиста — уже одно имя Гашека могло привлечь внимание к газете. Взгляды писателя и редакторов «Прукопника» сблизились, а это сулило хорошее сотрудничество. Для первого же номера, вышедшего 27 марта, он написал статью «К чешскому войску. Зачем ехать во Францию?» Писатель разоблачил закулисные махинации Одбочки, стремившейся любым путем оградить корпус от революционных идей Октября, и призывал солдат остаться в России, помочь Республике Советов, несущей свободу всему миру. Во втором номере Гашек опубликовал статью «Чешские коммунисты XV века», в которой показал, что руководители Одбочки отказались от революционных идеалов таборитов-коммунистов. Об этом же он писал в стихотворении «Маленький фельетон»:Антонин Запотоцкий
Глава двадцать пятая
В военном деле я — полный профан, Австрия не дала мне военного образования, и я, чтобы проникнуть в тайны военного искусства, был вынужден выкручиваться изо всех сил.Весной 1918 года в Самаре было неспокойно. Кадеты, меньшевики, эсеры и анархисты вели подрывную работу. Через Самару проходили эшелоны, битком набитые чехословацкими легионерами. Первый пехотный полк имени Яна Гуса задержался на станции. Офицеры пьянствовали в штабном вагоне или околачивались возле кухни, а рядовые, не имея права покидать вагоны, сидели в теплушках, как на гауптвахте. Вдоль эшелона сновали торговки, старики сбывали сушеные листья турецкого табака или мелко нарубленную махорку. — Долго мы тут будем вшей кормить? — спросил, выглядывая из последней теплушки, солдат Вацлав Долейши. — Вшей не трогай. Они — полезные насекомые, постоянно напоминают солдату о службе, — наставительно сказал сапер Иржи Крейчи. — Вошь — веселое насекомое. Когда я служил в 91-м Чешско-Будейовицком полку в Галиции, мы устраивали гонки вшей! — похвастался Франта Калина, самый молодой солдат. — Ярослав Гашек написал оду в честь вшей, — добавил телефонист Ян Сикора. Гашек оказался легок на помине. Он уже не первый день ходил на вокзал с листовками и газетами. Агитационные материалы легионерам передавали старички. Вместе с махоркой они ссужали их бумажками для «козьих ножек». Гашек прохаживался неподалеку, наблюдая, как идет торговля. — Прикуси язык! — сказал Долейши Сикоре. — Гашек продался большевикам. Скоро твой красный Ярда будет болтаться на осине. Гашеку стало интересно. Он прислушался. — Ты, Долейши, темный человек! — вздохнул Крейчи. Веришь всему, что пишет «Ческословенски деник», — и высунулся из вагона. Гашек приблизился к двери и протянул саперу пачку листовок и несколько номеров газеты «Прукопник». Увидев газету на чешском языке, Крейчи хотел что-то сказать, но Гашек, приложив палец к губам, прошептал: — Прочитайте и приходите в гостиницу «Сан-Ремо». Получив подарок от незнакомца, сапер свернул «козью ножку», закурил и просмотрел содержимое пакета. Его внимание привлекли броские названия и заголовки: «Зачем ехать во Францию?», «Чешские коммунисты XV века», «Предшественники большевизма», «Профессору Масарику», «Потерянный эшелон»… Листовки были написаны на русском языке и напечатаны в типографии самарской газеты «Солдат, рабочий и крестьянин». — Братья! — сказал Крейчи. — У меня есть кое-что интересное. Неизвестный писатель в фельетоне «Потерянный эшелон» рассказывает о том, что будет с руководителями нашего корпуса через пятьдесят лет. — Читай! — ответили солдаты. — «В 1968 году, — начал Крейчи, — американский ученый Вильямс Дарлинг, занимающийся патологией сороконожек, обнаружил в сибирской тундре, на одинокой заброшенной недостроенной железной дороге, несколько вагонов, обросших мхом». История встречи американского зоолога с замшелыми старичками — комиссаром Максой, военным министром Гоуской, редактором газеты «Ческословенски деник» Куделой, министром путей сообщения врачом Гирсой и другими руководителями корпуса, убежденными, что в России уже больше нечего делать, развеселила солдат. Со всех сторон посыпались шутки: — А что, если и мы проторчим здесь пятьдесят лет? — Наши бабы постареют и перемрут! — Женись на русской! Дарлинг поинтересовался, почему эшелон легионеров уже в течение пятидесяти лет находится в Сибири. Гирса ответил:Ярослав Гашек
«Мы едем во Францию. Мы доберемся до нее — ведь это самый короткий путь на родину. Здесь, в России, уже больше нечего делать. Хотя много лет назад до нас дошли сведения о том, что в Австрии и Германии произошли революции, что образовалась Всемирная федерация социалистических республик, мы заявляем: «Товарищи, не поддавайтесь на провокацию. Социалистические республики выторгованы и созданы австро-немецкой дипломатией. Бенеш с Кнофличеком получили от австрийского правительства два миллиарда крон и выделили из них Гашеку и Гуле десять миллионов крон, чтобы те всячески поносили Отделение национального совета. Франция же дала нам шестнадцать миллионов на дорогу и семь миллионов для Харбинского отделения Английского банка — так мы покрыли наши революционные долги, образовавшиеся от убыточного издания «Ческословенского деника» и от ссуд братьям-офицерам на френчи и сапоги. Мы очень обязаны французам и наш долг ехать во Францию. Она дала нам денежный заем. Следовательно, мы должны быть благодарны ей и рассчитаться с нею во что бы то ни стало. Даже ценой жизни 50.000 наших солдат. Эти солдаты все равно восстали бы и, осев в России, опозорили бы нас. Впрочем, их поубивают и во Франции. Переколотят все их комитеты. Мятеж будет подавлен, а мы станем офицерами Почетного легиона. Подумайте только, они уже пятьдесят лет назад хотели созвать военный съезд в Пензе, двадцать пять лет назад — в Омске, десять лет тому назад — съезды в Чите и, бог весть, где еще. Мы вытравим эти идеи!»— Ловко подмечены махинации наших лидеров! — засмеялся Сикора. — Этот фельетон написал Гашек. В «Прукопнике» из писателей печатается только он. — Братья-офицеры, действительно, разжирели и приоделись на чужие денежки, — заметил командир отделения. — Да, наши командиры научились обделывать свои делишки, командовать и затыкать нам рты. Правда и то, что наши главари срывали солдатские съезды. Назначат съезд в одном городе, а провезут нас через другие, — сказал сапер и, торопясь, продолжал читать. Солдаты притихли. Дарлинг спросил Гирсу, когда эшелон прибудет во Владивосток. Солдат это тоже интересовало: им пообещали, что там их незамедлительно погрузят на американские и японские пароходы. Гирса отвечал:
«Сначала я как хирург не имел никакого представления о железных дорогах. В отделении Национального совета никто не представлял себе, что такое семафор. Но вы знаете пословицу: «Тяп-ляп и вышел корабль». Это оказалось совсем несложно. Мы взяли в корпусе бумагу, карандаш и стали считать. Битва на Белой горе была в 1620 году, от Киева до Владивостока 9.870 верст, это составляет в сумме 11.490, большевистская революция была в октябре, октябрь — десятый месяц; стало быть, 11.490 делим на 10 и получаем 1.149. Длина паровоза — 8 аршин. Разделим 1.149 на 8 и получим приблизительно 144. Заграничный Национальный совет состоит из трех членов. Следовательно, 144 + 3 = 147; профессор Макса весит 78 килограммов. Прибавьте это число к 147 и получите 225, разделите последнее на 30 и у вас получится 7 месяцев и 15 дней. Как видите, все это исключительно просто. За такое время все эшелоны должны прибыть во Владивосток».Ответ Гирсы позабавил солдат. Все так хохотали над его расчетами, что из соседнего вагона стали выглядывать любопытные: — Что с вами? Беситесь? — Ничего… Анекдоты, — безразлично махнул рукой Франта Калина. — «Прощай навсегда, славная старая Одбочка! После того, что ты натворила в России, с тобой, действительно, ничего уже не сделаешь!» — закончил сапер. — Все это вранье, конечно, — сказал Долейши. — Вранье вранью рознь, — одернул телефониста Ян Сикора. — Подсчитай-ка, сколько ты за пятьдесят лет поймаешь вшей. Среднюю дневную потерю вшей умножь на 365 дней, а потом на 50 лет; високосных лет за это время наберется 12; среднюю дневную потерю умножь на 12, а что получится — прибавь к общему числу. И ты узнаешь, сколько вшей будет жрать тебя, пока не останутся одни кости. Солдаты развеселились. Иржи Крейчи задумался, а потом сказал: — Мы смеемся. Но все это очень похоже на правду. Мы едем не туда, куда надо. — Пан Масарик знает, куда надо ехать, — проворчал недовольным голосом писарь. — Он желает добра каждому чешскому патриоту. — Что-то я не вижу, — ответил Крейчи. — Вот открытое письмо «Профессору Масарику» какого-то «Солдата чешского войска». Этот Солдат пишет, что наше движение появилось до и независимо от Масарика, до возникновения Чехословацкого национального совета. Солдат упрекает Масарика за то, что тот с большим опозданием примазался к чешскому национальному движению. Масарик даже боится, когда его называют вождем чешской революции. «Вы сами чувствуете, пишет Солдат, что ни вы, ни д-р Бенеш, ни Дюрих не являетесь творцами чешской революции. Ее творец — народ, она началась тогда, когда разгорелась мировая война, и весь мир пришел в движение». В России чешское войско было создано по инициативе местных чехов, эмигрантов и переселенцев. Национальный совет примазался к готовенькому, создал свою Одбочку. Одбочка не возглавила чешскую революцию, а тормозила ее развитие. Одбочка превратила Масарика и его приспешников в каких-то идолов. Солдат считает, что мы, уезжая во Францию, предаем мировую революцию. «Пан профессор, говорит он, остановите эшелоны, иначе будет поздно!» Солдаты вытаращили глаза: — Может быть, Масарик уже остановил эшелон? — Я думаю, нам незачем сидеть и гадать — остановил или не остановил, — сказал Крейчи. — Кто хочет — за мной! Идем в город! Сапер нагнулся за своим рюкзаком. Солдаты последовали его примеру и вслед за Крейчи выпрыгнули из вагона. Долейши и писарь выстрелили в воздух, вызывая фельдфебеля. Когда он прибежал, оба доложили: — Крейчи увел взвод к большевикам! Группа Крейчи прибыла в гостиницу «Сан-Ремо», где размещались секция РКП(б), агитотдел, наборная комиссия и штаб отряда. Митинг открыл секретарь чешской секции РКП(б) Йозеф Жальский. Он предоставил слово чрезвычайному комиссару ВЦИК и члену Исполкома чехословацких левых социал-демократов (коммунистов) Ярославу Гашеку. Гашек встал. На нем была одежда простого рабочего: поношенный пиджак, темная рубашка с галстуком, галифе, высокие яловые сапоги. Браунинг неуклюже висел на ремне у бедра, словно говоря о том, что владелец его — не военный. — Друзья! — начал он. — Возможно кто-нибудь из вас узнал меня. Я — бывший солдат Первого пехотного полка имени Яна Гуса, секретарь полкового солдатского комитета и сотрудник журнала «Чехослован». Я по собственной воле вступил в легион, чтобы бороться за освобождение нашей родины от векового чужеземного гнета и по собственной воле ушел из легиона! Говорю вам откровенно: воевать против немцев нужно в России, а не на французском фронте, ваш отъезд не делает вам чести. Руководители легиона — опасные политиканы и дезертиры. Они выступают и против русской, и против чешской революции. Следуя приказам Одбочки, вы предаете и русскую, и чешскую, и мировую революцию — ведь наша революция только часть мировой. Как ведет себя руководство легионом? Когда начался мятеж Корнилова, Масарик и Одбочка послали Первую дивизию этому генералу. Корнилов собирался послать чехословацкие части на Москву и Петроград против Керенского. Когда большевики свергли буржуазное Временное правительство, Одбочка решила помочь Керенскому. В дни Октября она хотела помочь генералу Алексееву на Дону. Масариковцы поддерживают бонапартистов-поденок и правительства-однодневки. Если в России объявится какой-нибудь новый калиф на час, они побегут и к нему. Руководство легиона ведет себя как сказочный дурень, который рыдал на свадьбе и веселился на похоронах. Одбочка не желает идти в ногу со временем — она тянет нас помогать то русским, то французским временщикам. Наши части отказались бороться против войск Украинской центральной рады, против диктатора Скоропадского, против немцев, а теперь едут на Тихий океан. Руководство Одбочки и легиона боится своих солдат. Когда Киселый и Скотак провозгласили создание Чехословацкого Совета рабочих и солдат, оно тайно сбежало из Киева, оставив этот Совет на растерзание немцам. Братья! На Россию направлены штыки Карла Габсбурга и Вильгельма Гогенцоллерна. Российская республика рассчитывает на вас, а вы уезжаете во Францию. Как радуется теперь австро-немецкая дипломатия вашему отъезду из России! Вы покидаете Россию! Вы похожи на человека, который, видя, как разбойники грабят прохожего, принял сторону разбойников, а не их жертвы! — Мы — сами разбойники и грабители! — прервал Гашека какой-то солдат. — Загляните в наши вагоны, чего там только нет! — Почему бы вам не выступить против разбойников? — продолжал Гашек. — Я обращаюсь прямо к вам, солдаты-революционеры. Помогите русской революции! Для нас сейчас важнее всего русский революционный фронт! Все, кто согласен со мной, вступайте в чехословацкий красноармейский отряд! Солдаты оживились, зашумели, заговорили. Крейчи поднял руку, прося слова. Жальский пригласил его на сцену. — Братья! — начал сапер. — Комиссар Гашек сказал нам правду. То же пишет в газете «Прукопник» некий «Солдат чешского войска» в открытом письме «Профессору Масарику». В этом письме прямо сказано, что нам незачем ехать во Францию, что профессор Масарик должен, остановив эшелоны, повернуть их обратно. А мы сами повернем свои эшелоны на запад и будем воевать против оккупантов Украины. Мы поможем русским, а они помогут нам! Это бесхитростное выступление обрадовало Гашека — ведь «Солдатом чешского войска» был он сам. Он добился своего: солдаты читают не только его юморески и фельетоны, но и публицистические статьи. Когда все замолчали, поднял руку начальник самарского отделения Одбочки, давний киевский недруг Гашека — пиквикист Рудольф Фишер. Жальский дал ему слово. — Братья! — обратился Фишер к легионерам. — Ярослав Гашек, как всегда, говорил о революции. Скажу откровенно: боже, избави нас от таких революционеров. Он сам не верит тому, что говорит. Спросите-ка его: долго ли он задерживался в чешских политических партиях и долго ли собирается служить большевикам. Я уверен, что он не уживется с ленинистами и снова попросится к нам… — Не попросится! — ответили солдаты. — Не трогай Гашека. Он обойдется и без твоего легиона! — В настоящее время чехословацкое войско выполняет великую миссию и, — Фишер повернулся к комиссару ВЦИК, — ваши действия, пан Гашек, означают предательство интересов наших наций! Братья снова закричали: — Сам ты предатель! Контрреволюционер! Фишер же, словно это его не касалось, продолжал? — Условия, которые сложились для нас, чехов и словаков, на Руси, могут пагубно повлиять на наше войско. Анархия и надвигающийся голод способны свести на нет все, чего мы добились. От имени чехословацкого легиона я призывай вас, братья: все — во Францию, за профессором Масариком! В зале опять зашумели: — Нам его не догнать! Он — в Америке, а мы — на Волге! Фишер покинул трибуну. Гашек позвонил колокольчиком. — Мнение пана легионера о моей работе в РКП(б) и в красноармейском отряде мне известно не хуже, чем ему — мое мнение о его делах. Он был и остался чешским пиквикистом, злым гением захолустной пивной политики. Я не стану пререкаться с антантовцем. Я не скрываю своих убеждений и прямо заявляю, что я не с вами, пан Фишер. Я рад, что в вашем лице мне подвернулась оказия вручить вам свое заявление, — и, достав его из бумажника, Гашек прочел: — «Настоящим сообщаю, что я не согласен с политикой Одбочки Чехословацкого национального совета и с отъездом нашего войска во Францию. Сим заявляю, что я выбываю из чешского войска до той поры, пока в нем и во всем руководстве Национального совета не установится новое направление. Прошу со вниманием отнестись к моему решению. Буду и в дальнейшем трудиться для революции в Австрии и для освобождения нашего народа». — Подшейте это заявление к моему делу, — громко сказал Гашек, отдавая заявление. — Пусть нас рассудит история. Писатель сжег все корабли. — Я передам, пан Гашек, ваше заявление по инстанции, — пряча важный документ во внутренний карман френча, пробормотал Фишер. В зал вошли сотрудники пана Фишера, с которыми накануне беседовал Гашек. Один из них попросил слова и по знаку Жальского взбежал на сцену: — Мы, сотрудники Самарского отделения Одбочки, прибыли сюда в полном составе. Среди нас нет только нашего шефа… — Я здесь! — откликнулся Фишер. — Мы не согласны с политикой Одбочки, с отъездом нашего легиона, как говорят русские, к чертям на кулички. Не желаем быть посредниками между легионерами-дезертирами и самарскими властями. Нам не по пути с паном Фишером — пусть он едет во Францию без нас! Мы просим Чешскую секцию РКП(б) принять нас в партию большевиков, а наборную комиссию — записать нас в чехословацкий красноармейский отряд. Вот наше коллективное заявление. Гашек взял заявление, прочел его вслух, громко назвал фамилии восемнадцати подписавшихся и крикнул Фишеру: — Заявление ваших бывших сотрудников, пан Фишер, — лучшее свидетельство вашего банкротства. Вы — полководец без армии. Фишер поднялся и направился к выходу. Солдаты засвистели, заулюлюкали ему вслед. Гашек подошел к краю сцены и сказал: — За дело, братья! Запись добровольцев будет проходить здесь, в гостинице «Сан-Ремо», и в доме Кириллова, на углу улиц Воскресенской и Соборной.
Глава двадцать шестая
— Теперь лучше всего, — сказал Швейк, — выдавать себя за идиота.Чехословаки подняли мятеж. В Самаре оказалось слишком мало сил,чтобы удержать ее. Ревком приказал красноармейцам погружаться в вагоны и отступать. В «Сан-Ремо» хранились документы отряда, и Гашек поспешил туда. Он шел дворами, стараясь никому не попасться на глаза, и в гостиницу проник незамеченным. Взяв наугад несколько листов, Гашек сунул их в черный зев печки, чиркнул спичкой. Бумага вспыхнула. Он быстро подкидывал в огонь списки бойцов отряда, приказы, распоряжения, переписку с местными и правительственными учреждениями и чутко прислушивался. Издалека доносилась оживленная перестрелка. Бой шел где-то на Заводской улице — там Александр Масленников с группой самарских большевиков оборонял Клуб коммунистов. Разворошив полуистлевшие листки, чтобы лучше сгорели, Гашек подбросил в огонь последнюю пачку и выпрямился. Отставив кочергу, он вытер пот со лба и щек и увидел свое отражение в зеркале: лохматый субъект с красным от печного жара лицом, полоса пепла и сажи, пересекавшая лоб и щеку. Гашек хотел было стереть сажу, но вдруг сообразил: надо прикинуться дурачком от рождения… Гашек сбросил военную одежду, достал штатское тряпье, которое валялось в шкафу, еще больше взлохматил волосы и вымазал лицо теплой золой. Перестрелка затихла. Вошли или не вошли? Гашек выскользнул из номера и, поворачивая ключ в замке, подумал, что идти на вокзал бесполезно — чечековцы, скорее всего, уже прорвались в город. Незаметно прошмыгнув двором, Гашек вышел на улицу и огляделся. На глаза ему попались красные флаги. «Вся власть Учредительному собранию!» — прочел он на них и — ниже, — «Российская Федеративная Демократическая Республика». Быстрота, с которой были развешаны эти флаги, убедила его, что самарская учредилка не дремала, контрреволюционное подполье работало. Гашек мельком прочел несколько прокламаций и афишек, расклеенных на заборах и тумбах. Они были написаны от лица Самарского правительства, которое обвиняло большевиков в сговоре с немцами и призывало изгнать большевиков и немцев из России, обещало созвать Учредительное собрание, создать сильную армию, чтобы рука об руку с союзниками довести войну против прусского милитаризма до победного конца. Находиться в Самаре было нельзя, спрятаться, переждать немного — необходимо. Ему ничего не оставалось, как воспользоваться советом Оли Миненко, правщицы газеты «Солдат, рабочий и крестьянин», в случае опасности скрыться на даче ее дяди Каноныкина под видом внука Олиной няни Дементьевны. На закате «потомок» Степана Разина и «внук» Дементьевны добрался до дачи Каноныкина. Огромный барбос встретил его истошным лаем. Гашек подошел к нему, тихо посвистывая. Оля выглянула в окно и увидела трогательную сцену: возле клумбы сидел на корточках незнакомец, а пес ластился к нему, виляя хвостом. Оля подошла к двери, открыла ее и спросила: — Вам кого? — Я к бабушке. Из Ташкента, — громко ответил незнакомец. Дементьевна вышла на крыльцо, прищурилась и воскликнула: — Господи! Как это ты добрался сюда? Чумазый какой! Небось собрал по дороге грязь со всего божьего света! Гашек обнял старуху. — Иди в дом, касатик! — ласково сказала она. Пока Гашек, подчиняясь указаниям няни, приводил себя в порядок, Оля сходила в погреб за кислым молоком и накрыла на стол. Через полчаса в столовую вошел Гашек — чистый, причесанный, в дядиной пижаме. — Как видите, я воспользовался вашим приглашением, — сказал он. Пес снова залаял. Оля выглянула в окно. У дверей стоял чешский патруль. — Что вам угодно? — спросила девушка, еле держась на ногах от страха. — Провьерка документув! — небрежно пробурчал поручик. Оля напустила на себя надменный вид: — Это дача члена Самарского правительства. Она неприкосновенна. Здесь, кроме меня, няни и ее внука, никого нет. — Открывайте. Мы провьерим, — строго сказал поручик. — Это самоуправство. Я буду жаловаться на вас Самарскому правительству, — сердито сказала Оля, впуская патруль. Поручик с двумя солдатами прошли по комнатам и обшарили все углы. Из кухни, навстречу нм, вышел босой лохматый человек в пижамной куртке и кальсонах. Он стоял навытяжку, приложив руку к виску. На его лице блуждала странная улыбка. Солдаты едва не прыснули со смеху. — Здравия желаю, господа! — сказал по-немецки субъект в кальсонах. — Вы пришли с ответом пана Чечека? Какой награды он удостоил меня, в какой полк зачислил? Поручик растерялся — он даже забыл о проверке документов. А лохматый человек, не переставая, тараторил: — Какая удача! Какая удача! Всю жизнь я мечтал стать солдатом и совершить какой-нибудь подвиг. Но мне не везло. В царскую армию не брали, в белую не берут. Им почему-то кажется, что я не в себе… Это чепуха. Я хочу совершить подвиг! Может быть, у меня в ранце маршальский жезл! Хочу помочь чехам расхлебать русскую кашу. За спиной Гашека Оля делала знаки поручику, показывая, что перед ним — больной. — Короче. Что вам угодно? — спросил поручик. — Я совершил подвиг. Мне нужна награда. Я спас чешского офицера. — Как вы его спасли? — снисходительно улыбнулся поручик. — Это было на станции Батраки, — радостно откликнулся полоумный. — Чешский офицер так нализался, что еле держался на ногах. Я заметил, как он шел в вокзальный сортир. Ну, думаю, пропадешь ты там ни за что ни про что. Мне стало жаль его. Я вернулся, подошел к сортиру и стал ждать, когда он выйдет. Сколько я так стоял — не знаю. Но он не выходил. Тогда я вошел в сортир и увидел его в дыре — он провалился туда и не мог выкарабкаться. Я схватил его за волосы, вытащил наружу, повел мыться. От воды он очухался и ушел, а я побежал к коменданту. Комендант обязан дать документ, подтверждающий, что я совершил подвиг, а он только ржал и послал меня к черту. Я спас офицера, а комендант отказался дать мне справку. Завтра я пойду к господину Чечеку. Пойдемте вместе к нему, господа! И полоумный подскочил к поручику, взял его под руку и стал уводить из кухни. — Оставайтесь дома! — строго сказал поручик, брезгливо освобождаясь от руки сумасшедшего. — Ваш орден пришлют сюда. Он никуда не денется. — Вот это порядок! — просиял полоумный. — Вот что значит Европа! Хорошо, господа, я буду ждать! — он хитро прищурился и подмигнул поручику: — А если я опять совершу какой-нибудь подвиг, мне дадут два ордена? — Конечно, дадут! — понимая, что лучше не спорить, ответил поручик. — Благодарю вас! Благодарю вас! — воскликнул полоумный, бросаясь на шею поручику и целуя его слюнявыми губами. Поручик отшатнулся. Тогда он стал лобызать солдат, но и те отворачивались, не скрывая своего отвращения. — Не выпускайте его из дома, — сказал поручик Оле, когда она вышла, чтобы закрыть за ним и солдатами дверь. — Этот идиот может натворить такое, что вам потом не расхлебать. — Он безвредный, — объяснила Оля, — мы обычно запираем его в чулан, чтобы не надоедал нам своей болтовней. Но тут недавно он вырвался на волю и бродил несколько месяцев — где, мы не знаем. Няня к нему очень привязана, жалеет его. — Вот и держите его в чулане, — ответил поручик. Солдаты, вышедшие раньше своего командира, хохотали, задрав головы: у окна стоял полоумный, вытянувшись по стойке «смирно», и отдавал честь. Поручик еле увел их. Оля долго стояла за дверью, глядя в щелку, не вернется ли патруль, — ей было и страшно, и смешно. К ней подошел Гашек — одетый, причесанный, с керосиновой лампой в руке: — Опасность миновала. Они не скоро явятся сюда, — сказал он. — Я так боялась! — призналась Оля. — Но теперь я вижу, что вы умеете не только спорить и воевать. По-моему, вы еще и великолепный актер. Гашек ответил ей: — Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет! На рассвете Гашек покинул дачу Каноныкина и пошел в село Большая Каменка. Там жили родители бывшего председателя Самарского губернского совета Алексея Дорогойченко. Писатель надеялся, что Алексей, если он жив, подастся к родным. Гашек прикинулся полоумным от рождения, сыном немецкого колониста из Туркестана. Крестьяне жалели «божьего человека», кормили, пускали переночевать, и он благополучно добрался до Большой Каменки. Здесь жили и русские, и мордва. Гашек постучался в крайнюю избу с резными ставнями. Переступив порог, он увидел в углу комнаты икону, а под нею, за столом, большую семью. Из одной деревянной чашки черпали еду старик, старуха, четверо сыновей и четыре дочери. Гашек поклонился. — Мир вашему дому! — сказал он. — Скажите, здесь живет Яков Федорович Дорогойченко? — Это я, — ответил старик. — Вам кланяется сын Алексей… — Спасибо. Давно ли ты видел его? — Неделю назад. — Ты, наверное, голодный, — сказал хозяин. — Присаживайся к столу. Чем богаты, тем и рады. Гашека не нужно было упрашивать. Он сел за стол с краю. Хозяйка подала ему чистую ложку, хозяин подвинул хлеб и нож. Вылив остатки варева из чугуна в глиняный горшок, хозяйка подала его гостю. Когда писатель поужинал, старик повел его на чердак. Только теперь, с глазу на глаз, старик спросил: — Бежишь? — и объяснил: — Сразу видно, что не нашенский. Онучи и лапти завязываешь не по-мордовски. Гашек понял, что от старика ничего не скроешь, и рассказал ему о падении Самары. — Я думал, что встречусь здесь с Алексеем. Вдвоем пробираться в Симбирск было бы легче… — Идти вам пока некуда. Везде белые. Говорят, они уже взяли Самару, Казань, Бугульму, Бугуруслан, Уфу. Пересиди у нас. К этому времени, может, подойдет и Алексей. Ты можешь пока поработать со мной. Гашека тронула чуткость Якова Федоровича — старик понимал, что чужой человек не пожелает стать дармоедом. — Умеешь обжигать кирпичи? — Умею, — ответил Гашек, хотя никогда этим не занимался. — Будем делать кирпичи и строить школу. Я тебе заплачу, а харчи мои. Гашек наотрез отказался от платы. Обжиг кирпичей оказался несложным делом. Гашек легко справлялся с ним. Хозяин и работник вставали рано, по рожку пастуха, завтракали и уходили к кирпичным сараям. Трудились до самого вечера, возвращались в сумерках. В деревне почти никто не видел нового помощника Якова Федоровича. Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока новая власть не заинтересовалась Большой Каменкой. Однажды в деревню прикатил на рессорной коляске, в сопровождении десяти верховых с карабинами, чиновник из Самары. По его приказу староста собрал всех взрослых мужиков у церкви. Пришел на сходку и старый Дорогойченко. — Граждане! — обратился приезжий к мужикам. — Правительство Российской Федеративной Демократической Республики приняло решения, касающиеся и вашего села. 8 июня оно издало постановление о денационализации земель и фабрик. Ваше село обязано уплатить контрибуцию за пользование помещичьей землей в сумме 100.000 рублей. Весь хлеб и урожай, собранный с этих земель, находится под правительственным арестом. Если вы не уплатите 100.000 рублей обиженному помещику, весь урожай будет передан ему в качестве компенсации за причиненные ему убытки. — Снова помещики! — крикнул один мужик. — Опять за старое, кровопивцы! — поддержал его другой. — Народную власть не оскорблять! Это наказуется, — предупредил чиновник. — Неужели вы нуждаетесь в нагайке, последнем средстве гражданского самосознания? — Насчет нагайки вы мастера… Чиновник вытянул шею, словно выискивая смутьянов, потом приосанился и заговорил: — Граждане крестьяне! Я вижу, народ у вас при большевиках сильно распустился. Нам известно, что из вашего села вышел один «политический деятель», который перебежал к большевикам, — чиновник намекал на Алексея Дорогойченко, и крестьяне посмотрели на Якова Федоровича. — Большевистскую блажь пора выкинуть из головы. Другое решение правительства РФДР тоже касается вас. Правительство создает сильную армию. Оно призывает молодых людей 1897 и 1898 годов рождения. Ваше село выделит армии тридцать лошадей. И люди, и лошади нужны для народной армии, которая разгромит и немцев, и большевиков. У вас в деревне скрываются дезертиры. Если вы не выдадите их, то вместо них будут призваны все мужчины, родившиеся в 1895 и 1896 годах. Учтите, граждане! Если вы не выполните постановлений правительства в срок, оно пришлет карательный отряд с пушками и казаками, будет всеобщая порка нагайками. Люди не верили, что беляки заняли всю губернию. — Душегубцы! Разбойники! — кричали возмущенные мужики. — Не испужаешь! Чиновник сел в коляску и сказал старосте: — На все даю неделю. Не ждите экзекуции. Это неприятное зрелище… — Постараемся, — угрюмо ответил староста. Коляска помчалась по пыльной дороге, верховые — за ней. Яков Федорович вернулся домой расстроенный. — О чем говорил этот приезжий? — спросил Гашек. — Беда, — вздохнул старик, — снова помещики и казацкая нагайка. — И он пересказал Гашеку речь самарского чиновника. — Дело худо. Так нам школу не построить, — отозвался писатель и задумался. Оставаться в мордовской деревне стало так же опасно, как и пробираться к своим. Облава на дезертиров не лучше встречи с чехословацкими патрулями. — Утром мы расстанемся, Яков Федорович, — твердо сказал Гашек. — Пойду на Симбирск. Иначе меня расстреляют или забреют в «народную армию». Старик опустил голову и глядел в пол. Потом встрепенулся: — Хочешь, отвезу тебя к хорошему знакомому, богатому татарину? Власти ему доверяют. Он тебя спрячет и прокормит. Ты не белоручка. Будешь пасти кобылиц и делать кумыс. И к Симбирску поближе. — Это мне по душе, Яков Федорович. — Ты правильно решил, — наконец признался старик. — Вчера к нам приходил полицейский и спрашивал, где Алексей. Полицейский, видать, человек порядочный, — шепнул мне, что Алексея схватили в Самаре, избили, отвели к чехам, а те отправили его «поездом смерти». Алексей-то мой, не будь дурак, убежал в Уфе из этого поезда. Теперь скрывается где-то. Свет не без добрых людей, может, и его спасут… Старый Дорогойченко выехал к татарину еще до зари — в телеге под сеном лежал Гашек.Ярослав Гашек
Глава двадцать седьмая
Для Европы Бугульма — окраина: Но придется знать ей Бугульму!Все лето писатель скитался по заволжским степям — тылам легионеров и народоармейцев — и только осенью, рискуя жизнью, пробрался в Симбирск, освобожденный красноармейцами. Теперь ему, прибывшему «с того берега», предстояло самое трудное: доказать, что он не белый лазутчик, а красный комиссар. В Симбирске Гашек повстречал Сергея Бирюкова, который служил здесь интендантом. Писатель рассказал Сергею свою историю. Бирюков посоветовал ему идти в Мелекес, в Реввоенсовет Левобережной группы войск. Там формировалась Пятая армия. Начальник Поарма-5 Иван Чугурин и его заместитель Василий Каюров внимательно выслушали Гашека. Посовещавшись между собой, Чугурин и Каюров назначили Гашека инструктором в комендатуру города Бугульмы, и дали ему маленький отряд. Едва придя а себя, он поплыл с ним по Волге, а потом — по Каме. Труднее было двигаться по суше. Осенние дожди превратили дороги в месиво, и телеги вязли в грязи. Бойцы, толкая телеги, помогали лошадям. Трудолюбие, выносливость и добродушие молодых красноармейцев восхищали Гашека. Он полюбил этих ребят. Они тоже привязались к нему. В Бугульму отряд прибыл три дня спустя после ее освобождения. Работы в городе было много. Главная задача — конфискация оружия. Первые дни Гашек и его бойцы собирали винтовки, пулеметы, патроны и гранаты, разоружали офицеров, дезертиров, чиновников, эсеров и попов. Очистив Бугульму, бойцы Гашека перешли в ее окрестности. Комендант Широков был доволен новым помощником. Гашек отлично справился со спекулянтом-лавочником, который не желал открывать лавку. Как ни орал, ни угрожал лавочник, Гашек настоял на своем и заставил его подчиниться приказу. Труднее было обуздать командира-анархиста, в подчинении у которого был Тверской пехотный полк, но Гашек и тут не растерялся — привел и его к порядку. Через Бугульму проходили на фронт части Красной Армии. Комендатура получила задание спешно подготовить помещение для штаба 5-й армии и Петроградского кавалерийского полка. — Где взять тридцать человек для уборки казарм? — спросил Широков у своих помощников. — В монастыре, — ответил Гашек. — Монашки бездельничают, судачат и бьют поклоны. Пусть поработают на революцию. Гашек написал распоряжение игуменье монастыря пресвятой богородицы, предлагая выделить для комендатуры тридцать монахинь. Посыльный еще не успел вернуться из монастыря, как к Широкову явилась депутация православного духовенства. — Господин товарищ комендант! — обратился к Широкову самый представительный священнослужитель. — Мы узнали о том, что комендатура требует для красноармейцев тридцать монахинь. Не губите невест Христовых, невинных дев, удалившихся от суетного мира! Подумайте о спасении своей души. Не забывайте, что над нами — господь бог. — Над нами — потолок! — не сдержался Гашек. — Вы, господа священнослужители, — строго начал Широков, — вмешиваетесь в дела военной комендатуры. Город находится на чрезвычайном положении. В прифронтовой полосе все распоряжения Советской власти должны исполняться немедленно, без обсуждения. Нам пока нужно тридцать монахинь — и точка! Если их окажется много — лишних отошлем, будет мало — возьмем остальных. Через час по всей Бугульме зазвонили колокола, как в день храмового праздника. Они созывали мирян на крестный ход. Духовенство и миряне торжественно, с пением скорбных псалмов, под хоругвями, с иконами в старинных окладах, двигались прямо к комендатуре. — Мать честная! — воскликнул Широков, поглядев в окно. — Крестный ход. Да это же белогвардейская демонстрация! — Попам захотелось прогуляться с монашками, — отозвался Гашек. — Встретим их по всем правилам! — Товарищ комендант! — весело отозвался инструктор Таранов. — С ними справится только Гашек. Нам нечего лезть в это дело. Он мастак говорить с попами. Гашек что-то шепнул на ухо ординарцу коменданта. Тот накрыл стол белой скатертью, поставил на него блюдо с караваем хлеба и солонку с крупной рыжей солью. Стол вынесли на улицу и закрыли им вход в комендатуру. Когда процессия остановилась прямо перед столом, Гашек преподнес старенькой игуменье хлеб-соль и сказал: — Благочестивая игуменья, православные служители и миряне! От имени городской комендатуры благодарю вас за прекрасный крестный ход! Вы даже перестарались — привели сюда всех монахинь, нам же достаточно тридцати! — Во имя господа нашего Иисуса Христа, скажите, зачем вам нужны монахини? — спросила игуменья. — Работать, — ответил Гашек. — Этого требует священное писание. Так говорит апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам, — и добавил тоном проповедника: — «Завещаю вам сие. Коли кто не хочет трудиться, тот и не ешь!» Этого не отрицают и коммунисты. Вы будете убирать дом Волжско-Камского банка на Советской улице. Веники, тряпки, ведра, вода, мыло уже там… Церковная эрудиция Гашека произвела впечатление на священнослужителей — они только покачивали головами. Узнав, зачем комендатуре понадобились монахини, игуменья пристально посмотрела на Гашека и спросила, не учинят ли сестрам какой-нибудь обиды в доме Волжско-Камского банка. Гашек торжественно заверил ее, что ничего подобного не случится. Тогда почтенная игуменья призвала к себе тридцать монахинь, объяснила, что от них требуется, и величаво удалилась с остальными. Дом Волжско-Камского банка был убран в срок и блистал чистотой. Убедившись в том, что Гашек сдержал свое слово, игуменья по-своему выразила ему признательность. Она прислала помощнику коменданта маленькую иконку с запиской, в которой стояло всего три слова: «Молюсь за вас». Гашек повесил иконку над своей кроватью. Это удивило его товарищей — зачем ему такое украшение? — Это мой талисман, — говорил он, когда они надоедали ему вопросами. — Он застраховал меня на много лет вперед от всяких несчастий — ведь старая игуменья денно и нощно молится, чтобы никакая контра не убила меня из-за угла.Сибгат Хаким
Глава двадцать восьмая
— Что стоит посреди Уфы? — Буква «фы»!Боевой дух легионеров сильно упал. Они больше не верили, что, воюя с большевиками, сражаются за освобождение своей родины. Солдатские мятежи вспыхивали то в одном, то в другом полку. Разочаровавшийся в миссии корпуса, бессильный перед этими бунтами, застрелился Йозеф Швец, командир полка имени Яна Гуса. Начальство испугалось — оно сняло с боевых позиций деморализованную дивизию Чечека, куда входил полк Яна Гуса, и поставило на них части Войцеховского. Замена не помогла — легионеры отступали. Через три дня после провозглашения Чехословацкой республики народный комиссар иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин отправил радиограмму чехословацкому правительству с предложением мира и безопасной эвакуации корпуса на родину. Это предложение осталось без ответа. 18 ноября адмирал Колчак сверг коалиционную Директорию и захватил власть в свои руки. Начались разногласия между Колчаком и масариковцами. Масариковцы не желали ни защищать режим диктатора-самозванца, ни уезжать домой. Они перешли в распоряжение командующего антантовскими войсками в Сибири генерала М. Жанена, чтобы он «как можно лучше использовал их в интересах союзников». В день захвата власти Колчаком на Дальний Восток прибыл министр национальной обороны Милан Штефаник, ранее занимавшийся астрономией. «Он будет искать тунгусский метеорит или наблюдать затмение Солнца в бухте Петра Великого», — острили легионеры. Кочующий астроном-политикан привез указание главнокомандующего взять солдат в ежовые рукавицы и удержать их на фронте против наступающей Красной Армии. Еще недавно легионерам велели двигаться на восток, а теперь приказали наступать на запад… Штефаник решил, как можно скорее собрать корпус в одном месте и пробить себе дорогу через Россию, поскольку, мол, договориться с Советским правительством о пропуске корпуса через нее невозможно. Вместо Одбочки была учреждена Специальная коллегия, во главе которой стали Богдан Павлу и Ян Сыровый. Штефаник приказал легионерам петь чехословацкий гимн — вслед за его чешской частью «Где родина моя?» нужно было исполнять словацкую часть «Сверкают молнии над Татрами». Стихи Йозефа Каэтана Тыла и Янко Матушки будили у солдат не те мысли, на которые рассчитывали власти. Новый гимн заражал солдата ностальгией. Где родина моя? Почему я должен сражаться за свою родину на Урале и в сибирской тайге, где гремят пушки и полыхают пожары? Но Штефаника мало беспокоили чувства солдат. Он реорганизовал корпус, ввел в действие французский военный устав, упразднил Советы и комитеты, запретил созывы съездов, приказал судить тех, кто сочувствовал большевикам. Хотя комитеты были только призраками солдатской демократии, но и они мутили солдатские головы — от гуситской свободы и демократии перекидывался мостик к большевистским комитетам и Советам. У солдат оказалось много свободы, но мало дисциплины. Меры, проведенные Штефаником, удержала корпус от разложения, но не спасли от поражений. В это время был освобожден ранее интернированный Прокоп Макса — он изъявил желание передать президенту Чехословакии предложение Советского правительства о заключении мира и о возвращении корпуса на родину. Президент снова промолчал. Красноармейцам пришлось силой изгонять чехословацкое войско, не желавшее убираться восвояси. Накануне нового, 1919, года Пятая армия вошла в Уфу. Политотдел навел порядок в городе, очистив его от колчаковцев. Реввоенсовет армии решил издавать ежедневную газету «Наш путь». Ее редактором был назначен питерский рабочий, поэт-правдист, комиссар 26-й стрелковой дивизии Василий Сорокин. Редактору недоставало опытного журналиста и комиссара типографии, и он попросил Чугурина подыскать людей. — Обойдешься одним, — ответил Чугурин. — Есть у меня на примете хороший политбоец. Он говорит: «Очень хочу писать, прямо-таки руки чешутся». Сейчас он в Бугульме. Чугурин позвонил по телефону коменданту Бугульмы и поинтересовался, как справляется со своими обязанностями Ярослав Гашек. — Хороший работник, настоящий боец-интернационалист, дисциплинированный, исполнительный, инициативный организатор и хороший товарищ, — не задумываясь, ответил Широков. — Он — газетчик, и мы отзываем его в Уфу. Три дня спустя Гашек прибыл в большой красивый дом с башенками. Начальник Поарма, поговорив с Гашеком о Бугульме и о его новых обязанностях в газете, улыбнулся, достал из папки какой-то листок и сказал: — Мы послали в Москву запрос о тебе после того, как ты пришел в нашу армию. Твои земляки, Гашек, ни черта не знают о тебе. На, прочти сам.Уфимская шутка
«Товарищ Гашек, — читал писатель, — выступил в марте из чешского корпуса. С тех пор был в сношении с партийными учреждениями. После занятия чехословаками Самары нам неизвестен. За ЦК Чехословацкой партии Гандлирж».Гашек пожал плечами: — Из Москвы не увидеть, чем я занимался на Волге. Чугурин послал Гашека к Сорокину с запиской. Прочитав ее, редактор сразу же ввел новичка в курс дела: — Тебе, товарищ Гашек, сначала надо взяться за типографию. Организуй работу печатников, наведи порядок в хозяйстве. Газета должна выходить ежедневно и бесперебойно, несмотря на недостаток бумаги и краски. Будешь также печатать листовки, плакаты и другие заказы Уфимского ревкома. Освоившись в типографии, Гашек нашел себе еще одно занятие — ходил в клуб и рассказывал военнопленным о политике Советского правительства. От взгляда Гашека не ускользало и то, что делалось в городе. Старые чиновники в советских учреждениях, буржуи, лавочники ненавидели советский строй, устраивали диверсии, ждали возвращения белогвардейцев в Уфу. Когда появилась свободная минута, Гашек взялся за перо. О чем писать — он знал, не знал только, как писать — в каком жанре и на каком языке. Впрочем, сама жизнь диктовала ему, что о врагах надо писать фельетоны, а о друзьях — статьи. Материал у него местный, уфимский, и надо писать для здешней газеты. Как писать: по-чешски или по-русски? Разговаривал он по-русски куда лучше, чем писал. Ему самому становилось смешно, когда у него вместо русских слов и выражений на перо просились чешские. Он попробовал писать на родном языке. Но теперь в текст сами собой проникали русские словечки. Материал был русский, и о нем лучше писать по-русски. Захватив свое первое русское сочинение вместе со сверстанным номером газеты, он пошел к Сорокину. Редактор просмотрел верстку, похвалил Гашека и подписал номер в печать. Вынув из кармана несколько листков, Гашек попросил Сорокина прочесть их. Сорокин быстро пробежал листки глазами, несколько раз улыбнулся и, возвращая их Гашеку, сказал: — Хороший фельетон, Ярослав! Особенно хорошо, что ты написал его в форме дневника. Переживания уфимского буржуя во время бегства белогвардейцев из Казани сменяются, словно в калейдоскопе. Удачная форма! — Сорокин прищурился. — О содержании я не говорю — то, что надо! А вот язык придется почистить… Сорокин помолчал и тихо сказал, словно боясь обидеть автора: — Меня вот только смущает одно преувеличение… Как там у тебя сказано про германских солдат? — «Наши очистили Казань потому, что, как секретно сообщил мне чешский офицер Паличка, в Казань прибыло два миллиона германских солдат», — прочитал Гашек. — Это? — Да. Астрономическая цифра! Тут ты явно загнул. Гашек возразил: — Загнул не я, а белочешский капитан-враль Паличка. Он вроде гоголевского Хлестакова. Тот врал супруге городничего и его гостям, будто у него в Петербурге великолепие и почет, на столе арбуз в семьсот рублей, суп прямо из Парижа, а в департаменте — тридцать пять тысяч курьеров! — Убедил. Оставим два миллиона германских солдат под Казанью, — сдался Сорокин. В присутствии Гашека он «почистил» язык фельетона и сказал: — Отдай в наборный цех. Пойдет. Через несколько часов в типографию зашел Сорокин. Он увидел Гашека у двери наборного цеха. — Иди сюда! — позвал Гашек. — Наборщики читают мой фельетон. Судя по голосу, Степа Ганцеров… За дверью раздался хохот. Вспомнив недавний разговор с Гашеком о Хлестакове, Сорокин улыбнулся: — Еще очко в твою пользу! Говорят, первыми ценителями повестей Гоголя были наборщики. Набирая «Вечера на хуторе близ Диканьки», они так смеялись, что не могли работать. — Вот это меня и пугает. Они нарушают установленный порядок. Редактор поглядел на комиссара типографии, пытаясь понять, шутит он или нет. Тем временем Гашек открыл дверь и вошел в наборный цех. Наборщики бросились к своим рабочим местам, Степа Ганцеров, завидев Гашека, фыркнул. — Степа, что с тобой? — спросил Сорокин. — А мы тут читали фельетон товарища комиссара! — признался Степа. — Ух, и смешной! А того французского капитана с отмороженными ушами, что открытки продавал, я, товарищ комиссар, сам видел! Как говорится, пришел незваным, а ушел драным. — А ты — перец! — сказал Гашек смешливому Степе. С этого дня Ганцеров стал Степой Перцем. Над фельетоном «Из дневника уфимского буржуя» смеялись не одни наборщики — смеялись уфимцы и вся Пятая армия. Он очень понравился красноармейцам. Агитаторы читали фельетон неграмотным бойцам, переводили его на разные языки. Немного погодя Гашек опубликовал продолжение дневника уфимского буржуя. И снова смеялись и наборщики, и вся Пятая армия. Не смешно было только казанским, уфимским и прочим буржуям.
Глава двадцать девятая
Что одна красна девица рублей во сто. Ее русая коса в полтораста, Ее девичья краса в полтретьяста, А самой красной девице цены нету.Армейская типография работала круглые сутки, печатая газету, листовки и плакаты. Гашек вошел в литографский цех, где трудились две молоденькие накладчицы. Аня Шишкина печатала плакат художника А. Петрова с текстом песни «Смело, товарищи, в ногу!» С машины Шуры Львовой сходил другой плакат того же художника. Перед строем бойцов с винтовкой наперевес бежал красноармеец, крича: «Вперед, на защиту Урала!» Гашек молча понаблюдал за работой накладчицы. Знак, нарисованный внизу плаката, — красноармейская звезда над горами, а на звезде изображение плуга и молота, — отпечатывался грязновато. — Экономьте краску, — сказал Гашек. — Изображение станет четче. Тогда и друзья, и враги Советов ясно увидят наши символы. — Постараюсь, — сухо ответила Шура. — Не могу понять, чего он ко мне придирается, — пожаловалась Шура подруге, едва Гашек ушел. — Возле тебя постоял, ничего не сказал, а мне: «Экономьте краску». Я не первый день у машины. — Комиссар прав, — сказала Аня. — В твоем плакате размазана эмблема. — Прав… — обиженно протянула Шура, передразнивая подругу. — Неприятно, когда над твоей душой стоит начальник, смотрит, как ты листы кладешь, сколько тратишь краски, какие получаются оттиски… — Он же тебя делу учит! — ласково сказала Аня. Она давно заметила, что комиссару нравится Шура. «Как бы не пришлось нам гулять на вашей свадьбе», — думала она. Закончив свою работу, Аня хотела помочь подруге, но та отказалась: — Нет уж, сама справлюсь!.. Когда Аня ушла, Гашек снова заглянул в цех и похвалил работу Шуры. Закончив печатать весь тираж, Шура пошла домой, глубоко вдыхая морозный воздух. Свежий снежок весело хрустел под валенками. — Товарищ Львова! — окликнул комиссар Шуру и, поравнявшись с нею, сказал: — Хорошо поработали! Газету выпустили в срок, плакаты отпечатали. Теперь можно и прогуляться. Гашек вызвался проводить Шуру. Путь до ее дома был неблизкий — она жила на окраине, у ликероводочного завода. Всю дорогу Гашек рассказывал Шуре удивительно смешные истории. Девушка не могла понять, выдумывает он их или говорит то, что было на самом деле. Их прогулки участились. Шура перестала дичиться Гашека и рассказала о себе — она родилась в бедной татарской деревушке Петяково, в Бирском уезде. Отец Шуры был хорошим сапожником, много зарабатывал, но деньги пропивал и умер от пьянства. Шуру и ее трех старших сестер поднимала мать. Они очень бедствовали. Когда проходила всероссийская перепись населения, в деревне побывал писарь Василий Малоярославцев. У него и его жены Анны Андреевны не было детей, и он попросил Шурину мать, чтобы она отдала Шуру им на воспитание. Мать согласилась, и писарь увез Шуру Львову в Уфу. Когда девочка подросла, ее определили в типографию Яцкевича, где она была на побегушках, а потом стала накладчицей. Работа в типографии шла своим чередом. Гашек писал фельетоны, работал в уфимской организации коммунистов-интернационалистов, исполняя обязанности секретаря, вел агитационную работу среди военнопленных и в интернациональной стрелковой бригаде. Неожиданно он заболел тифом. — Ты бы проведала комиссара, — сказал Шуре технорук Владимир Михайлов. Шура отправилась к Гашеку. Ей удалось увидеть врача, лечившего комиссара. Врач прописал больному строгую диету и просил Шуру проследить за ее соблюдением. Весь день Шура сидела возле больного, давала ему лекарства и питье. Гашеку хотелось поесть чего-нибудь острого, и он все время просил соленых огурцов… Утром Шура принесла Гашеку большую миску соленых огурцов. Он съел все огурцы и выпил рассол. «Что-то теперь будет?» — думала Шура. Вскоре пришел врач. Шура рассказала ему о том, что она накормила больного огурцами. Врач выслушал ее и махнул рукой: — Ваш комиссар все равно больше трех суток не протянет. Хуже ему от огурцов уже не будет. Зачем его лишать последнего удовольствия? После этих слов Шура не спускала глаз с Гашека. Ей не хотелось верить, что его часы сочтены. Острая жалость к нему, страх за его жизнь вызывали у Шуры невольные слезы, но она изо всех сил сдерживалась, чтобы больной ничего не заметил. Наперекор всему Гашек почувствовал себя лучше. Это еще больше испугало Шуру. Она слышала, что так всегда бывает с тифозными перед смертью. Врач, зашедший к Гашеку, был сильно озадачен. Несколько раз он принимался щупать пульс больного, качал головой и вдруг спросил: — Чем вы его пользовали, барышня? Шура насторожилась, не понимая, к чему он клонит. — Ваш комиссар выздоровел! Понимаете — вы-здо-ро-вел! Он еще слаб, за ним надо ухаживать, но тифа у него больше нет. Первый случай в моей практике — лечение брюшняка солеными огурцами! Провожая врача, Шура горячо благодарила его. — Благодарите себя! Вы так ухаживали за ним, что стыдно было не поправиться, — сказал он ей. Гашек выздоровел, но был еще слаб и воспринимал мир так, словно впервые видел его. Все — звуки, запахи, цвета — радовало его. Он невольно возвращался к дням юности, к тому времени, когда его мысли были заняты другой девушкой — Ярмилой. Тогда это чувство называлось любовью. А теперь? Он старался не думать об этом. В самом деле, разве сейчас до любви, когда в стране и у него столько дела? Россия борется с врагом, и он, Гашек, с теми, кто помогает ей. Здесь на его глазах рождается новая, свободная жизнь. Здесь простой труженик впервые почувствовал себя человеком. Гашеку хотелось платить людям за добро добром, за верность верностью. Он и словом не обмолвился Шуре о том, какое чувство неожиданно связало их, но сознавал, что они стали друг другу ближе и роднее всех на свете. В типографии Гашека встретили как воскресшего из мертвых и наперебой расспрашивали, как он болел и чем лечился, рассказывали о новостях в типографии. — Спасибо вам, товарищи, — сказал Гашек, — вы хорошо работали без меня. Спасибо и товарищу Львовой — это она напоила меня живой водой и вылечила от тифа. Шура смутилась и покраснела. У Ани Шишкиной было особое мнение: комиссара спасла от смерти не живая вода, а Шурина любовь.Русская песня
Глава тридцатая
Чешский вопрос в самом общем понятии — это вопрос об участии малой нации в мировой революции.Для венгерского красноармейского «Будапештского театра» Гашек написал пьесу на немецком языке и назвал ее «Домой, на родину!» По просьбе артиста Эрвина Мадьяра командир отдельного батальона Матэ Залка перевел пьесу на венгерский язык. Мадьяр, заметивший у Гашека актерские способности, предложил ему сыграть небольшую комическую роль. Гашек выучил роль будапештского жандарма, показал ее и получил одобрение. На премьеру спектакля Гашек пригласил Шуру. Та не возражала, но сказала: — Венгры будут говорить по-своему. Я ничего не пойму. — Поймешь, Шура, — уверял ее Гашек. — В пьесе говорится об одном венгерском красноармейце. Он возвращается домой и не застает своей семьи, не находит своей лавки, а его самого жандармы сажают в тюрьму как большевика… — Ты писал что-то похожее по-немецки, — сказала Шура. — Да, писал. Положение венгра похоже на положение немца… — объяснял Гашек. В театре Гашек немного посидел с Шурой, а потом удалился. Открылся занавес. На сцене за столом сидели штатские люди и говорили по-венгерски. Потом неожиданно появился мужчина в венгерском мундире, он где-то долго пропадал, — наверное, в России… Мундир у него такой же потрепанный, как у красноярских венгров. Это — отсталый, забитый солдат Лайош. Он вернулся из Сибири в родную Венгрию, сбросил грязный мундир, надел свой старый костюм. Его жилетка — такую носит и Ярослав — наконец-то соединилась с будапештскими брюками и пиджаком. В России он ничему не научился, мечтал о спокойной, сытой жизни. От тетки Жужи он узнает, что его жена расстреляна во время голодного бунта, а дети умерли от голода. Бакалейная лавка Лайоша разгромлена. Будапешт похож на пороховую бочку — вот-вот взорвется от малейшей искры. Все недовольны, бастуют. Брат Лайоша — рабочий Ференц — стал настоящим революционером. После падения Венгерской советской республики Ференц уходит в подполье, но скоро попадает в лапы жандармов. Жандармы сажают в тюрьму и Лайоша, они считают большевиком всякого пленного, вернувшегося из революционной России. Спектакль настроил Шуру на грустный лад. Она представила себе судьбу Ярослава похожей на судьбу этого венгра. Правда, Лайош — темный, несознательный человек, а Ярослав — революционер, коммунист, красный комиссар. Вернись он домой, власти не оставят его в покое. Развеселил Шуру только жандарм. Он был очень смешной и, видимо, говорил смешные вещи — венгры так и хватались за животы… Представление окончилось. Гашек, сняв жандармский мундир и смыв грим, подошел к Шуре и, как ни в чем не бывало, сказал: — Прости, задержался… — Что же ты не сказал, что будешь играть в пьесе? — Не понимаю, — удивился Гашек. — Кого и где я играл? — Жандарма. Я тебя сразу узнала. — Значит, я плохо играл, — с сожалением признался Гашек. — Хорошего актера легко не узнаешь… — Ты играл хорошо. Венгры помирали со смеху, а сзади меня сидели русские, которые тебя очень хвалили. Гашек и Шура вместе со зрителями вышли из театра. — Шура, — обратился к ней Гашек, — скоро окончится война, а мы с тобой до сих пор не оформили свой брак, все приглядываемся друг к другу. Мы любим друг друга? — Любим. — Ты обещала выйти за меня замуж? — Обещала. Но… — начала Шура и замолчала. — Не было времени сыграть свадьбу, да? — закончил Гашек. — Нет, не это. За полтора года я хорошо узнала тебя. Ты — честный, порядочный, деловой человек, преданный революции. Но как же быть с Ярмилой и Ришей? — Не беспокойся, Шура. Я разошелся с Ярмилой за два года до службы в австрийской армии. От Риши я не отказываюсь — он мой сын. — Где же мы будем жить? — Это будет зависеть не от нас, а от партии. Если партия скажет, что мы должны остаться в Сибири, останемся здесь. Если она пошлет нас в Чехословакию, поедем туда. — А тебя не посадят там в тюрьму, как Лайоша? — Нам нечего бояться своих врагов. Мы — коммунисты, борцы. Победили Колчака, а он был самым опасным противником, победим и чехословацких колчаковцев. Гашек расстегнул гимнастерку и показал Шуре надетую под ней жилетку: — Видишь? Эта жилетка должна вернуться в Прагу, на Винограды, к пиджаку и брюкам — они ждут ее там более пяти лет. По дороге они зашли в загс. Шура поняла, что Гашек уже все обдумал. Вечером, когда к Ярославу и Шуре зашли инструкторы интернационального отделения, чтобы поздравить молодых и пожелать им счастья, Гашек, сидя за самоваром, развлекал гостей. Он показывал им, как пьют чай уфимские купчихи. Поставив чашку на стол, писатель обратился к своим гостям: — Благодарю вас за участие в нашем семейном торжестве. Наш ужин скромен — у нас нет ничего подходящего для такого случая — ни яств, ни закусок. Генерал Жанен скверно воспитан — не прислал нам французского шампанского. Но у нас есть русский чай. Посмотрите на эту синюю чашку! Она напоминает мне пузатый библейский ковчег Ноя или судно, на котором чешские легионеры хотели удрать во Францию, и которое село на мель. — У нас это называется остаться у разбитого корыта, — не утерпела Шура. — Россия, — продолжал Гашек, — показала нам пример упорядочения национальных отношений. Русские учат нас, как надо решать национальный вопрос. Чешский вопрос — вопрос об участии малой нации в мировой революции — прошел не только через судьбу моего народа, но и прямо через мое сердце. В споре с руководством чехословацкого белогвардейского корпуса я оказался прав. Легионеры признали Советскую власть, выдали ее представителям Колчака, подписали договор о капитуляции. Чехословацкое войско сначала раскололось на два лагеря — революционеров и контрреволюционеров, а потом на несколько разных групп. За полтора года чешские и словацкие солдаты научились думать. Они отказывались служить колчаковцам, охранять сибирскую железнодорожную магистраль, усмирять повстанцев. Когда Жанен запугивал, их, что откажет им в помощи, они ответили: «Наплевать!» Сейчас главари чешской контрреволюции удирают во Владивосток. Их зверства от Пензы до Владивостока не дают им покоя. Они удирают и от большевиков, и от своих солдат. — Это правда, Гашек, — спросил инструктор-немец Браун, — что тызанимаешься японским языком? Венгр, игравший в спектакле тетю Жужу, ответил за Гашека: — А вдруг ему на днях прикажут выпускать газету для японского пролетариата? Шура вздохнула: — Скорее бы совершилась мировая революция! Тогда, наверное, все заговорят на одном языке, и Ярославчику не придется издавать столько газет и листовок на разных языках. — Это будет не скоро, — ответил Гашек. — Но ты, Шура, не унывай: мировой пролетариат говорит на разных языках, а думает одинаково.Ярослав Гашек
Глава тридцать первая
Я решил сам переперевести свой рассказ.Изгнав белогвардейцев и интервентов из Сибири, Пятая армия восстанавливала советские учреждения и налаживала нормальную жизнь. В первых числах июня 1920 года политотдел прибыл в Иркутск. Гашек руководил двумя отделами — организационным и интернациональным, был председателем райкома парторганизации штаба армии, депутатом Иркутского горсовета, членом комиссии по проверке армейских учреждений и очистке их от колчаковцев, редактором «Вестника поарма-5», немецко-венгерской газеты «Штурм-Рогам» и других изданий. Казалось, своей работой писатель искупал грехи своих земляков и устранял все, что натворили они в Сибири. Он был большевистским комиссаром на территории, равной нескольким десяткам Чехий. Такой размах деятельности никогда даже не снился лидеру Партии умеренного прогресса в рамках закона, хотя это предрекли ему когда-то вещие судички. По собственной инициативе он создал клуб для красноармейцев-интернационалистов, выступал в этом клубе со своими произведениями, а порой играл в спектаклях. Ярослав был одним из самых образованных работников политотдела, талантливым писателем, но никто не мог бы упрекнуть его в чванстве или в зазнайстве. Гашек не переставал учиться. Как только выдавалась свободная минутка, он читал книги по истории России, большевизма, сочинения Маркса, Энгельса, Ленина. Он жаловался, что ему не хватает знаний, чтобы вести политработу среди бойцов. Начальник политотдела вызвал к себе Гашека и без лишних слов приступил к делу: — Ярослав, есть новое поручение. Надо издавать газету для бурят. Гашек ничего не ответил. — Чего молчишь? — продолжал начальник. — Я понимаю, ты — не бурят, не знаешь языка, но ты коммунист. Партия должна работать с бурятами, нести ленинское слово бурятским трудящимся. Они неграмотны, находятся в духовной кабале у лам… Гашек знал, что обычно говорит его начальник в подобных случаях и, прервав его, договорил сам: — Мы — не попы и духовные миссионеры, а просветители-коммунисты. Такова задача Советской власти. Начпоарма улыбнулся: только тронь Гашека, и он высмеет тебя твоими же собственными словами. Вслух же он сказал: — Газета называется «Ур» — «Заря». Нет ни редакции, ни типографских литер. Есть только шеф-редактор — Ярослав Гашек, потому что лучше тебя никто не справится с этим делом. У тебя большой опыт. Ты редактировал немецкие и венгерские газеты. Будешь редактировать и бурятскую. — Я не волшебник. В Интернациональном отделении работы по горло. Ее становится все больше и больше, а специалистов нет. Новой газете потребуются новые люди, хотя бы двое-трое грамотных бурят. Если бы я знал, что вы собираетесь издавать такую газету, я стал бы учить не японский, а бурятский. — Людей мы тебе дадим, — ответил начпоарма, зная, что Гашек все-таки согласится. — Хуже дело с типографскими знаками — бурятских здесь никогда не было. Напишем в Москву — нам пришлют бурятские знаки. За тебя я спокоен. На первых порах будешь печатать законы и постановления, приказы, информацию, а потом приступишь к освещению жизни бурятов. — Я готов, — Гашек решил кончить разговор шуткой: — У меня большой опыт в редактировании того, чего я не знаю. Начпоарма строго взглянул на шеф-редактора новой газеты: — Мы — не всезнайки и не верхогляды. Все, что мы делаем сейчас в России, — ново, необыкновенно и величественно, будет иметь великое продолжение. Мы — оптимисты, но это не значит, что мы — несерьезные люди. Может быть, мы не раз ошибемся, но научимся делать, как надо. Поищи активистов среди бурят. Почти все буряты за Советскую власть. Знания придут к тебе. Между прочим, мне рассказывали, что ты редактировал журнал «Мир животных», не имея биологического образования… — И шеф выгнал меня! — весело закончил Гашек, радуясь возможности остановить поток красноречия своего начальника. — Ты привел неудачный пример. Тогда мне хотелось ошарашить легковерных читателей. Делать это в бурятской газете я не могу. Задачи серьезные, политические, а я напечатаю чепуху, насмешу бурят… — Все будет в порядке, Гашек. Приступай к работе. Размышляя над новым поручением, Гашек отправился домой. Ярослав выглядел озабоченным. Он молчал и все время о чем-то думал. Шура поставила на стол крынку с молоком и немного творога. Он посмотрел на еду и развеселился: — Два белых кушанья! Шура резала хлеб и нашла этот момент удобным для начала разговора: — Ты впервые заметил, какого они цвета? — Раньше я не знал об их настоящих свойствах, — загадочно ответил Ярослав. — Эти белые кушанья нужны для того, чтобы успокоить демонов, живущих в теле каждого человека. Так учат буряты. — Что за чепуха! — Чепуха — не чепуха, а смысл в этом есть. Буряты верят, что в каждой части тела человека живет свой демон. Чтобы демоны не вредили человеку, надо правильно питаться: есть белые кушанья — творог, молоко, сыр. Если демонов накормить сладостями — медом, сахаром, патокой, то они сразу успокоятся. Приятнее же всего им чай — такой, какой пьют буряты, — сладкий, с молоком и бараньим салом… — Это могут себе позволить только богачи. Но у них, наверное, и демонов хватает. — Правильно, Шура! Ты у меня политически подкованная! Шура погрозила ему пальцем. — А у нас есть сахар? — спросил Гашек. — Есть немножко. У тебя тоже завелись демоны? — Завелись. Этот разговор озадачил Шуру — она почуяла, что неугомонный Ярослав затевает какое-то новое дело, но что именно — не догадывалась. Муж брал «свою» порцию сахара и откладывал в коробочку. В ответ на Шурины вопросы Ярослав либо молчал, либо нес вздор о злых бурятских демонах. — Шура, ты не могла бы научиться у местных жителей варить чай по-бурятски? — спросил Гашек Шуру. — Зачем? Ты уже пробовал его, когда ездил по бурятским селам. Он тебе не понравился. — Я хочу научиться варить этот напиток сам и пить его каждый день. — Опять демоны? — спросила Шура. — Опять. Шура сходила к знакомым бурятам — они показали ей, как надо готовить чай. Гашек словно забыл о своей просьбе, и Шура решила, что он подшутил над нею. Однажды Ярослав пришел домой и сказал: — Шурочка! Завтра ты не пойдешь на службу. Начальник типографии отпустил тебя в мое распоряжение. Пойдем с тобой в политотдел — ты приготовишь там бурятский чай. — Сегодня не первое апреля, чтобы обманывать! Какая это работа — готовить бурятский чай? Кто его пить будет? Политотдельцы, что ли? — рассердилась Шура. — Может быть, и они зайдут на огонек… Утром супруги Гашеки отправились в политотдел армии. В редакционной комнате «Зари» стоял большой самовар, налитый водой, — только разожги его, да кипяти. На столе были приготовлены пиалы и неприхотливые яства. В разукрашенную миску Ярослав высыпал сахар из своей заветной коробки. — Приступай к делу, Шура, — сказал Гашек. — Через час самовар должен быть готов, будем пить бурятский чай. Скоро придут гости. — Гости? Почему же ты не позвал их домой? — Это особые гости. Ламы. Ламы скоро явились — оба в одинаковых одеяниях, с непроницаемыми бронзовыми лицами. Войдя в комнату, они поклонились Шуре и, заметив пар над самоваром, с удовольствием переглянулись: хозяйка у кипящего самовара — хорошая примета. Шура ответила нм поклоном и поставила перед каждым по пиале с огненным чаем. Ярослав тоже получил свою порцию. После первой пиалы он стал развлекать лам неторопливой беседой. Из разговора мужа с бурятами Шура поняла, что эти попы — переводчики. Ламы были сдержанны и деликатны. Изящно откидывая длинные рукава, они маленькими глотками отпивали чай и ловко бросали в рот крошечные кусочки сахара. После второй пиалы разговор пошел о том, что ламы сейчас сядут за переводы. Ярослав очень вежливо предложил им разойтись по разным комнатам, ибо, как сказал он, истинно мудрый человек ищет для своего труда и мыслей полного уединения. (При этих словах Шура едва не прыснула, как девчонка — уж кому-кому, а ей-то было известно, что сам Ярослав во время работы никогда не прятался от людей.) Ламы согласно закивали головами, поднялись и медленно поплыли за Ярославом. Шура осталась у самовара. Скоро Ярослав заглянул к ней. — Что это за чудачество? — спросила его Шура. — Ты была хозяйкой, а ламы — нашими гостями. Чай у тебя вышел лучше бурятского — видела, как я его пил? Шура недоверчиво посмотрела на мужа. — Сейчас наши гости сидят у меня в разных комнатах и работают… — Гашек сделал паузу, заговорщицки взглянул на Шуру и прошептал: — …на Советскую власть! — Ламы? — Ну да. Они переведут нам постановления и декреты Советской власти, декреты Ленина. — Ламы? — с тревогой переспросила Шура. — Они такого напереводят, что ввек не расхлебаешь! — Не беспокойся. Подождем часика три и увидим. Потом я тебе кое-что покажу. Несколько часов спустя Гашек принес русскую газетную статью, перевод ее на бурятский язык и еще одну рукопись на русском языке. Шура с удивлением взглянула на мужа: рукопись повторяла газетную статью, только неумелым языком. Но Ярослав был доволен: — Вот перевод нашей статьи на бурятский язык! Первый материал для первого номера бурятской газеты! — говорил он. — А если эти ламы накрутили что-нибудь не то? — То! Один сидит и переводит на родной язык. Как только переведет — я несу его труд второму. Этот переводит на русский, я проверяю, честно ли сделал свою работу первый лама. — Похоже на мужика, который перевозил через реку волка, козу и капусту… — Не понимаю, — ответил Гашек. Шура объяснила ему условия нехитрой головоломки, а заодно, чтобы не тянуть, — сообщила ответ. Гашек рассмеялся: — Правильно, Шура! — Теперь я поняла, почему ты бредил этими демонами, копил сахар и заставил меня готовить бурятский чай. Хитрый! Знал, что иначе от них ничего не добьешься! В сентябре 1920 года вышел первый номер «Зари». Поскольку у бурят не было своей письменности, то Москва не могла помочь Гашеку литерами. «Зарю» набирали русскими буквами. — Как же ты редактировал эту газету? — спрашивали политотдельцы, разглядывая свеженький номер «Зари». — Догадайтесь, — невозмутимо ответил Гашек. — Изучил бурятский язык? — За такой срок это невозможно. Товарищам пришлось изрядно поломать головы, но они все же догадались, как выкрутился Гашек. Они радовались так, словно сами придумали это остроумное решение, а начальник поарма сказал: — Я знал, что ты найдешь выход. Молодец! Ты переплюнул самого апостола Павла. Попробовал бы этот мифический полиглот издавать газету на языке, которого не знал! Ты, комиссар Гашек, отлично справился со своей задачей. Только эти переводы, видимо, разностильны… — Дай черту ноготок… — ответил Гашек. — Когда меня сватали на эту должность, никто не знал, как за газету взяться, а теперь им стиль подавай! Конечно, переводы могут оказаться разностильными. Я уже спрашивал о газете наших бурят — сотрудников Интернационального отделения. Они довольны, говорят: хорошая газета, хороший язык. Ламы — самые грамотные переводчики в их крае. Но теперь все важные документы Советского правительства будет переводить бурят-коммунист Иннокентий Тунухунов. Самая сложная задача — письмена. Нам приходится вводить в бурятский язык славянскую письменность. Здесь нужен совет специалистов-востоковедов. На Губернской партийной конференции я разговаривал с Сухэ-Батором. Вы знаете, он был гостем нашей конференции и выступал на ней с приветствием. Сухэ-Батор сказал, что в Монголии такие же трудности с письменностью. У них тоже ее нет. Надо снова написать в Москву. — Хорошо, — пообещал начпоарма. — Политотдел займется этим делом. Пока печатай газету русскими буквами. Теперь она особенно нужна — бурятские ламы начали открытую борьбу против Советской власти. Они болтают, будто коммунисты — противники культуры и обычаев бурят ввели чужую письменность. Все это, конечно, вздор. Ты несешь им не тьму, а свет. На самом деле ламы недовольны планом продразверстки по скоту. На праздничных жертвоприношениях божеству, на тайлаганах, они нарочно режут скот, чтобы искусственно вызвать голод среди бурят и недовольство продразверсткой. Ты должен сорвать маску с лам, показать, что истинные защитники трудящихся бурят не ламы, а коммунисты. — Я собирался написать статью о тайлаганах для следующего номера. У меня есть интересные материалы об этих празднествах в Эхит-Булагатской волости. Теперь я думаю, что с этой статьей надо послать по селам бурятских коммунистов. — Я вижу, что ты обойдешься и без моих советов. Ты сам ставишь вопросы и сам их решаешь. Чего больше? — начпоарма сделал паузу, лукаво улыбнулся и добавил: — Хочешь, я скажу тебе, кем мне кажетесь ты и твой Иннокентий Тунухунов? — Кем? — Кириллом и Мефодием бурятской письменности! Я не сомневаюсь, что вы войдете в историю бурятской культуры! — Ну, ну! — успокоительно произнес Гашек. — Не слишком ли пышно? И потом — что за крайности? Легионеры были готовы заживо растерзать меня и уже не раз предавали анафеме, а ты заживо меня канонизируешь… Оставьте меня без виселицы и без ореола. Я не гожусь ни в мученики, ни в святые. Честно говоря, я рад тому, что нашел свое место в жизни, могу бороться со злом и делать добро людям…Марк Твен
Глава тридцать вторая
Я контрабанду везу в голове, Не опасаясь таможен.Чем успешнее работал Гашек в Советской России, тем популярнее становился он у себя на родине. Чехословацкие делегаты Второго конгресса Коминтерна, прибывшие в Москву, обратились в ЦК РКП(б) с просьбой отправить Ярослава Гашека в Чехословакию на «партийный фронт» — в город Кладно, где рабочие создали свою красную республику. Ярослав Салат-Петрлик, близко познакомившийся с Гашеком-лектором на омских политических курсах, считал, что писатель подходит для работы в Кладно. Он написал Гашеку теплое письмо и вложил в него письмо кладненцев-делегатов Второго конгресса Коммунистического Интернационала Антонина Запотоцкого и Бржетислава Гулы. Кладненцы писали Гашеку о политической ситуации в республике. Письма были искренние и трогательные, но Гашек читал еще и между строк. Кладненцы верили ему, признавали его революционные заслуги, но хорошо понимали, что в условиях разгула реакции ему будет трудно проявить себя в роли политического деятеля. Реакционеры станут мстить Гашеку за то, что он смеялся над ними в довоенных юморесках. Гашеку было жаль расставаться с Россией, в которой он стал по-настоящему счастлив, с товарищами, к которым он привык, со своей работой, ради которой не жалел ни сил, ни ума, ни души. После долгих размышлений он решил вернуться домой и написал ответ Ярославу Салату-Петрлику.Генрих Гейне
«Дорогой товарищ Салат! Письмо порадовало меня тем, что Вы не смотрите на меня как на неустойчивого человека. От своей неустойчивости я избавился в течение тридцати месяцев беспрерывной работы в коммунистической партии и на фронте, если не считать маленького приключения в 18-м году, когда «братья» захватили Самару, и мне пришлось на протяжении двух месяцев играть в Самарской губернии, пока я не добрался до Симбирска, печальную роль сына немецкого колониста из Туркестана, идиота от рождения, сбежавшего в детстве из дома и бродящего по миру, чему верили даже хитроумные патрули чешских войск, проходившие по краю. От Симбирска до Иркутска я шел с армией, таща на своих плечах уйму разных серьезных партийных и административных обязанностей, — это лучшее опровержение болтовни чешской буржуазии, которая, как ты пишешь, уверяет, будто я примазался к большевикам. Сама буржуазия не может обойтись без идеологии, выражаемой словом «примазаться» — сначала она старалась примазаться к Австрии, потом к царю, позже «примазалась» к французскому и английскому капиталу и к «тов. Тусару». Если б я пожелал рассказать и описать, какие «должности» (последнее слово Гашек написал по-русски) занимал я и что я переделал, то мне, признаться, не хватило бы для этого того небольшого запаса бумаги, который остался у нас в Иркутске…»Гашек перечислил ряд поручений, которые он выполнял в Красной Армии, и продолжал:
«…Меня постоянно загружают работой и, когда я начинаю думать, что теперь уже больше никто не придумает мне нового задания, оно появляется, и обстоятельства вынуждают меня работать еще и еще. Я не ропщу — все это нужно для революции. Ты прости меня, что я пишу обо всем этом, — я не хвастаюсь, а хочу только объяснить, как я «примазался» к коммунизму. Если я поеду в Чехию, то не для того, чтобы посмотреть, что делается на опустевших улицах Праги или почитать, что еще пишут газеты о том, как я «примазался к коммунизму». Я поеду туда для того, чтобы надавать по заднице всему славному чешскому правительству с такой энергией, которую я привык видеть и испытывать в борьбе нашей Пятой армии с сибирской реакцией покойного адмирала. Я постараюсь выехать отсюда, но знаю, что одному мне ничего не удастся сделать, поскольку здесь никого нет, и я должен подписывать все бумаги за начальника политического отдела армии. Не думайте, что я нарушаю партийную дисциплину, если сам ничего не делаю. Вы должны нажимать сами — об этом я и прошу Вас.Это письмо Гашек отправил с инструктором поарма Валоушеком, который уезжал в Москву. Чехословацкое центральное бюро агитации и пропаганды при ЦК РКП(б) послало телеграмму в Иркутск, которой отзывало Гашека из Политотдела Пятой армии. Но иркутские власти не хотели отпускать писателя и задержали его. Все это время Шура чувствовала, как волнуется Ярослав, спрашивала мужа, что его мучает, но он молчал. Только после второй телеграммы он окончательно решил ехать домой и оформил необходимые документы. — Едем в Москву, — сказал он ей, показав командировочное предписание, в котором говорилось, что он и его жена Александра Гавриловна Львова направляются в г. Москву в распоряжение ПУРККА с разрешением остановиться в Уфе, у своих родственников. — Чего это мы не видели в Москве? — спросила она. Шура поняла, что эта перемена не сулит ей радости. Жаль было расставаться с типографией — какой бы бродячей ни была жизнь Шуры и Ярослава, типография всегда оставалась для них родным домом… — Меня отзывают в Чехословакию. Теперь ты посмотришь и Москву, и Прагу… — Отказаться-то не мог? — спросила Шура. — Не мог, — ответил Гашек. В Москве Гашек явился в Чехословацкое центральное бюро агитации и пропаганды. Его принял член бюро Вацлав Петрас, с которым Гашек незадолго до отъезда встречался в Иркутске. — Вслед за тобой и мне пора бы на родину, да пока остаюсь здесь, — сказал Петрас, подавая Гашеку анкетный лист чехословацкого коммуниста, члена РКП(б), и попросил: — Заполни это. Гашек быстро заполнил анкету. На вопрос «В какое место Чехословакии хотите ехать?» он, не задумываясь, ответил: «Куда требуют». Через неделю Петрас положил перед Гашеком паспорт на имя умершего австрийского военнопленного Йозефа Штайдла. Сюда была вписана Шура. Петрас подал Гашеку второе письмо кладненцев, содержащее сведения о положении в Кладно. Вернув письмо Петрасу, Гашек мысленно повторил все, чтобы не забыть наказа кладненцев. Петрас протянул ему узкую карточку с адресом Ярослава Гандлиржа. Гандлирж? Гашек нахмурился. Он вспомнил, что этот функционер подписал ответ на запрос, который посылала Пятая армия в Москву, чехословацким коммунистам. Теперь это дело прошлое, а тогда «человеку с того берега», каким был он, ответ Гандлиржа мог оказать медвежью услугу. Интересно, как он встретит его в Праге… Петрас продолжал: — В кассе получишь советские деньги на проезд по РСФСР и тысячу пятьсот немецких марок на остальную часть дороги. Поедешь окольным путем — не через Польшу, а через Эстонию, морем и через Германию. Желаю тебе удачи. И Петрас пожал Гашеку руку. До Иван-города ехали долго. За окнами ползли поля и леса, кое-где припорошенные первым снегом. На остановках шла меновая торговля. Но репатриантам нечего было предложить для обмена — они сидели на сухом пайке, бегали с чайниками за кипятком. Граница между РСФСР и Эстонией шла по реке Нарве. Переходя из Иван-города в город Нарву, Гашек с грустью думал о том, что навсегда покидает страну, за которую сражался с оружием в руках. Сердце защемило. Он невольно подумал о Шуре — ей еще тяжелее. Даже Москва казалась Шуре чужой в сравнении с Уфой и Иркутском… Первое, что увидели репатрианты на эстонской стороне, был полосатый пограничный столб и несколько рядов колючей проволоки. Рядом виднелись ворота лагеря. Входя в них, какой-то немец сказал: — Здорово отгородилась Эстония от Советской России! В Нарве репатрианты просидели несколько дней. Гашек сумел вырваться за колючую ограду и побродить по городу. Среди всяких бумажек и воззваний он увидел объявление, в котором эстонское правительство обещало за выдачу большевистского комиссара Гашека пятьдесят тысяч эстонских марок. Такие объявления легионеров он уже не раз видел на Волге и в Сибири. Писатель мог сравнивать, как дорого ценится его голова. Впрочем, какое дело военнопленному Йозефу Штайдлу до какого-то Ярослава Гашека? Кроме того, в Эстонии свирепствует инфляция, и никому не удалось бы наесться досыта на паршивые бумажки. Меж тем какой-то прилично одетый господин сверлил Гашека взглядом. Писатель пожалел, что не сможет прикинуться сыном немецкого колониста. Незнакомец заговорил с Гашеком по-немецки и по-русски, предложил обменять советские рубли на эстонские марки, ругал Эстонию и хвалил Россию. «Сыщик, — безошибочно определил Гашек. — Грубая работа». Перед отъездом Гашек просмотрел чехословацкую буржуазную газету «Народни политика» и теперь, разговаривая с этим субъектом, добросовестно пересказал ее содержание, добавив кое-какие глупости. Сыщик решил, что нарвался на помешанного и поспешил ретироваться. Перед отъездом из Нарвы все репатрианты должны были пройти санитарную обработку. Гашек хорошо помылся. С вещами получилось хуже: когда их принесли из дезинфекционной камеры, он увидел, что ботинки почти невозможно надеть — они ссохлись и съежились. Брюки изменили цвет, а жилетка, единственная довоенная вещь, совершенно истлела. — Чертова вошебойка! — собирая расползшиеся лоскутки, ругался Гашек. — Из-за нее не состоится свидание моей жилетки с пражским костюмом! Проторчав четыре дня в карантине, репатрианты отправились в Таллин. Туда добрались за двое суток. Голодные, они сидели возле нетопленых железных печек и на чем свет стоит ругали правительство Эстонии и Красный Крест, служащие которого бесплатно навязывали библии и спекулировали при обмене денег. Особенно шумели румыны и венгры. На одной станции они окружили представителя Красного Креста и, угрожая ему, стали требовать хлеба. Венгерский инженер Йожек, заслонив собою чиновника, успокаивал расшумевшихся репатриантов: — Господа, будьте рассудительны! Ведь мы находимся за границей! Каждая такая ссора глубоко роняет нас в глазах эстонцев! В этот момент мадьяры и румыны принялись размахивать кулаками перед носом представителя Красного Креста. — Не прибегайте к насилию! — закричал инженер. — Подумайте о маленьких эстонцах. Они идут в школу и смотрят на нас! Пока репатрианты спорили, представитель Красного Креста улизнул, оставив своего защитника им на растерзание. — Не волнуйтесь, господа! Все уладится! — мужественно защищался инженер. — Если нас накормят в Таллине, мы будем сыты… — Если ты не заткнешься, мы бросим тебя в котел, сварим и сожрем, — прервал тощий венгр своего земляка. — …и будем сыты! — издевательски заржал, засучивая рукава, здоровенный румын. Вся эта сцена неожиданно рассмешила голодного Гашека. Она напомнила ему старый анекдот о попугае трактирщика, который удрал от своего хозяина и очутился в лесу, в птичьем царстве. Птицы кружились возле него, выщипывали перья, клевали попугая, а он истерически орал: «Не все сразу, господа! По очереди, пожалуйста!» Инженер притих, но ненадолго. Когда на одной стоянке репатрианты притащили несколько поленьев, и в печке загудело пламя, он снова ожил: — Если мы забираем чужую вещь, то это называется кражей, а тот, кто ее совершает, — вором. Обогреваясь крадеными дровами, мы становимся соучастниками кражи. Бедный инженер! Его моралистские рассуждения были совершенно неуместны: сам он не принес ни одной щепки для печки. Это взбесило его спутников. Они взяли инженера под руки и стремительно вытолкали из вагона. Воспитательная мера принесла свои плоды. Инженер вернулся в вагон с большим поленом и сокрушенно сказал: — Я взял чужую вещь. Следовательно, я — вор. Его пустили погреться. Под Таллином поезд неожиданно повернул и пошел вдоль берега. Все равнодушно смотрели на море. Поезд остановился у небольшого мола. К нему пришвартовался «Кипрос». пароход германской пароходной компании. Команда быстро принялась за погрузку. Матросы перебрасывали пассажиров, словно арбузы. Репатрианты в одно мгновение оказались в трюме. Построив по десяткам, матросы погнали их на другой конец парохода и выдали им хлеб, мясные консервы, ложки, миски и чайники. Через полчаса все были сыты. Немного освоившись, Гашек вышел на палубу. Возле капитанского мостика он остановился — здесь висели объявления и правила для пассажиров. Гашек стал читать их.Ваш Ярослав Гашек».
«Если заметишь пожар, сообщи старшему офицеру». «Пассажирам входить на капитанский мостик строго воспрещается». «Ключ от склада спасательных поясов находится у младшего офицера — ему следует сообщать о каждом несчастном случае».Гашеку показалось, что эти правила придуманы единомышленником инженера Йожека. Он вынул карандаш и приписал:
«Если пароход потонет, сообщи капитану».Спускаться в трюм не хотелось. Гашек бродил по палубе. «Кипрос» шел мимо меловых скал острова Сильгит и сигналил встречному пароходу. На палубе этого судна стояли русские военнопленные. Они подняли красный флаг, и он гордо реял по ветру. И те, и другие репатрианты столпились на палубах, махали руками, кричали «ура!». Гашек оглянулся на своих спутников. Многие из них плакали, не скрывая слез. Он тоже махал рукой, прощаясь с русскими, потом увидел Шуру — та, не отрываясь, с тоской смотрела вслед своим землякам, пока они не скрылись из виду. Над «Кипросом» кружились чайки. Они то падали в волны, то взлетали над водой. Скоро и чайки исчезли. Шура и Гашек долго молча стояли на палубе, вспоминая Россию и думая о том, что ждет их в Золотой Праге.
Глава тридцать третья
Вернувшись домой, Задиг узнал, что во время своего отсутствия он был судим и присужден к сожжению на медленном огне.Когда над Прагой занялась заря свободы, Староместская площадь оживилась. Люди останавливались под курантами со смутной надеждой — может быть, начинающийся час принесет им что-нибудь новое. Именно в это время довоенный приятель Гашека слесарь Франта Зауэр заинтересовался Марианской колонной. Он долго ходил вокруг нее, внимательно рассматривая места крепления и раздумывая, как днем на виду у всех убрать с площади столп векового позора. Обмозговав все детали этого предприятия, слесарь обратился за помощью к певцам и пожарным. В назначенное время к колонне подъехала команда брандмайора Зедничека. Хористы окружили машину, пожарные приставили к колонне лестницу. Зауэр поднялся по ней и ловко накинул петлю на колонну. Пока слесарь привязывал к петле тросы, пожарные сбросили статуи, стоявшие на цоколе, и прикрепили тросы к лебедке. Каменный столб, увенчанный двуглавым австрийским орлом, закачался, с грохотом рухнул на мостовую и разбился. В это время на пражских курантах петух взмахнул крыльями, громким криком возвестив наступление нового времени. Пение петуха послужило сигналом для хора. Капельмейстер взмахнул рукой, и хор запел национальный гимн «Где родина моя?». Вместе с падением двуглавого орла из Праги исчезли все его слуги. В Пражском граде появился батюшка-освободитель, президент Чехословацкой республики, профессор-белогвардеец Томаш Масарик. Штандарт президента развевался над его резиденцией. На штандарте, окаймленном красно-бело-голубыми линиями, стоял на задних лапах двухвостый лев рыцаря Брунцвика. В Праге появилось славянское правительство. Его посты то и дело переходили из рук в руки буржуазных и социал-демократических политиканов. Первое правительство, во главе которого стоял капиталист Карел Крамарж, сменилось правительством социал-демократа Властимила Тусара, а последнее уступило место кабинету старого австрийского бюрократа Яна Черного. В стране появились чехословацкие солдаты, чехословацкие судьи, чехословацкие полицейские, чехословацкие тюремщики, чехословацкие сыщики, чехословацкие чиновники, чехословацкие цензоры, чехословацкие священники и чехословацкие дипломаты. Трудящиеся скоро поняли, что чехословацкие капиталисты и помещики — такие же шкуродеры, как и австрийские. Это они разгромили Словацкую республику Советов, подавили всеобщую забастовку рабочих, разгромили Кладненскую красную республику, посадили за решетку ее вождей. Чехословацкие рабочие и крестьяне поняли, что нужно бороться за свою, социалистическую республику. Для этого им надо было решительно порвать с желтыми, правыми лидерами социал-демократии и создать свою боевую революционную партию, такую, какую создал в России Ленин. Уйдя в отставку, социал-демократический кабинет министров Тусара расчистил путь для наступления буржуазии на рабочий класс. Чехи и словаки избавились от иллюзий о «демократическом» и «народном» характере государства. «Нас обманули! — говорили они. — Мы сражались, гибли, голодали, а буржуи богатели, драли шкуру с наших жен и детей!» Так обстояли дела, когда Гашек и Шура пересекли германо-чехословацкую границу и, пробыв несколько дней в пардубицком карантине, приехали в Прагу. Гашек встретился с братом Богуславом. Тот почти не изменился, служил в банке, жил стесненно и не мог приютить у себя Ярослава и Шуру. Писатель остановился в гостинице «Нептун», неподалеку от Национального музея. В Праге он узнал, что Антонин Запотоцкий и его соратники арестованы. Это осложнило дела Гашека — он не знал, ехать ему в Кладно или не ехать. Гашек пошел на Перштын, в Секретариат левого крыла социал-демократической партии. Там его встретили без особого восторга. Руководители левицы знали довоенного Гашека — анархокоммуниста, вождя Партии умеренного прогресса в рамках закона. Они не знали коммуниста Гашека, прошедшего боевую и политическую закалку в революционной России. Беседуя с одним функционером, Гашек понял, что на Перштыне смутно представляют себе, что и как он делал в России. — Расскажите о своей службе в Красной Армии, — попросил функционер Гашека, небрежно поигрывая карандашом. — До нас доходили самые противоречивые слухи. — Это верно, — спокойно ответил Гашек. — Легионеры знали о моей работе в Красной Армии гораздо больше, чем вы. Находясь в Москве, вы могли бы получить обо мне самые достоверные факты. В распоряжении Чехословацкой секции РКП(б) имелись сведения о службе чехословацких коммунистов в Красной Армии. — Конечно. Но нас интересует то, чего там нет. Я слышал, вы долго блуждали по тылам белогвардейцев после падения Самары. — Русские говорят: волков бояться — в лес не ходить. Раз мы воевали с легионерами, то нам волей-неволей приходилось с ними сталкиваться. Это куда опаснее, чем сидеть в Москве, вдали от этой публики. От Самары до Симбирска я прошел, выдавая себя за полоумного сына ташкентского немца-колониста. Впрочем, об этом я сообщал Салату-Петрлику. — Из вас получился бы хороший актер, — не то польстил, не то съязвил функционер, словно не расслышав последнюю фразу. — Я прибыл в Чехословакию на партийную работу. Как вы собираетесь использовать меня? Функционер задумался, а потом уклончиво сказал: — Вы, товарищ Гашек, — человек особого склада. Вас не пошлешь куда попало. Надо подумать, поговорить с товарищами. В партии сейчас сложная ситуация. Революционной партии, как никогда, нужны боевые, испытанные бойцы. Он остановился, словно ожидая, что скажет Гашек. Но писатель молчал, и по его лицу нельзя было понять, как он относится к словам функционера. — А вы, товарищ Гашек, что хотели бы делать? Функционер задал этот вопрос, чтобы прервать тягостное молчание. Гашек спокойно посмотрел на него, встал и, придвигая на место стул, ответил: — В России меня никто не спрашивал, что я хочу делать. Там знали, что я буду выполнять любую работу. Я и здесь готов делать все, что мне скажут. Но я вижу, вы очень осторожны — очевидно, считаете, что вначале я должен освоиться на родине. За это я благодарен вам. Я внимательно слушал вас и понял, что я вам не нужен. Ни для кого не является секретом, что Коммунистический Интернационал остро нуждается в партийных кадрах. Революционная армия задыхается от недостатка боевых товарищей, прошедших школу борьбы в революционной России, а вы позволяете себе роскошь — размышляете, куда меня послать. Вы привыкли долго думать, товарищ. Знайте, что я и без вашего назначения буду делать для партии все, что в моих силах. От членства в партии я не отказываюсь. Буду помогать ей как журналист и как писатель. Против ожидания отповедь Гашека скорее обрадовала, чем огорчила функционера: — Прекрасное решение! Наша сила — в массах. Нам нужны активисты. Наша левица будет успешнее бороться с правицей. Мы уже добились определенных успехов и уверены, что ваше перо… Гашек поморщился: — Хватит, товарищ. Не обольщайтесь. Вы всерьез верите, что у социал-демократов правая не ведает, что творит левая. Вы остаетесь левым крылом желтой социал-демократической партии. Вы — тоже желтый, как правый социал-демократ или национальный социалист. Вы, товарищ, до сих пор не нашли в себе мужества присоединиться к Коммунистическому Интернационалу, созданному Лениным. Функционер попытался возразить, но Гашек не дал ему открыть рта: — Молчите вы, агнец божий! Вы ничему не научились у русских большевиков. Пытались отнять власть у волка, а на самом деле пригласили его в пастухи. Ваша борьба за Народный дом — позор, ваши забастовки и демонстрации как две капли воды походят на престольный праздник и крестный ход. Вы ничего не добились вашей ягнячьей политикой, только сыграли на руку масариковцам и легионерам. Правительство воспользовалось вашей беспомощностью, разогнало забастовщиков и демонстрантов, а вождей посадило за решетку! Теперь вы видите, что я прекрасно знаком с политической ситуацией в Чехословакии. Прощайте! Гашек отправился на поиски старых знакомых. Ему надо было подыскать работу себе и Шуре. «Видимо, правы были те товарищи, которые советовали мне остаться в России», — подумал Гашек. Но внутренний голос возражал: «Ты нужнее здесь. Не вечно Чехословакия будет антантовской, масариковской. Впереди, не за горами, создание Чехословацкой коммунистической партии. Тебе еще найдется дело». Гашек заглянул на Вацлавак. В отеле «Адрия» разместился новый театр — кабаре «Революционная сцена». Здесь играли старые знакомые — Ксена и Эмиль Лонгены, Карел Нолл и другие. В своих одноактных пьесах и скетчах актеры «Революционной сцены» смеялись над чешским мещанством, национализмом, «пивным» патриотизмом и сентиментальностью «маленького чеха». Артисты кабаре высмеивали свою эпоху, своих сограждан и по-ребячьи кичились этим. Супруги Лонгены радостно встретили Гашека, но помочь ему ничем не смогли. Глядя на Лонгенов, Гашек как бы со стороны видел самого себя, каким он был до войны. На ум ему пришел герой Оскара Уайльда, который не узнал своего знакомого, потому что тот за годы разлуки совсем не изменился. Лонгены и Нолл тоже почти не изменились за эти шесть бурных лет. Правда, следуя духу времени, они много рассуждали о республике, о революции, Гашек не прерывал их, не спорил с ними и, только уходя, невесело заметил: — Все у вас есть: и улица Революции, и площадь Революции, и сцена Революции, только революционным духом не пахнет. Вам надо вырваться на недельку из европейского захолустья в Сибирь и подышать там настоящим воздухом революции… Он помолчал. Актеры «Адрии» улыбались, ожидая какой-нибудь шутки, но Гашек сказал с горечью: — Телята вы, а не революционеры! В поисках старых друзей и знакомых он стал заглядывать в кафе и трактиры. В трактире пана Петршика, как и до войны, собирались друзья писателя. Постаревший трактирщик еле успевал разносить вино клиентам. — До войны сюда частенько захаживал Ярослав Гашек. Где-то он теперь? — спросил Франта Зауэр. — Говорят, в Пардубицах, — сухо отозвался полковник Рудольф Медек, бывший глава Военного управления легиона, а теперь начальник «Памятника сопротивления». — Знакомство с Гашеком не делает никому чести. Дружить с изменником родины — позор. — Я лучше вас знаю Гашека, — возразил Зауэр. — Он — порядочный человек. Гашек показал, что среди нас, чехов, есть не только жалкие лакеи и подлые карьеристы, но и честные, свободные люди. — Странные понятия у вас о чести и свободе, — раздраженно проговорил полковник. — Гашек продался большевикам. Что станет с нашей нацией, если мы будем ставить ей в пример таких бесхарактерных людей? — Вы заблуждаетесь, полковник! — не сдавался Зауэр. — Гашек неподкупен. Не старайтесь — вам не облить его грязью. — Он сам не вылезает из нее, пан слесарь, — съязвил Медек. — Своим переходом на сторону врага Гашек причинил чешской нации огромный вред. Он нарушил военную присягу, предал свой легион, перебежал к большевикам, продал им свой талант. Это — беспринципно и аморально. Медек оглядел своих соседей и добавил: — Пусть его бывшие однополчане возразят мне, если я неправ. Все молчали. — Гашек — изменник, — не унимался полковник, ободренный общим молчанием. — Я сам был знаком с ним, когда мы в Киеве работали в «Чехословане». Если бы он попался мне в России, я бы расстрелял его. — Это не сделало бы вам чести, пан полковник, но показало бы, что вы ослеплены классовой ненавистью, — поддел Медека Зауэр. — Однополчане Гашека рассказывали мне, что он честно сражался на фронте, пока Чехословацкий национальный совет не распорядился отправить наших солдат во Францию. Как они ехали во Францию, теперь знают все школьники. Когда корпус раскололся на две части — на сторонников Антанты и Колчака, к которым принадлежите вы, пан полковник, и на сторонников большевиков, Ярда искренне примкнул к последним. Каждый легионер поступал согласно своей совести и своему убеждению. Гашек пришел к большевикам по зрелом размышлении, честно и свободно. Он — давний социалист и демократ. Гашек всегда был с чешскими рабочими, пошел он и к русским рабочим. — Ха-ха-ха! Гашек — социалист и демократ! — захохотал Медек. — Он — шут! Все знают, каким социалистом он был до войны. Этот проходимец побывал во всех чешских партиях — был анархистом — не то бакунинцем, не то кропоткинцем, социал-демократом, национальным социалистом. Этот отщепенец даже создал свою партию и издевался над всеми другими. — Это правда. Видимо, он неплохо поиздевался, если вы до сих пор помните об этом. Гашек побывал во всех социалистических партиях. Теперь он, может быть, коммунист. Все прежние социалистические партии много говорили и мало делали. Они ничего и не заслуживали, кроме осмеяния. Естественно, его увлекли большевики, люди действия, революционеры, создавшие новое государство и защитившие его, пан полковник, от вас и ваших единомышленников. Трактирщик долго прислушивался к разговору и решил вмешаться: — Гашек — большевик. Я не понимаю, как можно защищать этого негодяя и бродягу, — трактирщик взглянул на Зауэра и угрожающе произнес: — А вы, пан Зауэр, прикусите язык. Мой трактир — не место для большевистской агитации! — Вот, пан полковник, какова наша демократическая республика! — воскликнул Зауэр и, бросив строгий взгляд на трактирщика, добавил: — Пан Петршик, не забывайте, я — ваш клиент! — У меня не большевистский притон, а приличное заведение для порядочных людей! — обозлился трактирщик. Поэт Карел Томан решил вступиться за Франту Зауэра: — Пан трактирщик, оставьте нас в покое. Каждый человек имеет право свободно выражать свои мысли и защищать своего друга. Трактирщик умолк и отошел к стойке. Его клиенты не заметили, как в трактир вошел новый посетитель — человек в русской шапке-«колчаковке» и торжественно произнес: — Moriturus vos salutat! — Обреченный на смерть приветствует вас! Все подскочили, как ужаленные: — Гашек! Писатель приблизился к стойке, вынул кошелек и сказал трактирщику: — Пан Петршик, я должен вам десять крон. Война помешала мне вовремя вернуть деньги. Вот они. Благодарю вас за то, что вы молились о спасении своего должника. Хозяин трактира молча взял деньги. Зауэр встал и подошел к Гашеку. Они обнялись. Писатель по-русски, в обе щеки поцеловал его, и они вместе пошли к столику Зауэра. Гашек поклонился гостям, вынул сигарету и, заметив Томана, протянул ему руку и попросил прикурить. Словно не замечая протянутой руки, Томан небрежно подал ему зажженную сигарету. — Мне жаль тебя, Карел. Ты, наверное, забыл меня или поверил моим клеветникам, — мягко сказал Гашек. — Моя совесть чиста. Гашек подошел к полковнику Медеку. — Здравствуй, брат Рудольф! — сказал Гашек. — Чего куксишься? Ты достиг высших чинов. Чемнедоволен? — Шут! — огрызнулся Медек. — Не сердись, Рудольф. Я тебе не соперник. Наши пути разошлись под Липягами. Спокойный тон Гашека и слово «Липяги» словно обожгли полковника — в Липягах, под Самарой, легионер Медек и комиссар Гашек сражались друг против друга. — Я не желаю разговаривать с предателем, — сказал Медек. — Если бы ты в Сибири попал к нам в плен в тебя привели бы ко мне, поверь, Гашек, я не посмотрел бы на то, что мы вместе служили в одном войске, вместе писали в Киеве. Возможно, мы вместе провели бы твою последнюю ночь — пили бы, беседовали, вспоминали, а утром я приказал бы солдатам поставить тебя к стенке и скомандовал бы: «Пли!» Возможно, мое сердце на минуту сжалось бы, но я отлично исполнил бы свой долг! Все притихли, ожидая ответа Гашека. — Я был комиссаром в Красной Армии. Эта армия боролась против белой гвардии, защищала Советскую власть. Служа большевикам, я служил русскому народу, нашему старому другу — так я понимал свой долг. Если бы в руки красноармейцев попался ты, контрреволюционер Медек, и тебя привели бы ко мне, то я, возможно, провел бы с тобой твою последнюю ночь — мы беседовали бы, вспоминали, пили, а утром я приказал бы красноармейцам подвести тебя к стенке и, поверь мне, рука у меня не дрогнула бы, я сам бы пустил тебе пулю в лоб! Все захохотали. Полковник молча поднялся и направился к выходу. — Молодец! — радостно воскликнул Зауэр. — Отлично сбил спесь с реакционера. Он бесится, что правительство объявило политическую амнистию, и такие, как ты, вернулись на родину! Гашек кивнул и сказал негромко: — Расплатись с хозяином и пойдем. Я познакомлю тебя с Шуринкой. Она ждет нас в «Унионке». Видя, что Гашек и Зауэр уже в дверях, трактирщик облегченно вздохнул и пропел им вслед слова белогвардейской песенки:Вольтер
«Предатель Гашек был шутом… Он пожертвовал своему искусству жизнь. Гашек жестикулировал своей пухлой, детской рукой и забавлял общество, остроумно вышучивая весь мир и самого себя. Он умел превратить в невинную пьяную болтовню самую ужасную государственную измену. Он был художником — и не из худших. Он, следовательно, вредил только самому себе, и его конец свидетельствует об этом».Газетные некрологи развеселили друзей. Они безудержно хохотали. Шура не понимала, почему Ярослав и его приятель смеются. Ей стало тяжело и неуютно. — Идем отсюда! — сказала она Ярославу. — Желание княжны Львовой для меня — закон! — галантно отозвался Гашек и, расплатившись, вышел с Шурой и Зауэром из кафе. — Я никогда не верил никаким некрологам и знал, что ты вернешься целым и невредимым, — сказал Франта. — Идем ко мне на Жижков, там уже два года ждет тебя подарок. Гашек удивленно взглянул на Зауэра. Тот лукаво засмеялся и объяснил: — Ты получишь украшенный звездочками нимб девы Марии. — Откуда он? — Богородица с Марианской колонны просила передать его тебе за твои добрые дела…
Глава тридцать четвертая
Когда увидимся? — Во сне.Покинув мужа, Ярмила Гашекова все силы своего ума и души направила на то, чтобы воспитать маленького Дика-Ришу в духе масариковской гуманной демократии. Больше всего она боялась, как бы мальчик не пошел по стопам отца. Мать мягко, но настойчиво внушала ему, что он должен стать врачом или юристом, человеком, далеким от искусства. Везде и во всем, даже в своих собственных сочинениях, она носилась с «маленьким героем» — «маленьким буржуа». Ярмила служила в Промысловой палате. С годами она научилась извлекать пользу из той скандальной фамилии, которую носила. Гашек столько раз умирал, воскресал и снова пропадал, что она привыкла к этому. Ярмила старалась скрыть от мальчика правду об его отце. Маленький Риша писал под ее диктовку:Марина Цветаева
«Я люблю всех людей. Мой папа — писатель и легионер. Он живет в России, а может быть, умер».Так Ярмила хоронила Гашека. Она не хотела, чтобы призрак бывшего мужа тревожил ее покой. Слухи о возвращении Гашека не застали ее врасплох. В городе появились афиши кабаре «Червонная семерка» — они сообщали, что на сцене этого кабаре выступит ее муж. Гашеку ничего не оставалось, как вернуться к своим прежним занятиям. Писатель был вынужден зарабатывать на кусок хлеба плохо оплачиваемыми юморесками и фельетонами. Доктор права Иржи Червеный, директор литературно-политического кабаре «Червонная семерка», подловил Гашека в трудный для писателя момент. Червеному нужна была интересная приманка. Ею стал Гашек. Он обещал за приличный гонорар рассказать клиентам Червеного о своей службе в австрийской, чехословацкой и Красной армиях, обо всем, что видел в России. В назначенное время публика, падкая на всякие политические сенсации, нагрянула в кабаре, чтобы посмотреть на редчайшего монстра — «предателя нации», «убийцу чешских легионеров», «комиссара сибирской Красной Армии». Пришли послушать человека, прибывшего из страны великих социальных перемен, и поклонники таланта Гашека. На сцену вышел бедно одетый человек и поклонился. Его сразу узнали и захлопали в ладоши. — Уважаемые дамы и господа! — начал Гашек. — Из газет вы все, конечно, знаете, что я служил в трех армиях — габсбургской, чехословацкой и Красной. За свою пятилетнюю безупречную службу я был трижды повешен, дважды расстрелян и один раз четвертован. Начало было как раз такое, какого ждала публика. Все развеселились. — Вернувшись в Прагу, — продолжал Гашек, — я случайно увидел поздно вечером в одном трактирчике Ярослава Кольмана-Кассиуса, редактора журнала аграриев «Деревня». Он был автором одного из некрологов, написанных обо мне. — Погребок закрывается, — сказал он мне. — Вам уже не подадут. Я подошел к нему, взял его за руку и пристально посмотрел в глаза. Он вздрогнул и спросил меня шепотом: — Вы не были в России? — Был, — ответил я. — Там, в одесской корчме, во время дикой драки меня закололи пьяные матросы. Кольман побледнел: — Вы… вы… тот… — Тот самый. — Вы читали мой некролог? — Да! Ваш некролог интересен, но длинноват, длиннее некролога об императоре Франце-Иосифе Первом, опубликованного у вас в журнале. Вы написали 186 строк и заработали на мне 55 крон и 16 геллеров. — Хотите получить эти деньги? — Нет. Я хочу провести эту ночь с вами. Кольман расплатился. Мы вышли. Я подозвал извозчика и велел везти нас на Ольшанское кладбище. Мой спутник немного опомнился и, заикаясь, спросил: — Вы действительно были в России? — Был. Там, в одесской корчме, во время дикой драки меня закололи пьяные матросы. — Черт побери! — сказал Кольман. — Это страшнее, чем «Свадебные рубашки» Эрбена. Мы подъехали к кладбищу, я велел Кольману расплатиться с извозчиком и лезть на стену. Он повиновался. Я тоже залез туда. Потом мы спрыгнули на кладбище. Между крестами грустно выл ветер. — Куда ты ведешь меня? — спросил Кольман. — К склепу Бонепиани. Там похоронен последний отпрыск этой семьи. Его убили во время дикой драки в одесской корчме пьяные матросы… Кольман перекрестился. Мы подошли к склепу а уселись на могильную плиту. — Дорогой друг! — сказал я. — Еще в гимназии тебя учили не говорить ничего дурного о покойниках. А ты написал обо мне грязный пасквиль, в котором утверждаешь, будто я — предатель, босяк, пьяница и шут… Если бы ты умер, я бы написал в некрологе, что ты горячо стремился к добру и ко всему, что свято для каждого благородного человека. Кольман зарыдал. Я оставил его и побежал к кладбищенскому сторожу. — Опять нализался какой-то безутешный вдовец… — проворчал сторож сонным голосом. — Сейчас я его выведу. Я стоял за углом, ожидая, когда Кольман выйдет. — Где я? — кричал он. — Это сон или явь? Куда вы меня ведете? — Спать! Спать! — утешал сторож, волоча Кольмана в полицейский участок. Мне приятно сообщить вам, что весь его гонорар за некролог пошел на уплату штрафа в полиции. Теперь он больше всего на свете боится ходить мимо Ольшанского кладбища. Гашек кончил и молча стоял на сцене. Его попросили рассказать о жизни бурятов. Гашек воспользовался этим вопросом, чтобы кончить комедию — комедией. — Буряты строят домики из камня и глины, покрывают крыши соломой. Домики часто чинят. Эти люди ночью спят, днем работают. У них сохранился обычай сморкаться при помощи пальцев и вытирать нос рукавом… Поведав несколько столь же удивительных подробностей из жизни бурятов, Гашек сделал паузу и продолжал рассказ интимно-доверительным тоном: — Я расскажу вам о том, что больше всего поразило меня. Однажды, вернувшись из Политотдела Пятой армии домой, я разделся и сел пить чай. В печке потрескивали дрова. Вдруг я увидел чудо: за окном пошел снег. Я не верил своим глазам. Шел белый, белый снег. Он то падал на землю, то поднимался вверх, то кружился над землей в бешеном танце. Снега становилось все больше и больше. Выросли высокие сугробы. Страшно было подумать, что такой белый снег весной растает… Никто не смеялся. Посетители кабаре поняли, что Гашек разыгрывает их, как он это делал в годы деятельности ПУПРЗ, и что он ничего не расскажет им о том, чем занимался в России. Выйдя на улицу, все попали под мокрый, липкий снег, который в Праге был таким же белым, белым, как в Бурятии. У выхода Гашек встретил Франту Зауэра и Ладислава Гайека. Они тоже были в кабаре и слушали Гашека. Гайек поздоровался с Гашеком и быстро ускользнул, а Зауэр сразу же заговорил: — Ярда, после сражения в Народном доме и всеобщей забастовки рабочих твое выступление перед махровыми реакционерами как-то не вяжется… — Левые социал-демократы оставили меня без работы, без куска хлеба. Их газета платит мне гроши, на которые нельзя прожить, а эти махровые реакционеры прилично платят за чепуху! В этом, дорогой Франта, и заключается мудрость жизни и ложность моего положения. Зауэр с укором посмотрел на Гашека. — Я знаю, о чем ты думаешь, — снова заговорил Гашек. — Кое-кто может истолковать мое выступление как политическую «бесхарактерность», как отход от революционной борьбы. Это неверно. Я понимаю революцию иначе, чем ты. Мне кажется, что анархист Зауэр и руководители левой социал-демократии вроде Гандлиржа сильно отстали. Ты считаешь себя революционером. Пражские буржуи даже боятся тебя. Еще бы, ты — главарь «Черной руки»! Ты стал маленьким городским Яношиком. У богатых берешь, бедным даешь, нападаешь на домовладельцев-спекулянтов и вселяешь бездомных рабочих в доходные дома. Это гуманно, но несерьезно. Лет пять-шесть тому назад я делал бы то же самое. Теперь не стану. Это старо! Революционная борьба в наши дни — это не бунт Степана Разина, не подвиги Яношика, а сознательная вооруженная борьба рабочих, возглавляемая такими людьми, как Ленин, как большевики… По-твоему, я должен был говорить что-либо подобное в кабаре этим контрреволюционерам? Масариковцы только и ждут этого, чтобы разделаться со мной. Зауэр больше не возражал. Вслух он заметил: — Тебе, наверное, виднее. Мы, чехи, сейчас опьянены национальной свободой, а когда протрезвимся, то поймем, что еще больше нам нужна социальная свобода. Власти, действительно, не дремали. Оказавшись бессильными устроить писателю политическую расправу, они решили уличить его в безнравственности. Земский уголовный суд на основании § 206 Гражданского кодекса республики предъявил Гашеку обвинение в бигамии, которая каралась шестимесячным тюремным заключением. Гашек явился в суд и дал объяснения: — Я был женат на Ярмиле Майеровой, но она ушла от меня в 1912 году и с тех пор мы живем раздельно. Развода она не хотела. Если суду нужно официальное оформление развода, то я не возражаю. У суда не было никаких доказательств и того, что Александра Гавриловна Львова являлась женой писателя. В связи с этим разбирательством Гашек обратился к Ярмиле. Она подтвердила, что сама ушла от мужа и была против развода. За несвоевременное оформление развода Гашека оштрафовали на десять крон. После суда Гашек встретился с Ярмилой и попросил показать ему сына. Она не сразу выполнила его просьбу — вначале отдала фотографию Риши и его сочинение, где было написано: «Папа, может быть, умер». Потом она устроила свидание отца и сына, но представила Гашека Рише как «пана редактора». Безработный «пан редактор» попросил Ярмилу подыскать ему какую-нибудь службу и признался, что пишет большой роман, героем которого будет бравый солдат Швейк, когда-то выкинутый ею в мусорную корзинку, и показал ей первые главы. Этот замысел захватил Ярмилу. Она с удовольствием взялась за чтение еще никому не известной книги и, хотя находила ее несколько грубой, не могла не смеяться. Она увидела, что талант Гашека окреп и вступил в пору своего расцвета. Ее поражало только обилие русских слов и выражений — неизбежное следствие жизни Гашека в России. Теперь они часто встречались. Эти встречи происходили в тайне и от окружения Ярмилы, и от друзей Гашека, и от Шуры. На вопросы Шуры и Зауэра, где он пропадает, Гашек отвечал, что заходит к своей тете. Летом Ярмила жила с сыном в Китлицах. Гашек ездил туда с новыми страницами «Швейка». Когда-то обучение русскому языку было предлогом для свиданий влюбленных Ярмы и Ярды, теперь «Швейк» стал предлогом для встреч бывших супругов. На пути их любви стало еще больше препятствий, она оказалась запретной в полном смысле этого слова. Иронически перефразируя строки мещанского романса, он назвал это чувство в письме к Ярмиле «прекрасной сказкой сердца, маем на старости лет», а в другом письме — «ужасной трагедией». Эта любовь не принесла им обоим ничего, кроме горечи. Ярмила боялась возрождения этого чувства. Путь назад был закрыт, возвращение друг к другу невозможно. Однажды, долго ожидая Ярмилу в условленном месте, Гашек попал под ливень и сильно промок. Ярмила подарила ему свитер. Обновка Гашека восхитила сестер Зауэра. Писатель соврал, что выиграл свитер в карты. Подарок Ярмилы не помог Гашеку. Ночью у него начался сильный жар, он задыхался от кашля, в груди и боку кололо. Гашек метался в постели, порываясь встать. Шура не отходила от него, давала ему питье, насильно укладывала, баюкала, как маленького. Гашек начал бредить. Ему чудилось, будто он гуляет с Ярмилой на Петршине, по цветущим аллеям, а внизу, под горой, не Прага, а та деревня, где они гуляли с Ярмилой в воскресенье. Поезд, на котором они вернулись в Прагу, стоит не на вокзале, а возле сада Кинских. Потом этот поезд превратился в трансатлантический пароход. Он и Ярмила стояли на палубе. Над морем кружились альбатросы. Гашек говорил Ярмиле, что они плывут в Америку. Там он будет писать романы, издавать их, и они оба будут счастливы. Гашек говорил, а пароход, альбатросы и Ярмила куда-то исчезли. Он остался один в тесном помещении, где нечем было дышать, — то ли в каюте, то ли в комнатке на Жижкове. Открылась дверь, в комнату вошел таможенный чиновник и завел с ним нудный разговор. Гашек знал, что надо терпеливо слушать его, иначе не удастся встретиться с Ярмилой, а она ждет. Он встретился с нею, но уже не на пароходе, а на Петршине, у памятника поэту Махе. Она была совсем юная. Гашек и Ярмила все время целовались. Видя, как он мечется, Шура склонилась к нему — она думала, что он просит ее о чем-то, и готова была сделать все, чтобы он меньше страдал. Он говорил то по-чешски, то по-русски, и Шура, ловившая каждое его слово, поняла все. Она уже не сомневалась, что последние недели он лгал ей. Шура много передумала, сидя у его постели, но опять, как в Уфе, не жалея сил, ухаживала за ним. Когда Ярослав поправился, она строго сказала: — Я все знаю. Ты встречаешься с Ярмилой. Выбирай: или я, или «тетя».
Глава тридцать пятая
Человек помоги себе сам!В июне 1921 года состоялся учредительный съезд Коммунистической партии Чехословакии. Партия объединила коммунистов всех национальностей республики, порвала с оппортунизмом и ревизионизмом социал-демократов, приняла платформу Коммунистического Интернационала и стала марксистско-ленинской. Гашек опубликовал в «Руде право» и его вечернем приложении несколько острых фельетонов и памфлетов, в которых высмеивал захолустную антантовскую и антирабочую политику чехословацкой буржуазии. Руководство молодой Коммунистической партии Чехословакии было довольно активным участием писателя в коммунистической печати. Гашек больше не искал службу. Он взялся за перо, полагая, что теперь ему поможет его старый знакомый — бравый солдат Йозеф Швейк. Убедившись, что работа над задуманным романом пойдет успешно, он пал подыскивать издателя. Выбор Гашека пал на Зауэра. — Франта, — сказал писатель Зауэру, — я начал писать большой роман. До сих пор ты был моим верным слугой Санчо Пансой, а теперь будешь управляющим моими делами, издателем моего романа. — Если бы ты, Ярда, предложил мне какую-нибудь слесарную работу, я охотно взялся бы за нее. Сам знаешь, на что я способен. В издательском деле я ни бум-бум! — Это-то как раз мне и надо, — не унимался Гашек. — Я сам буду вести издательское дело. Ты только не мешай мне… — Предпринимательство — не моя стихия, — продолжал отказываться Зауэр. — Взялся я за торговлю и скоро стану банкротом. Терплю одни убытки и не знаю, как избавиться от своей лавчонки. Поручишь мне свое дело — я разорюсь сам и тебя разорю. — Не болтай чепуху! — оборвал его Гашек. — Достань деньги, а я научу тебя торговать. Разве я напрасно окончил Торговую академию? Зауэр пошел на попятную и пообещал: — Немного достану. Друзья стали определять тираж еще не написанного романа. Предложение Гашека постепенно увлекло Зауэра. — В республике и за ее пределами живет около семи миллионов чехов, — подсчитывал Зауэр. — Из ник около двух миллионов взрослых, половина будет читать роман. Тираж — один миллион экземпляров! Где взять столько бумаги? — Не пугайся! Ты неправильно определил число и читателей, и покупателей. На два миллиона взрослых наберется не более ста тысяч читателей, а покупателей будет еще меньше. — А если я не найду денег и на сто тысяч экземпляров? Могу я взять еще одного пайщика? — спросил Зауэр. — Конечно! Ты можешь создать акционерное издательское общество. Но нужны деньги! — Надо издавать роман тетрадями в два печатных листа, — предложил Зауэр, вытащив из кармана пальто очередной выпуск сенсационного многосерийного романа «Тарзан». — Посмотри, как это делает Антонин Свьеценый, директор Центрального рабочего книгоиздательства и книготорговли. — Ты — настоящий издатель! — похвалил Гашек Зауэра, просмотрев тетрадку «Тарзана». — Я не ошибся в тебе. — Будем издавать по две тетради в месяц, — предложил новоявленный издатель. — Тетрадь в неделю! Ты металлист и знаешь, что железо надо ковать, пока оно горячо. Беги в типографию и договорись о смете. Проси формат в одну восьмую листа и хороший, четкий шрифт. Прежде чем идти в типографию, Зауэр должен был раздобыть денег. Он срочно продал по дешевке часть канифаса, потеряв на каждом метре три кроны. Денег не хватало. Тогда он решил продать весь канифас по двадцать крон за метр. Сестры Франты едва не обезумели — они теряли почти две тысячи крон и становились банкротами. Но Зауэр был неумолим. Вместе с ним его сестры волей-неволей стали пайщицами акционерного издательского объединения. Всей выручки за канифас не хватало даже на издание одной тетради. Тогда Зауэр вовлек в акционерное объединение еще двух пайщиков — брата Арношта, жестянщика, и Вацлава Чермака, фотохудожника. Было решено, что официальными издателями-акционерами будут Арношт Зауэр и Вацлав Чермак, а Франта Зауэр и его сестры — пайщиками, имеющими право на доход от реализации романа на справедливых условиях. Карликовое акционерное издательское общество было официально оформлено на собрании пайщиков. Создание этого общества приветствовал автор будущего романа Ярослав Гашек. Речь писателя по этому поводу напоминала его выступления в годы деятельности ПУПРЗ. — Господа! — обратился он к членам издательского общества. — Сегодня мы совершили великое дело — основали издательское общество, о котором скоро узнает весь мир. Я далек от того, чтобы преувеличивать значение этого общества. Скоро вы сами убедитесь, что активное сотрудничество с таким автором, как я, доставит вам много радости и удовольствия и сделает ваше предприятие популярным и прибыльным. Мы превратимся в ту ось, вокруг которой будет вращаться наша бедненькая чешская литература! Роман станет настольной книгой, а я и вы — богатыми людьми! Желаю успеха вашему предприятию! Гашек шутил, хотя причин для этого было слишком мало. Первые главы романа можно было печатать, но управляющий типографией Нойберта и фактор опасались, что цензура запретит роман из-за необычного стиля, который считался в светском обществе неприличным. Зауэр не хотел рисковать и просил Гашека убрать из романа отдельные выражения и слова или заменить их точками, но автор и слышать не хотел об этом. Франта Зауэр с жаром принялся за рекламу романа. Текст рекламного объявления составил сам Гашек — он напичкал его смесью правды и вымысла, забавно спародировав шедевры рекламного обмана эпохи свободного предпринимательства. Плакат был весьма эффектно отпечатан: черные буквы резко выделялись на ядовито-желтом фоне, вызывая зловещие воспоминания о недавнем черно-желтом кошмаре господства Габсбургов. Плакаты были расклеены по всей Праге — со стендов, заборов, киосков, со стен трактиров и книжных лавок он не просто призывал, а кричал:И. В. Гете
Гашек пришел в восторг от этого произведения типографского искусства. Он повесил плакат в пивной «У Панека» прямо над головой трактирщика и говорил своим друзьям: — Мы еще покажем чешским издателям, как делается настоящая реклама! Сильнее всего эта реклама подействовала на Антонина Свьеценого. Совсем недавно Свьеценый выплатил писателю аванс за роман, который Гашек обещал опубликовать в его издательстве. — Как вы смеете издавать роман, не имея на то ни права, ни знаний, ни опыта? Кто вы такие? Один — жестянщик, другой — фотограф, третий — слесарь! Я покажу вам, как соваться в чужие дела! От такого нагоняя Зауэр опешил. Он ничего не понимал и только пожимал плечами. Свьеценый подал ему расписку Гашека:ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИМПЕРАТОР ФРАНЦ-ИОСИФ II
провозгласил
БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК,
похождения которого во время мировой войны описывает
ЯРОСЛАВ ГАШЕК
в своей книге:
ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА
ВО ВРЕМЯ МИРОВОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ,
ЗДЕСЬ И В РОССИИ.
Одновременно с чешским изданием на правах оригинала
книга выходит в переводе во
Франции, Англии, Америке.
Первая чешская книга, переведенная на мировые языки!
Лучшая юмористическо-сатирическая книга
мировой литературы!
!Победа чешской книги за рубежом!
Чешский оригинал выходит в издании А. Зауэра и В. Чермака
на Жижкове, площадь Коллара, 22,
еженедельно, тетрадями (32 стр.), по цене — 2 кроны.
Самая дешевая чешская книга!
ПЕРВЫЙ ТИРАЖ — 100.000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ!
Требуйте книгу во всех книжных лавках
или прямо у издателей.
А. ЗАУЭРА и В. ЧЕРМАКА на ЖИЖКОВЕ,
площадь КОЛЛАРА, 22.
«Подтверждаю, что я получил 700 крон в качестве аванса за свой роман, который я напишу и назову «Бравый солдат Швейк у большевиков» для издательства А. Свьеценого. С почтениемЯрослав Гашек, писатель
Прага, 9.02.1921».Зауэр все понял. Расписка Гашека — самая обычная выходка его друга. Но она полностью вышибает из его рук право на издание романа, и он скоро еще раз станет банкротом. На лице Зауэра изобразилось такое безысходное отчаяние, что Свьеценый переменил тон и заговорил с ним отечески-мягко: — Не огорчайтесь. Дело можно поправить. Послушайте меня. Я — стреляный воробей и отлично знаю, что среди писателей, как и среди простых смертных, попадаются обманщики. Писателям не следует доверять. Ваш друг — не обычный автор. Не будем раздувать его дело. Скажите, он уже закончил этот роман? — Нет, еще не закончил, — ответил Зауэр. — Вот и отлично. Я предлагаю вам передать свои права на печатание следующих тетрадей мне. Я выплачу вам те деньги, которые вы уже вложили в издание первой тетради. Только не проболтайтесь Гашеку! Зауэру не осталось ничего другого, как принять предложение Свьеценого. Зато теперь Зауэр был готов к любым сюрпризам. Как выяснилось, Гашек брал авансы и у других издателей. Он сбывал «Швейка» под разными именами, как тот сказочный герой, который всем продавал своего коня, уверенный, что конь все равно вернется к нему. Гашек получил некоторую сумму у редактора «Чешского слова» Алоиса Гатины, пообещав ему повесть «Прогулка бравого солдата Швейка в святую Русь», «Трибуна» заплатила ему за еще не написанного «Бравого солдата Швейка в Бугульме». «Как только ни изворачивается человек, чтобы не умереть с голоду! — философски размышлял Зауэр. — Бедняку трудно написать большой роман — надо каждый день думать о куске хлеба…» Встретившись с писателем, Зауэр захотел узнать, что скажет он, когда узнает, что ему, Зауэру, известно о его проделках со «Швейком». — Ярда, у тебя появился какой-то двойник, — озабоченно сказал он. — Этот двойник собирается публиковать роман о Швейке и в издательстве Свьеценого, и в газете «Чешское слово», и в «Трибуне», и еще где-то. Издатели вывесили даже свои рекламные плакаты о выходе в свет какого-то «Швейка». Этот подражатель может сильно подорвать наши позиции. — Не знаю, как насчет рекламы у подражателя, а с нашей рекламой я, кажется, уже влип. Мы послали плакаты в провинцию. На них наткнулся пан Сватек, чешскобудейовицкий издатель. Вот, полюбуйся на эту бомбу замедленного действия! — и Гашек извлек из кармана письмо. — Шесть лет назад, в апреле 1915 года, я имел глупость взять у него аванс и обязался писать только ему военные юморески в течение десяти лет. Зауэр прочел письмо Сватека и засмеялся: — Подумать только, какое великодушие! «Поскольку вы ушли на фронт и попали в плен, то, разумеется, не могли писать и посылать мне юморески. Теперь же я настаиваю на выполнении договора. В случае Вашего отказа я передам дело в суд, чтобы он наложил арест на вашу книгу». — Как видишь, Франта, в нашей собственной республике все еще действуют австро-венгерские законы, И я могу поплатиться за те несчастные пятьдесят крон, которые получил от Сватека в Чешских Будейовицах, когда служил вольноопределяющимся в 91-м пехотном полку. Я вернул ему долг, поблагодарил его, а он этих денег не принял и прислал мне полторы тысячи крон в качестве нового аванса, требуя от меня выполнения договора. Даже Фауст не был в таком дурацком положении, когда продал душу Мефистофелю. Пану Сватеку совсем не нужна моя душа, он — делец, а тут и святая вода бессильна. Гашек немного помолчал, а потом продолжал: — Семь лет я мечтал отомстить своим издателям за то, что они обкрадывали меня, платили жалкие гроши. Я мстил за себя и за своих товарищей, которые голодали, живя на нищенские гонорары. Я ничего не украл у них, я только вернул свое. И Гашек пропел народную песенку, немного изменив ее слова:
Еще ниже — подпись старого друга: Й. Лада. Как и следовало ожидать, книгу встретили по-разному: и враждебно, и дружески. Масариковская республика — штатские, военные и клерикальные чиновники — осудили книгу как подрывную, грубую, безбожную, безнравственную. — Нам нужны не Швейки, а Ян Гус и Петр Хельчицкий! — вопили попы, педагоги, моралисты. — Не Швейк, а Жижка! — рычали только что воспрянувшие легионеры и милитаристы. Гашек отвечал всем этим горе-критикам: — Жизнь — это не школа для обучения светским манерам. Наш роман — не пособие для салонных шаркунов. Эта книга представляет собой историческую картину определенной эпохи. Употребив в своей книге несколько сильных выражений, я просто запечатлел то, как разговаривают между собой люди в действительности. Нельзя требовать от трактирщика Паливца, чтобы он выражался так же изысканно, как пани Лаудова, доктор Гут, пани Ольга Фастрова. Эти господа охотно превратили бы всю Чехословацкую республику в большой салон, в котором культивируется утонченная мораль, а под прикрытием этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату. Рабочие, крестьяне, ремесленники, интеллигенты, особенно участники войны и свидетели крушения империи Габсбургов, читали «Швейка» везде — дома, в трамвае, в трактире. Они весело хохотали над чудовищными призраками ушедшей эпохи — над дряхлым монархом, сыщиком Бретшнейдером, офицерами, генералами, фельдкуратом. И больше всех читателям нравился бравый солдат Швейк. Отто Кац прочел о себе в немецкой газете — она поместила перевод той главы «Швейка», где речь шла о фельдкурате. По мере чтения Отто Кац все больше свирепел, а затем написал письмо Гашеку. Получив послание Каца и улыбнувшись угрозам своего героя, Гашек решил уладить дело в личной беседе. В качестве парламентера он прихватил бутылку сливовицы. Вначале разговор не клеился. С самого порога Кац принялся осыпать Гашека ругательствами и угрозами, однако позвал в дом — очевидно, чтобы продолжить ругань. Гашек молчал, уверенный, что Кац когда-нибудь устанет. — Пан Кац, разве я сказал о вас что-нибудь не так, неправильно описал вас? — поинтересовался Гашек. Кац стукнул кулаком по столу: — Там все… правильно! Но это ведь и ужасно! Литература должна показывать идеал, а вы показываете меня… Теперь я всем известен с дурной стороны. — Я нанес ущерб вашему духовному сану, — покаянно произнес Гашек. — Я скомпрометировал вас перед католической общиной… — Плевал я на духовный сан и на католическую общину! — взъярился Кац и сразу стал похож на самого себя в романе Гашека. — Я — не фельдкурат, не духовный пастырь. Я вообще уже давно оставил лоно католической церкви. — Что же вы делаете теперь? — Служу. Я — доверенное лицо на фабрике бронзы и красок. А вам-то какое до этого дело? — Я хотел бы, пан Кац, выпить за ваши успехи на новом поприще! — спокойно ответил Гашек, доставая бутылку. Эта волшебная бутылка превратила рычащего Каца в мурлыкающего котенка. Он поставил на стол стаканы, кое-какую закуску, и остаток вечера прошел очень весело. У Каца тоже нашлась бутылка. К двум часам ночи он уже не стоял на ногах, зато пытался проповедовать — вспомнил, что когда-то в самом деле был фельдкуратом: — А теперь я… несомненно начну проповедь… Эй вы, гипсовые головы! Один Гашек казался ему по меньшей мере ротой солдат. Дело с фельдкуратом было улажено. Другой герой книги, трактирщик Паливец, пересидел войну в тюрьме. Тюрьма нисколько не изменила его — каким он был во время приключения с портретом императора Франца-Иосифа, таким и остался. Прочитав о себе в романе, он сам явился к Гашеку. Паливец не мог ни есть, ни пить — ему не терпелось поскорее рассказать Гашеку, как он доволен, что писатель изобразил его грубияном. — Меня, пан Гашек, уже никто не переделает. Я всю жизнь выражался грубо, говорил то, что думал, и буду говорить так до самой смерти. Неужели я должен закрывать глотку из-за какого-нибудь осла? Благодаря вашей книге я стал знаменитым человеком! — Пан Паливец, — сказал Гашек, — я очень рад, что вы не обиделись на меня. Поверьте мне, я давно полюбил вас за то, что вы, как настоящий чех, выразили на свой лад презрение и к императору, и ко всякому низкопоклонству. Гашек достал книгу о Швейке и хотел было подарить ему экземпляр с надписью, но Паливец запротестовал: — Что вы, пан Гашек! Вам самому нужны деньги. Вы разоритесь, если каждому герою романа подарите по книге. Лучше продайте мне двадцать пять экземпляров — я хочу подарить вашу книгу своим знакомым. Гашек с удовольствием выполнил его желание. Пан Паливец вовремя обратился к писателю: это было в те дни, когда Гашек ходил с Зауэром по трактирам и продавал там «Швейка» с автографом и без него. За определенное вознаграждение он писал шуточные дарственные надписи. Чем нежнее и проникновеннее была надпись, тем дороже она стоила: «Милому другу»; «Дорогому другу»; «В знак верной дружбы»; «Самому дорогому другу в знак самой верной дружбы». По разной цене продавались автографы, написанные карандашом, чернилами и несмывающейся тушью. Однажды, оказавшись в трактире, где его не знали в лицо, Гашек услышал, что говорят о Швейке. Он вмешался в разговор и начал всячески поносить себя и своего героя. — Напрасно вы ругаетесь, — попробовал урезонить его молодой человек. — Гашек — отличный писатель. Он сейчас печатает книгу. Это замечательная вещь. — Грубая, безнравственная книга! — не унимался Гашек. — Не нравятся мне ваши разговорчики! — заметил пожилой господин. — Влезли в чужой разговор со своим мнением. Кто вас спрашивал? Мало того что влезли, так еще повторяете то, что говорят о «Швейке» легионеры. А их кровавые приключенческие романы о сибирском походе читать противно… — Гашек — большевик. На его совести немало загубленных душ, — выложил последние козыри Гашек. — Такой человек ничего хорошего не напишет… Посетители трактира молчали. Потом по столикам поползло ядовитое слово «провокатор», и все отсели подальше от писателя. Гашек думал, что этим все и кончится, но к нему приблизился здоровенный детина с огромными кулаками: — А ну, убирайся! Гашек вздрогнул, поднялся, подозвал кельнера и, расплатившись, с показным недовольством поплелся к двери. Эксперимент удался. «Добрые чехи! — думал он, медленно идя по улице. — Вы скорее оставите меня без зубов и ребер, чем дадите в обиду!»ЯРОСЛАВ ГАШЕК.
ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА
ВО ВРЕМЯ МИРОВОЙ ВОИНЫ.
Глава тридцать шестая
Он снова смеется надо всем миром. Не смеется только над коммунизмом и над своим омским прошлым.После освобождения от вековых пут Габсбургов пражане воспрянули духом и упивались завоеванной буржуазной демократией. Они с утра до вечера пили чешское вино, чешское пиво, ели чешскую свинину, чешские сосиски, чешскую рыбу, чешские кнедлики с чешской капустой, сдабривая кушанья чешской горчицей, чешским чесноком и чешским перцем, пели чешские песенки чешского короля куплетистов Карела Гашлера. Не смолкали гимны, марши, фокстроты, танго и чарльстоны. От буржуазной славянской демократии разило перегаром пивного патриотизма и сивушного национализма. «Принцесса республика», легионерская «золотая республика», справляла свадьбу с Пражским Градом. В самом Граде, в президентском кресле, восседал охраняемый «сибирскими парнями» «папочка Масаричек» — по словам Гашека, «президент, назначенный Францией». Эта республика не устраивала рабочих и крестьян — они продолжали бороться за социалистическую республику, создавая свои Советы, и попадали за это в тюрьму. Познакомившись с политической обстановкой в стране, Гашек понял, что настало время исполнить обещание, данное Ярославу Салату-Петрлику в Сибири — «надавать по заднице всему славному чешскому правительству». «Надавать правительству» было нелегко — оно пользовалось и законом, и силой не хуже Габсбургов. Еще были свежи в памяти кровавые дела масариковцев, подавивших в конце прошлого года всеобщую забастовку рабочих. Желая сорвать маску с чехословацких правителей, Гашек сам надел маску лидера Партии умеренного прогресса в рамках закона. Бой Гашека со старыми марионетками, когда-то плясавшими под дудку Габсбургов, а теперь продававшими себя французскому капиталу, друзья писателя рассматривали как очередную шутку и охотно явились в ресторан Костракевича на второй съезд ПУПРЗ, совпадавший с пиршествами по случаю убоя свиней. Говорили, что на действо, затеянное Гашеком, прибыли представители всех политических партий и их официозов, французские и английские дипломаты, американские чехи из Балтимора, чиновники государственной полиции, министерств торговли, иностранных дел, национальной обороны, многие деятели искусств. Писатель почти десять лет бессменно оставался председателем ПУПРЗ. Наступила пора решить все политические и организационные вопросы, назревшие за это время. Члены ПУПРЗ до сих пор не забыли печальную историю первого съезда партии, созванного накануне мировой войны в жижковском трактирчике «На Сметанце». Этот съезд не смог принять никаких решений из-за пустякового происшествия. В зале почему-то оказалось больше блюстителей порядка, чем делегатов. Их было так много, что буквально нельзя было плюнуть, не попав при этом в полицейского или сыщика. Лавируя между ними, Гашек споткнулся, упал на стул и смял лежавшую там фуражку. Ее владелец, полицейский комиссар, увидел в невинном поступке Гашека злой умысел и потребовал немедленно очистить помещение. Съезд закрылся, не успев открыться. С тех пор мстительный полицейский комиссар не спускал с ПУПРЗ недреманного ока и избрал ее объектом постоянных придирок и преследований. Мировая война сильно ослабила ряды партии — многие активисты во главе с лидером облачились в австрийские мундиры и отправились на фронт — сдаваться в плен. Война окончательно пресекла триумфальное шествие Ярослава Гашека в земский сейм и имперский рейхсрат. Едва в «Югославии» успели собраться делегаты и гости, как на подиум вылез пьяный провокатор и пытался сорвать второй съезд ПУПРЗ. Незадачливого оратора вышвырнули на улицу. Гашек приветствовал всех собравшихся, объявил об открытии съезда и огласил список членов президиума. Никто из упомянутых не встал и не подошел к столу. Гашек знал: ПУПРЗ — не конституционная партия, она не входит в блок правительственных партий республики, и ее члены, опасаясь преследования со стороны властей, останутся на своих местах. Это и было нужно Гашеку: он взял на себя обязанности единственного докладчика партии, а председателем и секретарем съезда сделал Франту Зауэра, главаря «Черной руки» и национального социалиста, члена партии, входящей в правительственную коалицию. Слухи о деятельности Гашека в Сибири дошли до всех делегатов. За десять лет с момента образования ПУПРЗ в мире произошли великие перемены и многое ужедавно кануло в вечность. Ради чего он возрождает детище старых пражских трактиров? Создает себе рекламу? Вспоминает бурную молодость? Неужели он серьезно верит в возможности ПУПРЗ? Разве этот почти сорокалетний человек после своей деятельности в большевистской России не изменился и все еще собирается играть в довоенные игрушки? Гашек, сидя за столом, отлично чувствовал то, что думали о нем в зале. Зауэр позвонил колокольчиком и сказал: — Объявляю порядок работы съезда, 1. Деятельность ПУПРЗ и ее отношение к правительственной коалиции. Доклад пана Гашека. 2. Международное положение Чехословацкой республики. Доклад пана Гашека. Порядок работы съезда был принят единогласно, под бурные аплодисменты. Зауэр дождался тишины и продолжал: — В адрес съезда поступило много поздравительных телеграмм и писем от чехословацких и зарубежных политических партий, дипломатических представителей и от наших земляков-переселенцев. Пан Гашек сейчас познакомит вас с поздравлениями. В зале воцарилась тишина. Никто не сомневался, что эти поздравления Гашек сочинил сам. — Друзья! — сказал, снова поднявшись, Гашек. — Нам незачем читать все поздравления. На одно только перечисление наименований организаций, партий, союзов ушло бы очень много времени. Я перескажу только содержание послания папского нунция, признающего заслуги нашей партии перед республикой, Ватиканом и всем человечеством. Упомянув о том, что давным-давно гуситы несправедливо преследовали папских нунциев, он отмечает, что чешский народ после создания нашей партии добился значительного прогресса мирным путем, в рамках закона, изменил свое отношение к папскому государству и теперь горячо принимает папского посланца в своей республике. «Прогресс, — пишет посол папы, — должен проходить только путем мирного развития, с верой в победу католической церкви, путем возвращения замка Конопиште бедным сиротам эрцгерцога Фердинанда д’Эсте. Ваша нация прошла славный путь через Белую гору, через революцию, в Рим. Это направление достойно каждого порядочного человека. Аллилуйя!» Делегаты, гости, «дипломаты» встали и трижды дружно пропели: — Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Церковное пение всех развеселило. Начало вышло хорошее, и, когда Зауэр объявил, что с приветственным словом выступит представитель американских чехов, раздались бурные аплодисменты, из-за которых фамилию земляка никто не расслышал. — Господа! — начал заокеанский чех. — Ай кейм в старую кантри из Нового Света, Юнайтид Стейтс оф Амэрыка, передовой кантри свободы, соушиэл проугресс. Ай грейтьюлейт зе Парти оф Писсфул Проугресс уизин зе Баундз оф зе Лоу. Мы, чешские амэрыкенс из Чикаго и Балтимора, говорим о себе: «Мы — малая славянская Амэрыка». Ай думаю, что Чехословак рипаблик тоже должна быть малая славянская Амэрыка и президент оф рипаблик мистер Томас Гаррик Масарик — малый славянский и малый амэрыкенский президент, малый Томас Вудро Вильсон. В зале зашумели. Английские и французские «дипломаты» шептались и строили кислые мины, чехословацкие заерзали в креслах и один крикнул, не то угождая французам, не то споря с американским чехом: — Чехословакия — маленькая славянская Франция! — Чехословакия — маленькая славянская Англия! — откликнулся другой. Гашек, спокойно наблюдая за «дипломатами», поднял руку и, призывая к тишине, крикнул голосом аукциониста: — Чехословакия есть маленькая славянская Чехословакия! Не будем спорить, господа! Продолжайте, земляк! — Ваш комрид Джозеф Мах, пресс-атташе ин Вашингтон, просил меня транслейт его гретьюлейшн энд виш, чтобы Чехословак рипаблик развивалась ин зе спирит оф амэрыкен соушиэл проугресс энд амэрыкенский образ жизни. Вы много ит мясо, суп, торт. Это — отсталость. Надо ит олл фуудконсервейшн — консервбиф, консервфрут, консервмилк. Кто-то из вежливости захлопал земляку, но в представлениях гостей американский консервный рай как-то не вязался с социальным прогрессом. Только дурак станет жрать консервпорк, когда у Костракевича на стол подают свиные отбивные и нежнейшую ветчину. — Чего ты приперся в старую кантри? На чешскую свининку потянуло? — невежливо кричали ему. Земляк махнул рукой и быстро отправился на свое место, бормоча под нос какие-то американо-чешские ругательства. Зауэр снова предоставил слово Гашеку. — Дорогие друзья! — начал Гашек свой доклад. — Поскольку деятельность нашей партии широко известна и в нашей стране и за рубежом, то я буду краток и только объясню отношение ПУПРЗ к правительственной партийной коалиции. В ходе борьбы с абсолютизмом Габсбургов наша партия и партии правительственной коалиции добились победы. Мы создали свою республику и теперь хотим, чтобы она развивалась в духе мирного, постепенного социального прогресса. Политические позиции всех партий, кроме левых социал-демократов, сблизились. Нашу работу теперь одобряют и несоциалистические партии Крамаржа и Швеглы, и социалистические партии Клофача и Немца. Мы тоже не остаемся равнодушными и, следуя обычаям древних, съедавших своих старейшин и таким образом впитывавших в себя их мудрость и опыт, предлагаем вам в честь вожаков этих партий отведать прекрасные именные блюда из кухни пана Костракевича. Казалось, восторгу собравшихся не будет конца. — Нам отрадно знать, — дождавшись тишины, заговорил Гашек, — что программа всенациональной партии Карела Крамаржа, объединившей национальную, свободомыслящую, государственно-правовую прогрессивную, национальную и прогрессивную реалистическую партии в партию государственно-правовой демократии, теперь мало чем отличается от нашей. Вождь этой партии — председатель «Славянского революционного комитета», первый премьер первого правительства первой республики пан Крамарж — глашатай идей свободы, демократии и мирного социального прогресса в рамках закона. «Не славянин тот, — говорит он, — кто подавляет славянина! Большевики предали славянство и продали Россию Германии!» Он больше всего печется о судьбах великой славянской державы. Он трогательно заботился о ней, подготавливая конституцию для сибирского правительства Колчака, вел переговоры с генералом Деникиным по вопросу демократизации России и после беседы с ним пришел к выводу, что только Россия обеспечит и прочную самостоятельность Чехословацкой республики, и сохранит его крымские табачные плантации, и его виллу в Алупке! ПУПРЗ высоко оценивает заслуги партии государственно-правовой демократии и в честь ее лидера закупила сигареты и заказала крем в грильяжных раковинах под маркой «Доктор Крамарж»! — Да здравствует Карел Крамарж! — раздалось в зале. — Партия аграриев, — продолжал свой рассказ Гашек, — никогда не выдвигала никаких революционных требований и всегда ратовала за мирный и постепенный социальный прогресс. От ПУПРЗ она отличалась своей особой тактикой, особым нюхом. Лидер аграриев Антонин Швегла определяет великий принцип этой тактики как закон неприменимости в ней математики. Благодаря своему нюху Швегла является председателем партии около двенадцати лет, теперь он министр внутренних дел и готовится занять пост премьера. Швегла — лидер особого рода. Он ратует за мирный прогресс, мирное лавирование в политике, подкуп и закулисные интриги в рамках закона. Швегла говорит: «Одного можно купить за деньги, другому импонирует личный блеск, третий готов на что угодно ради хорошенькой женщины, четвертый клюет на внимание общества». В честь его заслуг перед республикой ПУПРЗ заказала свиную ливерную колбасу с маркой «Швегла». Это отменная колбаса, и вы получите огромное удовольствие, поглощая «Швеглу». — Да здравствует Антонин Швегла! — Теперь о партии национальных социалистов. Когда-то между нами были немалые трения. Теперь они канули в прошлое. Ее вожаки — Вацлав Клофач, Эдвард Бенеш и другие — борются за социальный прогресс мирно и в рамках закона. Осторожный и дипломатичный Эдвард Бенеш больше всего опасается проникновения большевистской революции в республику. Он призывает иностранную комиссию палаты депутатов покончить с большевиками не только в Чехословакии, но и в России, блокировать Россию системой договоров, восстановить в ней порядок в духе идей мирного, постепенного социального прогресса в рамках наших законов. В честь национально-социалистической партии, символ которой — гусь, мы отведаем фирменного жареного «Гуся Клофача», а на сладкое — торт «Бенеш». Распаленные видением прекрасного жирного гуся, гости хлопали в ладоши и стучали ногами. — Теперь о чехословацкой социал-демократической партии. В ней, увы, нет единства, она раскололась на правых и левых. Правые социал-демократы, возглавляемые Антонином Немцем, Франтишеком Соукупом, Властимилом Тусаром, Йозефом Стивином и Франтишеком Модрачеком мирно сотрудничают с буржуазными партиями. В своем документе «Ближайшие задачи чешского социализма» они ратуют за укрепление буржуазной республики, за национальное единство, за всеобщее прямое избирательное право и т. п. Соукуп предлагает привлечь трудящихся к общественной жизни и, таким образом, «открыть клапан, чтобы все вокруг нас не взорвалось», Тусар призывает все политические партии действовать солидарно и голосовать за бюджет буржуазного государства, Стивин борется против «социального радикализма» рабочих и за его «ограничение в определенных рамках», Немец против укрепления буржуазного государства, против того, чтобы рабочие сами «плели себе плетку», но считает, что час для ломки буржуазного государства не пробил и что условия в молодой республике диктуют необходимость сохранения коалиции с буржуазией, с ее партиями. «Сегодня, — говорит Немец, — мы должны быть вместе с нерабочими партиями, в одном строю с ними, пока нас объединяют совместные интересы, пока не обеспечена и не упрочена Чехословацкая республика и пока буржуазные партии не сделают это сотрудничество невозможным». Модрачек заявляет, что марксизм устарел и несовместим с национальными идеалами. Этот вожак яростно борется с левыми и объявил их предателями чешского социализма. «Республика, — утверждает он, — представляет собой первую ступень социализма, и если мы ее разрушим, то не придем к более высокой ступени…» Правые участвуют в буржуазном правительстве, Тусар даже был премьером. Как видите, правые социал-демократы пересмотрели свое отношение к социальной революции — они целиком приняли нашу программу мирного постепенного социального прогресса в рамках закона. В честь этих наших друзей вы отведаете нежный, ароматный суп из потрохов. — Даешь суп из потрохов! — крикнули из зала. Закончив характеристику правительственной коалиции, Гашек сказал несколько слов о пане президенте: — До войны Масарик возглавлял реалистическую партию. Теперь он — беспартийный человек, отец нации и батюшка президент. Как глава государства, он стоит надо всеми партиями. Это позволяет ему без труда держаться курса постоянного, мирного социального прогресса в рамках тех декретов и законов, которые он подписывает. Автор прекрасных манифестов, Масарик от имени Франции обращается к чешским рабочим и просит их не устраивать революционных демонстраций и забастовок, добиваться улучшения своего положения мирными методами, действовать в рамках законов. Его крестовый поход против коммунизма не ограничился борьбой с Советами в Сибири — он продолжает вести его и в самой Чехословакии. Он отечески предостерегает чехословацких рабочих от следования русским рабочим: «Я констатирую здесь согласно своему сознанию и своей совести, — сказал он недавно шахтерам Пршибрама, — что русский образец нам, чехам, не годится. В России нет ни коммунизма, ни социализма — ведь русская нация не созрела для социализма. Как это может быть в России научный социализм, если люди там не умеют ни читать, ни писать. У нас будет проходить социализация — постепенно и только там, где для нее созрели условия». Мы рады: первый гражданин Чехословацкого государства разделяет наши взгляды и придерживается нашей программы. Поистине, велика сила идей ПУПРЗ! Раздались одобрительные аплодисменты. — В честь главы нашего государства, глашатая великих принципов Свободы, Равенства, Братства и Конституционализма, вам будут поданы Сливовица, Ром, Бренди и Коньяк! Эти слова послужили сигналом для официантов, которые заторопились со своими подносами. Вина, закуски, суп из потрохов, свиные и кровяные колбасы, гусь, торт, крем, кофе дразнили аппетит. Делегаты, гости и сыщики дружно набросились на еду. Глядя на них, Гашек понял, что здесь, как на войне, все решает минута — достаточно упустить ее, и он не успеет прочесть свой доклад о международном положении. — Уважаемые господа! — торжественно начал лидер ПУПРЗ. — Я беру слово в тот момент, когда надо всеми континентами — Европой, Азией, Америкой, Африкой, Австралией и Антарктидой — снова нависли тучи, когда люди пяти континентов и пингвины Антарктиды ждут благодатного солнца, надеясь, что оно рассеет тучи с международного небосвода. Если вы хотите знать, каково действительное международное положение нашей республики, то не ждите от меня такого объяснения. Я его не дам. Скажу только — оно весьма сложное. Мы живем в мире, распавшемся на разные группировки, и входим в них. Есть ли в них какая-нибудь польза, я не знаю, да и вряд ли вообще кто-нибудь знает. Вы ждете, что я скажу об отношении нашей партии к Франции, Англии и САСШ, но я не стану тратить слов на то, что и без того ясно. Тем, кому что-нибудь окажется непонятно, я советую обратиться с интерпелляциями к доктору Бенешу — это по его части. Мир распался на два лагеря: в одном — большевики, а в другом — доктор Крамарж. Крамарж собирается наброситься на большевиков в своей газете «Народни листы» и бомбардировать Москву из «Марианской гаубицы» инспектора армии пана Махара. Марианская гаубица не уничтожит Москву, не предотвратит надвигающийся экономический кризис. Международное положение, по мнению ПУПРЗ, столь плохо, что предотвратить всеобщую экономическую катастрофу можно только путем постепенного мирного взрыва земного шара. В этом глобальном взрыве — наше единственное спасение от экономического кризиса. Жаль, что наши политиканы не понимают сущего пустяка и такой простой выход кажется им китайской грамотой. Вы смотрите на меня с удивлением: программа ПУПРЗ не признает никаких социальных взрывов, никакого социального насилия, только мирный прогресс в рамках закона. Но разве взрыв земного шара явление социальное? Отнюдь нет! Он может быть осуществлен посредством динамита и экразита. Прошли те времена, когда наша партия была маленьким союзом товарищей-единомышленников. Это было тяжелое время господства Габсбургов. Все партии — и австрийские, и чешские — боролись против нас. Мы не только выстояли в этой борьбе, но и победили. Теперь программу мирного, постепенного социального прогресса в рамках закона принимают все партии, входящие в правительственную коалицию. Это поистине великий триумф, подлинный апофеоз ПУПРЗ! Логика истории вынуждает нас принять последнее, историческое решение — распустить ПУПРЗ. Столь неожиданный поворот дела потряс слушателей. Они словно остолбенели. Делегаты опомнились прежде всех: встали и торжественно запели в последний раз партийный гимн. Под его звуки шел медленный, постепенный роспуск партии. — Те, — обратился Гашек к своим друзьям с последней просьбой, — кто хочет покончить с экономическим кризисом, могут присылать экразит и динамит по адресу: Прага, Жижков, ресторан «Югославия». Костракевич схватился за сердце: — Пан Гашек, мало того, что ко мне сегодня пришло, дай бог, триста гостей, а не тысяча, как вы обещали, вы хотите взорвать меня своим динамитом! Я повешусь еще до взрыва! Заколол четыре свиньи, приготовил две тысячи ливерных и полторы тысячи кровяных колбас… Кто же будет есть все это? Жалоба ресторатора развеселила гостей. Они решили, что это — очередные проделки Гашека и горячо бросились заказывать свиные и фирменные блюда. Засуетились официанты, зазвенели бокалы и рюмки. В разгар веселья появился контролер по сборам налогов. Никто из клиентов пана Костракевича не хотел выкладывать ему денежки. Контролер пригрозил вызвать полицию. Гости уже собирались оказать сопротивление и контролеру, и обещанным полицейским, когда в зале раздался спокойный голос Гашека: — Друзья! Не волнуйтесь, не бойтесь ни контролера, ни полицейских. Тишина, порядок и мирный прогресс — вот лучшее оружие против полицейских дубинок! Сказав эти слова, он толкнул в бок Франту Зауэра: — Пора сматывать удочки! Захватив председательский колокольчик, друзья сошли с подиума и затерялись в толпе гостей пана Костракевича.Иван Ольбрахт
Глава тридцать седьмая
К Гашеку применимы слова Паскаля: мы испытываем радость, когда в авторе находим не только писателя, но и человека.В конце июля жарким солнечным днем, Гашек отправился на окраину Праги, в Крч. Там его ждали трое чешских писателей — Антал Сташек, его сын Иван Ольбрахт и жена Ивана — Хелена Малиржова. Миновав развалины королевского охотничьего замка, Гашек без труда отыскал деревянный домик с садом. Навстречу Гашеку вышел почти восьмидесятилетний Антал Сташек, старейший писатель-социалист, «мечтатель чешских гор». Патриарх чешских писателей радостно обнял гостя, по-русски расцеловал его в обе щеки: — Рад, рад, что снова вижу тебя, проказник! Тебя столько раз хоронили, а ты не только жив, но и пишешь! Старик снова притянул к себе Гашека: — Спасибо тебе за Швейка — повеселил меня перед смертью! — Вам, батюшка, рано думать о смерти, — откликнулся Гашек. — Мы с вами еще съездим в Советскую Россию. — Хорошо бы теперь съездить туда, посмотреть, что делается там, сравнить… Старик замолчал. В молодости он несколько лет жил в России — учительствовал в семье одного петербургского сановника. — Иван недолго был в России, но остался доволен. Он все еще не может наговориться о том, что видел, Хелена — тоже. Послышались шаги. На крыльцо вышел Иван, порывисто обнял Гашека. Тот смотрел в умное открытое лицо Ивана, в его яркие лучистые глаза и не заметил, как из сада вышла Хелена. Она радостно вскрикнула, положила на скамью только что срезанные лилии и подошла к Гашеку. Он поцеловал ей руку. — Иван говорил, что готовит нам сюрприз! — сказала Хелена, — но я не думала, что этот сюрприз — ты! Идем к столу под липы. Столик под липами оказался волшебным. На скатерти, раскинутой ловкими руками Хелены, мигом появились разные кушанья, ягоды, фрукты, вино. Уютно и покойно было в этом уголке, а его обитатели говорили о социальных бурях, войнах, революциях. И хозяев, и гостя роднило многое — любовь к литературе и журналистике, близкие воспоминания о довоенной литературной и богемной Праге, события последних лет, поворот народа к коммунизму, восхищение Советской Россией. Они вспоминали города, которые видели, — шестнадцатилетним мальчиком Ольбрахт посетил Киев, а Гашек побывал в нем в годы войны и революции… Старый Сташек слушал сына, невестку и гостя, двумя-тремя фразами давая толчок умным замечаниям Ивана, тонким сопоставлениям Хелены и весело-ироничным репликам Гашека. Но была еще одна тема, к которой так или иначе возвращались хозяева, — роман о Швейке. Семья литераторов горячо переживала это событие в чешской литературе, а бравого солдата полюбила так же искренне, как и его автора. — Я недолго был в России, — сказал Иван, — вернулся оттуда не с пустыми руками, сразу написал несколько очерков. А ты, Ярда, привез такое богатство — замысел «Швейка»! — Замысел давний, а Швейк — новый. Он повоевал, много повидал. Война дала мне опыт. До нее и ты, и я писали о солдатах. Тебе, по-моему, удался твой Умаченый, можешь не скромничать. — Я не скромничаю, а трезво оцениваю твой и свой труд. Мой Умаченый — автомат, оловянный солдатик, а твоего Швейка я вижу везде — он живет в каждом из нас. Ты по крупице собирал золотой песок и превратил его в слиток! — Порой Иван ловит себя на том, что сам он — тоже Швейк, — вставила Хелена. — Пиши быстрее свой роман, — попросил Сташек. — Не останавливайся. Я хочу, чтобы он вышел весь, пока я жив. Гашек с грустью слушал старика. Иван вмешался не то шутливо, не то с укором: — Он, папа, все-таки остался немного анархистом и богемой. Хочет — пишет, не хочет — не пишет. Ярда даже выступал в кабаре Червеного и в ресторане Костракевича. Лохматые брови Сташека поползли вверх. Он удивленно спросил: — В кабаре Червеного? — Иван преувеличивает. Правда, в свое время я был анархистом. Если хочешь знать, Иван, у нас это наследственное. В вашей Крчи есть старый дуб. Под этим дубом мой дед в 1848 году беседовал с Бакуниным и заразился анархизмом. Как видишь, я происхожу из старинного анархистского рода! Что касается разных заведений, то там я работаю лучше, чем в уединении. В кабаре я выступал. Одними фельетонами двоих не прокормишь. Воцарилось молчание. Хозяева ждали, что еще скажет гость. Гашек спокойно продолжал: — Я не хочу прятаться от вас, лгать вам. Мне не удалось устроиться на службу. Жить негде. Ты же, Иван, знаешь, что я ехал в Кладно к Антонину Запотоцкому. Приехал — а он за решеткой. Товарищи обещали мне работу и до сих пор подыскивают ее… — Ярда, — сказала Хелена, — тебе не везет потому, что у нас еще живы люди, для которых ты так и остался героем пражских анекдотов. В России тебя ценили, там в тебе видели прежде всего сознательного и дисциплинированного борца. Ты был им. Когда нам рассказали в Москве о твоей деятельности, мы радовались и гордились тобой. Тебя любили советские люди. Такое уважение с неба не валится. Мы тоже верим в тебя, верим в твоего «Швейка». Иван подхватил нить разговора: — Удивительное дело! Твой «Швейк» вызвал такую бурю, какая тебе, наверное, не снилась. Мне по этому поводу припомнились слова Лессинга о Клопштоке: «Его почитали, но не читали». С тобой — наоборот. Тебя ругают, а «Швейка» читают. Одно упоминание о нем вызывает хохот. — Мне особенно нравятся те статьи, где бранят язык «Швейка», — заметила Хелена. — В них ярче всего проявилось ханжество наших критиков. За этими критиками плетутся издатели и книготорговцы. Недавно я побывала в книжной лавке Эдварда Вайнфуртера. Он заявил: «Такую грубую литературу, цель которой воспитывать не интеллигенцию, а нацию хамов и нахалов, мы не продаем, чтобы не позорить честь нашей фирмы. Это — литература для коммунистов». Высокая оценка, правда, Ярда? Язык «Швейка» — пощечина мещанскому вкусу и литературному эстетству. Он придает повествованию особую естественность. Почему те, кто считает роман грубым, забывают о том, что сама война — грубость? Некоторое время все молчали. Гашек смотрел на хозяев и впервые с той поры, как оказался на родине, почувствовал себя по-настоящему дома. — Знаешь, Ярда, — заговорил Ольбрахт, — я, честно признаюсь тебе, боялся, что ты не сможешь дальше писать в том же темпе, каким начал, не удержишь высоты и своеобразия юмора, который ты с легкомыслием опьяневшего мота рассеиваешь в мир, даже не сознавая, что раздаешь! К счастью, я ошибся. Первый том закончен, вышли две тетради второго, а Швейк — все тот же добрый старый Швейк, каким был спустя день после покушения на эрцгерцога. — Мне еще никто не говорил ничего подобного о «Швейке», — откликнулся Гашек. — И ты, и Хелена заслуживаете приза: «Самому внимательному читателю». — Не шути, Ярда, — строго сказала Хелена. — Иван собирается написать статью о «Швейке». Гашек вопросительно взглянул на Ивана. — Мне незачем таиться от тебя. Я действительно хочу написать статью и могу тебе кратко пересказать ее основные мысли. Твой роман — не веселая безделица. Это книга о гнусности войны. Ты, непосредственный участник ее, окинул оком пол-Европы и пол-Азии и написал военный роман. Но он не похож ни на один роман о войне. Так подняться над войной, так смеяться над ней могли только Рабле и Вольтер. Вместе с тобой смеется читатель. Это великолепно! Мы сыты слюняво-сентиментальными или кровавыми поделками писателей-легионеров. Ты показал бессмысленность и жестокость мировой империалистической войны — она у тебя больше всего похожа на пьяную драку в жижковском трактире. Гашеку понравилось это сравнение. В памяти писателя всплыли рисунки Йозефа Лады — смешные драки в сельских трактирах. Ему стало весело. Хелена с улыбкой смотрела на собеседников. — Ты так и напишешь в статье, Иван? — спросила она. — Напишу, — Иван задумался, потом заговорил снова: — Второй аспект — сам Швейк. Это совершенно новый тип в мировой литературе. Он — родной брат чешского Гонзы, впервые перекочевавший из фольклора в художественную литературу и оказавшийся в водовороте нового времени. Швейк — хитроумный идиот, пожалуй, даже гениальный идиот. Благодаря своему глупому, но ласковому добродушию он может и обязательно должен везде выигрывать. Твой Швейк — не выдумка, он — наш, он составная часть нашего характера в такой же мере, как Дон-Кихот, Гамлет, Фауст, Обломов, Алеша Карамазов. Не зря же завопили реакционеры и выдвинули лозунг: «Не Швейк, а Жижка!» Вот что я хочу сказать в своей статье. Может быть, я додумаюсь до чего-нибудь еще, но основная линия тебе известна. — Благодарю тебя, Иван. Когда я писал, мне не приходило в голову и сотой доли того, что ты сказал. Я просто видел своего героя — и рассказывал о нем. Но то, что говоришь ты, заставляет думать даже автора… Как-то в Киеве пан Масарик призывал легионеров соединить в себе, в своем характере религиозно-этические добродетели Петра Хельчицкого с военными достоинствами Яна Жижки. Масариковцы не могут принять Жижку без Хельчицкого, а нам он нужен безо всяких дополнений. Нам нужен был и Швейк. Этот маленький человек оказался сильнее Наполеона. Наполеон сохранил Австрию, породнился с Габсбургами, а Швейк разрушил Австрию, — Гашек помолчал и закончил: — Теперь у нас есть и Гусы, и Хельчицкие, и Жижки, и Швейки, и Гайды, и Частеки. — Правильно, Ярда, — согласилась Хелена. — Ты отлично показал нашим тупоумным шильдбюргерам, что чешский национальный характер меняется вместе с изменением условий жизни чешского человека… Ольбрахт спросил гостя, как идут его издательские дела. — Плохо, — ответил Гашек. — У Зауэра нет денег. — Неси свои рассказы к нам, — сказал Ольбрахт. — Я помогу тебе. Мне хочется время от времени получать от тебя, Ярда, фельетоны и рассказы для «Руде право». — Что тут говорить? Есть спрос — будут и фельетоны. С тобой я рад иметь дело. Сташек и Хелена наблюдали за ними. Над столом, тонко жужжа, вилась оса. Мелькая тигровой спинкой, она пыталась отведать яств, стоявших перед людьми. Хелена прогнала назойливую осу, наполнила бокалы легким вином. День клонился к вечеру. — Хорошо у вас, но пора возвращаться домой, — сказал Гашек и поднялся. Гостя проводили до калитки, Сташек обнял его на прощание: — Не забывай нас. Пиши «Швейка», радуй меня, старика. Я давно так не смеялся. Читаю твой роман и хохочу, как мальчишка…Ф. К. Шальда
Глава тридцать восьмая
Я живу сейчас у подножия замка в добровольном изгнании…В конце августа у вокзала Теснов Гашек столкнулся со своим старым приятелем художником Ярославом Панушкой. — Куда ты с таким скарбом? — спросил Гашек, окинув взглядом рюкзак и этюдник Панушки. — В Липницу, на этюды. — Возьми меня с собой. Я никогда не был в Липнице, все как-то обходил ее стороной. — Едем. Вдвоем будет веселее. Панушка осмотрел Гашека с ног до головы. Тот был в послеобеденном неглиже: расстегнутая рубашка, домашние туфли, непокрытая голова, а в руке — кувшин для пива. Гашек понял, о чем думает Панушка, и сказал: — Я сбегаю за пивом и переоденусь. Гашек быстро вернулся, мало что изменив в своем туалете. «Видно, нелегко ему живется», — подумал Панушка, а вслух произнес: — Спешим. Нужно еще взять билеты. Друзья купили билеты до станции Светла и поехали. За веселыми разговорами время летело незаметно. В седьмом часу они вышли на платформу и начали спорить, кому что нести. — Ярда, — предложил художник, — давай поменяемся ролями. Я понесу твои инструменты, а ты — мои. Гашек немного поломался, но согласился. Панушка передал ему свой тяжелый этюдник и взял у Гашека блокнот и карандаш. Друзья пошли по дороге на Липницу. Вдали, на горе, торчали развалины старинной крепости с готическим замком, построенным более пяти веков назад. Крепость сгорела, и ее стены с башней разрушались от дождя и ветра. — Ярда, — сказал Гашек своему другу, — издали эти развалины смахивают на уродливый паровоз. Вон та часть башни, которая похожа на трубу, простирается к небесам и умоляет их ниспослать ураган, чтобы он повалил ее — она уже не в силах выслушивать пустые разговоры чиновников и постановления правительства Чехословакии об охране древних памятников. До крепости было полтора часа ходьбы. Друзья не спешили, заходили в придорожные кабачки, где у Панушки всегда оказывались знакомые, пили пиво и прибыли на место в первом часу ночи. Огни горели только в липницком трактире «У чешской короны», но он уже был пуст, и хозяин закрывал свое заведение. Панушка представил трактирщику своего друга и попросился переночевать в трактире. Инвальд недоверчиво посмотрел на Гашека — ему казалось, что спутник Панушки больше смахивает на бродягу, чем на известного писателя. Желая успокоить трактирщика, Панушка сказал: — Мы будем спать в одной комнате. Половина ночи прошла у них в разговорах. Они проснулись, когда солнце было уже высоко, а пани Ружена Инвальдова совсем извелась от любопытства, желая своими глазами увидеть Гашека. Перед завтраком Панушка поручился за писателя, который решил пожить некоторое время в Липнице, заплатив за него четыре тысячи крон — за еду и комнату наверху. Позавтракав, Панушка ушел писать пейзажи, а Гашек перезнакомился с клиентами пана Инвальда и угощал их за свой счет. Потом он вернулся в комнату и стал писать «Швейка», уже не думая о том, как и где поесть и переночевать. Когда срок пребывания Гашека в этом раю кончился, Панушка вручил Инвальду новую сумму, и Гашек продолжал писать. Теперь работа шла у него менее успешно. Он чувствовал себя виноватым перед Шурой. Она жила у Франты Зауэра и ломала голову, куда пропал ее муж. — Знает Шура, где ты? — спросил как-то Панушка. — Нет. Пусть она думает, что меня волки съели, — ответил Гашек. Гашек волновался. В его душе боролись желание писать «Швейка» в полном одиночестве и желание успокоить Шуру, сообщить ей о себе. Довольный успешным окончанием новой главы, Гашек взял листок и написал письмо Шуре. Хотя было очень поздно, он оделся и побежал на почту. Почта была закрыта. Гашек разбудил девушку, занимавшуюся отправкой писем, и потребовал, чтобы она немедленно послала его письмо в Прагу. Девушка с неудовольствием взглянула на него, взяла письмо и пообещала, что отправит его утром, с первым поездом. Гашек вернулся домой и уснул сном праведника. Утром, едва открыв глаза, он сообразил, что выдал Шуре место своего пребывания. Быстро одевшись, он снова побежал на почту и попросил девушку вернуть ему письмо. Поведение клиента удивило ее: — Я отправила ваше письмо, как обещала. Это сообщение расстроило Гашека. — Ничего, я еще поработаю. У Шуры нет никакого понятия, где я. Она не решится приехать сюда, — успокаивал себя он. Писатель просчитался. Два дня спустя, когда Гашек возвращался из липницкого замка, в трактире его ждали Шура и Франта Зауэр. — Хорошо, Шура, что ты приехала. А я уже нашел для нас новое жилье, — сказал Гашек. — Я решил не возвращаться в Прагу. Гашек съездил в Прагу за вещами и поговорил кое с кем из издателей. Панушка попросил Инвальдов поместить Гашеков у себя наверху. Те согласились. Писатель спокойно жил и писал роман прямо в пивном зале. Если Инвальды были чем-нибудь заняты, он помогал им — откладывал рукопись, шел к стойке, наливал пиво клиентам. Гашек быстро освоился в Липнице. Неизменно сердечный, добрый товарищ, он легко сошелся с жителями городка, и не строил из себя пана. Часто сам угощал липницких друзей на свой счет, рассказывал им анекдоты, читал юморески, сочинял куплеты «к случаю». Трактир Инвальда стал чем-то вроде клуба, в нем вечно было полно клиентов. Теперь здесь не только пили пиво и сливовицу, но и весело проводили время. Гашек сделался гвоздем провинциального трактира. Клиенты Инвальда просили пана Гашека рассказать им о том, как он служил в Красной Армии, что он видел в Сибири, и почитать что-нибудь новенькое. Он не заставлял себя долго упрашивать. В зале присутствовал «американец» — репатриант из Северо-Американских Соединенных штатов. Он хохотал вместе с другими гостями и над веселыми приключениями Гашека, и над похождениями его героев, но сказал, что такие рассказы писать нетрудно, их может сочинить любой человек. Слушатели возмутились и зашикали на «американца». Но его слова дошли до Гашека, и он вызвал «американца» на литературную дуэль. — Сейчас мы с вами напишем по рассказу, — заявил Гашек. — Я дам вам свою тему, а вы мне — свою. Чтение рассказов через полтора часа. Проигравший угощает всех присутствующих. Писатель сообщил «американцу» тему, но тот наотрез отказался дать ему свою. Тогда писатель объявил, что он напишет юмореску о пане Стршигале и его дождемере. Спустя полтора часа судьи и свидетели предложили «американцу» прочесть его творение. Он подал им лист чистой бумаги. Судьи обратились к Гашеку, а он прочел юмореску, которую назвал «Инспектор пражского дождемерного института». Писатель рассказал в ней о плотине, проектируемой неподалеку от Липницы, на реке Желивке, о пане Стршигале и его испорченном дождемере. Гости захлопали в ладоши и закричали: — Браво, пан Гашек, браво! В это время в трактир вошли двое полицейских с карабинами, и шум в трактире смолк. Полицейские посинели от холода и хотели только одного — побыстрее согреться. Они заказали две порции свинины с капустой и кнедликами. — Пан американец, ждем пива! — кричали гости. «Американец» начал считать присутствующих, чтобы заказать пиво. Заметив полицейских, он сказал: — Пан Гашек, эти господа в счет не идут. Их не было, когда мы спорили. — Я сам угощу их! — ответил писатель. Инвальд, довольный тем, как идут его дела, еле успевал разносить кружки с пивом. Пани Ружена и Гашек помогали ему. Затем писатель поставил на поднос две порции сливовицы, и, подойдя к полицейским, почтительно подал им рюмки: — Господа, сегодня у меня удачный день. Я выиграл пари у «американца» и угощаю вас. Полицейские опрокинули рюмки за здоровье Гашека и заметно повеселели. Они совершенно забыли о своих служебных обязанностях и вместе со всеми клиентами запели: «Были когда-то чехи героями…» Гашек ходил по залу, подпевал и помогал Инвальду. Вдруг он помрачнел, суетливо осмотрел углы, стал что-то искать за печью и на полу. Гости заметили это и с интересом наблюдали за ним. А он подошел к полицейским и негромко спросил: — Господа, где у вас третий карабин? Полицейские вскочили, как ужаленные, сердито посмотрели друг на друга и бросились в угол, где оставили оружие. Там стояло два карабина. Третьего не было. Узнав об этом, клиенты повскакали со своих мест и стали искать карабин. Только после долгих поисков кто-то сообразил, что искать-то нечего. Зачем двум полицейским три карабина? Блюстители порядка отправились на мороз, оставив посетителей трактира в самом веселом настроении. Гашек проводил полицейских и вернулся в зал. Лавочник Богумил Гавел разговорился с писателем, пожаловался на плохие торговые дела и сказал, что хотел бы избавиться от своего домишки. Услышав это, писатель оживился. Он знал домик Гавела — за него лавочник, конечно, не запросит много. Не купить ли? Гашек уже начал тяготиться жизнью на людях, отсутствием угла. Да и Шура порой — вздыхала о какой-нибудь комнатенке… — Продай его мне, — предложил Гашек и, видя, что Гавел с сомнением смотрит на него, сказал: — Я не шучу. За сколько отдашь? Гавел назвал сумму — двадцать пять тысяч крон. — Покупаю! — согласился Гашек. Они ударили по рукам.Ярослав Гашек
Глава тридцать девятая
Божьи люди, любви подайте, Сердца откройте!В Липнице писатель обрел долгожданный покой и работал с утра до вечера. Желая отвлечься после успешной работы, он вырывал листок из старого календаря, перечеркивал карандашом дату и посылал его тому, кого желал видеть у себя. У него побывали Зауэр, Гайек, Кудей, Лонген, Опоченский. Гашек угощал их русским чаем и сибирскими пельменями. Чаще всего он приглашал в гости Панушку. Получив такой листок, художник знал, что Гашек сообщает ему о хорошей погоде в Липнице и зовет его в гости. Панушка приехал в Липницу в начале августа, когда стояли ясные жаркие дни. Гашек радушно принял его. У самого писателя в то время было двое верных оруженосцев — Карел Рерих и Климент Штепанек. Первый, батрак, служил «мальчиком на побегушках» и вел себя с Гашеком, как ординарец с поручиком, а второй, личный писарь, работал с ним шесть часов в день, получая за это четыреста крон ежемесячно. Панушка отправился в липницкий замок писать этюды. Гашек и Штепанек потащили за ним этюдник и складной стул. На всем пути писателя приветствовали его новые знакомые — староста Райдл, сапожник Крупичка, портной Амха, лесничий Бем и сразу три учителя — Мареш, Шикирж и Якль. Гашек дружески отвечал на их приветствия и успевал обменяться с каждым какими-нибудь шутками. Это и радовало, и удивляло Панушку: его друг быстро стал здесь своим человеком. Панушка уселся с этюдником во дворе замка у груды камней и стал работать, а Гашек и Штепанек вбили колышки, натянули на них проволоку, привязали к ней свиные колбаски и развели костер. — Я буду диктовать, — сказал Гашек писарю, — доставай бумагу. Пока Штепанек готовился записывать, Гашек незаметно достал из карманов куртки несколько картофелин и положил их в золу. Некоторое время все были заняты своими делами: Панушка работал кистью, Гашек, прохаживаясь с заложенными за спину руками, диктовал писарю очередные страницы «Швейка», а Штепанек быстро строчил карандашом. Диктуя, писатель не спускал глаз с костра, временами умолкал, присаживался к огню и что-то ворошил в золе. Ветер донес до Панушки запах печеных колбасок. Он не устоял, и, отложив кисти и палитру, потянулся к костру: — Не пора ли нам перекусить? — Пора, — ответил Гашек и подал колбаски Панушке и Штепанеку. Пошарив в золе, писатель вынул картофелины и роздал их. — Я только теперь раскусил тебя, Ярда, — сказал Панушка. — Ты — романтик. Я догадался бы взять с собой колбасу и еще кое-что, но никогда бы не подумал о картошке. А она — отличнейший деликатес на лоне природы. — Старая привычка. В студенческие годы я много бродил по Австро-Венгрии, часто ночевал под открытым небом у костра и пек картошку. Немало бессонных ночей я провел у костров в России — там на протяжении всего моего пути от Буга до Байкала всегда находилось место для такого костра. Немало покурено махорки, выпито чаю и съедено печеной картошки. Бывало, сидишь у костра, печешь картошку, и пишешь срочную статью для красноармейской газеты. — Ярда, как чувствует себя Шура? — спросил Панушка. — Она не соскучилась по России? — Соскучилась. Сильно тоскует. С утра до ночи твердит: «Эх, съездить бы на часок в Уфу, посмотреть, как там живут наши». Я говорю ей: «Там хорошо. Нет ни одного паршивого легионера. Теперь они все здесь». Чтобы отвлечь ее от грустных мыслей, пою ей шуточную русскую песенку про серенького козлика. Но это не помогает. Она подружилась с Анной Пономаревой, женой Коларжа. Как соберутся вместе, так поют печальную русскую песню о рябине. Для меня же Липница — настоящий рай. Здесь необыкновенная тишина, и я работаю гораздо усерднее, чем в России и Праге. Зауэр упрекает меня, что я посылаю ему «Швейка» небольшими кусками, но он не знает, какого это стоит труда. Я ежедневно пишу. У меня в голове уйма новых замыслов, а издатели осаждают меня своими предложениями. По-моему, они просто рехнулись: хотят, чтобы я писал по их заказам. Я — не машина. Делаю только то, что в человеческих силах. Издатель Адольф Сынек просит меня написать о легионерах и о жизни в России. Недавно у меня побывал Эмиль Лонген — ему нужна пьеса по книге Эгона Эрвина Киша «Путешествие парохода А. Ланна вокруг света». Лонген — негодяй. Он смеется надо мной, что я дружу с лесничим Бемом, ожирел, боюсь смерти, как черт ладана. Я никогда не видел в нем настоящего друга, но и не ожидал от него такой пакости со «Швейком». Он хотел обокрасть меня, поставил «Швейка» в пражской «Адрии» без моего согласия. Только после моего решительного вмешательства он частично возместил мне убыток. Дело доходит до анекдотов. На днях явился ко мне издатель и просил написать роман под названием «Как я стал большевиком». Он вручил мне аванс в тысячу крон. Писать я, конечно, не буду, но деньги мне сейчас кстати. А вчера какой-то субъект умолял написать поэмку о богородице — возлюбленной семи разбойников. Я спустил его с лестницы. Я не стану тратить ни одной минуты на такие пустяки. Не хочу, чтобы повсюду склоняли мое имя. Сейчас главное у меня — «Швейк». — А когда ты собираешься его кончать? — Не знаю. Это целая эпопея. С тех пор, как Штепанек стал моим писарем, работа пошла вдвое быстрее. Думаю, что весь «Швейк» будет готов в будущем году. — А чем ты кончишь свой роман? Гашек еще неясно представлял себе конец романа, но сказал: — Думаю, что после войны Швейк вернется на родину: должен же он встретиться в шесть часов вечера после войны в трактире «У Чаши» с сапером Водичкой. Он будет страшно удивлен тем, что увидит дома. Вероятно, напишу еще две части. Я не позволю Швейку умереть даже в конце книги. Я совершил бы непростительную ошибку, если бы похоронил его. Нет, я никогда не примирюсь с его смертью. — А какая судьба ждет подпоручика Дуба? — спросил Панушка. — Вижу, он пришелся тебе по душе, — засмеялся Гашек. — Этот субъект получит все, чего он заслуживает. Дуб встретится с поваром Юрайдой в сортире, и тот, видя,что свидетелей нет, застрелит подпоручика. Дуб упадет головой в дыру и захлебнется в испражнениях. Устраивает тебя такой конец? — Вполне! — ответил Панушка, вынул из папки листок и протянул его Гашеку. На листке был изображен Гашек, диктующий «Швейка» Штепанеку. — Отлично! Теперь давай экслибрис, — произнес писатель, рассматривая набросок. — Будет и экслибрис. Гашек снял с проволочки последнюю колбаску, откусил кусочек и сморщился: — Когда-то я создавал общество борьбы с укорачиванием сосисок. Создадим-ка общество борьбы за увеличение свинины в свиной колбасе! Во времена нашего обожаемого монарха колбаса была лучше, чем в республике. А какие праздники устраивались по случаю убоя свиней! Нарисуй-ка мне экслибрис со свиной головой на блюде — этакого свиного Иоанна Крестителя. — Ты напрасно отказался от поэмы о богородице и семи разбойниках, — пошутил Панушка, набрасывая свиную голову. — У тебя она могла бы получиться. Писатель взял листок бумаги и тоже стал рисовать. Штепанек заглянул через плечо писателя и хихикнул: Гашек нарисовал Панушку, а Панушка — экслибрис. Писатель повернулся к Штепанеку: — Я не буду больше диктовать. Ты свободен до завтра. Штепанек понял, что Гашек хочет побыть с Панушкой наедине, простился и ушел. Некоторое время друзья молчали. Панушка встал и начал собирать вещи. — Домой? — спросил Гашек. — Нет. Но писать больше не буду. Видишь, как изменилось освещение, да и ветер мешает. — Ты знаешь, Ярда, я купил домик, — вдруг сказал Гашек. — Он не лучше развалин этого замка, и, как замок, переходил из рук в руки. Инженер составил мне смету ремонта и перестройки. Ремонт будет стоить почти столько же, сколько сам домик. Можешь ли ты мне дать денег? Я с тобой всегда рассчитываюсь вовремя. Немного подумав, Панушка ответил: — Хватит тебе десяти тысяч? — Это половина суммы, необходимой для ремонта. Я должен спешить: зима не за горами, да и Шура недовольна, что мы живем в трактире. Это и дороже, и беспокойнее. — Ну, и удивишь же ты своих пражских знакомых! Великий бродяга превращается в домовладельца и домоседа! — Лонген, пожалуй, снова заработает, распуская обо мне всякие небылицы. Я достаточно насмотрелся, как вели себя наши люди до войны, в армии, в Киеве, в Москве, на Волге, в Сибири и теперь уже ничему не удивляюсь, только с грустью покачиваю головой, когда вижу, что делают самые толковые и умные из них. Тебе я признаюсь, чтобы заранее отмести вздор насчет того, что я стал домовладельцем. Домик — собственность Шуры. Покупка оформлена на ее имя. Если со мной что случится, она не останется без крова. Панушка ничего не ответил, понимая, что имеет в виду Гашек: в случае его смерти домовладелицей стала бы Шура, а не Ярмила. Панушка не хотел касаться этой темы, но Гашек заговорил сам: — Я благодарен Шуре: она спасла меня от смерти, заботилась обо мне, когда я воевал в Сибири, она — настоящий борец и хороший друг. Шура могла бы сейчас учиться в Советской России и стать там большим человеком, а я ее привез для мещанского прозябания в нашей масариковской демократической республике. Для нее это большая драма. Она покинула родину. Там теперь победила подлинная, народная демократия. У всех тружеников появились такие права, которых не было и нет ни в одной другой стране, даже в хваленой Америке. У нас все права и свободы принадлежат только богачам. Шура поверила мне, поехала со мной в Прагу, и я не могу предать ее. В то же время, записав домик на Шуру, я лишил Ярмилу и своего сына наследства. Теперь я часто думаю о них и вижу, что был несправедлив к Ярмилке. Я даже писал ей, чтобы она приехала сюда с Ришей, но она не ответила. — Это напрасно, — сказал Панушка. — По-моему, ты только мучишь себя. Ярмила — убежденная представительница Торгово-ремесленной палаты, она не пойдет штурмовать Градчаны. Ей хорошо в Праге. Она известна как пани Гашекова, воспитывает сына и не хочет лишних тревог. — Мальчику нужен отец не меньше, чем мать, — продолжал Гашек. — Риша любит меня, и я его люблю. По-моему, он талантлив. Я хотел бы, чтобы он стал писателем, только лучшим, чем я. — А Ярмила, конечно, против. На одном писателе она уже обожглась… — Я был виноват. Она слишком мало видела от меня хорошего. Я хотел бы все исправить, но не знаю, как. Я обидел их. Будешь в Праге — зайди к Ярмиле и позови ее в Липницу от моего имени. Панушка с недоумением глядел на него. Гашек продолжал: — Тебя, наверное, удивляет мое сентиментальное настроение? Теперь оно часто находит на меня. Временами я готов разреветься. Я чувствую, что я болен. Я стараюсь не показывать этого, и людям кажется, что я здоров. У меня болит грудь, порой бывают какие-то странные спазмы вот тут, прямо между ребрами. И ноги у меня отекают. Это скверный симптом. Панушка сидел, потрясенный исповедью друга. Он ничем не мог помочь ему, разве только деньгами и сочувствием. Тучи густо заволокли небо. Ветер крепчал. Он дул со стороны Гумпольца. Один из его порывов сильно раздул костер. — Как бы не устроить пожара, — сказал Гашек, гася огонь. — Чего доброго, сгорит последний мазхауз. Я не хочу быть липницким Геростратом. — Хватит с тебя славы большевистского комиссара, — шутливо отозвался Панушка, забирая этюдник. — Пошли! — Мы покидаем развалины средневекового замка как герои «бури и натиска», — сказал Гашек, театральным жестом обводя все вокруг. — Вот тебе руины, вот тебе пепелище, а герои идут навстречу урагану! Это — дань романтизму, недаром ты говорил, что я — романтик. Но я и реалист. Позади нас руины и погасший костер, вокруг свирепствует буря, а мы спокойно спустимся по тропинке и спрячемся от бури у пана Инвальда. — Прекрасная программа! — заметил Панушка, спускаясь вслед за Гашеком. — Лучше не придумаешь.Иржи Волькер
Глава сороковая
Строить стал я на песке — Развалилось. Строить стал я на скале — Развалилось. А теперь я стану строить С дыма над трубой.Пан Геринк, инженер из города Светла над Сазавой, составил проект перепланировки и ремонта дома № 185 и смету расходов, необходимых для проведения работ. По совету инженера Гашек нанял трех каменщиков и плотника. Рабочие разберут крышу, укрепят кладку обветшалой задней стены мощным каменным столбом, поставят новые балки, стропила, сколотят из досок крышу и уложат на ней черепицу, пристроят веранду на бутовом фундаменте и пробьют семь дверных проемов. Хозяин домика на семи ветрах хотел, чтобы к нему со всех сторон приходили гости. Места хватит для всех. В домике шесть помещений: два — с фасада, три — в нижнем крыле, одно — возле подвала. Из окон домика открывается прекрасный вид в любую сторону. Гость увидит из домика замок и дорогу, ведущую к нему, долину с рощей и лугами, городок, его небольшие домики под красной черепицей и сады. Кто пожелает, может отдохнуть в треугольном садике под тенью фруктовых деревьев. Строительные работы шли медленно — это беспокоило Гашека. Он старался ускорить их, нанял еще двух рабочих и помощника, бывшего солдата Карела Рериха. Дело пошло быстрее, но конца не было видно. Гашек засучил рукава и стал работать сам. Зденек Кудей застал Гашека возле корыта, в котором гасили известь — он сыпал в него песок, лил воду, размешивал. Писатель выпрямился, обрадовался гостю, приветственно махнул рукой и, подозвав к себе Рериха, сказал: — Продолжай. Помешай еще немного и подай раствор на веранду. — Есть! — козырнул тот по-военному. Гашек снял с себя женский фартук, вымыл руки и обнял Кудея: — Идем к Инвальду. У себя дома я буду принимать гостей только поздней осенью. — Чего ты только не делаешь! А теперь еще и строитель! Не помешает ли тебе эта профессия работать над «Швейком»? — не то шутливо, не то озабоченно спросил Кудей. — Уже мешает, — признался Гашек. — У меня все получается по французской поговорке — «двенадцать профессий, тринадцатая — нужда». — Кстати, я привез тебе долг. — Спасибо, деньги мне сейчас очень нужны. За последнее время я сам задолжал Панушке, этот ремонт доконает меня. А как насчет австрийских календарей? — Пришлось полазать по чердакам. Ты найдешь в них немало интересного. — Нет ли там истории о безногом и безголовом солдате, который славит государя императора и полон решимости драться за него, пока, согласно присяге, не будет разорван на куски? Я читал об этом в Чешских Будейовицах перед отправкой на фронт. — Наверное, есть. Я привез тебе целую пачку календарей, открыток и книг. Там ты найдешь рассказ о восьмидесятилетием монархе, который в полном одиночестве охотился в Альпах и спас мальчика, вытащив его из пропасти… — Отлично. Сегодня вечером посмеюсь вволю. В этих календарях целые россыпи острот, проделок, невероятных историй. Можно лопнуть от смеха, читая всю эту чушь. Издатель сердится, что, мол, в «Швейке» мало шуток. Вот я и ищу их везде, где только могу. Если твои календари подойдут, то обязательно вставлю кое-что из них в «Швейка». В трактире было немного посетителей. Все они весело приветствовали Гашека. Неподалеку от стойки сидел Штепанек и ждал своего хозяина. Внимание Кудея привлек большой рекламный плакат, висевший на стене. Он был написан самим Гашеком по просьбе постановщиков «Швейка» в Немецком Броде.Леопольд Стафф
«Бравый солдат Швейк в Немецком Броде 1, 2, 3 августа. Превосходная сатира на австрийский милитаризм. Спектакль по книге «Бравый солдат Швейк» представляет собой новую эпоху в театральном искусстве. Швейк — философ. Карел Нолл, уроженец Немецкого Брода, — лучший комик в мире. Коллектив театра «Адрия» осуществляет шестьсот девяностую постановку «Бравого солдата Швейка». Пьеса переведена на все мировые языки. Она исполнялась в Париже под протекцией президента Французской республики, в Англии — под протекцией короля. Президент Соединенных Штатов Америки в беседе с австрийскими журналистами заявил: «Посещая Европу, не забудьте, господа, побывать 1, 2, 3 августа в Немецком Броде и купить билеты на спектакль «Бравый солдат Швейк». Феноменальная постановка театра «Адрия», в которой уроженец Немецкого Брода Карел Нолл выступит в роли бравого солдата Швейка».— Напоминает рекламу «партии отборнейших помидоров»! — пошутил Кудей. — Ты угадал. Я старался писать как раз в этом стиле. Успех спектакля колоссальный. Я не был на премьере «Швейка» в Праге, но от Зауэра слышал, что пражане хорошо приняли спектакль. Правда, там не обошлось без курьеза: Лонген долго не мог найти актера на роль фельдкурата Каца, хотя именно в Праге есть такой актер — Ференц Футуриста. Он — самый лучший комедийный актер нашего времени, его стихия — народный театр. Спектакль в Немецком Броде я смотрел с Шурой. Мы сидели в ложе, и я следил за сценой и зрительным залом. Публика все время хохотала. В начале второго антракта меня потребовали на сцену. Мне было неловко выходить, я был слишком скромно одет. Но Зденек Дворжак, организатор спектакля, шепнул мне, чтобы я шел, а то, мол, публика обидится. Пришлось выйти. Хлопали мне, словно какой-нибудь примадонне, благодарили за веселую пьесу. А я разволновался и не мог произнести ни слова, только молчал и кланялся. На столе появилось пиво. Улыбающийся Инвальд поставил перед друзьями сосиски с капустой и горчицей. Гашек замолчал, словно волнение того театрального вечера опять овладело им. Потом, встретив взгляд Кудея, с нетерпением ожидавшего продолжения, он сказал: — Публика вознаградила меня за все пражские огорчения. Я рад, что простой народ отлично понял и хорошо принял моего «Швейка». У меня появились новые планы — издать «Швейка» за границей, предложить его для кинематографа и поставить в трактире Инвалида. Пока у труппы «Адрии» есть договор на двадцать пять представлений. Узнай, нельзя ли пригласить ее в Табор. — Я попробую предложить «Швейка» Таборскому театру. Скажи, это правда, что Нолл хочет ехать со «Швейком» за границу? — Правда. Только неизвестно, как примут «Швейка» зарубежные зрители. Гашек и Кудей умолкли и занялись едой. Потом Кудей спросил: — Успеет ли просохнуть дом? — Почему ты об этом спрашиваешь? — Не терпится побывать у тебя на новоселье. Ты говорил, что будешь справлять его поздней осенью. — Надеюсь, что просохнет. Мне хочется поскорее поселиться там. Работа идет страшно медленно. — Хозяин сам виноват, — вмешался в разговор Штепанек. — Он постоянно угощает каменщиков, поит их пивом каждый день, а по субботам — даже вином. Им очень понравился добрый заказчик. Они рады пить на дармовщину, вот и тянут ремонт. Дело дошло до того, что пан Гашек стал сам подносить кирпичи, разливать раствор, гасить известь… — Я видел его за работой, — подтвердил Кудей. — Слушай, Ярда, Штепанек прав. Тебе надо писать «Швейка», а не кирпичи подносить. Мебель заказана? — Заказана. Думаю, что будет готова раньше, чем дом. Спальня из лиственницы, рабочий кабинет в стиле мазхауза липницкого замка — большой стол, восемь стульев с резными подлокотниками, точь-в-точь, как в замке, шкаф. Столяр — хороший мастер, я за него спокоен. — Пан Гашек и столяра угощает, — проболтался Штепанек. Гашек махнул рукой: — Долго ты будешь сплетничать обо мне? Больше не хочу говорить о делах, надоело. До сих пор не могу свыкнуться с новой ролью домовладельца, в душе я — бродяга. Помнишь, — обратился он к Кудею, — как мы путешествовали в молодости? Гашек и Кудей ударились в воспоминания. Штепанек внимательно слушал пеструю, сбивчивую повесть об этих путешествиях и порой завистливо вздыхал.
Глава сорок первая
Узка дверь в могилу, а вон — и той нет.В начале декабря писатель заболел. Доктор Ладислав Новак осмотрел его, выписал лекарства, запретил пить пиво, велел лежать в постели. Гашек по виду врача понял, что тот сильно обеспокоен состоянием его здоровья. Он подчинился всем предписаниям, а Шуру попросил придвинуть к постели стол и положить на него бумагу и ручку. Работа не шла. Вскоре писатель потерял аппетит. Его тошнило. Новак посоветовал пить молоко и минеральную воду «Шаратица». Болезнь не отступала. У Гашека отекали ноги и усилились боли в сердце. Они то проходили, то снова появлялись. Писать было трудно — лежачее положение сковывало движения, а работать за столом он мог только урывками, когда боли отпускали. — Как только поправлюсь, куплю пишущую машинку, — сказал он своему секретарю. Писатель продиктовал Штепанеку сцену офицерской пирушки в Золтанце — на эту пирушку с опозданием прибыли поссорившиеся в пути подпоручик Дуб и кадет Биглер:Русская пословица
«Биглер взял полный стакан, скромно уселся у окна и ждал удобного момента, чтобы бросить на ветер свои знания, почерпнутые из учебников. Подпоручик Дуб, которому ужасная сивуха ударила в голову, стучал пальцем по столу, и ни с того ни с сего пристал к капитану Сагнеру: — Мы с окружным начальником всегда говорили: «Патриотизм, верность долгу, самосовершенствование — вот настоящее оружие на войне. Я напоминаю вам об этом потому, что в ближайшее время наши войска перейдут границу».Штепанек ждал, когда писатель снова подаст знак записывать, но тот больше не диктовал. Он не мог. Весть о болезни Гашека быстро разнеслась по Липнице. К нему приходили друзья, справлялись о его здоровье. Писатель шутил, что он уже не похож на одесского матроса, которого едва не убили в драке пьяные моряки, а смахивает на стивенсоновского пирата Билли Бонса, которому врач запретил пить ром и который обзывал врача шваброй, кричал, что докторишки ничего не смыслят в медицине — ведь он, Билли Бонс, побывал в таких странах, где люди, как мухи, дохли от Желтого Джека, где ром для него был и едой, и питьем, и женой, и другом. Шура, слушая мужа, объясняла гостям с обезоруживающей серьезностью: — Все это он выдумал. В России Яроушек не пил никакого рома и болел не Желтым Джеком, а тифом. — Шура права. Я несколько раз болел тифом. Только она меня и выходила. У них, в семье князей Львовых, сохранился удивительный рецепт лечения брюшняка. Они хранят его в тайне, — соглашался Гашек и, подмигнув друзьям, добавлял: — Рому в России я не пил. Там есть знаменитый самогон. Он вроде нашей коржалки, только покрепче… Штепанек аккуратно приходил к Гашеку каждый день, подолгу просиживал возле больного, но уже ничего не записывал. Накануне Нового года Гашеку полегчало. Обув сибирские пимы, он вышел во двор, взял лопату и стал разгребать снег перед калиткой. Шура подбежала к мужу, хотела взять лопату, но он сказал: — Мне полезно поработать. Залежался я, Шуринка. Может быть, немного похудею… Шура отошла от него. Гашек скоро утомился и сам вернулся в дом. Тем временем Шура и Штепанек внесли в большую комнату кровать, сделанную по заказу писателя, придвинули к ней стол и поставили на нем маленькую елочку. Шура украсила деревце, зажгла на нем свечки… — Здесь даже не поставишь настоящую елку… — вздохнула Шура. — У вас и лес-то на лес не похож. — Если бы перенести сюда самую большую сибирскую ель да забраться на ее макушку, то мы бы с тобою увидели Уфу! — пошутил Гашек. — Шутки шутками, а мне, может быть, этих елок как раз и не хватает. Гашек снова услышал, какая тоска по родине прозвучала в словах и голосе жены. Он ничего не сказал ей. Маленькая елочка на столе напоминала Гашеку и рождественские елки, которые украшала мать, скромные праздники детства, и — неожиданно — могучие омские ели, под которыми он с Шурой встречал 1920 год во время недолгой остановки типографии. К ним приходили друзья, поздравляли их с Новым годом. Они желали Гашеку здоровья, его роману — успешного окончания и огорчались, что Гашек не может выпить с ними. — Не могу. Я выше головы напичкан всякими лекарствами. Меня то поят, то колют ими. Лучше приходите ко мне в день Трех волхвов на сибирские пельмени. В России никто не умеет делать их лучше княгинь Львовых. Шура получила этот секрет в наследство от своей бабки… Второго января Гашеку стало плохо. Шура позвала врача. Новак осмотрел больного. Сердце сильно сдало, началось воспаление легких. Новак сделал ему инъекцию камфары и велел лежать. Писателю полегчало. Шура укутала его, и он уснул. Доктор еще несколько раз заходил к писателю и убедился, что это улучшение было временным. Шура поняла, что Ярославу осталось жить считанные часы. Она боялась показаться ему плачущей, но не могла сдержать слез. В такие минуты ее заменяла служанка Мария-Терезия, румяная крестьянская девушка, тезка австрийской императрицы. Ловкими руками она ставила компрессы на сердце, ноги и пятки больного. Эта «императрица» служила в семье бывшего большевистского комиссара только второй месяц, но успела сильно привязаться к своим хозяевам. Когда она готовила обед, ее сменяла Мария Влчкова, строгая, немолодая жена шорника. Поздней ночью Гашеку стало еще хуже. Шура опять позвала Новака. Врач провел бессонную ночь у постели больного. Сердце писателя отказывалось работать, его подстегивали только инъекции камфары. В половине второго Мария Влчкова поставила компресс на сердце. Гашеку стало жарко. Немного придя в себя, он сел в постели и попросил перо и бумагу. Новак догадался, что писатель решил написать завещание. Видя, что рука больного дрожит и плохо повинуется, Новак предложил ему свои услуги. Писатель откинулся на подушку и начал четко, громко, без запинки, диктовать свою последнюю волю. Видимо, он давно все продумал. Новак понял, что Гашек беспокоится о судьбе Шуры и боится, что она после его смерти останется одна, под открытым небом без гроша в кармане, если он своевременно не укажет в специальном письменном завещании, что она — его наследница. Писатель продиктовал завещание, взял его у врача и прочел. Исправив две орфографические ошибки, он подписал его и попросил доктора поставить свою подпись. Доктор исполнил его просьбу. Потом завещание подписали свидетельницы Мария Влчкова и Мария-Терезия Шпинарова, которые уже несколько дней и ночей стояли, как судички, у его постели. Выразив свою последнюю волю, Гашек успокоился и задремал. В пять часов доктор пошел к старосте Райдлу и сообщил ему о кризисном течении болезни писателя. В половине восьмого утра Гашек очнулся. Обе Марии, находившиеся у его постели, увидели, что он плачет, и начали успокаивать его. Они говорили, что он еще молод, в полном расцвете сил и обязательно поправится. Гашек молча слушал их. Слезы на его лице высохли. Взглянув на своих сиделок, он с усилием произнес: — Я никогда не думал, что умирать так тяжело… После этих слов Гашек потерял сознание. Около восьми часов к его постели подошел староста, герой одного из последних рассказов Гашека. Врач уже ничего не мог поделать. Писатель не приходил в себя. Новак предложил старосте подписать завещание, и тот исполнил его просьбу. Врач снова выслушал Гашека и, встретив вопросительный взгляд Райдла, объяснил: — Паралич сердца. Третьего января 1923 года, в половине девятого, сердце писателя перестало биться. Рано утром, незадолго до смерти своего шефа, Штепанек позвонил Богуславу Гашеку, чиновнику банка «Славия», и сообщил ему, что его брат при смерти. Богуслав приехал в Липницу вечером, зашел к Инвальду и попросил трактирщика взять на себя заботы о похоронах. Тот согласился. Простившись с покойным, Богуслав Гашек в тот же вечер уехал в Прагу. Смерть Ярослава и связанные с нею хлопоты сильно удручали его. От Шуры он узнал, что перед смертью Ярослав не исповедался. Поскольку Богуслав не знал, что накануне первой женитьбы Ярослав «вернулся» в лоно католической церкви, то считал его выбывшим из католической общины. Он был убежден, что церковь откажет ему похоронить брата на кладбище. Оставалось просить разрешения на кремацию тела в самой столице. Хлопоты Богуслава не имели успеха. Липницкие друзья Гашека не могли ждать и решили похоронить его в своем городке. В субботу, 6 января, в день Трех волхвов, возле дома Гашека собрались его липницкие друзья, соседи и «соколы». Ждали выноса тела. Было холодно, дул резкий ветер, кидая в лица собравшихся колючий снег. Панушка и Инвальд отдали последние распоряжения. Двери дома были слишком узки, и гроб с телом писателя вынесли через окно. Подняв гроб на плечи, люди медленно понесли его по улице. За гробом молча шли Панушка и его сыновья, Александра Гавриловна, Инвальд с женой, учителя Мареш и Якль и двенадцатилетний Риша Гашек. Ярмила Гашекова не поехала на похороны, послала в Липницу мальчика. Риша теперь знал, что человек, которого он провожает в последний путь, — не «пан редактор», а его отец… Оркестр играл траурные марши. Люди шли в похоронной процессии и несли на своих плечах гроб с телом бывшего большевистского комиссара — они воздавали покойному все почести, в которых ему отказали масариковцы. Церковь запретила хоронить Гашека на освященной земле липницкого кладбища. Могилу вырыли у стены, возле белой башни, под деревом — здесь хоронили самоубийц и некрещеных младенцев. Учитель Мареш произнес над гробом писателя краткую, трогательную прощальную речь. Гроб опустили в могилу. Все неподвижно стояли вокруг, а Шура, цепенея от холода и горя, медленно наклонилась, подняла несколько комков земли и бросила их в могилу. Глядя на нее, по русскому обычаю, стали бросать землю на гроб и другие. Могильщики засыпали могилу землей, и скоро у кладбищенской стены вырос маленький холмик. Люди стали расходиться. Резкий ветер со снегом перешел в метель. Метель ровно заметала и могилы добропорядочных граждан, и могилы некрещеных детей, и могилы самоубийц. К вечеру под белым снежным покровом уже нельзя было найти свежезасыпанную могилу. Метель выла и мела всю ночь.
Эпилог
Ты меня спрашиваешь, что я такое? Подожди, когда меня не будет. Людвиг ФейербахПохоронив мужа, Шура исполнила его последнюю волю — отдала Ярославу Панушке сибирские пимы. Вскоре в домик № 185 явились представители власти для описи имущества, оставленного покойным. Оно было невелико: старенькое зимнее пальто, поношенный костюм, четыре ветхих рубашки, свитер, подаренный Ярмилой, — всего на сумму четыреста крон. Домик, такой же подержанный, как и одежда писателя, не прельстил Ярмилу Майерову-Гашекову, и она не стала оспаривать завещание. Другая комиссия должна была определить состав и содержание литературного наследия писателя. Эксперты этой комиссии: издатель Эмиль Шульц и юрист, доктор права Антонин Червенка ограничились оценкой одного романа о Швейке. Акт экспертов, датированный 20 августа 1923 года, как две капли воды похож на смешные документы, которые так ловко пародировал в своих произведениях сам Гашек. Перечислив количество экземпляров романа, — и проданных, и находящихся на складе, — они пришли к заключению:
Гашек — бессмертен, он скоро снова воскреснет.Эгон Эрвин Киш
«Со смертью автора интерес читателей к нему (т. е. к роману «Похождения бравого солдата Швейка» — Г. Ш.) падает, что подтверждается тем обстоятельством, что IV том был продан только в количестве 8000 экземпляров. По-видимому, в ближайшее десятилетие можно предпринять еще два издания тиражами по 5000 экземпляров для каждого тома и определить гонорар в сумме 65000 крон. Через десять лет содержание сочинения для новых поколений будет непонятно, и у него вряд ли найдутся какие-либо читатели».По мнению чиновников, имя Гашека должно было кануть в Лету через десять лет, а вместе с ним эту участь предстояло разделить и его герою — бравому солдату Швейку. Так после смерти писателя эксперты вынесли смертный приговор его творчеству. Этому пророчеству не суждено было сбыться. Интерес к Гашеку рос не по дням, а по часам — его рассказы, юморески, фельетоны и роман о бравом солдате переводились на многие языки и читались во всем мире. Так закончились земные мытарства Гашека. О приключениях своей души в потустороннем мире он сам рассказал за два с половиной года до смерти в небольшой юмореске. Небесные стражи порядка, с которыми встретилась на том свете душа писателя, отличались от австрийских полицейских только ангельскими крыльями. Они сурово допрашивали душу, а она охотно рассказывала о человеке, в теле которого жила. Удивительная душа! Язык был дан ей для того, чтобы лучше скрывать свои мысли. Отвечая на вопросы небесных полицейских она или недоговаривала, или возводила на себя напраслину — короче, вела себя так, как это делал при жизни сам писатель. — Гашек почитал государя императора, — сообщала душа. — Почитал? — удивлялся проницательный читатель. — Ничего подобного! Гашек гордился тем, что предал его и советовал не выпускать эту старую развалину из сортира, иначе она загадит весь Шёнбрунн! — Он писал разные глупости… — Не хитри, душа! Ты и сама не веришь тому, что говоришь. Еще до войны критики отмечали, что юмор живет в самом Гашеке и появляется раньше, чем он обмакнет перо в чернила. — Я принадлежала человеку, выше всего почитавшему начальство и законы… — Еще одна увертка! До войны Гашек был анархистом, противником всякого начальства и всяких законов. В 1918 году он сам стал начальником, защищал Советское государство и его законы. — Я никогда не имела дела с полицейскими… — А это уже ложь. Кому, как не тебе, душа, помнить, что он часто сталкивался с «хохлатыми»? — Он был бравым солдатом, имперско-королевским пехотинцем, держался ближе к кухне и приводил поваров в смятение своими кулинарными познаниями… — Это похоже на истину. Ближе к кухне Гашек держался в армии Габсбургов — он не хотел сражаться за чуждые ему интересы и идеалы. Писатель разошелся и с легионерами, когда те стали наемниками Антанты. Бравым солдатом он был в Красной Армии. Что касается кулинарных познаний, то они у Гашека были. Только странно, душа, что ты так охотно говоришь о его кулинарных талантах и помалкиваешь о литературном. Уж не мистифицируешь ли ты? Дарование писателя отрицали чешские реакционеры — они видели в нем грубого, безнравственного «периферийного» писателя, а его Швейка называли подонком и кричали, что швейкиана опозорила чешский народ на весь мир, разлагает молодежь и армию. А на самом деле? А на самом деле Гашек любил свой народ как народ таборитов, возвеличил его своим пером, подарив ему знаменитого «Швейка», шедевр не только чешской, но и мировой литературы. Сами чешские писатели преклоняются перед своим коллегой. Иржи Маген, Карел Чапек и Иван Ольбрахт говорят о нем:
«Гашек был настоящим литератором, а его друзья только околачивались около литературы». «Гашек был человеком, который видел мир, многие же о нем только писали». «Гашек — гениальный писатель. Он и его герой Швейк — братья сказочного Гонзы».Национальный герой Чехословакии Юлиус Фучик оценил роман Гашека.
«Подвиг Ярослава Гашека состоит в том, что он сумел гениально найти Швейка и поставить его в такие условия, в которых проявились все существенные признаки его натуры».Служа в буржуазной чехословацкой армии, сам Юлиус Фучик надел маску Швейка и на собственном опыте убедился в истинности своей оценки бравого солдата. Удивительный герой Гашека, не погибший в мусорной корзине и чудом избегнувший ножниц цензора, победно шествовал по земному шару — он говорил на языках разных народов, смеялся на рисунках, выступал на театральных подмостках, играл на экране, пел в опере. Никто не мог ни остановить солдата, ни заткнуть ему глотку. Всемирное признание писателя и его бравого солдата вынудило чешскую буржуазию «переменить» отношение к нему. Масариковские мракобесы, тупоголовые солдафоны, лицемерные педагоги-моралисты и благочестивые попы-ханжи на время замолкли. Казенные борзописцы стали утверждать, что Гашек был истинным патриотом, искренним приверженцем «батюшки-освободителя нации», президента республики Томаша Масарика, будто бы «всегда поддерживал стремления пана президента» и что он только ненадолго «примазался» к большевикам, а в Красной Армии служил так же, как бравый солдат Швейк австрийскому государю императору. Чешская буржуазия бранила писателя дома, но хвалила его за рубежом и, торгуя его славой, сшибала на экспорте «Швейка» огромные барыши. Душа словно не слышала возражений — она то ли в шутку, то ли всерьез продолжала свое: — Ел он за двоих, пил за троих, спал за четверых… — Ах, душа, душа! Многие из нас любят поспать, поесть и выпить. Не подходи к писателю с меркой узколобых тартюфов. Этот человек был подобен великим мастерам эпохи Возрождения. А они не чурались ни радостей жизни, ни здорового смеха над злом и пошлостью. Таков и наш герой. Душа писателя стала меланхолично перечислять все смерти, какие придумали Гашеку ретивые борзописцы. Казалось, ей нравилось пересказывать всякие небылицы. — Довольно, душа. Ты сама знаешь, что это неправда. Некрологи выдумывались тогда, когда падал интерес подписчиков к газете и уж ничем иным не удавалось привлечь их к ней. — Когда я стояла у врат вечности в последний раз, — продолжала душа, — меня спросили: «Кем ты была при жизни?» Я ответила: «К тридцати пяти годам я имела за собой восемнадцать лет прилежной плодотворной работы. До 1914 года я наводняла своими сатирами, юморесками и рассказами все чешские журналы. У меня был широкий круг читателей. Прикрываясь всевозможными псевдонимами, я заполняла целые номера юмористических журналов. Но мои читатели в большинстве случаев меня узнавали. Поэтому я наивно считала себя писателем». — У врат вечности ты, душа, скромничала. Гашек — великий писатель. Ты должна гордиться его именем. В шутку он называл себя гениальным чешским писателем, а позже оказался гениальным мировым писателем, место которого рядом с греком Аристофаном, французом Рабле, англичанином Свифтом, немцем Распэ, американцем Марком Твеном, русскими Гоголем, Салтыковым-Щедриным и Чеховым. Простой и веселый среди друзей, он ни на минуту не расставался со своей маской праздного гуляки и забавлял их. Гашек не только не боялся худой славы, но и создавал ее сам, рассказывая о себе всякие небылицы. Им верили, потому что он изображал себя смешным. Эта маска защищала его от нападок. Добродушный, флегматичный субъект, он прикидывался то простоватым рассказчиком, то сумасшедшим, то собаководом, то лидером шуточной партии. Где уж тут разглядеть истинное лицо человека! К маске в жизни и в литературе давно прибегают сатирики и юмористы. Уже в XVI веке от лица Глупости говорил Эразм Роттердамский, а выдающийся немецкий гуманист Ульрих фон Гуттен со своими друзьями, надев маску «темных людей», едко осмеял средневековых схоластов и мракобесов. В русской литературе появился Козьма Прутков — коллективная маска А. К. Толстого и братьев В. М. и А. М. Жемчужниковых. Маска Гашека — не только плод творчества литератора. Она родственна маске «дедушки Крылова», которая спасала старого баснописца от излишнего обывательского любопытства и чрезмерного интереса властей. Гашек был моложе Крылова, когда нашел свою маску. Он пользовался ею до тех пор, пока не развалилась Австро-Венгрия. Зато ни от кого из тех, с кем Гашек служил в Красной Армии, мы не услышим и слова о какой-нибудь маске. Ему не от кого было прятаться среди людей, которые ценили его и его работу, видели в нем стойкого борца за свободу. Встретившись же со своими земляками-легионерами под Самарой, он прикинулся идиотом. То же было и с псевдонимами: писатель везде и всегда пользовался ими — многие из них не расшифрованы до сих пор — но не прибегал к ним в красноармейской печати. — Меня не стали слушать, — вздохнула душа, — и строго спросили: «Кем ты была на самом деле?» Я смутилась, нащупала в кармане некролог и выкрикнула в замешательстве: «Я была пьяницей с пухлыми руками!» — Бедная душа! Ты тоже предпочла воспользоваться строкой некролога, словно маской перед лицом небесных полицейских. Что же было дальше? — «Откуда родом?» — спросили меня. Я ответила: «Мыдловары». — Ай да озорница! Уж не хочешь ли ты, чтобы за честь считаться родиной Гашека спорили семь чешских городов, как когда-то спорили из-за Гомера греческие города? Или ты хочешь, чтобы литературоведы заработали на этой проблеме кусок хлеба? Всем известно, что родина Гашека — королевская столица Прага. — «Год рождения?» — спросили меня. Я ответила: «1883-й». — Год рождения ты помнишь. — После этого меня поглотило море вечности. — Море вечности… Вечность — забвение или бессмертие? Как ты понимаешь ее, душа? Но душа, дав интервью, упорхнула. Как видно, она была достойна своего имени — в этом скоро убедились все. Когда, вопреки мнению официальных экспертов, роман Гашека стал первым чешским бестселлером, а Карел Ванек, пытавшийся дописать историю бравого солдата, потерпел неудачу, ловкачи из «Чешского слова» решили обскакать своих соперников и обратились за помощью прямо на тот свет. Ради заработка они даже забыли о том, что в свое время писатель окрестил их шпиками, продажными шкурами и предателями рабочих. Эти дельцы собрали в Липнице виднейших спиритов республики, чтобы те вызвали дух самого Ярослава Гашека и попросили его продиктовать продолжение романа. Но увы, медиумы оказались бессильны! Душа писателя не снизошла до разговора с ними…
Старинные пражские куранты продолжают мерить вечность. Когда куранты бьют, фигурки вокруг часов приходят в движение. Скупец хватается за мошну, турок испуганно вертит головой, смерть дергает шнур… В окошечке плавно проходят святые апостолы во главе с Христом. Под адский грохот предатель Иуда проваливается в преисподнюю. Петух взмахивает крыльями и громко кричит, возвещая наступление нового часа. Куранты знают, что время неумолимо течет вперед. Они были свидетелями великих событий и перемен на чешской земле. Как минута, промчалось недолгое господство чехословацкой буржуазии — время жестоких классовых боев трудящихся против капиталистов и помещиков, время безработицы и кризисов. Буржуазия не смогла защитить государственную самостоятельность, предала нацию, капитулировала перед Гитлером и его слугами-гейнлейновцами. Снова, как несколько веков назад, земля оцепенела, покрылась коричневым мраком. Фашисты грабили и онемечивали народ. Он мог бы погибнуть, если бы над страной не занялась заря. Свет пришел с Востока. Героическая Красная Армия, бойцом которой когда-то был Гашек, пришла на помощь его народу, освободила его родину, Прагу, где он родился, и Липницу, где он спит вечным сном. Пражский петух кричал не зря. Ранним майским утром советские танкисты ворвались в Прагу. Бойцы Сопротивления, истекавшие кровью, воспрянули. Солнце высоко поднялось над столицей. Фашистские оккупанты были изгнаны из нее. На улицах горели костры, пожирая свастики, фашистские флаги, вывески, портреты фюрера и протектора. Отступая, фашисты успели повредить знаменитые куранты, и они молчали почти три года. После победы трудящихся над буржуазией в феврале 1948 года приматор Праги, первый мэр-коммунист, Вацлав Вацек пустил их в ход. В истории Чехословакии началась новая эра — эра подлинного господства народа. Народ по заслугам оценил писателя и в липницком домике открыл музей Гашека. Липница стала историческим и литературным памятником, местом, где проходят конкурсы чешских сатириков и юмористов. Здесь победители становятся лауреатами премии имени Ярослава Гашека, получают медали и почетные дипломы. Пражские куранты отсчитывают новое время, но в трактире «У Чаши» оно словно остановило свой бег — здесь все сохранилось таким, каким было в день сараевского покушения. На стене висит портрет государя императора Франца-Иосифа I, засиженный мухами, у пульта стоит трактирщик в черной шапочке, расшитой золотыми зигзагами, в зубах у него длинная трубка. Трактирщик наливает пиво и подает гуляш с кнедликами и капустой — любимое кушанье Швейка. Пан Паливец? — спросите вы. Нет, это бармен, который исполняет перед посетителями роль пана Паливца. В шесть часов вечера в трактир входят герои Гашека. Швейк заказывает пиво, препирается с пани Мюллеровой, сыщик Бретшнейдер заводит иезуитские разговоры с трактирщиком, тот грубо отвечает ему, как полагается пану Паливцу. Затем к ним присоединяются сапер Водичка, поручик Лукаш, подпоручик Дуб. Почитатели Гашека, прибывшие со всех континентов, заполняют залы трактира. Оркестрион, не переставая, играет задорные народные песенки, которые так любил Гашек. Гости слушают, подпевают, рассматривают на стенах смешные рожицы вперемежку с цитатами из романа, покупают на память салфетки, бокалы и подставки с физиономией улыбающегося Швейка, знакомой всем по рисункам Йозефа Лады. Швейк стал признанным патроном хорошего настроения. Смех нужен людям как солнце, воздух, вода и пища, и он никогда не умолкает под сводами этого необыкновенного трактира. Гости пьют пиво, едят гуляш и ждут. Вместе с ними сижу и жду я. Порой нам кажется, что вот-вот распахнется дверь и в зал войдет сам автор «Швейка». Он снимет шляпу, пожмет руку трактирщику и, повернувшись к гостям, мягким голосом скажет:
— Обреченный на смерть приветствует вас!
Ленинград — Прага 1972—1974


Последние комментарии
12 минут 5 секунд назад
12 минут 38 секунд назад
15 минут 18 секунд назад
25 минут 41 секунд назад
28 минут 22 секунд назад
37 минут назад