Писарев [Юрий Николаевич Коротков] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Ю. Коротков
ПИСАРЕВ

*
На обложке фрагменты рисунков художника М. ДОБУЖИНСКОГО
© Издательство «Молодая гвардия», 1976 г.

I «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОБОЧКА»
Первые годы жизни заслуживают полного внимания биографа: первые впечатления, первоначальное направление воспитания, личности окружающих людей имеют часто решительное, неизгладимое влияние на наклонности и характер ребенка. К сожалению, бывает обыкновенно очень трудно собрать подробности об этом первом периоде жизни, сообщенные сведения бывают обыкновенно отрывочны, неясны и бесцветны.Д. Писарев
1. РОДОВОЕ ГНЕЗДО
Знаменское, где родился Дмитрий Писарев, не обозначено даже на самых подробных картах. Селений с таким названием в Орловской губернии было несколько десятков, а Писаревым принадлежало, пожалуй, самое небольшое из них. Оно ютилось в юго-восточном уголке Елецкого уезда, на самой границе с Воронежской губернией. Знаменским именовалась, собственно, помещичья усадьба, деревня при ней называлась по-разному: Ивановским, Чемеришником, Яблоновым. Усадьба разрушилась еще в конце прошлого века, со временем позабылось и само место, на котором она стояла. А полтораста лет тому назад из Ельца нужно было ехать на юг по Воронежскому тракту. На сороковой версте, когда далеко впереди над лесом засверкают в солнечных лучах золотые маковки Задонского монастыря, следовало свернуть вправо, на проселок, ведущий к Землянскому тракту. Зоркий глаз уже с поворота различал в густой зелени красную крышу с белыми трубами. Через несколько верст слева оставались Дон и большое село на его берегу, а проселок, минуя мостик через речку, поднимался в гору. Запущенные фруктовые сады, расступаясь, открывали взору трехэтажный каменный особняк. Господский дом и тогда был стар. В нем все говорило об упадке — и покосившаяся крыша, и облупленные стены, и замшелый фундамент. Верхний этаж, давно заброшенный, был завален всякой рухлядью, нижний занимали мастерские. Для жилья оставался лишь средний этаж — десять просторных комнат, обставленных тяжелой неуклюжей мебелью. С парадного крыльца посетитель попадал в переднюю, где встречали его пожилые степенные лакеи. Затем — зала в шесть окон, открывавших вид на реку и пруд, с дубовыми стульями домашней работы вдоль стен и необъятным бильярдом посередине. Из глубокой гостиной, прохладной даже в летний зной, — выход на балкон, по обе стороны которого широкие лестницы с ветхими перилами сбегали в сад. Столовая. К окнам веселой солнечной детской склоняли свои ветви две старые развесистые ели. Длинный коридор вел к девичьей и спальной — мрачной комнате, всегда затемненной ставнями. Барский двор окружали многочисленные службы — кладовые, амбары, конюшни, флигеля для дворовых. Мощенная камнем дорожка вела через двор к белой каменной церковке. За ней — обмелевший пруд, заросший камышом и осокой. Поодаль, под горой, — соломенные крыши нищей деревеньки. Типичная дворянская усадьба средней руки второй четверти XIX столетия.Фамилия Писаревых, если верить дворянским родословцам, происходила от Семена Писаря, выехавшего из Польши в первой половине XV столетия. Великий князь Московский Василий Темный пожаловал ему какое-то сельцо под Коломной, и пошел от этого Писаря многочисленный и разветвленный род: Горяиновы-Писаревы, Скорняковы-Писаревы, Иванчины-Писаревы и просто Писаревы — за четыреста лет тринадцать поколений, свыше четырехсот потомков. Служили в полках и приказах; бывали стольниками, стряпчими и в иных чинах. Служили да наживали имения и состояния. Впрочем, Писаревы младшей ветви, к которой принадлежали владельцы Знаменского, ни значительных чинов, ни больших богатств не имели. Богаче других был, пожалуй, лишь Александр Иванович Писарев, поручик Новгородского драгунского полка в царствование Екатерины II. Единственный наследник отца и деда, он приумножил свои владения выгодным браком. Его имения располагались в четырех губерниях: десяток деревень и больше тысячи крепостных душ. То было время «вольности дворянской» и «просвещенного абсолютизма». Поручик Писарев, как истинный сын своего века, был одновременно и отъявленным крепостником, и любителем просвещения. Вознамерившись дать своим детям домашнее образование (случай тогда уже нередкий), он пригласил к себе в дом учителя, русского — не иностранца! И относился с уважением к его личности и профессии (а это в помещичьей среде конца XVIII века случалось не часто). У Александра Ивановича было семеро детей, и богатство его распылилось; более чем скромные плоды принесла и его любовь к просвещению. Старший его сын, Иван Александрович, дед героя этой книги, по обычаю того времени записанный в полк еще младенцем, восьми лет был произведен в гвардии сержанты и «выпущен к статским делам». Двадцати лет он поступил в Острогожский легкоконный полк и, прослужив в нем четыре года, вышел в отставку в чине ротмистра. Из отцовского наследства ему досталось 300 душ в трех селах, да за женой, дочерью костромского помещика, Прасковьей Александровной Чаплыгиной, он взял два именья в 200 душ. Поселившись в Знаменском, Иван Александрович занялся хозяйством. Здесь, в кругу соседей, таких же провинциальных помещиков, прожил он почти безвыездно большую часть своей жизни. Еще не было ни железных дорог, ни телеграфа. От Ельца до Москвы на своих лошадях приходилось добираться пять-шесть дней, а до Петербурга — и все две недели. Ямская гоньба по Воронежскому тракту была нерегулярна, и отправленное почтой письмо шло порой более месяца. Впрочем, провинциальные помещики писем писали мало и отправляли их обычно «с оказией». Столичные газеты попадали в провинцию случайно: и спрос был небольшой, и почта еще неохотно их доставляла. Шли первые годы девятнадцатого века. «Дней Александровых прекрасное начало. Война с французами. Аустерлиц. Тильзит…» За карточным столом обсуждали запоздалые известия. Говорили с патриотической гордостью и верноподданническими чувствами. А разойдясь, снова погружались в хозяйственные заботы и немудрые развлечения. Только Отечественная война 1812 года взбудоражила провинциальное дворянство. Иван Александрович, как и большинство его соседей, вступил в дворянское ополчение. Правда, участвовать в войне не пришлось. Просидев в Ельце несколько месяцев, ополченцы разошлись по домам. Младший брат Ивана Александровича — Александр служил в Петербурге в лейб-гвардии Семеновском полку. Он с молодых лет занимался переводами с французского, писал стихи, трактаты об искусстве. Участвовал в Отечественной войне 1812 года и в заграничном походе русской армии, «за покорение Парижа» был награжден Георгиевским орденом и произведен в генералы. В 1825 году его, командира гренадерской бригады, вдруг назначили попечителем Московского университета. Там следовало «навести порядок» — требовалась «сильная рука» и «просвещенный человек». Храбрый генерал оправдал надежды начальства. По словам современника, он «довольно остриг студентов и основательно научил застегивать вицмундирные сюртуки». Всего несколько лет назад едва принятый в члены Общества любителей русской словесности, Писарев теперь «единогласно» избран его почетным членом, а затем и председателем. Заседания общества он превратил в блестящие и шумные парады, выступая на них с речами-«приказами». Позднее Александр Александрович был короткое время варшавским военным губернатором. Умер он в чине генерал-лейтенанта, будучи сенатором и членом Российской академии. Не без влияния младшего брата Иван Александрович отдал своего первенца, тринадцатилетнего Александра, в Благородный пансион при Московском университете. Александр Иванович обладал поэтическим даром и с малолетства писал звучные стихи. Окончив с отличием пансион, он стал служить при московских театрах. Он первый перенес водевиль на русскую почву. Его комедии и водевили были сценичны, остроумны и с большим успехом шли в столицах и провинции. Особенно Писарев славился едкими сатирами и злыми эпиграммами, ходившими большей частью по рукам в списках; он нападал своими насмешками на всех и на все. Примкнув к «архаистам», тоже не без влияния дяди, он не одобрял Пушкина и вел упорную борьбу с Николаем Полевым. Умер А. И. Писарев в 1828 году от чахотки, прожив всего двадцать пять лет. Ненадолго пережил своего первенца Иван Александрович, он скончался осенью 1832 года на шестидесятом году жизни. Старший из оставшихся в живых сыновей, уже отставной офицер, получив свою долю наследства, отделился. Остальные шестеро детей остались на руках овдовевшей Прасковьи Александровны. В том же году вдова определила семнадцатилетнего Ивана, отца героя этой книги, и его брата-погодка в Новороссийский драгунский полк, выдала старшую дочь замуж, а сама с тремя младшими — пятнадцатилетним Константином, тринадцатилетним Сергеем и десятилетней Анастасией — поселилась в Задонске. Постепенно она прожила и свое приданое, и часть писаревского наследства. Осталось лишь Знаменское, но и оно без хозяйского глаза приходило в упадок. Большим облегчением стало замужество младшей дочери, которую в шестнадцать лет сосватал мелкопоместный дворянин Коренев.
Семь лет Знаменское пустовало. Но вот в октябре 1839 года бубенцы свадебного поезда нарушили тишину покинутой усадьбы. Драгунский офицер Иван Иванович Писарев, приехавший в отпуск в родные места, женился на девице Варваре Дмитриевне, дочери елецкого помещика, полковника Данилова. Род елецких Даниловых начался лишь в петровское время — всего шесть поколений. Дед Варвары Дмитриевны — Гавриил Самойлович был пожалован из лейб-гвардии капралов в армейские прапорщики, отец — Дмитрий Гаврилович дослужился до полковника. Матери она не помнила. Два ее брата жили с отцом в его скромном имении, а сама она с ранних лет воспитывалась у богатой родственницы. Девочку одевали, обучали и причесывали крепостные няньки и горничные. Бонны и гувернантки прививали ей хорошие манеры, приучали чтить святость религиозных обрядов и бессловесно покоряться старшим. Варвара Дмитриевна научилась говорить и даже думать по-французски, танцевать и немножко играть на рояле. Кроме того, она помнила какие-то обрывки из истории, географии и русской словесности. По тому времени с таким воспитанием девушка могла блистать в провинциальном свете. В двадцать четыре года Варвара Дмитриевна была наивна и простодушна. Принимая предложение блестящего офицера, она ждала любви и счастья. Надежды не сбылись. За внешним лоском франтоватого драгуна скрывалась душевная грубость. От легкой его влюбленности после свадьбы не осталось и следа. Человек ограниченный и пустой, Иван Иванович умел лишь танцевать, болтать по-французски и волочиться за женщинами. Он тщательно следил за своей наружностью, употреблял косметику, никогда не снимал перчаток и, дорожа цветом лица, ездил всегда под зеленой вуалью. Любимыми его занятиями были балы, кутежи и карты. После свадьбы молодые поселились в Знаменском. С ними стали жить мать Ивана Ивановича и его младшие братья Константин и Сергей. Как истинные дворяне, Писаревы с полным презрением относились к деньгам и мелочным расчетам, были хлебосольны, барски великодушны и безалаберны. Именье оставалось в общем владении трех братьев, но хозяйством никто из них не занимался. Все шло само собой: за мужиками смотрел бурмистр, за урожаем — приказчик. От своих крепостных Писаревы держались в высокомерном отдалении, не проявляя ни малейшего интереса к их жизни. При этом они были людьми не жестокими, а скорее добрыми. За провинности крестьян в солдаты не сдавали. Однако дикие выходки барского самодурства были нередки. Забыл как-то слуга на постоялом дворе баринов чубук — его послали назад за пятнадцать верст пешком. Допустил лакей какую-нибудь неловкость — ему приказывали дать себе самому определенное число пощечин. Барская удаль и дикое молодечество доводили братьев Писаревых порой до серьезных неприятностей. Им ничего не стоило, например, до полусмерти избить сельского попа, недостаточно быстро уступившего им дорогу, или просто так, для потехи, возвращаясь верхами с охоты, потравить чужие посевы. За свои безобразия господа щедро платили и поэтому считались в уезде «хорошими». Писаревы жили большой семьей, шумно, весело, беззаботно. В Знаменское съезжалось множество гостей — родственники, соседи-помещики, кавалерийские офицеры из. полка, стоявшего в Задонске. Шампанское мешалось с водкой, французская речь с русской бранью. По торжественным случаям Варвара Дмитриевна устраивала домашние спектакли — чаще всего ставились водевили Александра Ивановича Писарева, покойного брата владельца усадьбы. Выезжали и сами хозяева — в Задонск на богомолье, в Елец и Орел на дворянские балы, к соседям-помещикам в гости. Лето 1840 года в губернии выдалось засушливым. Обмелели роки, погорели хлеба. Крестьяне ели лебеду и речные ракушки. В хлебосольном Знаменском веселье продолжалось… 2 октября, через год после свадьбы, у Писаревых родился первенец — Дмитрий.
2. «ВЫДРЕССИРОВАННЫЙ МАЛЬЧИК»
Рождение сына вознаградило Варвару Дмитриевну за неудачный брак. У нее явилась цель жизни — великая и единственная: воспитать сына. Любящая мать начала обучать ребенка едва ли не с того момента, как отняла его от груди. Она спешила передать ему все, что знала сама. И мальчик быстро все усваивал — у него были замечательные способности и удивительная память. «Сижу, бывало, за маленьким столиком, — вспоминал тринадцатилетний Писарев о своих первых шагах в учении, — раскладываю какой-нибудь casse-tête[1], рассматриваю картинки, или слушаю повесть об Амадее Гальском, или русскую сказку о Бове-Королевиче; я был неприхотлив на рассказы; чем несообразнее, чем невероятнее были эти рассказы, тем более прелести имели они в моих глазах; я не верил ничему неестественному, но любил следить за порывами воображения рассказчика, любил носиться мысленно в мире духов, колдунов и ведьм… Кроме того, я с удовольствием слушал давно известные мне рассказы, если только в них переменяли некоторые выражения или вставляли какие-нибудь вымышленные распространения…» Митя учился целыми днями. После утреннего чая мать садилась причесываться и звала Мптю заниматься французским языком. Она так дорожила каждой минутой, что занятия продолжались даже во время прогулок. Мать заставляла ребенка заучивать слова, потом придумывала длинные разговоры на русском языке и требовала их перевода на французский. Мальчику это нравилось, и скоро он принялся сам сочинять разговоры. Азбуку Митя усвоил легко и быстро. Четырех лет он бегло читал по-русски, а по-французски говорил как парижанин. Как-то раз, летним утром, вспоминал Андрей Дмитриевич Данилов, младший брат Варвары Дмитриевны, в Знаменское впервые приехал с визитом иностранец полковник. Ни в передней, ни в зале — ни души. В гостиной же его встретил четырехлетний мальчик, который с непринужденным видом сказал ему по-французски: «Полковник, тысячи извинений: мама вернется сию минуту!» Изумленный офицер задал ребенку вопрос, потом другой — и вот уже они ходят по гостиной и ведут оживленный разговор. «Не то удивило меня, — вспоминал потом полковник, — что ребенок прекрасно болтает по-французски, — я в Петербурге видел много попугаев, — но весь вид его, вся его маленькая фигурка, то достоинство и выражение в лице и глазах, с которыми он вел со мной беседу, — та непринужденность и тот смысл, который он влагал в свою детскую речь: вот что меня в ребенке этом изумляло и поражало и чего я никогда и нигде в жизни не встречал». Единственный сын и наследник был центром Знаменского мира. Приезжий, знакомый с порядками в доме, по выражению лица выбегавших ему навстречу слуг видел, здоров или болен мальчик. Многочисленные родственники, наезжавшие погостить, не могли налюбоваться на Митю. Ребенок привык, что каждое слово, каждое движение его замечается, и недостаток внимания больно задевал его самолюбие. Приехал как-то важный гость. Маленький Митя, облаченный в только что сшитый сюртучок и новые штанишки, вошел в гостиную, когда родители беседовали с гостем. Очень удивился, что на него даже не посмотрели. Шаркнул ножкой, произнес: «Бонжур» — никакого результата. Сел за свой столик, немного поиграл. Не вытерпев обиды, подошел к гостю и серьезно спросил: «Отчего вы меня не замечаете? Все всегда говорят со мной!» Дядя Константин Иванович, гордившийся успехами Мити, однажды высказал уверенность, что такой умный мальчуган будет министром или посланником. Отец возразил: «А почему же не кавалергардом?» Отставной драгун желал сыну того, чего не мог достичь сам. Когда 2 августа 1844 года родилась Верочка, у Варвары Дмитриевны хлопот прибавилось. В усадьбу выписали бонну. Юлия Федоровна Блез — дети звали ее Люля — не знала ничего, кроме немецкого языка. Но девушка была старательна и скоро стала матери хорошей помощницей. Варвара Дмитриевна хотела дать детям приличное образование и молила бога, чтобы он даровал им «понятие к наукам». Однако собственные познания ее были слишком малы, а на приглашение опытных педагогов не было средств. Все заменяла материнская любовь. Мать училась вместе с детьми, и не ее вина, что не всегда ее усилия были успешны. До конца жизни она так и не овладела немецким языком и никогда не могла заучить таблицу умножения. Проявляя изумительную энергию, мать стремилась из всего извлечь пользу для детей, заставляла все и всех служить поставленной цели. Узнает она, что в соседнем селе объявился дьякон, славившийся в семинарии своими познаниями в латинском языке, — тут же договаривается с ним, чтобы он давал уроки сыну. Прослышала, что в другой деревне писарь — замечательный каллиграф, посылает за ним, чтобы он учил детей чистописанию. Берется учить племянницу соседней помещицы французскому языку с тем, чтобы взамен эта помещица, прекрасная музыкантша, занималась музыкой с ее детьми. Все свои усилия мать устремляла на умственное развитие ребенка, совершенно не задумываясь о физическом. Митя от природы был малоподвижен, неуклюж и плаксив. Вечно за что-то зацепится и растянется, что-то повалит, прольет или разобьет. Ничего не стоило ему потерять книжку, шапку. Плакал он почти каждый день: то его «обижала» маленькая сестренка, то кто-нибудь из взрослых не признавал безногого гусара самой лучшей куклой на свете. В раннем детстве он был очень робок и смертельно боялся рыжей собачонки Дурочки. Лежит себе она на излюбленном месте — в мягком кресле. Митя осторожно откроет дверь. Убедившись, что Дурочка спит, крадется мимо на цыпочках. Но вот он споткнулся, собачонка с задорным лаем кидается к нему, а мальчик плачет от испуга. Может быть, иной раз Митя был бы даже не прочь побегать, порезвиться, но он рос в окружении взрослых и мог только мечтать о товарище-ровеснике. «Когда мы смотрим на слабого, бледного, вялого и притупленного юношу, — писал впоследствии Писарев, — мы имеем полное право сказать с законной гордостью: вот дело рук наших. Мы заставляли его учиться, когда ему хотелось спать; мы заставляли его сидеть на месте, когда ему хотелось бегать, мы держали его в четырех стенах, когда ему необходимо было дышать чистым воздухом; мы мужественно боролись с естественными стремлениями этого строптивого организма, и, как видите, мы достигли того, что этот организм, утратив всю свою строптивость, в настоящую минуту не стремится решительно ни к чему». В словах двадцатипятилетнего Писарева угадывается воспоминание о печальном личном опыте. Педагогические понятия Варвары Дмитриевны не допускали нежности к детям. Только у постели больного или перед разлукой давала она волю своим чувствам. Главную роль играли запреты, внушения и наказания. Они не подкреплялись доводами рассудка. Мать просто говорила детям: «делайте то», «не делайте этого», «это неприлично», «это стыдно», «это грех». Она не стремилась развивать характер в ребенке, заботилась не о том, чтобы ребенок не хотел, а чтобы не смел сделать дурного. Добровольным помощником матери в воспитании детей был дядя Сергей Иванович. Ярый крепостник, не отличавшийся ни умом, ни добродушием, он больше всех мудрил над мальчиком. Ни встать, ни сесть Митя не мог, чтобы Сергей Иванович не остановил его и не прочитал нотации, не обозвав при этом «болваном» или «ослом». Отец считал воспитание детей делом женским, но, изображая из себя верховного судью, строго наказывал сына за плаксивость, неловкость или забывчивость. Барский дом нередко оглашался свистом розги и умоляющим возгласом ребенка: «Папа, секи, только не больно». Ребенок был почтителен и послушен до смешного. Что бы ни приказывали старшие, он все тут же исполнял. Мите было не больше четырех лет, когда в гостях ему дали ложку варенья. Матери в комнате не оказалось. Съесть сладкое без ее позволения невозможно, но отказаться от угощения, не послушаться тетушки — тоже нельзя! Митя держал варенье во рту до прихода матери. Дали ему как-то французскую книжку о мальчике, который на все приказания взрослых отвечает вопросами «зачем» да «почему». Митя в полной растерянности спрашивал мать: «Разве есть такие дети? Разве можно не слушаться, когда папа или мама что-нибудь приказывают?» Мальчик никогда не лгал, и всякая неправда в других его возмущала. К себе он был очень строг. Девяти лет повезли его говеть в монастырь. Целый день он готовился к исповеди, был сосредоточен и молчалив, вместе с матерью припоминал все свои проступки. Но, вернувшись от священника, мальчик вдруг с ужасом вспомнил, что на душе остался тяжкий грех: он забыл признаться, как дважды солгал — пропустил в Шиллеровой «Истории Тридцатилетней войны» несколько скучных страниц, пока Люля дремала, и утаил, что сломал игрушку, а затем спустил ее под пол. Забывчивость, показавшаяся ложью, долго мучила мальчика. За правдивость, искренность и откровенность, за неумение таиться и скрывать свои мысли и чувства Писарева звали в семье «хрустальной коробочкой». Пусть факты, рассказанные родственниками спустя полвека, несколько анекдотичны и, может быть, в чем-то преувеличены, в них, безусловно, есть реальная основа. Маленький Писарев был действительно «выдрессированным ребенком», как назвал его Андрей Дмитриевич Данилов в своих воспоминаниях. Не слишком ли дорогая цена за преждевременное развитие и кристальную чистоту? Ни одна демократическая струйка не примешивалась к воспитанию знаменских барчат. Будущий дипломат или кавалергард не должен знать ничего неприятного, грубого, грязного. Держать детей подальше от зипунов, курных изб и диких мужиков, а то, не дай бог, заразятся предрассудками и суевериями, грубыми манерами — прощай, европейский лоск! Примерно так рассуждала Варвара Дмитриевна. И не Ивану Ивановичу с его братьями, которые вовсе не считали мужика за человека, было разубеждать ее. Так вырос Митя, ни разу не побывав в крестьянской избе, ни разу не поговорив с мужиком. Ни одного воспоминания, связанного с крестьянами — хорошего или плохого, — не вынес он из детских лет. Была у него старушка няня Феона, были лакеи в доме, дворня. Но крепостным строго-настрого запрещалось вступать в разговор с барчуком.3. ВОЗМУТИТЕЛИ СПОКОЙСТВИЯ
Осенью 1849 года в Знаменском появилась бледная, худенькая, но бойкая и очень веселая девочка. Была она дочерью младшей сестры отца, тетушки Анастасии Ивановны Кореневой, и доводилась Мите двоюродной сестрой. Звали ее Раисой, и было ей тоже девять лет. Девочка рано познакомилась с будничными сторонами жизни. Ее родители, мелкие помещики, настолько обеднели, что не могли воспитывать троих детей дома (у Раисы были старшая сестра Полина и младший брат Николай). Все детство Раисы прошло в чужих людях. Одни из них подвергали ее воспитательным экспериментам, другие — предоставляли самой себе. С рук кормилицы попала она в дом богатого родственника, от него к бездетной тетушке, теперь к Писаревым. «Раиса, — вспоминала впоследствии Вера Писарева, — умела понимать людей, с которыми ее сталкивала судьба, сразу, на лету, с поразительной быстротой взгляда схватывать сущность обстановки, в которую попадала, и, не взявши ни одной фальшивой ноты, сразу же прилаживаться к ней. II это несмотря на 9-летний возраст. Специально женские инстинкты были в ней сильно развиты; она желала нравиться, была кокетлива, и воображение ее было сильно развито чтением всевозможных, для детского возраста неподходящих, романов». Приспособилась Раиса и к Писаревым. Девочка поняла, что новая воспитательница — женщина с сильным характером, что она привыкла царить не только над поступками, но и над всеми помыслами детей. Раиса аккуратно исполняла все, что ее заставляли делать, хотя вряд ли ей нравилось вместо чтения романов изучать французский и немецкий языки или регулярно молиться по утрам и вечерам. Тем не менее во всем этом она очень скоро добилась успехов, и Варвара Дмитриевна была довольна послушной девочкой. Однажды, когда дети остались одни, Рапса научила их игре, в которую сама играла с ранних лет. Это было что-то вроде общей сказки или, лучше сказать, бесконечного романа, авторами которого были все трое вместе. У каждого было по нескольку героев и героинь. Они заставляли их мыслить, чувствовать и действовать по собственным наклонностям и образу мыслей. Поначалу игра шла туго. Раисе было очень странно узнать, что дети считают себя не вправе думать о чем-нибудь самостоятельно. — А о чем нам думать? — говорил кузине Митя. — Маман уже все передумала за нас. Велит богу молиться — я молюсь, велит чай пить — я пью, велит учиться — учусь, пошлет гулять — гуляю. Я так привык все делать, что велит маман, что мне в голову не приходит самому пожелать чего-нибудь. — А вот я так беспрестанно думаю, — сказала она в ответ. — Думаю о том, зачем кругом меня так часто говорят неправду… Думаю о том, для чего тетушка, когда сама виновата, непременно хочет обвинить кого-нибудь?.. На что дяденька так притворяется и хвалит в глаза тех, кого заочно осуждает?.. Только маме я этого не скажу. Ведь она не станет думать по-моему… Зачем же напрасно ее огорчать? Я делаю все, что заставляют меня делать, а думаю так, как думается. Такое вольнодумство пугало Митю и Верочку, но не повлиять на них не могло. С первых дней Митя всей душой привязался к кузине. Ни одной забавы, ни одной игры не умел он строить без нее. Вернее, он находил удовольствие в этих играх только потому, что их разделяла Раиса. Без нее всякие развлечения, прогулки, катанье на лодке и в экипаже ему скучны и томительны. Он привык к Раисе, привык видеть ее умные глазки, ее бледное матовое личико, привык слышать ее музыкальный голос, ее звонкий смех. Пятилетняя Верочка на каждом шагу ревновала брата к кузине. А он не скрывал, что любит кузину больше, чем сестренку, и часто доводил этим Верочку до слез. В подобных случаях мать всегда обвиняла Раису и частенько без вины отчитывала и наказывала ее. В семье все чаще возникали разговоры об определении Мити в гимназию. Предстоящая разлука с кузиной приводила мальчика в отчаяние. Каждое лето приезжал в Знаменское Андрей Дмитриевич Данилов, недавно окончивший Московский университет и теперь занимавшийся где-то педагогической деятельностью. Он всегда внимательно относился к мальчику, и Митя был к нему привязан. Этим летом Андрей Дмитриевич вызвался заниматься с племянником русским языком, а заодно и с его ровесницей — кузиной. В больших черных глазах мальчика так ясно отражалась работающая мысль, что занятия доставляли учителю истинное наслаждение. А домашние воспитатели удивлялись: ребенок превосходно занимается без угроз и наставлений! Непривычно было и Мите. Дядя не требовал любви и уважения к себе за то, что он взрослый, ничего не приказывал, не ругался, а вел себя как равный. Он не снисходил к просьбам детей, а первый затевал игры и, как маленький, кричал и бегал вместе с ними. Вскоре между дядей и племянником сами собою установились отношения откровенности и доверия. Ни с кем из старших Митя не был так прост и открыт, как с Андреем Дмитриевичем. Для него дядя стал товарищем, которого недоставало, другом, всегда готовым помочь. Он никогда не нарушит слова, не выдаст его тайны, не осмеет его детского чувства. Еще одно примечательное событие случилось тем же летом 1850 года. В Знаменском гостила семнадцатилетняя Маша Вилинская, дочь двоюродной сестры Варвары Дмитриевны. Она и раньше часто и подолгу жила у Писаревых вместе с матерью, а когда мать вышла вторично замуж, около двух лет воспитывалась у Варвары Дмитриевны. Но тогда Митя был еще слишком мал, и, хотя отношение Маши к нему было очень теплым, общих интересов с троюродной сестрой у него не находилось. Потом Машу отдали в частный харьковский пансион, и она приезжала к тетке на каникулы в сопровождении друзей — студентов Харьковского университета. Зна-менское тогда оглашалось веселым гомоном молодежи, оживленными спорами, смехом, песнями. Митя вертелся тут же, слушая речи молодых людей, скептические реплики родителей, и, хотя мало что понимал, в его детской голове откладывались какие-то новые мысли, противоречащие тому, что он слышал дома. Вскоре Маша покинула пансион и стала жить в Орле. Здесь, в салоне своей другой тетки, она познакомилась со многими удивительными людьми. Теперь она приехала полная живых впечатлений и с восторгом рассказывала о И. В. Киреевском, П. И. Якушкине, о том, как она вместе с этнографом Афанасием Марковичем (высланным из Киева за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе) собирается записывать украинские народные песни. С Андреем Дмитриевичем у нее сразу нашелся общий язык, и они много говорили о литературе. Раиса и Митя неизменно были тут же, изредка вставляли свои замечания. Впервые Митя участвовал в серьезных разговорах взрослых, и почти как равный!Легкомыслие Ивана Ивановича, его мелкие страсти, пожиравшие все доходы от Знаменского, его пренебрежение хозяйственными делами привели к тому, что усадьба оказалась заложенной и перезаложенной. «Выручил» двоюродный брат Ивана Ивановича, Николай Эварестович Писарев; он согласился купить поместье, обремененное долгами. В июне Иван Иванович отправился в Тульскую губернию, в сельцо Грунец, Бутырки тож, чтобы приготовить к приезду семьи новую усадьбу. Это было последнее имение, остававшееся у Писаревых. По всей вероятности, оно было приданым Варвары Дмитриевны. Осенью семья покидала родовое гнездо. Варвара Дмитриевна блеснула игрой в последнем домашнем спектакле, затем со всеми домочадцами отслужила в Заокском монастыре напутственный молебен. В конце октября целым обозом Писаревы тронулись в путь. Грунец ни в чем не мог сравниться со Знаменским. Земли и крестьян здесь было примерно столько же, но дом был настолько тесен, что его стали называть клеткой. Ни пышных садов вокруг, ни реки, ни живописных видов из окон. Ожидая четыре месяца семью, Иван Иванович едва успел распорядиться обновить в доме паркет. Варвара Дмитриевна осталась недовольна деятельностью мужа и решительно объявила, что теперь хозяйствовать будет сама. Мать пыталась приучать и сына к хозяйственным делам. Отлучаясь из дома, она поручала ему записывать расход муки, сена, овса. Но, вернувшись, находила все перепутанным в хозяйственной тетради, очень сердилась на невнимательность Мити и в конце концов отказалась от своей затеи. Для Мити все оставалось по-прежнему: он учился, много и с увлечением читал, свободные часы проводил с сестрами, все больше привязывался к Раисе. Жаль только, что любимый дяденька уехал, но он пишет письма, учит в них кататься на салазках, выписал «Детский журнал», который Митя читает вслух. Зимой случилось происшествие: Маша Вилинская сбежала от тетки, вышла замуж за А. В. Марковича и прямо из церкви после венчания прикатила в Грунец. Через несколько дней на писаревских конях Марковичи отправились в Чернигов. Расстроенные дела семейства коснулись и детей. Уехал гувернер-француз, проживший в семье два с половиной года. Он был необыкновенно ласков с детьми, Раиса и Митя плакали. В марте 1851 года умерла тетушка Анастасия Ивановна. На семейном совете было решено Раису удочерить. Варвара Дмитриевна согласилась на это не вдруг. Ее мучили сомнения. Она боялась, что ее сын, привыкнув к подруге детства, со временем полюбит ее — бедную девушку, да еще родственницу… Что ж тогда будет? Но добрая женщина не могла не сжалиться над осиротевшим ребенком. К тому же она успела привязаться к девочке. Раиса навсегда осталась в семействе Писаревых. В марте приехал Андрей Дмитриевич. Начались веселые игры, прогулки, катанья. Мальчик не разделял мнения взрослых о бедности грунецкой природы. Ему нравились и мелководная болотистая Зуша, и небольшой лесок по соседству, и даже чахлый садик вокруг дома. Он с любопытством осматривал новые места, каждая мелочь возбуждала его богатое воображение. Он принялся писать рассказ «Орден горы». Большинство персонажей он заимствовал из рыцарских романов. А среди них действовали самый благородный на свете рыцарь Андрей Дмитриевич и сам Митя. Десятилетний Писарев достаточно искусно развивает интригу и строит диалоги многочисленных персонажей. Это был не первый литературный опыт Писарева — еще в восемь лет он написал сказку под заглавием «Рамалион». События в ней развивались на звезде, называемой «Мир духов».
Осенью Мите исполнилось одиннадцать лет. На семейном совете было решено отправить его в Петербург, в гимназию. Варваре Дмитриевне трудно было смириться с предстоящей разлукой, но реплика отца: «Не свиней же ему пасти в деревне!» — определила все. Снова пришел на помощь двоюродный дядя Николай Эварестович. Он вызвался платить за Митю в гимназию, а затем в университет. Получив образование, Митя возвратит ему долг. Брат отца, Константин Иванович, тот самый, что прочил мальчику карьеру дипломата, тоже предложил свои услуги — он доставит Митю в Петербург и с рук на руки сдаст тетушке Наталье Петровне, которая воспитывала еще Варвару Дмитриевну. Только ей и могла доверить мать свое детище. 6 декабря поутру Митя выехал из Грунца. Слезы мешались с потоками наставлений и горячих молитв. В последнюю минуту мать вручила сыну кипу тетрадок с французскими и немецкими словами. Мальчик должен был их повторять дорогой. Писарев впервые покидал родительский дом. Все ему внове, все интересно, и обо всем увиденном по дороге он спешит рассказать в своих письмах, которые пишет почти ежедневно. Железная дорога от Москвы до Петербурга была только что построена. Всего месяц назад по ней проследовал первый пассажирский поезд. Теперь каждый, купив билет, мог покрыть расстояние между двумя столицами в пять раз быстрее, чем на лошадях. Новость эта еще не стала достоянием глухой провинции, и только в Москве, узнав об общедоступности и удобствах «машины», дядя решил предпочесть ее привычным перекладным. Наблюдательный мальчик жадно впитывал в себя новые впечатления. В «конторе машины» Мите очень понравилась толпа, в которой были «люди всех классов: купцы, мещане, офицеры, солдаты, дворяне и даже татары», но все же он был рад расстаться с вокзалом — там стояла «ужаснейшая жара». Очень любопытно было устройство вагона: «Это род комнаты, довольно большой, наполненный стульями, прикрепленными к полу. Посреди комнаты проходит коридор, выходящий в переднюю; на потолке висят две лампы». Когда поезд тронулся, у мальчика «невольно сжалось сердце», но, уверял он, «скорее от нетерпения, от беспокойства, а не от боязни». Поезд шел сутки, но это представлялось пределом скорости. «Машина тронулась сначала очень медленно, — писал Митя домой, — потом все скорее и скорее и наконец достигла невероятной степени быстроты: мы летели. Деревья, дома — все исчезало замечательно быстро…» Станции появлялись раньше, чем их ожидали, пассажиры выходили прогуляться, затем машина свистела, и все бежали садиться по местам. Дядя боялся, чтобы Митя не отстал, и оставлял его в вагоне.
Писарев — матери, 10 декабря 1851 года: «Милая, добрая, превосходная Мамаша! Вот я и в Петербурге, в объятиях тетеньки Натальи Петровны, очень далеко от тебя, но зато с тетенькой, и этого достаточно, чтобы совершенно успокоить тебя относительно моей судьбы, милая, милая Мамаша… С Митей Уваровым в дружбе, и наши уроки начнутся завтра. Тысячу и тысячу раз целую твои руки, от всего сердца обнимаю Папашу, Дяденьку Сергея Ивановича, Веру, Раису. Прощай, добрая мама, прощай! До свиданья! Твой сын, который любит Тебя всем сердцем и никогда не забудет Твоих наставлений. Д. П.».
Для одиннадцатилетнего мальчика начиналась новая жизнь.
4. ПЕТЕРБУРГСКИЕ РОДСТВЕННИКИ
Тетушка Наталья Петровна Данилова, приютившая Митю в Петербурге, доводилась ему, собственно, не тетушкой, а бабушкой, только двоюродной или даже троюродной. С ней жила ее сестра Мария Петровна Уварова с шестнадцатилетней дочерью Марией Федоровной и пятнадцатилетним сыном Митей. Приходили в гости другие родственники: дядя — генерал Роговский, тетя Лиза Копьева, троюродный брат Писарева Валериан Вилинский, приезжала крестная Екатерина Васильевна Данилова. Митя оказался в окружении многочисленной материнской родни. Все эти Уваровы, Копьевы, Жуковы, Роговские, Алеевы назывались тетями и дядями, кузенами и кузинами, но действительную степень их родства установить было трудно. Среди них Наталья Петровна была ому определенно самой близкой родственницей. В Петербурге жили и родственники отца. С ними мальчик изредка виделся, но большой роли в его жизни они не играли. Только дядя Константин Иванович, поселившийся по соседству, почти ежедневно встречался с племянником, с ним тетушка обсуждала все касавшееся воспитания Мити. Он был представителем писаревской стороны, так сказать, посредником и контролером. Другого дела у него в Петербурге не было. Приехав вместе с племянником, он стал добиваться места чиновника, но и спустя три года у него все еще «много надежд, но места пока нет». Отдаленность родства не мешала всем новоявленным дядюшкам и тетушкам проявлять к Мите горячие чувства. Они находили сходство в наружности или характере мальчика с родителями или даже с собой, интересовались его уроками и дневником, наперебой спешили подавать советы, читать нравоучения. Домашняя опека сменилась опекой родственной. Конечно, она была не так строга и взыскательна, но зато еще более скучна и надоедлива. Наталья Петровна была женщиной добродушной. Она любила Митю и не слишком допекала его наставлениями. Она только заставляла мальчика читать вслух назидательно-религиозные книги да, борясь с рассеянностью и забывчивостью Мити, придумала для него страшное наказание. Всякий раз, когда, например, вернувшись из гимназии, Митя забывал снять мундир, он лишался права писать Раисе. «Средство было радикальное и подействовало. Не желая лишать ни себя удовольствия ‘беседовать с нею, ни лишать ее того удовольствия, которое она, как говорит, испытывает, получая мои письма, я стал внимательнее». Иногда в доме тетушки собирались гости, и тогда Митя должен был выходить к ним, отвечать на их вопросы, приобщаться, так сказать, к светскому обществу. Но здесь Митя позволял себе показать характер и отстаивать свои права. Однажды при гостях говорили о почерке мальчика, и тетя приказала принести дневник. «Я принес его, и князь, услышав слово «дневник», взял тетрадь с насмешливым и самодовольным видом и приготовился заглянуть в него, но я, быстрый, как мысль (тяжелая, разумеется), вырвал у него находящийся в опасности дневник и, сказав, что я не давал ему права его читать, вышел с большим эффектом». После этого случая Митя старался не появляться при гостях, заявляя: «Мне нечего делать в гостиной». Семейный круг тетушки не мог дать духовной пищи мальчику. Разговоры, которые слышал Писарев дома, не выходили за пределы узкородственных интересов, злословия и пустой светской болтовни. Бедная событиями жизнь дополнялась однообразными визитами к родственникам и знакомым, хождением по праздникам к обедне в Преображенский собор да поездками в Сергиевский монастырь на страстной неделе (Митя избегал этих поездок — «боялся страшной длинноты всенощной»). Так продолжалось все. гимназические годы. Но главным в жизни Мити все это время было, конечно, ученье: подготовка в гимназию, потом приготовление уроков, занятия музыкой, не пошедшие, впрочем, впрок. Приехав в Петербург, Митя прежде всего передал тетушке желание отца готовить его к поступлению с осени в четвертый класс. Оглядев хилое сложение ребенка, Наталья Петровна покачала головой: «Непосильная работа тебя утомит… Тебе надо побольше двигаться, заботиться о своем здоровье, а не обременять голову греческим и алгеброй». На следующий день Митя с триумфом выдержал домашний экзамен, учиненный ему Уваровым. Кузен и тезка Митя Уваров взялся готовить Писарева к поступлению через месяц в третий класс. Тетушка тем временем хлопотала, чтобы определить Митю в ближайшую гимназию, где уже учился Уваров. Первое время Митя даже не скучал по дому. После ежедневных подробных писем он вдруг замолкал на две недели, а когда уже больше невозможно было откладывать, писал поздравительную скороговорку.Писарев — матери, 28 декабря 1851 года: «Милая, добрая мама! Прежде всего поздравляю Тебя с праздником Рождества и с Новым годом. Ты слишком хорошо знаешь мои чувства, знаешь вперед мои пожелания: я их высказывал Тебе и повторял всегда, так что я думаю, что это потерянное время, сызнова перечислять Тебе то, что я говорил Тебе более 20 раз. Счастья, богатства, спокойствия, всего, что только может сделать Тебя вполне довольною, я желал Тебе всегда и теперь желаю. Мне некогда, Мама, уверяю тебя; прости, пожалуйста. Я кончаю мое письмо, прощай, прощай, прощай! Скажу только, что Тетенька довольна мною; я здоров; Митя очень дружен со мною. Д. П.».
Мальчику действительно было некогда. Новая обстановка, множество занятий, а главное — товарищи — захватили его целиком. Да, наконец-то у него появились товарищи. К Мите Уварову приходили гимназисты, у генералаРоговского было двое сыновей — Николай и Михаил, у тети Лизы Копьевой — племянник. Все они были почти одних лет с Писаревым. Большая компания мальчиков радовала Митю, все свободное время он проводил в прогулках и играх с ними. После полуторамесячных занятий пришел день вступительного экзамена: «Я должен описать сегодняшний день, потому что, может быть, во всей этой тетради не будет дня более памятного для меня и моих родителей, чем 29 января 1852 года. Сегодня я сделал первый шаг мои в жизнь, одним словом, сегодня я сдал экзамен на поступление в третий класс гимназии! Я проснулся в половине девятого. Я дрожал, мороз по коже подирал, как говорится. Я перечитал наскоро то, что успел, горячо помолился Богу, больше, чем когда-либо нуждаясь теперь в его помощи. Выпив чаю, я пошел поздороваться с тетей, которая была уже готова. Пробило девять часов; мы отправились и через несколько минут были на месте. Дверь отворилась, я вошел, дрожа. Мы поднялись на лестницу и встретили директора, Федора Ивановича Буссе. Он поговорил о чем-то с тетей, но я ничего не понял, я расслышал только, что он просит оставить меня одного в гимназии до конца экзамена. Тетя согласилась, так как ничего нельзя было поделать, благословила меня, поцеловала и вернулась домой. Директор повел меня в третий класс. Все встали, когда он вошел. Он сказал несколько слов учителю математики, Францу Ивановичу Буссе (своему брату), и затем вышел. Тот спросил меня, что я знаю по арифметике и по алгебре, и я ответил, что знаю всю арифметику, а по алгебре сложение…» Запись оборвана, и дневник оставлен на целых два года. Но главное известно: в этот день Митя Писарев стал гимназистом.
5. ШКОЛА ДЕМОСФЕНОВ
Третья петербургская гимназия помещалась в трехэтажном здании на углу Гагаринской улицы и Соляного переулка. Она была на хорошем счету и в то же время считалась самой дешевой. Воспитанники гимназии предназначались к педагогической деятельности. Поэтому она была единственной в столице гимназией с двумя древними языками. После европейских революций 1848 года классическое образование в России было ограничено: опасались республиканского духа древних греков и римлян. Уже больше двадцати лет директорствовал в гимназии профессор Педагогического института Федор Иванович Буссе. Умный и добрый человек, просвещенный и гуманный педагог, поклонник Песталоцци и ученик Ланкастера, когда-то он с немалой энергией пытался следовать передовым педагогическим идеям. Но годы брали свое — ему было под шестьдесят — слабохарактерный, болезненный, а главное, усвоивший за многолетнюю службу, что самостоятельно действовать никак невозможно, он почти не принимал участия в управлении гимназией. Появлялся он редко, на уроках присутствовал молча, вынужденный прочитать нотацию провинившемуся — говорил вяло, односложно и бессвязно. Лишь иногда, после занятий, он подходил побеседовать с кем-нибудь из гимназистов и тогда очень обстоятельно расспрашивал, что задано, как ученик готовится, проверял и исправлял задачи и переводы, очень любил, чтобы у него спрашивали что-нибудь. Его не боялись, из детской жестокости почти в глаза смеялись над ним, но любили. Правил гимназией инспектор — Федор Андреевич Аккерман — живой, подвижный немец, слишком правильно говоривший по-русски. Это был тиран, постоянно выискивавший себе жертвы. Он заботился только о внешнем порядке и дисциплине и не церемонился ни с гимназистами, ни с педагогами. Стоило гувернеру пожаловаться на ученика, инспектор многословно, не стесняясь в выражениях, разносил гувернера при всем классе. Гимназиста же ожидала суровая кара в субботу: всех провинившихся собирали в этот день в бане и секли под наблюдением самого Аккермана. Для старшеклассников существовал карцер, который благодаря заботам инспектора редко пустовал. Воспитатели подбирались из отставных юнкеров или неудавшихся чиновников. Щелчки, затрещины, карцер, розги процветали в гимназии. Особенно доставалось казеннокоштным воспитанникам, жившим в интернате. Жалобы учеников на несправедливость или на плохую пищу вызывали строгое наказание «за дерзость против начальства». Такое воспитание оставляло тяжелые следы в детских душах. Л. Н. Модзалевский, известный педагог, окончивший 3-ю гимназию на год раньше Писарева, вспоминал: «Скрытность, ложь, обман, — как последствия запуганности и унижения, — были нашими добродетелями, когда мы приходили в соприкосновение с нашими грубыми, глупыми, а иногда пьяными воспитателями или гувернерами, а выкидывание разных злых или смешных проделок над ними было лучшим нашим развлечением». Писарев был приходящим гимназистом. Поэтому он не испытывал и сотой доли того, что выпадало на долю пансионеров. Но грубость, рукоприкладство процветали и в классах. А между тем ни в дневнике, ни в письмах Писарев ни слова не говорит о наказаниях, которым подвергаются его товарищи, да и он сам при тогдашнем режиме в гимназии его было за что наказывать. Все объясняется просто. Даже дневник, писанный для себя, никогда не содержит всей правды. По самым разным соображениям автор дневника просеивает факты, отбирает их. А Писарев-гимназист вел дневник прежде всего для матери. Он привык делиться с матерью всем, и ему, вероятно, было очень трудно о чем-нибудь умолчать. Но он представлял себе, как будет реагировать мать на необычайные новости, и предпочитал вовсе не сообщать таких новостей, которые причинили бы волнения дома. Первое место в гимназической программе занимали древние языки. Ни один день не обходился без эллинов и римлян. По семь-восемь часов в неделю шесть лет изучали латинский, пять — греческий. Каждый язык вели два учителя, и преподавались они отлично. Как тут было не научиться правильно читать латинские стихи и спрягать греческие глаголы без грубых ошибок? На новые языки отводилось мало учебного времени, а преподавали их иностранцы, которые не умели и не желали говорить по-русски. В классах ученики ничего не делали, выезжали на трудах нескольких счастливцев, которые принесли практическое знание этих языков из дому. Писарев был одним из этих счастливцев. Хорошо учили русской грамматике. В третьем классе гимназист приобретал за семь копеек тоненькую книжечку «Сокращенная грамматика» Востокова. Чудесная была это книжка! Крупный филолог выбрал из грамматических дебрей самое необходимое и изложил сжато, точно и настолько понятно, что объяснений не требовалось. Разделенная учителем на маленькие порции, за год грамматика выучивалась слово в слово. Ученики иллюстрировали правила собственными примерами по образцу приведенных в книжке и свободно делали этимологические разборы по формуле. Было в классе несколько экземпляров полной грамматики того же Востокова «для справок по правописанию», но обращались к ним редко. Совсем расставшись с русской грамматикой в третьем классе, гимназисты были вполне грамотны. С четвертого класса грамматику сменяли теория словесности и русская литература. По позднейшим словам Писарева, история русской литературы представляла список имен, которые навсегда оставались для ученика именами, «ровно ничего собой не означающими». Писареву повезло. Его переход в четвертый класс совпал с появлением в гимназии нового преподавателя русского языка и словесности. Владимир Яковлевич Стоюнин, в то время еще совсем молодой человек — ему исполнилось 27 лет, — резко отличался от всех учителей и гувернеров. Широко образованный молодой словесник (он был товарищем Н. Г. Чернышевского по выпуску Петербургского университета), очень скоро внушил к себе уважение и гимназистов, и преподавателей, и начальства. Сосредоточенный и независимый, он был сдержан и ровен в обращении, никогда никого не наказывал, ни на кого не жаловался и почти никогда не ставил дурных баллов, не придавал вообще баллам значения. Его речи были свободны и просты, но необыкновенно ясны и содержательны Даже самые ленивые и неспособные ученики у него в классах занимались. Гимназисты любили его и гордились тем, что «учились уже у Стоюнина — значит, не какие-нибудь школьники, а настоящие гимназисты». Схоластическая программа, тщательно очищенная от «вольномыслий», бездарные учебники создавали серьезные препятствия для учителя словесности. Владимир Яковлевич пытался преодолеть эти многочисленные препоны. Он знакомил учеников с произведениями русской литературы в историческом освещении, попутно сообщая необходимые сведения по теории литературы. Уже тогда Стоюнин начинал создавать свои знаменитые руководства к изучению литературы, которые во второй половине XIX века пользовались большой популярностью в гимназиях. Сжатые и дельные рассказы учителя, чтение на уроках литературных образцов, заучивание наизусть стихотворений поддерживали и развивали интерес гимназистов к литературе. Стоюнин поощрял творчество учеников, сочинения и стихотворные опыты гимназистов тут же прочитывались и обсуждались всем классом. Однако даже в классах Стоюнина гимназисты ничего не слышали о Лермонтове, Гоголе, Белинском и очень мало о Пушкине. История всеобщая преподавалась по скверным учебникам Зуева и Смарагдова, русская — по краткому учебнику Устрялова и выучивалась чуть не наизусть. Исторические знания гимназистов, по словам Писарева, представляли самый печальный оптический обман. Незначительность истории как предмета символизировал преподаватель Красов, из вологодских семинаристов. Он ходил на цыпочках, боялся начальства и даже своих учеников. Тонким голосом он задавал урок по книге от сих до сих или, очень редко, с ударением на «о» пересказывал учебник. Гимназическая система строилась на зубрежке. Гимназисты приобретали привычку, встречая незнакомые понятия, свыкаться с ними, не проникнув в их смысл, привычку читать книги, не отдавая себе отчета в их содержании, привычку скользить над трудностями, не замечая их. Эта система порождала расслабление и вялость мысли. Предохранить гимназистов от угрожавшего им отупения могли бы математика и физика, но они были пасынками в гимназической программе. Математика в гимназии — «это ряд удивительных фокусов, придуманных бог знает зачем и бог знает какою эквилибристикою человеческого мышления. У каждого фокуса есть свой особенный ключ, и эту сотню ключей надо осилить памятью. Доказывая теорему, гимназист только притворяется, будто выводит доказательства одно из другого — он просто отвечает заученный урок. И пусть не обольщается благодушный педагог тем, что ученик доказывает теорему и при перемене букв чертежа. Попробуйте изменить фигуру; предложите, например, вместо остроугольника тупоугольник или устройте так, чтобы заинтересованный в доказательстве угол глядел не в стену, как ему велено глядеть по учебнику геометрии, а хоть бы в пол или в потолок. Сделайте так, и я вам ручаюсь, что из десяти бойких геометров пятого класса девять погрузятся в бесплодную и мрачную задумчивость. Они с краской стыда на лице сознаются вам, что «у них этого нет», и если вы немножко психолог, то вам сделается от души жалко бедных юношей: вы поймете, что в эту минуту их законное самолюбие страдает гораздо сильнее, чем если бы их поймали на крупной шалости или уличили в небрежности к заданному уроку; им приходится сознаться в умственном бессилии — в бессилии, произведенном искусственными средствами, и они сами чувствуют смутно, что они могли быть сильнее и что их местная тупость находится в какой-то роковой связи с своеобразными достоинствами системы преподавания». Так рассуждал взрослый Писарев в своей автобиографической статье «Наша университетская наука». А пока он гимназист, мало отличающийся от своих товарищей и, безусловно, никаких сомнений в целесообразности гимназической системы не выражающий. Вопреки планам тетушки, намеревавшейся продержать его в третьем классе полтора года, Писарев осенью перешел в четвертый. Скоро он сделался одним из первых учеников и ежегодно получал награду за успехи. Одноклассники его уважали. Товарищей он не выдавал, случалось, и сам не знал урока и охотно принимал подсказки — «если это и нечестно, то удобно», — записал он в дневнике. При всех своих успехах Писарев вовсе не был примерным гимназистом. Он почти ежедневно опаздывал, читал на уроках посторонние книги или готовился к следующему уроку, бывало, получал нули и единицы, участвовал в шалостях, из-за которых иногда даже попадал в лазарет. Учителя были довольны способным гимназистом. Он готов был отвечать без подготовки и по-гречески, и по-латыни, чем не раз выручал одноклассников. Учитель немецкого языка Э. П. Буш выделял его среди прочих учеников, давая читать книги из своей библиотеки. Стоюнин считал Писарева своим лучшим учеником. И это недаром. Ведь Писарев так любил писать сочинения и так серьезно к ним готовился. Несколько сочинений Писарева сохранилось до нашего времени, и хотя это только школьные сочинения, они вносят несколько черточек в его биографию, свидетельствуя о наблюдательности Писарева-гимназиста, о его стремлении к самостоятельным суждениям. В сочинениях — отношение к окружающему. В лирическом отрывке «Летний вечер» Писарев описывает деревенский пейзаж. Это не книжный пересказ, а собственные наблюдения. «Первый урок над Азбукой» не только воспоминания о начале собственного учения, но и критика, правда еще робкая, «Азбуки русского слова», содержавшей в качестве упражнений всевозможные нравоучения и молитвы. Разбор «Горя от ума» завершается утверждением, что комедия может «послужить и нынешнему обществу полезным уроком». Психологический очерк «Скука» противопоставляет низшие классы народа (им «некогда скучать; они заняты, а в немногие часы отдыха они веселятся в самом деле, от души») пустому светскому обществу («все светские приличия, этикет, все это выдумано от скуки», «все эти светские глупости, в которых мыслящий человек… не найдет никакого смысла»). Соображения, положенные в основание этого очерка, а также рассыпанные в других сочинениях («природа искажена искусством человека», «учить ребенка силой невозможно», оправдание обмана, если он ведет к пользе, и т. д.), предвосхищают те мысли, которые Писарев будет проповедовать со страниц журналов. Его мировоззрение подготавливалось уже на гимназической скамье. Талантливый педагог, Стоюнин разглядел талантливого ученика и старался направить его. Сам попечитель учебного округа, грознейший Мусин-Пушкин удостоил Писарева своим одобрением. Похвалой попечителя Митя особенно не обольщался: за время ученья в гимназии он, по крайней мере, трижды хвалил Писарева, трижды спрашивал о фамилии, но так ее и не запомнил.6. ОТЕЧЕСТВО И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
О Грунце Писарев мечтал весь долгий год. Не успев вернуться из дома, он принимался считать время, оставшееся до новых каникул. «Я начал понимать радость воспоминаний и переписки, — писал он в дневнике. — Говорят, что во сне видишь, о чем думаешь. Теперь я этому верю, испытал это на себе. Думая постоянно о моих милых, милых друзьях в Грунце, так сказать, живя воспоминаниями, я только и вижу во сне деревню и каникулы. Сегодня ночью я видел себя на качелях, видел всех наших. Убаюканный этими сладкими иллюзиями и чувствуя утром, что просыпаюсь, я старался снова заснуть, чтобы снова вызвать эти сладкие виденья, хотя и знаю, что все это сон. Обыкновенно это удается мне». С Николаем Роговским, ставшим его другом, Митя вел нескончаемые разговоры о деревне. Но если Роговский сожалел о деревенской природе в отцовском поместье, Митя думал о людях, которых там оставил («Онжалел отечество, я — соотечественников, так сказать»). Ни со столичными родственниками, ни с гимназическими товарищами у Писарева не установилось душевной близости. А в Грунце оставались мать, дядя Андрей, Верочка — люди, горячо любящие его и любимые им. И еще была маленькая сестренка Катя, родившаяся, когда Митя учился в пятом классе. Он звал ее ласково Ка-хас и относился к ней с почти отцовской нежностью. Но больше всего Митя думал о своей кузине. «Прежде всего Раиса, которую я люблю нынче как-то особенно и которой я готов поверить все, что во мне происходит. А доверие не есть ли самое необходимое условие дружбы и не являюсь ли я самым преданным, самым верным ее другом, одним словом, братом ее? И разве не естественно, что моя привязанность растет по мере того, как я могу больше оценить ее добрые качества и ее милый ум». Но вот наконец и Грунец. Перемен здесь совсем немного. Разве что система воспитания немного смягчилась. Варвара Дмитриевна приобрела некоторый опыт, да и любимый сын проводит дома всего только шесть недель в году. Эта краткость пребывания Мити в семье побуждала мать умерять свою строгость. Кроме того, Митя теперь петербуржец, образован лучше, чем сама воспитательница, и может рассказать что-нибудь новое, полезное для умственного развития сестер. А Варвара Дмитриевна неустанно искала этой пользы. «Помню я, — вспоминала Раиса Коренева, — что она прослышала о значении Белинского в русской литературе; вот она спешит достать некоторые из его статей, и я, девочка лет 13-ти или 14-ти, прочитываю вместе с нею десятки страниц, из которых мы обе ровно ничего не понимаем. Плохо осмысленные нами термины субъективно и объективно нагоняют на нас скуку, без малого не усыпляют нас; но мы ободряем друг друга и с твердой решимостью доканчиваем начатый труд, т. е. прочитываем все эти непонятные для нас статьи из одной боязни, что, не докончив их, мы, может быть, потеряем, упустим что-то». В другой раз, рассказывает Коренева, «мамаша прочла где-то о том, что развитие живописи способствовало распространению культуры вообще, и, увлеченная этой идеей, она достала какой-то серьезный и объемистый французский трактат о живописи. Мне трогательно и вместе с тем отрадно вспоминать, как мы с ней убивались над этой книгой. Родившаяся и выросшая в деревне, я до той поры, что называется, и видом не видала ни одной порядочной картины, и между тем начинаю читать серьезнейшее и специальное сочинение о живописи, о ее разделении на различные школы и о значении каждой из них. Мы с мамашей удивлялись только, как много попадалось нам незнакомых слов, которых не оказывалось даже и в лексиконе Рейфа. Тогда мы стаскивали с полки запыленные фолианты французского академического словаря, находили искомые термины и, прочитав объяснение их, крайне недоумевали, почему же мы все-таки ничего не понимаем? Но бросить это скучное чтение нам и в голову не приходило, — это не допускалось по принципу». Ученье продолжалось для Мити и летом, было оно не очень обременительно и заключалось в чтении вслух, рисовании и писании сочинений. Однажды по просьбе матери Митя привез на каникулы сочинения Гоголя. Как всегда, вместе с матерью и сестрами читали вслух. Нравилось. Но дядя Сергей Иванович вдруг заявил, что Гоголь — бездарность и что читать его неприлично. Митя чуть не заплакал от досады. Наказывали Митю реже, хотя бранили и читали нотации по-прежнему. Митя больше не обижался ни на грубости, ни на наказания. Он научился великодушно прощать. Но о главной для него неприятности он только догадывался. С годами Варвару Дмитриевну все больше раздражала привязанность сына к кузине, она сделала из этой привязанности для себя какое-то пугало и ожидала от нее самых роковых последствий. «Эти вечные волнения, — вспоминала Р. Коренева, — отравляли жизнь и ей, и мне. Как только приезжал из Петербурга Митя, так на меня начинались гонения; он уезжал, и мамаша усиленной нежностью и самыми горячими ласками старалась как бы вознаградить меня за претерпенные несправедливости. Увлеченная этим добрым чувством, она сама же писала сыну, какая я хорошая девочка и как она меня любит. Но он приезжал на лето, и с ним вместе возвращались наши дурные отношения. И я в своих чувствах к ней постоянно колебалась, переходя от самого искреннего обожания к отчуждению и недоверчивости. Любовь с той и другой стороны, конечно, одерживала победы, но нет сомнения, что мы обе сильно страдали…» Наконец и здесь у Писарева появились товарищи-мальчики. В доме родителей воспитывался его ровесник Митя Вилинский (чтобы отличить его от собственного сына, Писаревы звали его Пахомом), у соседней помещицы Лизогуб был сын Илья, всего на два года моложе Мити. По настоянию Андрея Дмитриевича в усадьбе были устроены гимнастические канаты, лестницы, трапеции. Хотя и с опозданием, мать обратила внимание на физическое воспитание ребенка. Но мальчик был слабее товарищей, он не умел ни лазить по деревьям, ни перепрыгивать рва, ни управлять лодкой. Когда весло переходило в руки к Мите, лодка начинала кружиться на месте. Дядя Андрей пытался учить его стрелять, но Митя никак не мог попасть в цель. Держа ружье на правом плече, он ухитрялся прицеливаться левым глазом. Он ни за что не хотел садиться на кавалерийскую лошадь, а предпочитал ездить на какой-то кляче с казацкой подушкой, закинув поводья за луку и заложив руки в карманы. И множество других анекдотов рассказывает Данилов о неловкости маленького Писарева. Возможно, что кое-что он и преувеличивал. Во всяком случае, вопреки его утверждению Писарев превосходно плавал, хотя и начал учиться этому только в четырнадцать лет. Но Андрей Дмитриевич вместе с тем отмечает, что собственная неловкость вызывала у Мити только добродушный смех и что ни робости, ни трусости в гимназические годы он у Писарева не замечал. Наоборот, мальчик проявлял твердую решимость победить препятствия и достигнуть цели. Гимназические каникулы были счастливым временем для Писарева, но пролетали они слишком быстро. Отъезд обычно откладывался несколько раз, но от этого разлука не становилась легче. День накануне отъезда проходил грустно. После обеда устраивался напутственный молебен (Митя всякий раз не мог удержаться от смеха, когда оба псаломщика начинали петь своими странными тягучими голосами). Потом прощались с качелями и вместе с Пахомом «с ожесточением» раскачивали на них Раису. Вечером бывали гости, и пока Вера не уходила спать, играли в карты («Вера не понимает, как можно разговаривать, а не играть»). После ухода гостей Митя долго прощался с Раисой, боясь, что это последний раз. Наступал день отъезда. В 1854 году это было 31 августа. «Я встал очень мужественным, с твердым решением пролить как можно меньше слез при печальной церемонии расставания. Мы провели утро в разговорах, но, как говорит Раиса, все были словно в воду опущенные, и разговор касался преимущественно отъезда, что мы будем делать во время разлуки, — а это делало его, разумеется, грустным и томительным». И опять тянулся учебный год. И снова томительное ожидание каникул.7. БЛАГОВОСПИТАННЫЙ ЮНОША
Вспоминая гимназию, Писарев делил гимназистов на две категории — овец, неспособных краснеть, и козлищ, весьма способных краснеть, шалить и лениться. «Первые спокойно и радостно тупеют, вторые злятся и кусают ногти. Из первых выходят примерные чиновники; из вторых — широкие натуры и иногда даровитые деятели. Расстояние между теми и другими увеличивается с каждым годом; различие между обеими категориями постоянно становится глубже; несмотря на то, бывают иногда и такие случаи, что геометр, зачисленный в овцы и постоянно считавший себя овцою, вдруг открывает в себе козлиные свойства и наклонности и, сделав такое открытие, немедленно перебегает к своим естественным союзникам. Случается и наоборот, тем более что овцою быть выгодно и приятно». Себя Писарев причисляет к разряду овец — «не злился и не умничал, уроки зубрил твердо, на экзаменах отвечал красноречиво и почтительно и в награду за все эти несомненные достоинства был признан «преуспевающим». Ирония над собой сквозит в каждом слове, но она многократно возрастает, когда Писарев начинает сообщать подробности своего развития к моменту окончания гимназии. «Любимым занятием моим было раскрашивание картинок в иллюстрированных изданиях, а любимым чтением романы Купера и особенно очаровательного Дюма. Пробовал я читать «Историю Англии» Маколея, но чтение и подвигалось туго, и казалось мне подвигом, требующим сильного напряжения естественных сил. На критические статьи журналов я смотрел как на кодекс гиероглифических надписей, прилагавшийся к каждой книжке исключительно по заведенной привычке, для вида и для счета листов; я был твердо убежден, что этих статей никто понимать не может и что природе человека совершенно несвойственно находить в чтении их малейшее удовольствие… Начал я также, будучи учеником седьмого класса, читать «Холодный дом», один из великолепнейших романов Диккенса, и не дочитал. Длинно так, и много лиц, и ничего не сообразишь, и приключений нет никаких, и шутит так, что ничего не поймешь; так на том и оставил, порешив, что «Les trois mousquetaires»[2] не в пример занимательнее. Ну а русские писатели — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Кольцов? Читатель, мне стыдно за моих домашних воспитателей, стыдно и за себя — зачем я их слушал?.. Русских писателей я знал только по именам. «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени» считались произведениями безнравственными, а Гоголь — писателем сальным и в порядочном обществе совершенно неуместным. Тургенев допускался, но, конечно, я понимал его так же хорошо, как понимал геометрию, Маколея и Диккенса. «Записки охотника» ласкали как-то мой слух, но остановиться и задуматься над впечатлением для меня было немыслимо. Словом, я шел путем самого благовоспитанного юноши…» Обычно эту самохарактеристику Писарева принимают на веру и этим допускают большую ошибку. Вся тирада написана ради заключительного утверждения, которое совершенно истинно; действительно, в эту пору Писарев шел путем самого благовоспитанного юноши. А в остальном характеристика грешит известными преувеличениями. Правда, Писарев любил раскрашивать картинки, с удовольствием читал и Купера, и Дюма, и даже играл с сестрами в солдатики и куклы. Но ведь он и был в то время еще ребенок. Из дневников известно, что и Пушкин и Гоголь были знакомы Писареву не понаслышке, известно также, что в шестом классе он уже читал «Современник». В гимназических сочинениях Писарева заметны попытки самостоятельности, его ценил Стоюнин. Одним словом, к окончанию гимназии Писарев был, бесспорно, более развит, чем это вытекает из цитированной характеристики. Но для чего Писареву потребовались эти преувеличения? Здесь несколько причин. Прежде всего статья критиковала состояние гимназического образования и была бы неполна, если бы не был показан результат этого образования. А удобнее и убедительнее всего было говорить о себе, чем изображать абстрактного среднестатистического гимназиста. Далее, как и во многих других статьях, Писарев продолжал спор со своими домашними воспитателями (вспомним реплику дяди Сергея Ивановича о Гоголе, она почти дословно повторяется Писаревым в статье). И наконец, ко времени написания статьи он столь далеко ушел в своем развитии, что совершенно искренне считал — в пятнадцать, шестнадцать, двадцать лет он еще ничего не знал. События жизни Писарева в последний гимназический год неизвестны. Неполные баллы за прилежание и поведение в седьмом классе позволяют предположить, что зачисленный в овцы и постоянно считавший себя овцой Митя Писарев вдруг открыл в себе козлиные свойства и перебежал к своим «естественным союзникам» (ведь к тому же из него и не вышло чиновника, как полагалось бы, по его словам, из овцы). Возможно, поэтому его не было в числе лучших учеников, произносивших приветствия на публичном акте. Вместе с аттестатом Писарев получил первую серебряную медаль, чин 14-го класса и преимущества «второго разряда чиновников по воспитанию». Писарев мечтал об университете. Слова «студент», «профессор», «аудитория», «лекция» приводили его в трепет, в них заключалась какая-то необъяснимая прелесть. В студенческой жизни предчувствовал он что-то свободное, молодое и умное. Его кузены Митя Уваров, Коко Копьев, Николай Роговский в то время облекались в самые очаровательные офицерские формы. На касках их развевались султаны, сабли гремели, звенели шпоры, блестели эполеты. «Их благородия» похвалялись своей будущей властью и воображаемыми подвигами. Но Митя им не завидовал. Примеряя скромный студенческий сюртук с синим воротником и двуглавыми орлами на' пуговицах, треугольную шляпу и тупую шпагу с позолоченным эфесом, он находил, что его наряд и его будущее куда как возвышеннее и благороднее. Педагогический совет гимназии ходатайствовал перед попечителем о назначении в студенты Петербургского университета «без нового испытания, по прошлогодним примерам» 13 человек из 19 выпущенных. Особо добавлялось: «Писарев хотя еще не имеет 16 лет, но, по своему отличному приготовлению, с успехом может слушать лекции». «Итак, я — студент. Позади меня, в близком прошедшем, лежит побежденная груда личных врагов моих, груда тех учебников, которых сумма называется в совокупности гимназическим курсом. Над этою хаотическою грудою поверженных и бессильных противников, как символ примирения и прощения, сияет кротким и умилительным блеском первая серебряная медаль с изображением богини мудрости и с многозначительной надписью: «Преуспевающему»… Внешние результаты моего пребывания в гимназии оказываются блистательными; внутренние результаты поражают неприготовленного наблюдателя обилием и разнообразием собранных сведений: логарифмы и конусы, усеченные пирамиды и неусеченные параллелепипеды перекрещиваются с гекзаметрами «Одиссеи» и асклепиадовскими размерами Горация; рычаги всех трех родов, ареометры, динамометры, гальванические батареи приходят в столкновение с Навуходоносором, Митридатом, Готфридом Бульонским и нескончаемыми рядами цифр, составляющих неизбежное хронологическое украшение слишком известных исторических произведений гг. Смарагдова, Зуева и Устрялова. А города, а реки, а горные вершины, а Германский союз, а неправильные греческие глаголы, а удельная система и генеалогия Иоанна Калиты! И при всем том мне только шестнадцать лет, и я все это превозмог…» Эти иронические строки написаны спустя семь лет, уже взрослым человеком и известным журналистом, но, несмотря на это, они в общих чертах верно передают внутреннее состояние шестнадцатилетнего Мити Писарева. Предстояло выбрать факультет. Размышления его были недолги и совсем несложны: «По математическому не пойду, потому что математику ненавижу и в жизни своей не возьму больше в руки ни одного математического сочинения… по естественному тоже не пойду, потому что и там есть кусочек математики… юридический факультет сух… в камеральном факультете нет никакой основательности…» Оставались только два факультета. «Разве на восточный… Поехать при посольстве в Турцию или в Персию… жениться на азиатской красавице… привезти ее в Петербург и посадить в национальном костюме в ложу, в бельэтаже, в итальянской опере… Это, впрочем, пустяки… А вот что: ведь на восточном придется осиливать несколько грамматик, которые, пожалуй, будут похуже греческой… Ну и бог с ним! значит — на филологический!» Решение было принято.II УМСТВЕННЫЙ КРИЗИС
Все понятия, лежавшие в уме моем с самого детства, все готовые суждения, казавшиеся мне неприкосновенною основою всего существующего в моей собственной личности, все гипотезы, имеющие такое тираническое влияние на мысли и поступки большей части людей, — все это заколыхалось и как-то, помимо моей воли, стало обнаруживать мне свою несостоятельность.Д. Писарев
1. СЕМЕНА СКЕПТИЦИЗМА
17 августа 1856 года при звоне колоколов и громе орудий, посреди громадного стечения народа Александр II въехал в Москву верхом, окруженный всеми великими князьями. Царский двор, генералитет, синод, сенат и Государственный совет в полном составе прибыли накануне. Еще раньше стеклись в первопрестольную со всех концов империи предводители дворянства, городские головы, депутаты подвластных России народов, волостные старшины государственных крестьян. Прибыли иностранные принцы и послы дружественных монархов. Вся гвардия была направлена к Москве и расположилась частью в городе, частью лагерем в его окрестностях. В продолжение трех дней герольды, сопровождаемые трубачами и литаврщиками, разъезжали по столице, громогласно возвещая о предстоящем торжестве. 26 августа снова надрывались колокола и оглушительно гремели пушки. В солнечных лучах сверкало оружие, блестели мундиры войск, выстроенных на кремлевской площади между трех соборов. С пяти часов утра эстакады заполнялись почетной публикой и дамами в нарядных туалетах, а за решеткой теснились толпы народа. Вечером Кремль превратился в огромное огненное сооружение. Соборы, колокольня Ивана Великого, Большой театр сверкали огнями. Огненными аркадами была окружена Театральная площадь. Мириады огней отражались в Москве-реке. Если бы не густые облака пыли, поднятые экипажами и толпой, было бы светло как днем. В Большом Успенском соборе, где со времен Ивана Грозного совершалось венчание царей на царствование, Александр подписал манифест о восшествии на престол. На другой день царь с царицей принимали поздравления духовенства, дворянских депутатов, представителей восточных народностей, дипломатического корпуса, купечества, государственных крестьян. Представители губерний и купеческих обществ подносили хлеб-соль на золотых и серебряных с позолотой блюдах. Затем поздравляли военные чины армии и гвардии; царица принимала всех дам без различия рангов; праздновались царские именины. Был бал в Грановитой палате; обед в парадных платьях; народный бал, на котором царица и великие княжны танцевали в сарафанах, украшенных драгоценными камнями; бал в Дворянском собрании, обед в купеческом собрании, бал у английского посла… На Ходынском поле — народное гулянье. Фонтаны из водки, жареные быки, бараны, свиньи. Фантасмагория празднеств, пиршеств, балов продолжалась пять недель. Только в конце сентября царь уехал из Москвы. Газеты захлебывались от восторга. Либеральствующие профессора и литераторы соревновались друг с другом в хвалебных, верноподданнических речах. Только голос Герцена из далекого Лондона прозвучал резким диссонансом: «Ни одна надежда, — писал издатель «Колокола», — в самом деле не сбылась до сих пор — нет ни законной гласности, нет ничего положительного относительно освобождения крестьян…» В самый разгар коронационных торжеств Писарев в сопровождении отца проследовал через Москву в столицу.Его Превосходительству Г-ну Исправляющему Должность Ректора Императорского С.-Петербургского Университета Действительному Статскому Советнику Кавалеру Виктору Яковлевичу Буняковскому Окончившего курс наук В Третьей С.-Петербургской гимназии Дмитрия Писарева
ПРОШЕНИЕ Желая для окончательного моего образования выслушать полный курс наук по Историко-филологическому факультету, разряду общей словесности, покорнейше прошу Ваше превосходительство о принятии меня в число студентов по вышеуказанному факультету. При сем имею честь представить мои документы: Копию с Журнала Тульского Дворянского Депутатского Собрания, Метрическое свидетельство о моем рождении и крещении, Свидетельство Докторское и Аттестат Третьей С.-Петербургской гимназии. Дмитрий Писарев 11 сентября 1856 года
На прошении резолюция: «Документы достаточные, не хватает до 16 лет только 20 дней». И вторая: «Определено. На прием в число студентов испросить разрешение г. Управляющего С.-Петербургским учебным округом, 13.IX.1856. Член правления (подпись неразборчива)». Через несколько дней попечителю был направлен запрос, а 23 сентября исполняющий должность попечителя профессор З. X. Ленц подписал ответ: «Я разрешаю». На обороте член правления начертал: «Зачислить. 27.IX.1856 г.».
С набережной Невы Писарев робко вошел в заднюю дверь университета. Его встретил седовласый старец внушительного вида, в швейцарской шинели с орлами. — Ну что ты? — спросил он фамильярно. — Новичок? Пиши вот в книге имя и фамилию. Затем он отвел студента в шинельную. — Ты смотри, всегда тут и вешай, под этим самым номером. Можешь и фамилию свою тут подписать. Это был Савельич, бессменный швейцар со дня открытия университета, любимец студентов и чуть ли не самая популярная здесь личность. Умного и доброго старика знал весь образованный Петербург. Говорили, что сам Пушкин посылал его с корректурами в типографию. Профессора его уважали, студенты любили, ректор при встречах оказывал ему внимание. В сборной зале курился синий дым карпиуса. Сторож уже запирал дверь, и новичок едва успел проникнуть в коридор. Посредине длинного пустого коридора стояла на лафете большая медная пушка, напоминая об уходящем в прошлое николаевском времени. Спустя несколько минут Писарев сидел в аудитории и слушал первую в своей жизни лекцию. На кафедре возвышался взъерошенный седой старичок с длинным узким черепом, маленькими глазками и широкими скулами. Лицо его пылало, щеки надувались, губы кривились в улыбке… Не только пушка в университетском коридоре напоминала о николаевском режиме. В тот год он чувствовался еще во всем. Правда, кое-какие послабления уже вышли, но результаты их были пока незначительны. Был отменен ограничительный комплект (и число студентов сразу же выросло с трехсот пятидесяти до пятисот), уничтожено преподавание военных наук, профессорам разрешили выбирать ректора и деканов, уволили в отставку солдафона-попечителя. Во главе университета уже шестнадцать лет стоял академик Плетнев. Когда-то учитель словесности в женских институтах и при дворе, друг Пушкина и его панегирический критик, Петр Александрович Плетнев попал в профессора и в ректоры по протекции. Плетнев давно уже не читал лекций. Мягкий и безвольный, он не имел никакого влияния на университетские дела. Грозой студентов был инспектор Александр Иванович Фицтум фон Экштедт. Он чуть ли не спал в полной форме и со всеми регалиями, чтобы внушить к себе почтение со стороны студентов. Он знал о них почти все (пожалуй, даже и биографию каждого), посещал их на квартирах, принимал у себя, распекал за опоздания и нарушения формы, без особенного шума сажал под арест в пустую аудиторию, а в крайних случаях и в карцер. При всей своей строгости Фицтум был, в сущности, добр, участлив к нуждам бедняков, и студенты его уважали. Все прежние запреты оставались в силе. Нельзя было носить усы, бороды, длинные волосы, за курение в степах университета строго взыскивалось. По городу студент мот ходить только в волной форме, в треуголке и при шпаге. Любой генерал имел право отправить студента на гауптвахту. Инспектор по-прежнему за малейший проступок сажал под арест. Сходки и кружки запрещались. Единственной формой общественной деятельности были воскресные музыкальные концерты, которые уже много лет устраивал Фицтум в актовом зале университета для столичной публики. Но даже деньгами, вырученными за эти концерты и предназначенными на помощь бедным студентам, распоряжались не сами студенты, а инспектор. Студенты могли лишь небольшой компанией собираться у себя на квартирах или в ресторанах для выпивки. И начальство, справедливо полагая, что пьянство отвлекает от вольнодумства, всячески поощряло кутежи. Вступая в университет, Писарев предполагал, что теперь у него и дни и ночи будут поглощены занятиями. Каково же было его удивление, когда оказалось, что свободного времени некуда девать. Всего-навсего двенадцать лекций в неделю! Записывал он их без труда своим бисерным почерком в красивых тетрадках, легко запоминал и находил, что из каждой лекции приобретает что-нибудь полезное. Впоследствии Писарев утверждал, что в его лице профессорам историко-филологического факультета досталось настоящее сокровище: он был юн, понятлив и совершенно нетронут. «Благодаря этим качествам каждый профессор мог быть в отношении ко мне Христофором Колумбом; он мог открыть меня, водрузить в меня свое знамя и обратить меня в свою колонию, как землю незаселенную и никому не принадлежащую. Новая колония обрадовалась бы несказанно и по первому востребованию в неслыханном изобилии стала бы производить репу, табак, сахарный тростник или хлопчатую бумагу, смотря по тому, какие семена вздумал бы отважный мореплаватель доверить ее нераспаханным недрам». Филологический факультет был очень малочислен. Второй курс состоял из трех студентов, третий — из одного. Этот единственный представитель курса обладал весьма скромными способностями и ходил на костылях. Поэтому третий курс прозвали хромым курсом. На первом курсе было двенадцать студентов. Трое из них — однокашники Писарева по гимназии: Александр Вестенрик, Афанасий Мостовепко и Филипп Ордин. Естественно, что первые дни они держались вместе. Ходили парой гимназисты из Ларинской гимназии — Викентий Макушев и Александр Скабичевский. Флегматичный Макушев вечно таскался с какими-то огромными фолиантами. Еще в гимназии он пристрастился к славяноведению и теперь говорил и думал только о славянах. Его товарищ увлекался религиозно-мистическими вопросами. Поляк Владислав Хорошевский был значительно старше сокурсников. В университет он попал из католической духовной академии, откуда его из-за выдающихся способностей не хотели отпускать. Ходил он всегда в поношенном мундире и с портфелем под мышкой. Рядом с ним держался близорукий и взъерошенный Стефан Бобровский. Он был страшно рассеян, но не по возрасту зрел и полон энергии. К ним примыкал и литовец Владислав Даукша. Подчеркнуто пребывал в одиночестве Леонид Майков, младший брат знаменитого поэта. Это был рыхлый блондин, вялый и усидчивый. Самыми общительными оказались великовозрастные второгодники Василий Листов и Сергей Фель. Как университетские аборигены, они старались ввести новичков в курс студенческих дел. Писарев был на курсе младшим. На вид ему нельзя было дать даже его шестнадцати. Худенький, рыженький, розовощекий, с веснушками на лице, одетый с иголочки, он был похож скорее на гимназиста третьего или четвертого класса, чем на студента. Исключительно вежливый, всегда кроткий и тихий мальчик очень бойко отвечал профессорам. Товарищи посмеивались над его аккуратными тетрадками, украшенными переводнымикартинками, но относились к нему с симпатией. В молодые годы сближаются быстро. Не прошло и месяца, как однокурсники перезнакомились между собой и часто вели общие разговоры. Вот здесь, в обществе студентов-филологов, Митя впервые услышал такие вещи, которые заставили его задуматься. Говорили об исторической критике, об объективном творчестве, об основе мифов, об отражении идей в языке, о гриммовском методе, о миросозерцании народных песен, о родовом и общинном быте… Ухитрялись даже спорить! К ужасу Мити, рассуждали о тех критических и ученых статьях в журналах, которые казались ему недоступны, как полярные льды. Митя только моргал и даже не пытался скрыть того, как глубоко удручает его вынужденное безгласие. «Теперь, — писал Писарев семь лет спустя, — я двух грошей не дал бы за то, что говорилось тогда, тем более что говоривший редко понимал самого себя, а спорившие уже решительно никогда не понимали друг друга, так что спор прекращался только началом лекции или охриплостью воюющих сторон. Но тогда… о, тогда я изнывал от своего бессилия и томился мучительною духовною жаждою, воображая себе, что кругом меня люди угощают друг друга чистейшим нектаром. Понятно, что каждая лекция казалась мне усладительной каплей небесной росы, и понятно также, что эти росинки тотчас впитывались и бесследно исчезали в аравийской пустыне моего невежества». Древнюю историю филологам читал Михаил Иванович Касторский. Даже официальный историк университета характеризовал его весьма нелестно: «обладая огромной памятью фактов, не любил углубляться в связь и внутреннее значение этих фактов. История была для него-энциклопедическим словарем, куда сносилось безразлично все, что попадалось под руку, без разбора, без оценки, без соответствующего приурочения и освещения». Над ним смеялись профессора и студенты. Писарев, вспоминая о Касторском (под именем Креозотова), полагал, что если бы ему поручили читать специальную историю Букеевской орды или Абиссинской империи, то он нисколько бы не смутился этим и для этого случая у него нашлась бы готовая тетрадка, написанная лет двадцать назад. Прослушав несколько лекций Касторского, Митя, краснея от волнения, признался профессору, что хотел бы специально заняться историей, и попросил дать совет, с чего начать ему свои специальные занятия. Касторский посоветовал читать энциклопедию Эрша и Грубера и еще источники древней истории — Геродота, Фукидида, Полибия и т. д. Горячо поблагодарив профессора за добрый совет, Митя немедленно побежал в университетскую библиотеку. — Позвольте мне взять энциклопедию Эрша и Грубера, — сказал он библиотекарю. На лице библиотекаря отразилось удивление. — Книги, служащие для справок, — ответил он вежливо, — на дом не выдаются. Вы можете пользоваться ими здесь. Какую вам надобно букву? Оснований предпочитать одну букву другой у Писарева не было, и он назвал букву «а». Библиотекарь повел студента в галерею и указал длинный ряд больших и толстых книг, стоящих на паркете в алфавитном порядке. Их было очень много, и зрелище это привело Писарева в трепет. Он взял в руки первый том и увидел, что буква «а» поместилась в ней не вся. Перед ним стоял знаменитый немецкий энциклопедический лексикон. Митя рассчитал, что ему пришлось бы читать Эрша и Грубера лет десять. Писарев попробовал применить к делу второй совет коварного профессора. Он взял на дом французский перевод творений Геродота и принялся читать. Здесь трудностей не было никаких, но дело было не менее бесплодно. Совет профессора обогатил юного студента следующими опытными знаниями: он узнал, что книги, служащие для справок, на дом не выдаются; что существует немецкая энциклопедия Эрша и Грубера — она очень велика и годится для справок; что приобретать исторические сведения в алфавитном порядке и вперемежку со всякими другими сведениями оригинально, но неудобно; что профессора университета могут иногда подавать советы, мягко выражаясь, приводящие в недоумение. Своим советом Касторский заронил ядовитое зерно скептицизма.
Новичкам многое неизвестно. Только спустя некоторое время первокурсники узнали о сенсационном событии в университете. Несколько вечеров подряд в одной из больших аудиторий шел философский диспут. Студенты отрицали бытие бога, а профессор педагогики Фишер им оппонировал: «Когда мы обзираем всю вселенную, мы видим, что она не без духа…» Это была большая дерзость — в публичном месте отрицать существование бога. Года два назад за подобную затею смельчакам не только грозило бы исключение из университета, но, пожалуй, и заключение в монастырь. А сейчас, к всеобщему удивлению, все обошлось без последствий. Той же осенью группа старшекурсников подала прошение об издании студенческого сборника. Когда в феврале университет облетела весть о том, что министр разрешил сборник, первокурсники приняли участие во всеобщем ликовании. По факультетам прошли сходки, тайным голосованием выбрали по два редактора от факультета. Редакторы собирались на совещания с профессором Сухомлиновым, в обязанности которого входила помощь новоявленным издателям. Все было внове: и сходки, и собственный журнал. Михаил Иванович Сухомлинов читал теорию языка и древнерусскую литературу. Двадцативосьмилетний профессор любил студентов и искал у них популярности. Он много читал, стремился передать прочитанное студентам и немало дельных вещей говорил на лекциях. Но самостоятельно мыслить не умел и в лекциях давал массу сырого материала, неосмысленного и непереработанного. Читал он вяло и сухо. Но однажды, исчерпав тему лекции, он начал говорить о величии знания вообще и вдруг закончил свою речь словами Беранже: «Невежество — рабство, знание — свобода!» Эффект вышел оглушительный. С этого дня всякая лекция заканчивалась у него либеральным фейерверком. Первый сборник составился очень быстро: у нескольких старшекурсников нашлись уже готовые исследования. Редакторы торопились скорее его выпустить, чтобы заявить о своем существовании. Одновременно начали подбирать работы для второго выпуска. Из филологов первого курса пожелал принять участие в сборнике Скабичевский. Что-то готовили для сборника Майков, Макушев. Неожиданно для себя Писарев тоже стал участником сборника.
Еще перед зимними вакациями профессор Сухомлинов предложил первокурсникам перевести несколько ученых сочинений. Он назвал статьи Якоба Гримма «О боге любви» и «О сожжении мертвых», статью Шафарика о числительных именах и брошюру Штейнталя «Языкознание Вильгельма Гумбольдта и философия Гегеля». На долю Писарева досталась брошюра. По его младенческому лицу можно было ясно видеть, насколько он способен судить о Гегеле и Гумбольдте, но профессор не обращал внимания на такие пустяки. Он смотрел студенту в глаза и коварно говорил, что именно эту брошюру перевести особенно необходимо. На первой же странице у студента закружилась голова. Ему стало ясно, что читатель брошюры должен знать очень многое, чего он не знает. Но немецким языком Писарев владел превосходно. И он решился переводить сразу, не читая предварительно всей статьи целиком, хотя бы смысл и оставался для него непонятным. Верно и отчетливо передавая один период за другим, студент обнаруживал какой-то общий смысл, проявлявшийся независимо от воли переводчика. Месяца четыре переводил и переписывал он свой перевод. Сухомлинов, встречая Писарева в университете, шутил, что Штейнталь не так долго писал свою брошюру, как Писарев ее переводит. Писарев не находил в этом ничего удивительного: Штейнталь-то понимал, что он пишет! Наконец, придя на экзамен по русской словесности, Писарев вручил Сухомлинову две толстые тетради с переписанным набело переводом. Профессор бегло просмотрел несколько страниц и нашел перевод хорошим и достойным помещения в студенческом сборнике. Это польстило самолюбию Писарева. Но когда профессор заметил, что перевод слишком велик и из него придется сделать извлечение, Писарева бросило в жар. Однако он ответил, что извлечение будет сделано.
Переводные экзамены нанесли большой урон первокурсникам. Шесть экзаменов — и на каждом кто-нибудь срезался. Половина курса осталась на второй год. Для Писарева же экзамены прошли блестяще — по всем предметам он получил полные баллы. Только он и его старый конкурент по гимназии Филипп Ордин! Писарев пребывал в радостном возбуждении. Даже четверка за поведение не омрачала его блаженного состояния. В вагоне железной дороги Писарев случайно встретил профессора Сухомлинова. Из тридцати часов пути до Москвы десять они провели в серьезных разговорах, и Писарев выплеснул на профессора все свои хмельные восторги от годичного пребывания в университете. Профессор внимательно слушал, умилялся вместе со студентом, а затем посоветовал Писареву заняться специально философией языка. Он назвал ему множество сочинений немецких языковедов, которые стоило бы прочитать для этой цели. Писарев благодарил профессора за советы. Наконец-то он вступил на поприще великой научной деятельности. Приехав в Грунец, Писарев занялся извлечением из своего перевода Штейнталя и к концу лета окончил его успешно. Он и в этом случае работал машинально: определив, что из трех страниц нужно сделать страницу, он сжимал и сокращал язык перевода. К шестерым студентам, перебравшимся на второй курс, добавились еще три второгодника. Среди них выделялся своими радикальными взглядами, веселостью и общительностью купеческий сын Капитон Сунгуров. Два года назад он был исключен из Казанского университета: формально — за невзнос платы за обучение, фактически — за непокорный нрав. Через некоторое время ему удалось поступить на второй курс в Петербургский университет. Это был способный молодой человек, а в литературном отношении даже талантливый, но из провинциальной гимназии он почти никаких знаний по древним языкам не вынес. И это-то задержало его вновь на втором курсе. Но он не унывал. Через месяц после начала занятий к нему присоединился еще один исключенный казанец — Николай Соковнин. Они вдвоем среди филологов-второкурсников составляли наиболее оппозиционно настроенную по отношению к университетскому начальству группу. Слабое знание классических языков было присуще в то время большинству студентов. Именно поэтому при чтении классических писателей объединялись на лекциях первые два курса. Тогда шестая аудитория, одна из самых маленьких, бывала почти полна, и находился обязательно какой-нибудь студент, способный читать и переводить с листа. На одной из таких сводных лекций в начале сентября 1857 года первокурсник П. Н. Полевой впервые увидел Писарева: «Каково же было мое удивление, когда на одной из первых таких сводных классических лекций (в то время мы читали «Одиссею» Гомера) вызвался читать автора какой-то худощавенький, беленький и розовенький мальчик и чрезвычайно бойко прочел несколько десятков строф греческого текста; прочитав отрывок, он перевел его так же бойко, внятно произнося каждое слово своим мягким и тоненьким, почти детским голоском. Я спросил у студентов, как фамилия этого второкурсника? Мне ответили, что фамилия его — Писарев, и прибавили еще, что он отлично знает древние языки, лучше всех студентов второго курса. На другой лекции — опять та же история, тот же студентик вызывается читать и переводить Гомера, и опять его нежный и тоненький голосок один в течение целого часа раздается в аудитории. На меня это подействовало пренеприятно: мне студентик этот показался выскочкой, а по моим тогдашним понятиям — это свойство должно было как-то особенно позорить студента, да притом еще второкурсника! Я бы, вероятно, невзлюбил Писарева за это, если бы не узнал вскоре, что он является выскочкой невольным, потому что остальные товарищи его ленятся приготовлять отрывки из классического автора и каждый раз заставляют переводить Писарева, который переводит Гомера без всякого приготовления. Это сведение значительно примирило меня с маленьким студентиком; притом же я в это время подружился с некоторыми из второкурсников, и они мне расхваливали Писарева как доброго малого и отличного студента…»
Профессор Сухомлинов был очень доволен, когда, вернувшись с каникул, Писарев вручил ему свою работу. Он только спросил, вполне ли студент усвоил различие между методом Гегеля и методом Гумбольдта. Писарев ответил, что Гегель, мол, напирает на чистое мышление, а Гумбольдт делает выводы из наблюдений. Войди Михаил Иванович в подробности — студент признался бы, что ровно ничего не понимает. Но профессору ответ показался достаточно убедительным, Сухомлинов сообщил Писареву о выходе в свет новой подробной биографии Гумбольдта — Гайма — и посоветовал написать по материалу этой книги статью, чтобы приложить к законченной работе. — Вы этим составите себе имя, — добавил профессор. — Вам это особенно удобно, потому что вы уже знакомы с методом Гумбольдта. Мысль профессора составить имя таким способом показалась Писареву при всей его наивности слишком смелой. А собственное отношение к методу Гумбольдта ему было известно лучше, чем профессору. Но куда же деваться от такого предложения? «Что же, — думал он, — ведь вот перевел и извлек, не понимая, — авось и Гайма обработаю так же удачно; да и наконец, все-таки я и в брошюре Штейнталя присмотрелся к ученому языку, так что есть надежда, что теперь пойму больше». Книга Гайма стоила пять рублей! Писарев решился читать ее в Публичной библиотеке. Каждый вечер в седьмом часу он приходил в читальную залу и сидел там до Звонка, возвещающего о закрытии библиотеки. Теснота, хождение посетителей взад и вперед мешали сосредоточиться и обдумать прочитанное. Писарев писал статью без всякого общего плана, раболепно следуя за Таймом; обрабатывая начало, не знал, что будет в конце: «Я смиренно строил свой домик, кладя кирпич на кирпич и не зная заранее, какая из всего этого выйдет фигура». Разумеется, следовало поступить иначе: сначала прочитать всю книгу, продумать ее, составить общий план, а затем, читая повторно, резюмировать ее по частям. Но для Писарева это значило делать двойную работу, не приближаясь к делу ни на миг. Составлять план статьи, не имея под руками всего собранного материала, по меньшей мере затруднительно. А отчетливо удержать в памяти все содержание книги в семьсот страниц просто невозможно. Работа двигалась медленно. Часто останавливаясь, перечитывая по нескольку раз одно и то же место, он не успевал за вечер прочитать больше Тридцати страниц. К тому же часть времени приходилось затрачивать на проверку домашней записи, сделанной накануне. Писарев ценил достоинства книги Гайма, написанной ясно, изящно и даже картинно. Но предназначалась-то она для образованных немцев, а вовсе не для российских юношей. Личности и события, партии и кружки, конституции и реакции, политическое состояние Европы и литературное движение Германии — все это, сообщаемое Гаймом мимоходом, оставалось для Писарева «скорбною загадкой». Не имея элементарных познаний, он предполагал и угадывал — был «Шамполионом в таком месте, где не было ни одного гиероглифа». Египетский труд продолжался три месяца. И Писарев справился со своей работой, нигде не попав впросак. Но мучительное чувство неловкости преследовало его все это время. Потратив три недели на переписывание статьи, Писарев принес ее Сухомлинову. Профессор объявил студенту, что нужно принять к сведению еще одно сочинение. Писарев сокрушенно заметил, что, видно, придется заново переделывать всю работу. Переделывать незачем, ответил профессор, достаточно прочитать эту книгу и сделать из нее кое-какие дополнения и вставки в работу. Получив от Сухомлинова два тома средней толщины (и такого же среднего качества) «Воспоминаний о Вильгельме Гумбольдте» Шлезиэра, Писарев принялся пришивать новые подробности, стараясь скрыть от читателя белые нитки. В душе его начинала шевелиться досада против распоряжений своего руководителя. Деспотическое господство Сухомлинова над мыслью студента заколебалось. Но работа наконец была закончена, выдержки из нее прочитаны с успехом на филологических беседах, где студенты решили, что статья Писарева заслуживает быть помещенной в очередном студенческом сборнике. «Значит, подвиг совершен и самолюбие удовлетворено… — пересказывал впоследствии Писарев свои размышления. — Что же дал мне этот упорный и продолжительный труд?» Выясняется, что немного. Профессор Сухомлинов смотрит на Писарева как на дельного молодого человека и даже хвастает своим новым учеником. Многие студенты и некоторые профессора других факультетов знают Писарева в лицо и по фамилии. Его работа печатается в сборнике. «Ну а потом? — продолжал свои размышления Писарев. — Мнение других обо мне возвысилось, но чем возвысилось мое действительное достоинство? Что я узнал? Да мало ли что! Узнал я, что на свете жили два брата фон Гумбольдт — Вильгельм и Александр; узнал, у кого учился Вильгельм, с кем был знаком, куда ездил, какие писал рассуждения и исследования; узнал даже по нескольку мыслей из замечательных его произведений. Все это — знания, на улице этого не подымешь. Если бы я приобрел эти сведения в две недели, то можно было бы сказать, что время не пропало даром. Но прийти к таким результатам после шестнадцатимесячного труда — это похоже на победу Пирра над римлянами». До окончания курса оставалось немногим более двух лет, и Писарев подсчитал, что за это время под руководством Сухомлинова он мог бы довести до конца еще одну биографию и остановиться на половине третьей работы, «столь же полезной для… развития и для будущей научной деятельности». Над этим стоило задуматься. И Писареву наконец пришло в голову, что он по милости уважаемого профессора работал самым безалаберным образом и потратил пропасть лишнего труда и времени. «Кто же так делает? — думал он. — Сначала перевести, потом сделать извлечение, потом к извлечению прилепить новую статью, потом в эту новую статью вшивать вставки. Что же это за руководитель? Да много ли он сам-то смыслит? Да полно, умный ли он человек? Наконец, добросовестно ли он распоряжался моими силами? И на все эти сокрушительные вопросы следовали быстро и неотразимо сокрушительные ответы: нет, нет и нет!» Глаза студента раскрывались, и все казавшееся ранее значительным и даже таинственным у профессора — его мечтательный взор и рассеянность в разговоре, его красивые слова, завершавшие каждую лекцию, — приобретало совсем простой смысл. Профессор весь ушел в свои книги и умеет говорить только о том, что вычитал вчера или сегодня утром, самый простой вопрос из практической жизни оказывается для него неразрешимым. Однако правильно решить еще не значит следовать принятому решению. Очень трудно было признать, что почти полтора года прошли впустую, и Писареву хотелось как-нибудь свои новые постоянные занятия связать с уже проделанной работой. Он начал читать сочинения Вильгельма Гумбольдта и собирался самостоятельно продолжать занятия по философии языка, получая изредка у Сухомлинова невинные библиографические справки. Из этого не вышло ничего. Необходимой базы для усвоения философских идей Гумбольдта у Писарева не было, и чтение лишь приучало студента к немецкому философскому изложению.
2. МАЛЕНЬКИЙ СЕН-ЖЮСТ
О своей студенческой юности сам Писарев почти ничего не рассказал. Статья его «Наша университетская наука» рассматривает только одну сторону студенческой жизни — отношение студентов к науке. Биографу Писарева невозможно здесь следовать за ним, «поэзия юности» составляла важную часть его жизни и оказала, быть может, не менее существенное влияние на его последующую деятельность, чем его отношение к науке и профессорам. Вероятно, интересующие нас сведения содержались в утраченных ныне воспоминаниях Веры Писаревой. Е. А. Соловьев, первый биограф Писарева, пользовавшийся ими, счел возможным утверждать, что Писарев «с особенным наслаждением отдался университетской жизни, с ее шумом и гамом, ее сходками и удовольствиями». Не приводя никаких фактов, Соловьев далее отмечает: «На сходках он говорил больше всех, кричал громче всех, и все это с таким жаром и увлечением, что, казалось, готов был душу положить за дорогое товарищество. Во время скандалов с профессорами не было человека более рьяного, чем он». Восстановить события студенческой жизни Писарева во всей полноте сейчас не представляется возможным. Но, пользуясь воспоминаниями его товарищей по университету и немногими сохранившимися документами, можно выяснить самое существенное. Разрешение сборника возымело серьезные последствия. Для чтения статей, предназначенных к печатанию в сборнике, новый попечитель разрешил факультетские сходки. Сначала они собирались в здании университета, а с осени 1857 года начальство отвело для них специальные помещения. Филологи собирались в зале пятой гимназии у Аларчина моста. Назывались эти сходки литературными беседами, и каждый их участник вносил ежемесячный взнос «для хозяйственных расходов». В бумагах Л. Н. Модзалевского, выбранного распорядителем этих вечеров, сохранился список тридцати участников — Писарев в нем значится третьим. Скабичевский с теплым чувством вспоминает эти сходки. В памяти его не осталось ни одного чтения ученых статей, но он хорошо запомнил чтение «Колокола», запрещенных стихов и статей в рукописях. Литературные чтения, хотя и получившие не то направление, которое желало им придать начальство, были все же официальным проявлением студенческой активности. Но студенты почувствовали свою силу и стали собираться на сходки уже без разрешения. Редакторы сборника — выборное студенческое начальство — главенствовали и на этих самочинных собраниях. Почти ежедневно находился повод, и толпы студентов мчались по коридорам в одиннадцатую аудиторию. Здесь был своеобразный студенческий форум, где бурно обсуждались все вопросы первостепенной важности. Начальство делало вид, что ничего особенного не происходит, что все так и следует. Ободренные студенты отвоевывали себе все новые льготы. Однажды толпа опоздавших студентов долго препиралась со сторожем, требуя, чтобы он открыл дверь в коридор. Сторож никак не соглашался, ссылаясь на приказ начальства. Тогда сторожа прогнали, дверь выломали. С этого времени коридор больше уже не запирался. Затем начали курить в стенах университета. Инспектор было воспротивился, но студенты упорствовали. Начальство уступило, разрешив курить в шинельной и уборной, а затем открыли и специальную курительную комнату. Постепенно перестали носить треуголки и шпаги, появились студенты с усами, бородами и длинными гривами — начальство все сносило безропотно. Это были мелочи, но студенты очень гордились каждой своей победой. Настроение у них было бодрое, радостное и воинственное. Студенты разделились на партии. Были правые, левые и умеренные. К правым принадлежали аристократы, высокомерно относившиеся к своим товарищам, и студенты, с головой ушедшие в книги. К общественной жизни они относились равнодушно. Умеренные желали мирно и спокойно пользоваться дарованными студентам вольностями, по возможности избегать шума и относиться к начальству с почтительными просьбами. Левые, которых прозвали «волками», щеголяли всклокоченными волосами и ветхими, никогда не чищенными сюртуками. Они-то и были представителями самых радикальных требований, любителями скандальных демонстраций. Наступило время пробуждения российского студенчества. Повсеместно студенты начинали бороться за уничтожение бессмысленных запретов николаевского режима, за свои корпоративные права. Новый однокурсник Николай Соковнин рассказал филологам о бурной истории в Казанском университете. В декабре прошлого года несколько студентов поколотили своих оскорбителей-офицеров. Студентов исключили. Тогда товарищи их восстали против несправедливости. Начальство исключило еще несколько человек, в том числе и его, Соковнина, а самый деятельный вожак молодежи Иван Умнов был отдан в солдаты. В конце сентября произошло столкновение московских студентов с полицией, нашумевшее на всю Россию. Студенты были признаны невиновными. Едва успели утихнуть сходки в поддержку московских студентов, как случилась собственная история. И на лекции самого блестящего профессора факультета. Михаил Семенович Куторга обладал обширными знаниями. Еще четверть века назад он первым среди русских ученых стал самостоятельно исследовать классические древности. В годы «мрачного десятилетия» история античности была признана опасной, как наполненная республиканским духом и языческой мифологией, и Куторге пришлось читать среднюю и новую историю. Теперь он читал на третьем курсе историю Реформации. Среди множества посторонних слушателей посещали его лекции и второкурсники. И хотя бывалые люди находили, что теперь Куторга не тот, что прежде, что его взгляды на события не так широки и гуманны, как взгляды покойного Грановского, он пользовался большой популярностью. Одну из своих лекций Куторга неожиданно прервал на полуслове: — Господа, я вынужден прекратить лекцию. Я не в состоянии читать ее перед людьми, которые ведут себя как отчаянные школяры, недостойные носить звание студентов… Профессор сошел с кафедры и удалился. Все недоумевали. Двое на задней парте смущенно объяснили, что вина их заключается в том, что един почистил другому спину, запачканную мелом. Студенты решили отплатить Куторге той же монетой. На ближайшей же лекции, едва профессор успел сказать две-три фразы, как студенты поднялись и с шумом покинули аудиторию. Соседняя аудитория пустовала. Студенты устроили в ней кошачий концерт: мяукали, лаяли, пели панихиду, топали ногами. Писарев лежал на задней парте и барабанил ногами в стену. Все кончилось пустяками. Были принесены взаимные извинения, но не публично, а с глазу на глаз, в присутствии старост.В тот год стремление петербургских студентов к общественной деятельности, пожалуй, ярче всего проявилось в рукописной литературе. Со слов мемуариста известно, что издавались рукописные журналы «Колокольчик» и «Вестник свободных мнений». В них помещались решения сходок, отчеты о действиях кассы, сатиры на студентов и профессоров, полемические заметки. О «Колокольчике» мемуарист сообщает только, что он был органом «волков». Зато о «Вестнике свободных мнений» сохранилось несколько документов. И это тем более кстати, что с этим рукописным журналом связано первое публицистическое выступление юного Писарева. Первый выпуск «Вестника свободных мнений» вызвал толки и разногласия. Появился он неожиданно и анонимно. Никто не знал ни его редакторов, ни его сотрудников. Одни восхищались смелостью сатиры «Деятельность Его высокородия», высмеивающей Фицтума, другие находили ее ничтожной и неостроумной. Кое-кому нравились статьи, затрагивающие неуниверситетские темы. Но многим казалось, что эти статьи «совершенно выходят из сферы насущных студенческих интересов и заводят слишком далеко», что они «неуместны в официальном студенческом издании». Группа студентов-филологов давно мечтала о сплочении всех товарищей «в одно дружное братство» и поэтому ожидала, что рукописный журнал «завяжет этот узел единства». Но, прочитав журнал, она увидела, что он «горько обманул лучшие надежды». Выразителем мнений этой группы стал Лев Модзалевский, студент третьего курса. Он составил записку — опровержение мнений «Вестника». Ее подписали несколько его единомышленников, в том числе и Писарев. «Опровержение» обвиняло издателей «Вестника» в «ребячески-необдуманной пылкости», в «бессильном поползновении» подражать «неподражаемым журналам Искандера» — «Полярной звезде» и «Колоколу», в том, наконец, что они затеяли дело, не подумав о его последствиях. Мрачные перспективы рисуются Модзалевским с товарищами: подсматривание и подслушивание, распространение вредных слухов в городе и преследования со стороны правительства, ограничение числа студентов и прочие ужасы — ко всему этому ведет, по их словам, «гибельное направление» журнала. Авторы «Опровержения» требовали изменить направление журнала, а заодно и его название, опустив из него «излишний эпитет». В этом случае, по мнению Модзалевского и его товарищей, студенты будут благодарить «бескорыстных и благоразумных издателей за их доброе дело». Но «если издатели пренебрегут нашими советами, просьбами и ожиданиями, — тогда останется всеми силами и средствами противостать этому безрассудному делу». Большинство студентов-филологов конца 1857 года было согласно с этим опровержением. Но меньшинство, одобрявшее «Вестник свободных мнений», и, разумеется, его редакторы не могли согласиться с подобными обвинениями. Заключительный аккорд, содержавший неопределенную угрозу, давал повод для самых широких толкований. К тому же «опровержение» попало в руки Фицтума. Один из студентов перед лекцией читал его товарищам, инспектор подошел тихо и незаметно и стал обладателем этой бумаги. Нашелся и «низкий отступник чести». Студент, запросто бывавший в доме инспектора, выболтал ему все, что знал о журнале, и даже назвал какие-то фамилии. Фицтум потребовал представить ему экземпляр журнала. Студенты отказались. Тогда инспектор объявил, что вынужден доложить об этом по начальству. Студенческий гнев обрушился на доносчика. В нем подозревали чуть ли не агента тайной полиции. Разбушевавшаяся толпа прижала плюгавого студентика в угол. Бледный, как мертвец, он рыдал, умоляя о прощении. Подоспел второй выпуск «Вестника свободных мнений». Редакторы воздали должное доносчику, а вместе с ним назвали предателем и Модзалевского. В защиту товарища выступил Писарев. Он обратился с письмом к редакторам «Вестника свободных мнений», в котором объяснил позицию авторов «Опровержения», мотивы, заставившие их выступить против журнала. «В нас говорила не трусость, не чувство смиренья — нет, — писал Писарев, — то была любовь к свободе, но к свободе действительной, которой мы не хотели терять из-за памфлетов и смелых злословий. Бояться за себя было нечего: мы не редакторы, не сотрудники, следовательно, никак не могли подпасть под начальственную опалу, к тому же безопаснее было бы молчать. Боялись за университет, за права его, за деятельность, за будущность: боялись, что из-за какого-нибудь смелого слова, не разобравши дела, закроют и «Вестник» и сборник, запретят всякие сходки, будут препятствовать сближению студентов, погубят, одним словом, все, что зародилось теперь, все, чем мы гордимся и чему радуемся, и погубят каждого, ежели не навсегда…» Искреннее письмо Писарева возымело действие: Модзалевский был реабилитирован в глазах студентов. Вероятно, вскоре и «Вестник» и «Колокольчик» прекратились. Взамен появились два новых журнала: юмористический — «Светоч» и литературный — «Студенческий мир». В своих воспоминаниях Модзалевский сообщает, что «Светоч» он выпускал вместе с Соковниным и другими, а экземпляр этого журнала посылался попечителю. Видимо, этот безобидный журнальчик был попыткой объединения враждующих партий. Среди редакторов второго журнала были Всеволод Крестовский и Леонид Майков. В письме редакторам «Вестника» действительно видна готовность Писарева «душу положить за дорогое товарищество». Можно представить, как горячо он ратовал на сходках за справедливость, как искренне отстаивал свои убеждения. Убеждения эти, как видно, были еще вполне благоразумны и очень умеренны. Но форма их выражения была горячей и бурной. Узнавая об университетских подвигах благовоспитанного мальчика, петербургские родственники не верили своим ушам. Никто из них не мог представить себе ничего подобного. Генерал Роговский, у которого, поступив в университет, поселился Писарев, пытался воздействовать на племянника. Но замечания дяди вызвали обратный результат: Писарев почти совсем перестал бывать в генеральской гостиной. Отказ Писарева быть на всенощной в канун именин дядюшки (была назначена сходка) переполнил чашу родственного терпения. Генерал заявил, что Митя стал маленьким Сен-Жюстом, и махнул на него рукой.
3. ВАСИЛЕОСТРОВСКИЕ РЕТРОГРАДЫ
На одной из сходок еще на первом курсе Писарев познакомился с математиком Николаем Трескиным. Трудно сказать, почему студентов потянуло друг к другу, но скоро они настолько сошлись, что стали почти неразлучны. Характеры их были противоположны. Писарев направлял свои усилия на борьбу с внешним миром. А Трескин боролся с собой, сводя собственные потребности к минимуму и тем стремясь достичь независимости. Всякое свое отрицание он брал с боя, пугаясь собственных мыслей. «Имеем ли мы право касаться таких вопросов, не излишняя ли это дерзость с нашей стороны?» — вопрошал он. С иллюзиями Трескин расставался со слезами и болью. Он любил воздвигать недостижимые идеалы и казнил себя и других за малейшее от них отклонение. В вопросах нравственности он был чрезмерно строг. За это Писарев шутя называл его «цензором нравов». Трескин был сентиментально влюблен в Писарева и искренне верил, что между ними магические токи. Его интимным излияниям не было конца. Над ними Писарев частенько подтрунивал, считая их достойными лишь Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича. При таком характере Трескин совершил очень мужественный поступок: он выдержал настоящий шторм дома от отца, отставного адмирала, но перешел со второго курса математического на первый курс филологического, чтобы быть на одном факультете с другом. Часто бывая у Трескина, Писарев почти всегда встречал там своего однокурсника Скабичевского. Волей-неволей он стал сначала свидетелем, а затем и участником странных бесед, которые вели между собой два гимназических товарища. Говорили о долге истинного христианина, о нравственном самосовершенствовании, о борьбе со страстями. Самые невинные развлечения — курение табака, танцы, обыденные разговоры — подвергались осуждению. Выдвигались неисполнимые требования, чтобы каждое произнесенное слово непременно имело бы высшую цель и значение. Признавались друг другу в угрызениях совести, которые преследовали их после каждого бесполезного разговора. Молодые люди стремились к подвижничеству и аскетизму. Они были членами «Общества мыслящих людей». Общество это было создано года три назад шестиклассниками Ларинской гимназии в память о безвременно умершем любимом учителе русского языка. Николай Павлович Корелкин в своем преподавании проводил взгляды Белинского, само имя которого было тогда под запретом, и знакомил гимназистов с сочинениями Гоголя, не предусмотренными программой. Первоначально члены общества посвящали все свое время изучению Гоголя. Натолкнувшись на «Избранные места из переписки с друзьями», воспринятые ими как откровение, они решили «посвятить свою жизнь внутреннему, духовному саморазвитию». Четыре соседа по парте принялись вместе «бороться со страстями». Осенью 1857 года Скабичевский, инициатор общества, решил придать занятиям сочленов универсальный характер. Он выдвигает цель: «возродить в мире христианство в его истинном, идеальном смысле». По мысли Скабичевского, общество со временем должно было распространиться по всему земному шару. Пока же в него входили пять бывших гимназистов Ларинской гимназии: четыре студента и гардемарин. «Мыслящие люди» собирались еженедельно на «тайные собрания». Плотно занавесив шторами окна, вели они «благочестивые разговоры», оказывали «нравственную поддержку» тем из братьев, кто был не в состоянии самостоятельно справиться с собственными страстями. На одном из собраний возник вопрос об отношениях мужчины и женщины. Он был решен просто: возможен только нравственный союз для взаимной поддержки, плотские отношения исключаются. «Но что же будет, когда все станут членами нашего «Общества»? Ведь человечество вымрет?» — раздался голос скептика. «Пусть лучше вымрет, достигнув высшей цели и назначения, чем будет погрязать в грехе», — ответил один. «Во власти Провидения сниспослать чудо и сделать людей бессмертными или устроить, чтобы они рождались без плотского греха!» — добавил второй. В подобном духе велись и другие «благочестивые разговоры». Каждый «мыслящий человек» был обязан распространять идеи общества и вовлечь в его члены кого-нибудь из своих знакомых. Первым (и единственным!) «оглашенным» оказался Писарев. Трескин и Скабичевский принялись вдвоем его «обрабатывать». Они внушали Писареву, что он пребывает в язычестве, что в нем нет ничего от истинного христианина. Они осуждали его за увлечение пустыми удовольствиями, вроде игры в карты или на бильярде, которые унижают в нем мыслящего человека. Писарев терпеливо выслушивал эти увещания и с притворным сокрушением восклицал: «Сам чувствую, что нет во мне того энтузиазма, какой я вижу в вас. Что же мне делать? Откуда взять силы?» Ничего другого не смогли добиться от него и на собраниях общества, куда приглашали несколько раз «для увлечения его на путь внутреннего саморазвития». Между тем весной 1858 года гардемарин ушел в море, сам основатель общества стал вдруг скептиком, атеистом и эпикурейцем. Общество перестало существовать. Во время экзаменов бывшие «мыслящие люди» примкнули к другому кружку.Новый кружок возник на факультете совсем недавно, но отличался большой солидностью. Он объединял нескольких студентов-филологов первого и второго курсов. «Это были люди, — вспоминал впоследствии Писарев о членах кружка, — с определенными, прочно установившимися взглядами на жизнь и людей; никаких колебаний и сомнений для них не существовало, никакие вопросы — ни общественные, ни нравственные — не мучили их; все уже такие вопросы были заранее решены ими, и для них существовали одни вопросы ученые; каждый избрал свою специальность с первого курса университета и плотно сидел на ней; олимпийское спокойствие, самодовольство и скептическое, насмешливое отношение ко всему, что выходило из нормы ученых вопросов или наслаждений эстетического и семейного свойства, — вот каково было содержание этого элемента». Признанным главой кружка был Леонид Майков. Он не обладал особыми талантами, но был умен, усидчив, дотошен и услужлив. К нему всегда обращались за советом, что читать, ему же первому читали свои произведения. Сам он усердно изучал Грибоедова. Леонид никогда не отказывал товарищам в нужной книге из своей обширной библиотеки. Через него всегда можно было найти урок или журнальную работу, благодаря семейным связям его возможности были почти неограничены. Раньше всех с Майковым сошелся Викентий Макушев, настоящий сухарь, не хотевший ничего знать, кроме славянства, и корпевший сейчас над переводом статьи Шафарика об именах числительных. К ним примкнул Филипп Ордин, вечный «первый ученик», но простой, обходительный и добрый товарищ. Он обожал науку и много говорил о служении ей, однако о выборе специальности совсем не заботился. Участвовал в дружеских пирушках, но ни с кем интимно не сходился. В начале 1858 года к этой троице присоединились два первокурсника. Петр Полевой, младший сын известного критика и журналиста, унаследовал от отца некоторую долю талантливости, рискованную предприимчивость и полное отсутствие практичности. Самонадеянный и тщеславный, он любил «задать шику», пустить пыль в глаза, но был веселым собутыльником, способным перепить всех и остаться трезвым, обладал медвежьей силой и был счастлив в любви. Егор Замысловский, остроумный и живой весельчак, был душой всякой компании и страстным любителем архивных изысканий. Эти пятеро составляли основное ядро кружка филологов, являлись, по словам Скабичевского, его «столпами». Остальные трое — Писарев, Скабичевский и Тре-скин — играли роль «блудных сынов». Они легкомысленно порхали по всем факультетским наукам, не умея углубиться в одну какую-нибудь специальность, и то и дело увлекались самыми недопустимыми вещами, чем навлекали на себя гнев более солидных товарищей. Скабический, например, до конца жизни не мог забыть той дружеской головомойки, которую он получил, когда, отложив в сторону русские древности, принялся читать «Политическую экономию» Милля. Но все это проявилось позже. В тесном дружеском кружке филологов Писарев теперь проводил все свое свободное время. Иногда собирались у Полевого, но чаще у Майкова. Леонид жил с родителями на Большой Садовой, против Юсупова сада. Здесь в его маленьком кабинетике друзья рассуждали о науке, вместе читали, готовились к экзаменам, спорили. Порой выпивали и пускались в пляс. В гостеприимной и просвещенной семье Майковых филологи чувствовали себя легко и свободно. Для Писарева, да и для всех остальных, кроме, пожалуй, Полевого, это был первый литературный дом, с которым он познакомился. Отец Леонида, Николай Аполлонович, был живописцем, мать, Евгения Петровна, — писательницей. Большую известность как поэт получил старший брат, Аполлон; талантливым критиком, вступившим в соперничество с Белинским, был рано умерший Валериан. Третий брат — Владимир был чиновником и издавал журнал для детей «Подснежник». В 40-е годы в доме Майковых собирались писатели, группировавшиеся вокруг «Отечественных записок». Теперь старики Майковы вели более замкнутый образ жизни, но связи с литераторами сохранили. Давний друг дома Иван Александрович Гончаров всегда сидел на почетном месте и чинно беседовал со стариками. Тучный и молчаливый Степан Семенович Дудышкин, редактор «Отечественных записок», следовал его примеру. Алексей Феофилактович Писемский и Степан Степанович Громека, бывший жандармский полковник, а ныне главный обличитель полиции в печати, напротив, охотно разговаривали с молодежью. Дом Майковых примыкал к литературной партии «Отечественных записок». И в кружке филологов господствовал дух просвещенного бюрократизма, «постепеновщины», «чистого искусства».
В конце мая Писарев уехал в родную усадьбу. Раисы в Грунце не было. Мать объяснила ему, что кузина уехала в Липецк танцевать с офицерами — ей давно, мол, пора выезжать в свет. Расчет был простой: кузина представлялась бессердечной и пустой девушкой, предпочитавшей свиданию с другом детства балы в уездном захолустье. Мите попался на глаза дневник Раисы, веденный в его отсутствие (и, разумеется, предназначенный для старших), он был потрясен. «Неужели она мечтает о монастыре?» —спрашивал он дядю Андрея Дмитриевича. «Разве кузина с ума сошла? — приставал он к матери. — Она стремится к какому-то нравственному совершенствованию, монашкой хочет быть!..» Митя не мог понять ни лицемерия Раисы, написавшей это для отвода глаз, ни коварства родителей, позаботившихся о том, чтобы он прочитал это. Митя решает, что, если Раиса согласится, он женится на ней, невзирая ни на какие препятствия (законом на кузинах жениться воспрещалось, но в жизни такие свадьбы бывали довольно часто). Когда наконец Раиса вернулась в Грунец, Митя с ней объяснился. Девушка согласилась — она выйдет за него замуж, но только потом, когда Митя кончит университет, а сейчас говорить об этом не стоит, чтобы не раздражать старших. На том и порешили. Митя был доволен.
4. НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Из двухлетней заграничной командировки возвратился экстраординарный профессор истории Михаил Матвеевич Стасюлевич. Задолго до начала первой лекции громадная аудитория была переполнена. Стасюлевич читал о Маколее. Английский историк представлялся профессору богом истории, сошедшим на землю, чтобы научить людей искусству писать исторические монографии. Лектор метко оценил особенности критического таланта Маколея и доказал, почему слабость его как отвлеченного мыслителя не вредит ему как историку. Студенты наградили профессора дружными аплодисментами. Стасюлевич стал популярнейшим профессором на факультете. Студенты ему прощали кокетство и постоянные упоминания о том, как он стоял или сидел на подлинном месте того или другого мирового события. Профессор, в свою очередь, старался снискать внимание слушателей и грешил либерализмом, позволяя себе прозрачные намеки на современное положение России. В январе с большим успехом Стасюлевич прочел две публичные лекции о положении французских провинций при Людовике XIV. Источником своим он объявил сочинение Флешье «Чрезвычайное заседание королевского суда в Оверни». Многочисленная публика осталась очень довольна лекциями. Доволен был и Писарев. Но «мой злобный гений непременно хотел превратить меня в скептика», — писал он впоследствии. Случилось ему купить французскую книжку популярного критика Ипполита Тэна. В этой книжке были статьи о Гизо, Мишле, Теккерее, Монталамбере, Маколее й Флешье. Когда Митя добрался до Маколея, его изумлению не было границ. Читает и глазам не верит: вот она, блестящая лекция Стасюлевича. Те же идеи, тот же порядок изложения, те же цитаты, даже обороты речи и образы те же самые. «Ну, — подумал Писарев, — посмотрим, что такое Флешье». Обнаружилось, что и публичные лекции взяты напрокат. Популярнейшего профессора украшали павлиньи перья. Его талант оказался чужим, блестящие лекции — тайным переводом с французского. Могло ли это открытие возродить у Писарева уважение к университетской науке?Осенью 1858 года Писарев переехал от Роговских к Трескиным, на Васильевский остров. Этому предшествовали бурные объяснения в Грунце. Родители были недовольны Митиным решением. Они поместили его к дяде-генералу для того, чтобы он приобретал светский лоск и заводил связи в обществе. Квартира же Трескиных, живших уединенно, представлялась им какими-то трущобами. Но Мите удалось настоять на своем. Отсюда было гораздо ближе до университета, с другом он становился совсем неразлучен. Но главная причина (ее он, разумеется, родителям не высказал) заключалась в том, что родственная опека дяди-генерала и его светское общество успели Писареву надоесть. Знал бы Митя, на что решается! Немногочисленная семья Трескиных жила под игом деспотичного отца, отставного адмирала николаевского времени. Резвый и суровый моряк был подвержен приступам необузданного гнева. Жена его и две дочери, подавленные этим деспотизмом, впали в глубокую набожность, часто ездили по монастырям. Алексей Михайлович был насмешлив и язвителен. С первого же дня он принялся изводить Писарева злыми насмешками над его изнеженным воспитанием. Александра Кондратьевна. женщина мягкая и заботливая, оказала Мите родственный прием. Писарев поместился вместе с Николаем в небольшой чердачной комнатке, и друзья проводили в ней почти все свое время, спускаясь только к столу. Заниматься, беседовать, спорить и особенно размышлять здесь было очень удобно! А размышлять Писареву было о чем. Впоследствии в «Нашей университетской науке» он сам изложил все те мысли, которые преследовали его в ту осень. Начинался третий год студенчества. Половина университетского курса позади, а успехов немного. Бесплодное чтение и машинальная работа пером, беготня по коридорам и школьнические экзамены, неопределенные стремления и слова, слова… Вот все, что пережито за два года. Наверстать потерянное время нетрудно — он молод. Но горько, что он утратил детскую доверчивость, а опыта не приобрел. Он не только не сделал ни шагу ни в одной области знания, но даже не решил, за что и как приняться. Вопрос о выборе специальности принимал в глазах Писарева серьезное и угрожающее значение. До выхода из университета остается меньше двух лет, а потом что? Жить по-прежнему на родительских хлебах? Да ведь надо же и честь знать. Не для этого давали ему образование. Идти на службу? Да кого же прельстит его кандидатский диплом? Кто же ему по первому требованию отведет штатное место? Грамотных людей и без него довольно в числе искателей мест, а всякий заштатный писец лучше его сумеет написать деловую бумагу. По ученой части пойти? В учителя гимназии? Но какую науку он возьмется преподавать? Что он знает, кроме книги Гайма о Вильгельме Гумбольдте? И что успеет изучить в течение этих двух лет, когда придется готовиться к экзаменам и писать диссертацию? Митя мучительно сознавал, что время не терпит. Нерешительность его возрастала. Он спешил заняться чем-нибудь и только метался из стороны в сторону. От философии языка Писарев бросился к славянским наречиям, потом обрушился на русскую историю, потом вдруг принялся изучать гомеровскую мифологию. Читал он много. Но, во-первых, без толку, а во-вторых, с глухим отчаянием, с постоянной мыслью, что из этого ничего не выйдет. Товарищи иногда бранили Писарева, иногда смеялись над его постоянными тревогами. Но Мите было не до смеха. Он и сам был готов бранить себя самыми обидными словами. Каждый разговор с товарищами приводил его в уныние. Отчего, думал он, они все знают, что им делать? Один изучает памятники народной поэзии, начал с кельтских песен и языку кельтскому научился. Другой занимается славянами и совершенно доволен своими занятиями. Третий читает серьезные сочинения по древней истории. Легко было понять, что каждый из товарищей нашел себе дело по вкусу и постепенно втянулся в него. Но отчего же ему, Мите, ничто не нравится настолько, чтобы он взялся за дело и вработался в него? Писареву приходило иногда в голову, что, может быть, он вовсе не создан быть ученым. Эта еретическая мысль наполняла его ужасом и негодованием. А товарищи укоризненно говорили, что это блажь и лень. И Митя этому верил, хотя обвинение в лени было несправедливо. Страдания Писарева увеличивались всякий раз, когда он виделся с профессором Измаилом Ивановичем Срезневским. Его слова были каплями уксуса, падавшими на свежие раны. Срезневскому, как умному скептику, смешно было видеть добросовестные и напрасные усилия влюбиться в науку. Как ни приступай Писарев к делу, из его занятий ничего не выйдет. И студент соглашался, потому что против очевидности не спорят. Он обращался к Срезневскому по тому же самому побуждению, по которому химик испытывает золото самыми сильными кислотами. Если Срезневский не найдет против этого плана возражения, значит, действительно хорошо. Но возражение всегда находилось, и Писарев удалялся от профессора с целым ворохом разбитых иллюзий. Митя действительно затевал глупости и вертелся в заколдованном кругу. Но Срезневский указывал ему только частные ошибки. Писарев в совершенном отчаянии спрашивал: «Да что же делать? Чем заняться?» Профессор успокаивал студента общими фразами. Осенью 1858 года отношения Писарева к университету и профессорам, к лекциям и советам делаются чисто отрицательными.
Либеральная российская весна сияла всеми радужными красками. Большинству образованных людей казалось, что сам воздух насыщен предчувствием всевозможных свобод, жаждою развития и просвещения. И только очень немногие предвидели скорый конец либерализма. Вслед за крестьянским вопросом — главным вопросом эпохи — возникало множество других. Среди них одно из первых мест занимал, пожалуй, женский вопрос. Он не был ни самым значительным, ни самым острым, но самым общедоступным. Общественное сознание, проснувшееся после севастопольского поражения, ополчилось против лицемерия, предрассудков, насилия. Но прежде всего и легче всего можно было увидеть проявление этих прекрасных качеств в отношении к женщине, в ее положении в семье и обществе. Женщина хочет и может учиться, работать, участвовать в общественной жизни, свободно создавать семью и быть в ней равноправной — она хочет быть человеком. Что естественнее, проще и доступнее этого? Но она всего лишена. Домашнее воспитание под руководством полуграмотной гувернантки или частные закрытые пансионы превращали большинство девушек в «кисейных барышень». Опека отца в родительском доме, после свадьбы — опека мужа, выбранного родителями. Вечное подчинение, постоянная приниженность, полная невозможность развить свои способности и почти абсолютное отсутствие каких-либо умственных интересов. Поводом для практической постановки женского вопроса послужила самоотверженная деятельность русских женщин в качестве сестер милосердия во время Крымской войны. Организатор этой деятельности, известный хирург и педагог Николай Иванович Пирогов выступил в 1856 году в Морском сборнике со статьей «Вопросы жизни». «Воспитание женщины, в котором заключается воспитание человечества, вот что требует перемены», — утверждал Пирогов и доказывал, что от уровня образования женщины зависит духовное и материальное благополучие страны. Вслед за статьей Пирогова появились в журналах другие статьи: раздавались голоса «за» и «против». Апостолом женского равноправия в России выступил известный поэт Михаил Ларионович Михайлов. Осенью 1858 года он начал публиковать в «Современнике» свои «Парижские письма», за которыми в будущем году последовали «Лондонские заметки», а еще через год — обширная статья «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе» и ряд более мелких — о женщинах в университете, об эмансипации женщин по взглядам Милля, об истории женщин в разные века и у разных народов. В своих статьях Михайлов знакомил русского читателя с женским движением на Западе, рассказал о ретроградных выпадах Прудона, Конта и Мишле против женской эмансипации и об отпоре, который они получили со стороны пламенной поборницы женской эмансипации француженки Женни д’Эрикур, потребовавшей дать дорогу женщине, «чтобы она, свободная от позорных цепей, водворила мир там, где вы разжигаете войну, равенство там, где вы допускаете привилегии». Статьи Михайлова произвели, по словам Н. В. Шелгунова, «в русских умах землетрясение», но большинство их появилось позднее, в 1860–1861 годах, а сейчас, в 1858 году, женский вопрос еще ожидал своих толкователей. Стихийно возникло стремление студентов «развивать» барышень всех званий и состояний: «Забыты были в то время и кадрили, и вальсы, и кавалькады, и общественные гулянья. Вместо того чтобы ухаживать за барышнями, молодые люди взапуски пустились развивать их посредством умных разговоров и чтения передовых мыслителей русских и европейских. После первых же двух-трех слов приветствий у молодых людей появлялись уже на языке имена: Белинский, Грановский, Герцен. «А прочли «Накануне»? А статья «Темное царство» — что, а? Какова? Не читали? Ах, какой стыд! Я завтра же вам ее принесу…» Девицы, в свою очередь, засыпали студентов массою вопросов, просили серьезных книг, затевали споры. «Отрешиться от пошлых, отживших предрассудков», «совлечь с себя ветхого человека», «возродиться к новой жизни» — самые модные фразы того времени. Каждый молодой человек, считавший себя передовым, стремился не отставать от товарищей. Веяние времени проникло даже в кружок Василеостровских ретроградов. По словам Скабичевского, Писарев развивал Кореневу, Трескин — Веру Писареву, Полевой — одну устюженскую барышню, Майков — сестру Трескина, а сам Скабичевский «пропагандировал направо и налево», развивая своих учениц — генеральских дочек.
Осенью 1858 года молодой артиллерийский офицер Валериан Александрович Кремпин, уволенный из воспитателей кадетского корпуса за какую-то «историю», вдруг вздумал издавать ежемесячный журнал для девиц. Небольшое приданое, полученное за женой, Кремния и употребил на издание журнала. Он пригласил сотрудничать в «Рассвете» известных педагогов В. В. Водовозова, В. И. Классовского, А. Е. Разина, В. Я. Стоюнина, историков Е. П. Карновича, М. И. Семевского, М. Д. Хмырова, братьев Шишкиных. Издавая журнал на медные деньги, Кремпин был озабочен приисканием и более дешевых сотрудников. Естественно, что поиски свои он направил в среду студенчества: ведь начинающие юнцы готовы писать хоть даром, лишь бы печататься. И кому же более кстати писать для девиц, если не молодым людям? Скабичевский рассказывает, что Кремпин обратился к Аполлону Майкову или Сухомлинову, и кто-то из них указал на Писарева. Они встретились, вероятно, в первых числах октября, Валериан Александрович попросил студента что-нибудь написать для пробы. Сохранилось письмо Писарева Раисе, в котором подробно рассказано о том, как он приступил к работе. 8 октября Митя не пошел в университет. Полдня он просидел у Майкова, исправляя «Гумбольдта». Вернувшись домой, принялся за разбор статьи из «Отечественных записок» — «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова». То, что княгиня последовала за мужем в изгнание и даже после его казни осталась верной ему, произвело на Митю впечатление. Личность самой княгини, писал он, «не принадлежит к своему веку; она гораздо выше его и возбуждает теплое почтительное чувство. Вы не ограничиваетесь одним уважением, вы Полюбите ее как благородную женщину, умевшую любить, умевшую страдать. Это не античная статуя, поражающая правильностью форм, строгая и холодная: это живая женщина с истинно человеческим, глубоким чувством». Расхвалив статью, он под конец отметил, что историческая обстановка — падение Меншикова, обручение Петра II и смерть его, вступление на престол Анны Иоанновны — описана слишком подробно. «Нужно было говорить не столько о ходе политических событий, сколько о впечатлении, какое производили они на княгиню Долгорукову. Это ближе обрисовало бы ее характер…» Он прочел рецензию Трескину, тот остался доволен. На другой день Писарев еле высидел на лекциях. Прибежав домой, он набросился на статью П. Ковалевского «Картины Италии». «Славная вещь!» — подумал он, закончив чтение. Работа шла успешно. За полтора часа почти без помарок и изменений он закончил статью. Когда он прочел ее Трескину, тот изумился: — Молодец, Митька. Да какой же ты шарлатан! Ты выйдешь отличным рецензентом. Такая похвала со стороны Николая, вечно ругавшего и воспитывавшего Писарева, очень ободрила начинающего рецензента. Теперь что-то скажет заказчик… 10 октября Митя с трепетным сердцем отправился к Кремпину. Издатель «Рассвета» жил на Петербургской стороне, в маленьком домике на Малой Дворянской улице. Валериан Александрович был дома. Узнав, что молодой человек желает прочесть свои статьи, усадил его и подал чаю. Митя прочел «Наталью Борисовну» и «Картины Италии». — Прекрасно-о! — воскликнул Кремпин, когда Писарев окончил чтение. — Это совершенно то, что мне нужно. Митя тут же высказал мнение о направлении, которое должна иметь библиография в «Рассвете» и чем она должна отличаться от библиографии других журналов: — Там, — сказал он, — пишут о предмете статьи как о вещи всем известной. А мы непременно должны сначала в самой рецензии знакомить наших читательниц с этим предметом. Иначе статья и рецензия будут непонятны. Тогда и самая библиография будет иметь значение самостоятельного отдела. — Та же мысль, — откликнулся Кремпин, — пришла в голову нам с Классовским. — Очень рад. Стало быть, я понимаю основную идею и направление вашего журнала. — Вы совершенно угадали и поняли его. После взаимных комплиментов Кремпин встал и затворил дверь. — Теперь, — сказал он, — позвольте условиться в цене… От Кремпина Писарев вышел окрыленный. Еще бы: теперь он стал библиографом. Два листа в месяц — это 60 рублей. Для студента, бегавшего в Публичную библиотеку, чтобы не издержать пяти рублей на книгу, целая Калифорния. Как приятно, еще будучи студентом, поставить себя независимым в денежном отношении. «За английский платят 16 руб. серебром, — писал он Раисе. — Не хочешь ли принять участие?.. О чистоте русского языка не очень заботься: я выправлю, как следует. Ты этим не шути, душа моя Раиса; это поможет занятию английским языком, укрепит тебя в знании русского и принесет денег. Отвечай мне на это». Писарев старался выполнять работу для журнала как можно тщательнее и аккуратнее. Не ленясь, он читал все новые статьи и писал на них рецензии. 10 октября. «Я в этот вечер начал разбор статьи Аппельрота «Воспитание женщин среднего и высшего состояния»… часто увлекался своим сюжетом и часто приходилось перемарывать». 11 октября. «Я выносил в себе мысли об Аппельроте, спокойно принялся за дело и написал статью, которую Трескин нашел вполне удовлетворительною, а местами и художественною». 12 октября. «Прочел я сегодня 1-ю часть «Два года назад». Кажется, хорошенькая вещица». 13 октября. «Я прочел 2-ю статью Ковалевского: «Путешествие из Венеции в Рим» и написал свою библиографическую статью, но, когда я прочел ее Трескину, он нашел, что она чрезвычайно бесцветна; согласился с ним и задумался… Главное, тревожит меня мысль, что ежели я исписался, что ежели мой талант ушел на первые три статейки. Что, ежели изменит надежда на библиографию…» 14 октября. «Я пошел в университет в 10 1/2 часов, а до тех пор писал об одной повести… «Наследство тетушки» Весеньева… Мне ужасно хотелось прочесть Трескину мою статью, но я удержался и победил себя». 15 октября. «…После ухода Скабичевского я написал об «Деревенских письмах» и, как и те две статьи, не прочел Трескину. Он сам не просит об этом, а навязываться я не хочу… Вечером я читал статью «Оливер Гольдсмит», но напишу о ней завтра… Работа идет успешно вперед; на днях нужно будет повидаться с Кремпиным, чтобы прочесть произведения моего пера, а то я не доверяюсь собственной критике. Автор часто бывает пристрастен». И так изо дня в день. «Рассвет, журнал для взрослых девиц» — именно так назывался журнал Кремпина — начал выходить с января 1859 года. Журнал печатал прежде всего очерки о замечательных женщинах русской истории, статьи о женском воспитании, повести и рассказы (преимущественно переводные), в которых выводились женские характеры. Появлялось в журнале немало статей по физике и астрономии, биологии и географии, очерки по истории русского просвещения и биографий писателей, были попытки говорить о современных событиях. Так, в пяти номерах 1859 года печаталась обширная статья Е. П. Карповича о только что вспыхнувшей войне Италии за независимость. Отдел библиографии занимал примерно четвертую часть каждой книжки. Его поручили вести Писареву, который должен был «указывать юным читательницам на те книги и журнальные статьи, которые могут обогатить их ум, не вредя чистоте и непорочности их сердца». К моменту выхода первого номера Писарев написал библиографию на полные шесть номеров. Редактор остался доволен стараниями молодого сотрудника. Постепенно Писарев стал думать, что эта работа сможет его поддержать и по выходе из университета. Это его утешало: можно будет прожить и без специальности. Денежная сторона постепенно отошла на второй план. Он писал свои «жиденькие и невинные статейки» (так он назовет их спустя четыре года) с таким увлечением, с каким ему не случалось работать над биографией Гумбольдта. Товарищи-филологи отнеслись к «Рассвету» сначала пренебрежительно. Сотрудничество в журнале они считали делом несерьезным. Но соблазн был слишком велик. И деньги были нужны, и свою фамилию увидеть в печати лестно. На предложение Писарева раньше всех отозвался Трескин, затем — Полевой и Скабичевский. Каждый из них приготовил одну-две статейки (по специальности). Остальные косились на легковесные занятия товарищей, ворчали, но держались стойко. Писарев же неутомимо и упорно продолжал свою работу. Даже столпы кружка вынуждены были признать, что библиографический отдел «Рассвета» ведется так умно, изящно и разнообразно, что вскоре сможет поспорить с подобным отделом в лучших русских журналах. Но это еще больше тревожило их. Они внушительно качали головами и предостерегали Писарева. Конечно, говорили они, ради денег заниматься журнальной работой позволительно. Но вот увлекаться ею не следует. Она уводит человека от науки и повергает в пагубный дилетантизм. Николай Трескин, смотревший на сотрудничество в «Рассвете» поначалу благосклонно, принялся теперь по своему обыкновению поучать. Он говорил другу жалкие слова о том, что тот продал душу дьяволу и гоняется за грошами, пренебрегая своим великим призванием. Он требовал бросить работу в «Рассвете» и, во всяком случае, отказаться от библиографического отдела. Заработать можно и переводами. Эти поучения раздражали. Писареву тяжело было сознавать, что лучший друг не сочувствует его новым интересам, придавшим какой-то смысл его умственной деятельности. Натолкнувшись на стойкое противодействие, Трескин понял, что друг не откажется от литературной работы. Он стал настаивать, чтобы Писарев писал статьи по одному какому-нибудь вопросу, по специальности. Это принесет хотя бы косвенную пользу научным занятиям. — Да нет ее у меня, этой специальности, пойми же ты, наконец! — тоскливо восклицал Писарев. Тогда Трескин, прикинувшись сочувствующим, с видом глубочайшей научной добросовестности стал обсуждать каждую статью. Выхватив какую-нибудь фразу, Трескин, поправляя очки, скромно вопрошал: — А на чем это основано? Начинался спор… Эта своеобразная инквизиция преследовала Писарева ежедневно и ежеминутно. Он сознавал, что доля правды есть в словах Николая, что он действительно знает очень мало. Но постоянные упреки и укоры мучительно действовали на его самолюбие. Как и в прошлом году, филологи собирались, устраивали дружеские пирушки, беседовали и спорили, готовились к экзаменам. Но слишком часто разговоры вертелись вокруг легкомысленного поступка Писарева, почти всегда споры сводились к убеждению «блудного сына» вернуться «под отчий кров». «Василеостровские ретрограды» преуспели в одном: на третьем курсе Писарев отошел от общественных студенческих дел. Он не участвовал в сходках и почти не общался ни с кем из студентов, кроме членов кружка. У него просто не оставалось времени: надо было много читать, писать, да еще отбиваться от дружеских увещеваний. Составляя библиографические обзоры, Писарев читал много разнообразных книг. Исторические сочинения Маколея, Прескотта, Мотлея, путешествия Гончарова, Лакиера, Ливингстона, современные русские романы и повести, педагогические трактаты, книги по естественным наукам. От массы книг исходило «обаятельное веяние души», чтение пробудило пытливый ум молодого человека. В статьях, которые он писал, не было оригинальных мыслей, но для него самого они были новы. К общеизвестным истинам он приходил путем собственных размышлений, и это накладывало на его статьи печать искреннего и живого убеждения. «Пробудившееся стремление анализировать и всматриваться, — писал впоследствии Писарев, — не может быть по вашей воле опять погружено в сон. Каждый человек, действительно мысливший когда-нибудь в своей жизни, знает очень хорошо, что не он распоряжается своей мыслью, а что, напротив того, сама мысль предписывает ему свои законы и совершает свои отправления так же независимо от его воли, как независимо от этой воли совершаются биение сердца и пищеварительная деятельность желудка». Журнальная деятельность насильно вытаскивала молодого человека из душной кельи «чистой науки» на свежий воздух. Русские журналы Писарев читал с профессиональным интересом, и многое предстало перед ним в новом освещении. Еще полгода назад, когда товарищи с осуждением указывали ему на Добролюбова, который мог бы стать дельным ученым, а сделался пустым журналистом, Писарев торжественно заверял их, что не пойдет по такому предосудительному пути. Теперь же деятельность Добролюбова он ценил очень высоко и в спорах с филологами горячо защищал его. В редакции «Рассвета» Писарев встречался с другими молодыми сотрудниками. Он познакомился с чиновником Д. Н. Саранчовым, артиллерийским офицером Н. Н. Фирсовым. Последний спустя полвека посвятит Писареву несколько страниц своих воспоминаний. Ему принадлежит, пожалуй, наиболее выразительная характеристика юного Писарева. «Редко в течение моей долгой жизни, — писал Фирсов, — мне случалось встречать таких симпатичных, влекущих к себе людей, как студент Писарев… Ни самолюбивым, ни тщеславным Писарев от природы не был. Он был, конечно, слишком умен, чтобы не знать себе цены, но он и недостатки свои знал; много работал над собой, стараясь приучаться правильнее оценивать людей и идеи. Вслушивался он в чужие речи… внимательно, вдумчиво; высказывался метко, но в тот период его зеленой юности… не всегда, кажется, был уверен: нужно ли было в данный момент сказать именно то, что он сказал, хотя едва ли в глубине своей души когда-нибудь сомневался, что сказанное им само по себе имеет ценность… С молодыми же приятелями, особенно с глазу на глаз, Писарев не был робок, а скорей откровенен. Не только в идейно-общественном смысле, но и в личном… он без всякого усилия, и даже не сознавая того, сам располагал нас к себе. Будучи от природы проникновенен и склонен к доброму чувству, он искренне отзывался на дружеское расположение… Дмитрий Иванович питал «органическое» (он любил употреблять в применении к себе это слово, и оно было метко) нерасположение к глупости и бездарности. Однако, понимая, что эти свойства присущи данному человеку независимо от его воли, он остерегался высказывать свое неудовольствие и даже помогал приятелям, одержимым этими свойствами, по возможности ослаблять их выражение, особенно если дело касалось чего-нибудь практического: самообразования, научных занятий, заработка». Кремпин гордился своим библиографом и обещал со временем сделать его помощником. Иногда Писарев бывал в домах, где собирались литераторы. А однажды даже состоялось его знакомство с Николаем Гавриловичем Чернышевским — правда, иначе, чем ему того хотелось бы. «Я был в одном литературном кружке, — передает А. Д. Данилов рассказ Писарева, — меня представили как начинающего известному Чернышевскому, назвали мою фамилию — и он вдруг вытаращил на меня глаза. «А Николай Эварестович Писарев сродни вам?» — спросил он. «Как же-с, говорю, двоюродный дядя». — «И вы знакомы с ним?» — спрашивает. «Как нельзя лучше, — говорю, — отличный человек, — всем родным помогает». — «Как ему не помогать: ведь он наворовал-то, как служил при Бибикове, миллионы… Край целый разорил!..» И пошел от меня, словно я в чем виноват был, а вольно ж было представлять мне его в самых лучших красках и не сказать напрямки, какая это в действительности личность…»
Никогда еще Митя не ждал с таким нетерпением летних каникул. Еще зимой он сговорился с Раисой в письмах повидаться летом. Убедившись, что сына не удержать, Варвара Дмитриевна согласилась, чтобы встречи происходили под ее надзором, в Грунце. — Где Раиса? — был первый вопрос. — Гостит в Истленеве. Николай Эварестович ее сюда не пустил. Это «не пустил» раздражило Писарева до бешенства. Писарев погрузился в работу. Ежемесячно в «Рассвет» посылалось условленное количество листов, время отдыха было занято чтением вслух, но читалось лишь то, что могло служить материалом для критических статей. Почтенные тома шлецеровского «Нестора», привезенные с собой, мирно покоились в углу. Трескин, приехавший с другом погостить в Грунце, укоризненно вздыхал. Но его проповеднический пыл несколько охладел. Он сам для того же «Рассвета» переводил рассказы Тьерри из времен Меровингов. Николай раздумывал над каждой строчкой, перечеркивал, переписывал, улавливая «дух подлинника». Ежеминутно он призывал друга на совет. Писарев, которому писание давалось очень легко, лишь пожимал плечами. Трескин обвинял товарища в поспешности. Каждый чувствовал себя правым. Работа не помогала Мите отвлечься. Он тосковал, раздражался без причин, искал одиночества. Мать наконец не выдержала и отправилась за Раисой. Несколько дней Писарев провел в тревожном состоянии духа. «Приедет или не приедет?» Работа не клеилась, он начинал статью за статьей, рвал исписанные листы, бросался от одного дела к другому… Раиса не приехала. Мать привезла письмо. Раиса заверяла в неизменности своей сестринской дружбы, желала ему счастья и блага, но наотрез отказывалась стать его женою — даже в будущем: она «любила другого». Трескин сочувствовал товарищу и усердно призывал его «врачевать рапы больной души вечно живыми источниками науки». — Я, милый, с тобой не миндальничаю, — отвечал ему Писарев, — не разыгрываю романа восторженной дружбы, а между тем я люблю тебя сильнее, чем ты меня, потому что ты мне дорог сам по себе, какой ты есть, ни больше, ни меньше. А из меня ты хочешь сделать что-то такое и любишь во мне произведение собственного творчества. И я убежден, что ты, как раздраженный художник, разобьешь непокорный кусок мрамора в тот день, как убедишься, что я пойду не по твоей, а по своей дороге. Лето тянулось медленно. Тихая грусть стала преобладающим душевным состоянием Писарева. К ней добавилось какое-то умственное и нравственное утомление. Было как-то «не по себе». Писание шло вяло, в статьях все чаще стали появляться помарки. Он шутя приписывал это утомление слишком долгому пребыванию на лоне природы. Споры в столовой этим летом возникали по любому поводу и сопровождались колкостями, дерзостями, взаимными оскорблениями. Дядя Андрей Дмитриевич, ставший на сторону молодого поколения, со всей своей необузданностью разоблачал людей старого покроя. И перед Митей раскрылось многое, о чем он не подозревал. Иван Иванович как-то рассказал сыну о доходах, которые получал, служа в ополчении. Митя, с удивлением выслушав это признание, назвал эти доходы казнокрадством. По ночам Митя будил Андрея Дмитриевича и расспрашивал его о подробностях фамильной хроники. — Безбожно, — говорил он, — скрывать от меня такие вещи, которые все знают. Невольно попадаешь впросак. Узнав что-нибудь от дяди, Писарев шел к матери и спрашивал у нее объяснений. Нередко случалось, что он возражал Андрею Дмитриевичу материнскими словами. В такие минуты он казался Данилову бестолковым мальчишкой, с которым не стоит и. разговаривать. — Неужели вы не понимаете, — говорил тогда Писарев, — для чего я возражаю вам?.. И Андрей Дмитриевич лишь изумлялся твердости, с которой Писарев принимался низвергать ложные авторитеты. — Тебе не тяжело разочарование в них? — спрашивал он. — Истина всего дороже, — отвечал юноша. Сталкивая разоблачения дяди с объяснениями матери, Писарев вырабатывал собственные взгляды на жизнь. Он увидел наконец всю ложь, которой его окружили взрослые. Оказывается, дядю-взяточника ему представляли прекрасным человеком для его же пользы. Ведь Николай Эварестович платил за обучение Мити в гимназии и платит теперь в университет. А перед каждым возвращением с каникул он дарит ему 50 рублей на конфеты. Семейный — разлад скрывали от него по той же причине — отца было бы грешно не уважать. И с той же целью — пользы ему — его разлучали с любимой кузиной. И все это опять была ложь! Так совершилось освобождение Писарева от того нравственного гнета, который тяготел над ним от рождения. Теперь он почувствовал в себе свободу мыслить, право думать по-своему. Прежде было достаточно магического слова «неприлично», и он подчинялся беспрекословно. Ныне он начал возражать и требовать доводов. После известия, полученного от Раисы, Писарев решил сосредоточить в себе самом все источники своего счастья. Разлад с семьей только укрепил его в этом намерении. «С этого времени я начал строить себе целую теорию эгоизма, — писал Писарев спустя несколько месяцев, — любовался на эту теорию и считал ее неразрушимою. Эта теория доставила мне такое самодовольствие, самонадеянность и смелость… Я думал, что с меня в жизни довольно одного себя: будут привязанности, друзья, любовь, думал я, — хорошо, не будут — и без них обойдусь и буду жить одной мыслью, в вечность которой я твердо верил, хотя и говорил, что оставляю это под сомнением. Следуя такой уродливой теории, я довольно равнодушно смотрел на те привязанности, которые уже успел приобрести в жизни…» Николай Трескин «сочувствовал моему горю, когда видел меня огорченным; потом, когда произошел перелом, он стал вглядываться в меня с каким-то сомнением; наконец, когда я развил свою теорию эгоизма, он стал горячо спорить со мною, как поэт и идеалист; на его восторженные тирады я часто отвечал насмешливым и всегда самонадеянным тоном; как диалектик я был сильнее его и любил побеждать его, ставить в тупик или выводить из терпения. Я делал все это шутя, почти для забавы, потому что вдохновлялся только собственною идеею и спорил, вовсе не стараясь убедить противника и не допуская даже возможности быть убежденным». Трескин, «напротив того, думал исправить мои ошибочные воззрения, считал их следствием недоразвития и спорил с добросовестным желанием принести мне пользу. Споры наши кончались обыкновенно тем, что он раздражался и умолкая, говоря, что я софист и что со мною не столкуешься. Я приписывал этот результат убедительности моих доводов и еще более оставался доволен и своею теориею, и своими умственными способностями…» Не дождавшись окончания каникул, Писарев и Трескин покинули Грунец. До Тулы — в писаревском экипаже, затем — в мальпосте, и на третий день — Москва. Здесь они задержались, чтобы познакомиться с предполагаемым предметом Раисиной любви. Петр Александрович Гарднер, двадцатичетырехлетний студент-медик, был совсем непохож на «счастливого соперника». Сентиментальный добряк, нескладный и робкий, пожалуй, даже слегка тронутый, он вызывал к себе лишь чувство жалости. Друзья, не сговариваясь, решили, что он типичный неудачник. Нет, этот человек не способен дать счастье такой девушке, как Раиса. Гарднер был серьезно болен, и несколько проведенных в Москве дней Писарев ухаживал за ним как за ребенком. Мысль о коварстве близких людей, о новой лжи не пришла Писареву в голову, и, сообщив матери свои впечатления о Гарднере, он просил передать это Раисе возможно осторожнее. Он прибавлял, что его решение жениться на кузине остается неизменным, но повторять теперь ей свое предложение он не будет, не желая проявлять неуважение к ее несчастной любви. «Я говорю теперь чистосердечно, — продолжал Писарев, — что желаю пока одного: чтобы Раиса не умерла и чтобы сгоряча не дала себе обета девственности. А там — будет ли она моею женою или женою другого — лишь бы была счастлива. Себе-то я всегда найду утешение в области мысли. Теперь я могу себе представить только одно несчастье, которое сломило бы меня: сумасшествие с светлыми проблесками сознания. Все остальное: потеря близких людей, потеря состояния, глаз, рук, измена любимой женщины, — все это дело поправимое, от всего этого можно и должно утешиться».
5. НОВОЯВЛЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ
Со дня возвращения в Петербург Писарев пребывал в восторге — он совершил великое открытие. Он открыл, что «мойра» — древнегреческая судьба — не что иное, как сила законов природы. Недаром гениальный народ подчинил судьбе даже великих олимпийских богов. Мысль, мимоходом высказанная товарищам, воспламеняла его. Она вполне отвечала его настроению и новым взглядам на жизнь. И он решил доказать ее в диссертации. Писарев представлялся себе каким-то титаном, Прометеем, похитившим огонь, и ожидал, что совершит «чудеса в области мысли». Он отчетливо сознавал, что изучить всех древнегреческих поэтов ему не по силам. Тем с большим рвением набросился он на Гомера. За два месяца он прочел в подлиннике восемь песен «Илиады» и сделал множество выписок из немецких исследований. Товарищи смотрели на его труды с недоумением. Им казалось нелепым, что Митя оставил славяно-русские древности и очертя голову бросился в неведомую область науки. Его, как и прежде, пытались предостеречь, остановить, делали выговоры. Но новоявленный Прометей уже не обращал внимания на увещевания друзей… «В Петербурге, в кругу близких товарищей, — вспоминал Писарев, — теория моя была принята дружным взрывом негодования, это меня огорчило, но не сконфузило; товарищи мои мечтали о самоотверженной деятельности, о служении идее добра, о труде на пользу общества, и потому можно себе представить, как враждебно подействовал на них мой систематический и рассчитанный эгоизм. Они меня не понимают, подумал я и, не усомнившись ни на минуту в верности моих воззрений, попросил моих товарищей не удаляться от меня до тех пор, пока они не будут иметь случая порицать мои поступки. Я высказал эту просьбу по следующей причине: я был уверен, что различие теоретических убеждений не поведет к различным поступкам; что они будут делать по сознанию долга то самое, что я буду делать для собственного удовольствия». Окрестив состояние Писарева «сиянием», друзья оставили его в покое.25 июня 1859 года на Мариинской площади был торжественно открыт памятник Николаю I. Архитектор Монферан и скульпторы Клодт, Рамазанов и Засеман потрудились на славу. Суровый царь на вздыбленном коне мрачно смотрел на Исаакий. По углам постамента русские княгини изображали богинь Мудрости, Веры, Правосудия и Силы. У подножия на четырех барельефах — важнейшие события царствования Николая Палкина: подавление восстания декабристов, усмирение холерного бунта в 1831 году, введение пятнадцатитомного «Свода законов Российской империи» и постройка железной дороги из Петербурга в Москву. Увидев это сооружение но возвращении в Петербург, Писарев был потрясен. Поставить памятник царю-жандарму? И именно сейчас, когда все кругом вопят, что наступили времена либерализма? Иллюзии, достаточно обветшавшие за год журналистской работы и уже рассыпавшиеся в результате летних «открытий», окончательно обратились в прах. Под свежим впечатлением Писарев написал «Оду на памятник Николаю»:
Диссертация оказалась мыльным пузырем. «Гениальная» идея вдруг потеряла весь свой блеск и представилась даже бессмысленной. Митя принялся за роман. Но не вышел и роман… Молодой человек, в одно лето переживший так много разочарований, был на грани отчаяния. Восторженная кипучая деятельность сменилась апатией. Писарев стал жаловаться, что не в состоянии связать на бумаге двух слов, что мозг его совсем отказывается работать. Им овладело уныние и полное неверие в свои силы. Даже выпускной экзамен, предстоявший весной, стал казаться непреодолимым. Он шлет одно за другим письма матери: «Ради Бога, мама, прочти это письмо… Если тебе сколько-нибудь дорого знать состояние моей души, выслушай меня спокойно и верь искренности моих слов, хотя бы они показались тебе странными… Я стал сомневаться и, наконец, совсем отвергнул вечность собственной личности, и потому жизнь, как я себе ее вообразил, показалась мне сухою, бесцветною, холодною. Мне нужны теперь привязанности, нужны случаи, в которых могли бы развернуться чувства и преданность, нужно теплое, разумное самопожертвование, над которым я так жестоко смеялся несколько дней тому назад… Я нахожусь теперь в каком-то мучительном, тревожном состоянии, которого причин не умею объяснить вполне и которого исхода еще не знаю. Мама, прости меня, мама, люби меня!» «Ради Бога, мама, прости меня, напиши ко мне. Ты не можешь себе представить, до какой степени тяжело чувствовать себя одиноким, отчужденным от тех людей, которых любишь очень сильно и перед которыми глубоко виноват. Ты бы пожалела обо мне, друг мой мама, если бы знала, как я жестоко наказан за свою самонадеянность, за свой грубый эгоизм… Я начинал к тебе четыре письма и ни одного не решился отправить; в каждом из них слишком мрачно выставлялись мои опасения за себя и мой взгляд на будущее…» Однажды, отбиваясь от очередных нападок товарищей, Писарев потерял сознание. С этого началась его болезнь. Теперь большую часть — времени он проводил лежа на диване, молча уставившись в потолок. От него нельзя было добиться ни слова. Атмосфера недоверия и подозрительности окружала Писарева, как ему казалось, в последние дни его пребывания в доме Трескиных. Скабичевский рассказал такую историю. У Николая Трескина стали пропадать книги. Одну из них он обнаружил в книжной лавчонке на соседнем рынке. Заподозрив отцовского денщика, Николай позвал его и пригрозил пожаловаться отцу (старый адмирал был скор на расправу: денщика ожидал мордобой и отправка в экипаж, где его засекли бы до полусмерти), а сам строго стал следить за целостью вещей и книг в кабинете. И вот Писарев вообразил, что Трескин только делает вид, подозревая денщика, что на самом деле он подозревает в краже Писарева, что все товарищи учредили за ним тщательный надзор, чтобы поймать его на месте преступления… «Товарищеский» деспотизм оказался для Писарева нисколько не легче «материнского». Друзья хотели видеть его таким, каким он должен был быть по их понятиям. И все их попытки наставить его на путь истинный выглядели обыкновенным насилием и только раздражали юношу, заставляли его замкнуться в себе. Через десяток лет литературный соратник Писарева Д. Д. Минаев вынес приговор этим друзьям: «Сто раз можно задохнуться, упасть в обморок, получить падучую болезнь, попавши в круг людей, которые в ранней молодости уже отличаются самым застарелым, хроническим обскурантизмом. Из такого зачумленного кружка до сумасшедшего дома был только один шаг, и шаг этот был сделан Писаревым». «Период переходной умственной борьбы, — вспоминал впоследствии Писарев, — заключился умственною болезнью. Прометея приковали к скале, и коршун стал клевать его печень…» Писарев был объявлен тихо помешанным. Его отвезли в частную психиатрическую лечебницу доктора Штейна на Тверской улице, близ Таврического сада. «Я дошел до последних пределов нелепости, — писал Писарев в «Нашей университетской науке», — и стал воображать себе, что меня измучают, убьют или живого зароют в землю. Скептицизм мой вышел из границ и начал отрицать существование дня и ночи. Все, что мне говорили, все, что я видел, даже все, что я ел, встречало во мне непобедимое недоверие. Я все считал искусственным и Приготовленным нарочно для того, чтобы обмануть и погубить меня. Даже свет и темнота, луна и солнце на небе казались мне декорациями и входили в состав общей громадной мистификации». 26 декабря Варвара Дмитриевна Писарева записала в своем дневнике: «Митя, Митя, мое сокровище, болен, и болен так, что, может быть, навсегда». Морозным январским утром возбужденный Скабичевский ворвался в чердачную каморку Николая Трескина и потряс перед его носом номером «Колокола». Развернув на столе лондонский журнал, он решительным жестом показал товарищу корреспонденцию, в которой несколько строк было подчеркнуто красным карандашом. Здесь говорилось о том, что доктор Штейн за приличное вознаграждение держит в своей больнице здоровых людей. Возбуждение передалось Трескину. Друзья были возмущены до глубины души: их товарища упрятали в такой разбойничий вертеп! Они немедленно отправились к попечителю протестовать. Делянов, несмотря на воскресный день, принял студентов сразу же. Моложавый армянин, уже облысевший, но с черными как смоль волосами на затылке и горящими глазами, узнав о цели посещения, развел руками: — Мне очень приятно пользоваться доверием студентов. Но как же вы, господа, могли нести в руках эту газетку по Невскому? Вас могли задержать. Хоть бы завернули. Он стал убеждать студентов в том, что больница доктора Штейна одна из лучших в Петербурге, что если в ней и случились злоупотребления вроде упомянутых в «Колоколе», то к Писареву они не могут иметь никакого отношения. Друзья ушли успокоенные.
Мать настойчиво, но безуспешно добивалась встречи с сыном. Доктор Штейн вежливо и в то же время решительно отвечал ей, что система лечения свиданий не допускает. «Такая фантасмагория, — вспоминал Писарев в «Нашей университетской науке», — тянулась четыре месяца. Наконец теплые ванны, продолжительные прогулки на открытом воздухе, ежедневные гимнастические упражнения, постоянные приемы железа внутрь, а главное — отдых мысли убавили скептицизм настолько, что в половине апреля 1860 года я оказался в состоянии жить с людьми по-человечески и пользоваться гражданскою свободою без опасности для себя и для других». Однажды утром в комнату Скабичевского вбежал Писарев. — Я к тебе прямо из больницы, — сказал он, тяжело дыша. — Все время бежал, боялся — догонят… Отдышавшись, Писарев рассказал товарищу, что убежал через открытое окно. Сначала, чтобы избавиться от позора, он пытался повеситься, но оборвалась веревка. Потом хотел отравиться — тоже неудачно. Тогда решил бежать. — И вот прибежал к тебе. Ты добродушнее их всех, у тебя нет их коварства… Скабичевский стал уверять Писарева в том, что он не прав, обвиняя друзей в коварстве. Напрасно он думает, что друзья захотели от него избавиться и засадили его в сумасшедший дом здорового. В его помещении в лечебницу участвовало университетское начальство с попечителем во главе. Не могут же они быть тоже в заговоре против него. Последний аргумент озадачил Писарева. — А чем ты мне это докажешь? — спросил он. — Пойдем в университет. На университетской лестнице студенты встретили инспектора. Он тут же удостоверил, что Писарев был действительно помещен в лечебницу по распоряжению начальства и на казенный счет. — И в самом деле, может быть, все это были одни болезненные галлюцинации! — воскликнул Писарев. Доктор Штейн ожидал беглеца в квартире Трескиных. Два рослых служителя кинулись было схватить Писарева, но он объявил, что покончит с собой, если его снова отправят в больницу. Старик Трескин, отравлявший жизнь Писарева своими беспощадными насмешками, державший его нервы в постоянном напряжении, вдруг помягчел, загородив собою юношу, резко сказал: — Не умели сберечь его у себя, а теперь я вам его не выдам! Штейн заявил, что Писарев еще очень далек от полного выздоровления, и нельзя ручаться, что болезнь не возобновится с новой силой. Трескин был непреклонен. Доктор со служителями вынужден был удалиться. Трескин-отец, опасавшийся рецидива болезни, проявил излишнюю заботливость. Он не позволил сыну увидеться с беглецом, а Писареву запретил искать встреч с товарищами. Все-таки ему удалось мельком и поодиночке повидаться с Майковым и Макушевым. Товарищи были сдержанны и обходились с ним «как с сорвавшимся с цепи».
И. Д. Делянов — В. Д. Писаревой 20 апреля 1860 года: «Милостивая государыня Варвара Дмитриевна! Вам, вероятно, уже известно, что любезный сын Ваш вышел из больницы. Сегодня он был у меня. Довольно продолжительный с ним разговор и спокойствие его духа послужили мне достаточным доказательством, что он пришел в совершенное самосознание, которое, впрочем, никогда его вполне не оставляло, и дает мне пламенную надежду, что припадки меланхолии, коими он страдая, уже не возвратятся. Радость, которую я ощущаю, видя его в настоящем его состоянии, хотя и не может идти в сравнение с темя чувствами, которые охватят душу матери, когда она увидит и услышит детище свое после всех его душевных истязаний, через которые он проходил, но радость эта так сильна, что я не могу удержаться от удовольствия поделиться ею с Вами. Добрейший генерал Трескин, который посетил меня с Вашим сыном, сказал мне, через неделю он полагает отвезти его к Вам. Пользуясь этими резонами, имею честь покорнейше просить Вас принять уверения в моем совершенном почтении и искренней преданности. Делянов».
В последних числах апреля Александр Михайлович отвез Писарева в Грунец — «восстанавливать силы и укреплять нервы на свежем деревенском воздухе».
III КРУТОЙ ПОВОРОТ
В 1860 году в моем развитии произошел довольно крутой поворот. Гейне сделался моим любимым поэтом, а в сочинениях Гейне мне всего больше стали нравиться самые резкие ноты его смеха. От Гейне понятен переход к Молешотту и вообще к естествознанию, а далее идет уже прямая дорога к последовательному реализму и к строжайшей утилитарности.Д. Писарев
1. ПЕРВЫЙ СПУТНИК
Время не стояло на месте. Прошедший 1859 год сдвинул жизнь европейских народов с мертвой точки реакции, на которой она застряла после поражения революции 1848 года. Кончились годы застоя. Европа оказалась в преддверии новой волны национально-освободительных войн, перехода от абсолютизма к конституционному строю, бурного роста рабочего движения и распространения научного социализма. Первыми поднялись итальянцы. Итало-австрийская война 1859 года и последовавшее за ней народное движение под руководством Гарибальди привели спустя два года к созданию единого итальянского государства. Влияние итальянских событий на соседние народы было огромно. Наполеон III, помогавший итальянцам, испортил отношения с папой римским и, потеряв поддержку клерикалов, был вынужден заигрывать с либералами — реакция во Франции смягчилась. Побежденной Австрии пришлось задуматься о реформах. Прорвались патриотические чувства немцев, десять лет бывшие под запретом: в дни столетнего юбилея Шиллера возник «национальный союз» для пропаганды объединения Германии. Пример итальянцев привлекал и Польшу, и южных славян, и русских революционных демократов. На Американском континенте сверкнула первая зарница гражданской войны Севера с Югом: в октябре 1859 года Джон Браун поднял восстание за уничтожение рабства. «Самые величайшие события в мире, — писал Ф. Энгельс в январе 1860 года, — это, с одной стороны, американское движение рабов, начавшееся со смерти Брауна, и, с другой стороны, движение рабов в России». В России возникла революционная ситуация. Еще осенью 1858 года, узнав из газет об обещании Александра II пригласить депутатов в Петербург для обсуждения проекта крестьянской реформы, К. Маркс писал Ф. Энгельсу: «В России началась революция; началом ее я считаю созыв «нотаблей» в Петербург». А в январе 1859 года, развивая свою мысль, Маркс высказался еще определеннее: «…император, мечись между государственной необходимостью и практической целесообразностью, между страхом перед дворянством и страхом перед разъяренными крестьянами, наверное, будет колебаться, и крепостные, возбужденные до крайности повышенными ожиданиями и думая, что царь на их стороне, но в плену у дворян, теперь неизбежнее, чем когда-либо, начнут восстание. А если это произойдет, то настанет русский 1793 г.». В Петербурге заседали редакционные комиссии. В основу их работы легла выработанная правительством программа: освобождение крестьян с землей; выкуп крестьянами своих наделов у помещиков в собственность при содействии правительства; сокращение переходного состояния; уничтожение барщины в течение трех лет и перевод на оброк; крестьянское самоуправление. Но даже эта весьма умеренная программа вынужденных уступок вызывала противодействие помещиков. На местах были разработаны еще более куцые проекты. В два приема приглашались в Петербург депутаты губернских комитетов — и оба раза они оспаривали программу редакционных комиссий. Депутаты первого призыва, принадлежавшие главным образом к промышленным губерниям, соглашались на освобождение с землей и на выкуп наделов. Депутаты второго призыва, представлявшие помещиков черноземных губерний, настаивали на безземельном освобождении. Они нападали на редакционные комиссии с охранительных позиций, без всяких оснований обвиняя ее членов в республиканских, социалистических и даже коммунистических тенденциях. Борьба между бюрократией и аристократией, крепостниками и либералами была в полном разгаре, но эта борьба велась внутри класса помещиков, обе стороны заботились о сохранении помещичьего землевладения, речь шла всего лишь о степени уступок крестьянству. Крестьяне ждали обещанной воли. Они говорили: «Дело пошло на огласку, уж теперь господа его не скроют». В 1859 году было около сотни крестьянских выступлений против помещиков. Призрак крестьянской революции витал над Россией. Защитниками крестьянских интересов выступали революционные демократы. Н. Г. Чернышевскому грабительский характер предстоящей реформы стал ясен еще в 1858 году, и он ожидал, что крестьяне ответят на нее восстанием. С начала 1859 года «Современник» взял курс на крестьянскую революцию. А. И. Герцен все еще надеялся на мирный исход событий. Он полагал, что образованное меньшинство в союзе с царем сможет преодолеть сопротивление помещиков и обеспечить действительное освобождение народа. В 1859 году эти две точки зрения столкнулись. Позицию «Колокола» подверг критике Н. А. Добролюбов, выступив против «лишних людей» и «обличительной литературы». Последовал резкий ответ Герцена. Между двумя органами революционной демократии завязалась полемика. Не только в политической жизни народов прошедший год произвел или наметил значительные перемены. Он стал также важным рубежом в развитии науки. В 1859 году увидели свет две книги, совершившие переворот в мировоззрении человечества: 11 июня, в Берлине, — книга Карла Маркса «К критике политической экономии»; 24 ноября в Лондоне — книга Чарлза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора». В 1859 году: Бунзен и Кирхгоф открыли спектральный анализ. Фехнер закончил капитальный труд «Элементы психофизики», внедряя новаторские экспериментально-математические методы в исследование психических процессов. В Лондоне молниеносно было распродано второе издание первого тома «Истории цивилизации в Англии» Бокля. Английский историк предпринял попытку отыскать общие законы развития человечества и сделать историю наукой. Переведенное вскоре на главные европейские языки, это сочинение оказало огромное влияние на современников.Нечего и говорить о том, как были рады мать и сестры возвращению горячо любимого сына и брата в родной Грунец. Даже отец, казалось, стал менее флегматичным и равнодушным. Даже дядя Сергей Иванович вроде бы стал добрее и мягче. Все наперебой ухаживали за Митей, старались сделать ему приятное, стремились предупредить его желания. По вечерам мать читала ему вслух (Писарев очень любил читать вместе с кем-нибудь, а к чтению матери привык с раннего детства). Она читала ему новую повесть Достоевского «Дядюшкин сон», и Митя от души хохотал над старым князем. Потом, когда слышал вздор, он любил говорить: «Ну, да и сахар, и кадушки там были». В семье это вошло в поговорку. Повесть так понравилась Мите своей игривостью, что он подумывал сделать из нее пьесу для театра. Верочке не было еще шестнадцати, но выглядела она вполне взрослой девушкой. Митя нашел, что сестра очень образованна и способна самостоятельно мыслить. У нее горели глаза, когда она под диктовку брата записывала сочиненную им «Оду»:
Писарев чувствовал себя неуверенно, нервничал, опасаясь рецидива болезни. Чтение успокаивало только на время, писание утомляло. «Когда я вышел из больницы, — рассказывал он Н. Н. Фирсову осенью 1860 года, — и когда меня перевезли в имение отца, где жила вся наша семья, я весьма отчетливо помнил все, что со мной происходило в лечебнице. А кроме того сознавал, что, хотя, покинув ее, я уже был в «здравом уме и твердой памяти», но что эта здравость и твердость как-то за мной не Обеспечены. Я жил в постоянном опасении, что снова сорвусь. И мне стоило больших психических усилий, чтобы не сорваться. Я мог сдерживать себя, однако (хоть и не всегда), перед окружающими. Зато наедине с самим собою мне часто становилось очень жутко…» Опасаясь за неокрепшее здоровье сына, мать уступила его настояниям и согласилась пригласить в Грунец Раису. Только Андрея Дмитриевича, раскрывшего Мите семейные тайны, она не хотела видеть — считала его виновником болезни сына.
Коренева — Писареву, 29 мая 1860 года, из Москвы в Грунец: «Митя, милый Митя, я так счастлива за тебя, что и высказать не могу. Мы получили твое письмо здесь в Москве; я тут же и осталась и дня через три выезжаю в мальпосте до Тулы, а там Афанасий Денисович Дьяченко позаботится о том, чтобы мне хорошенько и скорее доехать до вас. Все это будет очень хорошо. С получения письма от тебя и от maman я не в силах ничего ни делать, ни думать и нахожусь в каком-то раздраженном состоянии. Итак, жди меня через несколько дней…»
Встречи с новым товарищем были часты. То Писарев отправлялся в Корсакове, то Хрущов приезжал в Грунец — десять верст не расстояние. Каждый рассказывал о себе. Кое-что в их судьбе было схожим. После «Леонтьевской истории» Хрущов пережил душевное потрясение, четыре месяца провел в больнице. Он внимательно слушал рассказы Писарева о докторе Штейне. Вместе читали «Горькую судьбину» Писемского. Спорили о поэзии. Писарев хвалил Аполлона Майкова, который, по его мнению, соединял в своей личности «творчество художника, создающего образы, и деятельность мыслителя, критически вырабатывающего свои убеждения». Митя с восхищением читал коротенькое стихотворение, вполне созвучное его собственному настроению:
Писарев — тетке Раисе Павловне Кореневой, 2 июля 1860 года, из Грунца в Хмырово: «Многоуважаемая тетенька! Наконец я живу полной жизнью, вижу всех, к кому наиболее расположен, и дышу так весело, так свободно, что страшно становится за свое счастье; я не ошибся в Вашем расположении ко мне, в Вашем милосердии к страждущему и жаждущему. Вы, получивши мое письмо, исполнили мою просьбу, мое законное и позволительное желание, Вы содействовали отъезду Раисы и, может быть, этим положили венец моему выздоровлению. Благодарю за это, тетенька; пишу я к вам немного, но я высказал что хотел, и с тем довольно, а что мое письмо недлинное, это будет Вам понятно. Дороги минуты, тетенька, когда прошли годы разлуки. Целую Ваши ручки… преданный Вам племянник. Д. Писарев».
Митя поспешил познакомить с Раисой своего нового товарища. «Было так хорошо, стал заниматься греческим, — раздраженно писал в дневнике Иван Петрович 5 июля, — да дернуло Писаренка ко мне приехать и упросить меня ехать с собой… Невеста его очень приятное впечатление производит, он ее не стоит. Самохвал и боготворит себя, антипатичен. Говорил с его матерью о страдании». Основания для раздражения у Хрущова были. Несколько дней назад он сделал неприятное для себя открытие, что Писарев определенно оказывает на него влияние, и перестал ездить в Грунец. Кроме того, его мучили сомнения: он получил письмо от Самарина, на которое не знал, что ответить. Еще в середине июня он написал другу: «Борьба еще почти не началась, а я уже изнемогаю от нее». Друг в ответ сообщал о возможности крестьянского восстания осенью. «То мне хочется доказать, — писал Хрущов в дневнике, — что бунт — вред и зло, что так все обойдется, то я вижу в нем единственное спасенье. Н. Д. пишет, что пропаганда идеальна — это правда. Что-то принесет осень». После раздумий он написал Самарину, что восстание невозможно из-за дикости народа. Через полмесяца он признал свою ошибку и каялся перед другом за поспешность выводов.
Писарев — Л. Н. Майкову, 7 июля 1860 года, из Грунца в Петербург: «Спасибо, любезный друг Леонид Николаевич, как за твое дружеское письмо, так и за аккуратное исполнение моих просьб и поручений. Вы все ребята хорошие, и мне, как человеку прежде других попавшему в неприятную переделку, известно более, нежели другим, истинное значение честных друзей… Во мне совершенно неожиданно проснулась способность к стихотворным переводам, и мне бы хотелось узнать от такого хорошего ценителя, каков ты, стоит ли продолжать такого рода работы, удачны ли мои переводы или нет. Считаю почти лишним говорить тебе, что это в моих глазах чисто денежная работа и что я ревностно занимаюсь ею только потому, что теперь каникулы и что к очень серьезной работе лето совсем не пригодно. Впрочем я читаю дельные вещи: Дункера «Историю древности», и потом намерен читать Гервинуса, который находится у меня под руками. Все эти чтения производятся вместе с моею сестрою, которую ты знаешь и которая теперь оказывается девушкою очень образованною и способною мыслить, и еще с моею двоюродною сестрою, еще более умною и развитою девушкою. Кстати о моей двоюродной сестре: если тебе случится в июньской или июльской книжке «Русского вестника» увидеть повесть Раисы Кореневой «Пустушково», то прочти это ее сочинение, вещь, по моему мнению, до такой степени замечательная, что М. Вовчок, другой семейный талант наш, перед нею спустит знамя. Сделай одолжение, напиши мне, какое она произведет на тебя впечатление, чтобы не произвела никакого впечатления, это я считаю невозможным. У меня есть намерение писать на тему Стасюлевича «Аполлоний Тианский» и потому я по одной почте с тобой пишу к Утину-филологу, чтобы он мне написал, какие книги нужны для этой темы. Понуди его к этому, если он не может написать ко мне или (о чем я особенно просил) выслать мне книги, которые нужны, с тем, чтобы потом получить плату по расчету, то ради бога, сделай это ты. Я тебе по первой же почте вышлю израсходованное. Ты меня этим чувствительно обяжешь и дашь мне средство пробыть до конца сентября в деревне, а мне это дорого потому, что есть личность, которою я дорожу. До свидания. Вот и тут тебе баллада Гейне очень хорошая, в моем переводе. Постарайся поместить и, если можно, деньги вышли…»
Николай Утин, сын богатого откупщика, проводил каникулы за границей. Сейчас он сидел в Аахене и продолжал начатую еще весной работу над диссертацией на ту ясе данную Стасюлевичем тему — об Аполлонии Тианском. Естественно, что Утин не мог ответить на письмо Писарева, а Майков — прислать книги по неизвестной ему теме. Писарев и не жалел об этом — времени для диссертации все равно не было. Гораздо печальнее было то, что Майков забраковал переводы. Но и эта неудача не слишком огорчила начинающего переводчика. Ведь это была всего лишь проба пера. Настоящая работа только начиналась. Писарев с увлечением переводил политическую поэму Гейне «Атта Тролль». Все другие работы были оставлены: Карр совершенно заброшен, перевод биографии Шиллера взялась продолжить Верочка. Причудливое сочетание фантастических образов с актуальной полемикой, экзотических картин природы со сказочными персонажами, романтически приподнятого стиля с едкой насмешкой — все в поэме Гейне нравилось Писареву. Он восторгался поэтом, который действительно сочетал в себе художника и мыслителя. Он восхищался его острой и резкой сатирой, направленной против лжереволюционеров, ожидающих от грядущих исторических переворотов лишь личной корысти. Переводил Писарев быстро, но, возвратившись к сделанному, много исправлял, затем читал вслух Раисе и Верочке, снова исправлял, тщательно отделывая строфу за строфой. Писарев полюбил Гейне всей душой, и великий поэт стал его спутником на всю жизнь. Работа над переводом оказалась для Писарева чудодейственным лекарством. «…Я с странным радостным волнением присосался к «Атта Тролль», почти безвольно стал переводить поэму, — рассказывал он товарищу через полгода, — и эта работа действовала на строй моей мысли так благодетельно, что я начинал чувствовать некоторое действительное успокоение. Когда же я кончил, то просто какой-то несколько мгновений бешеный восторг ощутил. До того обрадовался, что глупоударил по столу кулаком и воскликнул вслух: «А ведь я совсем здоров!» Стало мне хорошо, словно я тяжелый груз из себя выкинул. С той минуты я уже не сомневался, что действительно избавился от ненавистного недуга. Представление о нем, дотоле словно торчавшее передо мною постоянно, представление почти осязательное, — вдруг исчезло. Мне казалось, что оно струсило, спряталось. А скоро я о нем совсем забыл». Писарев был счастлив. Он снова здоров, занимается работой, которая доставляет ему удовольствие. Любимая девушка — его Роза, Раиза, Раиса — была рядом и тоже занималась полезным трудом — она писала новый роман. Они постоянно были вместе, читали друг другу, спорили и много говорили. Между ними все было решено. Коренева снова согласилась выйти за него замуж. Нужно было только кончить университет, а это не за горами. Скрепя сердце согласилась на это и мать. Своим счастьем Митя не мог не поделиться со своим мнимым соперником. К письму Раисы, которое она писала Гарднеру, Писарев приписал: «Душенька Петр Александрович! Я очень счастлив, Раиса здорова и весела, все идет хорошо, деятельность кипит, настоящее течет мирно и спокойно, а будущее по временам так светло, да и по временам ли только. Мы с Раизой много говорили, и если я не скажу, что она мне обещала все, что я хотел, то это только потому, что оба мы считаем за пустяки всякие обязательства и обещания. Прощай, Петр Александрович. Ты не читал Раизиной повести, потому тебе предстоит высокое эстетическое наслаждение». Повестью подруги Писарев гордился, он называл ее «первым словом молодого поколения». По его настоянию Раиса несколько раз читала «Пустушково» вслух. Слушали все — и взрослые, и дети. Хвалили. «Что за прелесть!» — записал Хрущов в дневнике и задумал написать письменный разбор. Лето пролетело незаметно. Пришла пора возвращаться в Петербург. В назначенный день отец велел запрягать лошадей. Он собирался сам везти сына до Москвы, а затем — сопровождать его в Петербург. Ивану Ивановичу предстояли там хлопоты по делам заложенного имения. Митя же хотел ехать вместе с Раисой. Он полагал, что теперь вправе поступать самостоятельно, хотя бы в таких пустяках. Когда, войдя в гостиную, Митя объявил, что они оба готовы к отъезду, отец осведомился: — Ты кого-нибудь спрашивал? — Никого, — последовал ответ. — Кто же тебе это позволит? — А кто запретит? — Я! — грозно сказал родитель. — Силою? — Да, силой! Прикажу тебя связать и положить вот хоть на этот диван. — О, тогда я не поеду, — невозмутимо произнес Митя. — Но это будет последнее насилие надо мной. Все разошлись по своим комнатам, лошадей распрягли. Напросившийся в попутчики Илья Лизогуб, сын соседки-помещицы, уехал на почтовых. Через несколько часов Иван Иванович отвез молодых людей в Хмырово. Варвара Дмитриевна уговорила мужа уступить. С этого времени Писарев полностью освободился от родительской опеки. Александр Павлович Коренев был снисходителен и добр. Он не запрещал дочери выходить замуж, а только растерянно повторял, что «соединение родных есть великий грех», что «бог не даст счастья». Через несколько дней он отвез дочь и племянника в Москву. Когда он уехал, Раиса поселилась в тех же меблированных комнатах, где остановился Митя. Молодые люди продолжали наслаждаться обществом друг друга. Каждое утро к ним приходил Гарднер, с которым у Мити сложились самые дружеские отношения. Втроем они славно проводили время в чтении, бесконечных беседах и прогулках по Москве. По очереди вслух читали свое и чужое, говорили обо всем на свете, порой споря до хрипоты, но в конце концов сходясь в главном. Сильное впечатление произвел на них роман Ф. Толстого «Болезни воли», напечатанный в «Русском вестнике». Герой романа, одержимый страстью всем и всегда говорить только правду, терпит множество злоключений и в конце концов попадает в сумасшедший дом. Молодые люди находили в этом большое сходство с Митиной историей. Еще в Грунце Писарев хвастался, что новую повесть Раисы он не отдаст менее чем за сто рублей. Однако «Русский вестник» совсем отказался ее печатать. Аполлон Григорьев, работавший там в это время, разругал повесть беспощадно. Расставаться с подругой очень не хотелось, и Писарев откладывал отъезд из Москвы со дня на день. Только в последних числах сентября Раиса проводила его на станцию железной дороги.
2. ВРЕМЯ АПОЛЛОНИЯ ТИАНСКОГО
В семье Трескиных Писарев жить больше не хотел и перебрался к своему кузену Алееву. Но, неисправимый идеалист, он никак не мог решиться на окончательный разрыв со старыми товарищами. Писарев изредка бывал у Трескиных, участвовал в собраниях кружка и, по словам Скабичевского, «своими новыми взглядами нигилистического характера» пугал филологов, «вообще не отличавшихся терпимостью». Скабичевский тут же спешит оговориться: «Взгляды эти отнюдь не были проникнуты каким-либо страшным политическим радикализмом» — и объявляет: «Если бы мы читали русские журналы, а в них статьи Чернышевского, Добролюбова и прочих сотрудников «Современника» и «Русского слова», мы, конечно, убедились бы, что ничего не было в новых моральных теориях Писарева ни нового, ни тем более ужасного». Вполне очевидно, что замкнувшимся в скорлупу «чистой науки» филологам идеи «разумного эгоизма» представлялись ужасными. «Нам же казалось, — продолжает Скабичевский, — что Писарев под знаменем свободы нравственных влечений проповедует полную разнузданность всех страстей и похотей, и что, следуя своим взглядам, ему ничего не будет стоить, — если у него явится такое свободное влечение, — в один прекрасный день пришибить не только любого из нас, но и мать родную. Писарев с своей стороны не только не возражал на такие наши предположения (даже в преклонном возрасте Скабичевский не мог понять, что нормальный человек не станет опровергать подобные глупости. — Ю. К.), а с флегматическим спокойствием отвечал: «Ну, что же такое? Пришибу и мать, раз явится у меня такое желание, и если я буду видеть в этом пользу. Как будто люди, исповедующие отжившую пошлую мораль, не убивают и не делают всякие гадости, если им захочется, вопреки всем вашим прописным правилам?» Иное впечатление производил Писарев на людей непредубежденных. «Я с ним увиделся немного дней спустя по его возвращении в Петербург, — вспоминал Фирсов. — Он оказался прежним, симпатичным, добросердечным, интересно умным Писаревым. Замечательно, что он тогда рассказывал, — причем, видимо, ему доставляло удовольствие рассказывать, — о своей болезни. Ее различные фазисы он помнил, анализировал, мотивировал, хотя и предположительно». По словам мемуариста, Писарев вспоминал о своей болезни «отвлеченно, объективно, хладнокровно», как о факте, заслуживающем внимания, но лично его не касающемся. Он чувствовал и сознавал себя вполне здоровым, но Фирсов подметил в нем «что-то скорбно-тревожное» — то ли неуверенность в прочности привязанности любимой им девушки, то ли опасения рецидива болезни.Не без робости решился Писарев отдать свои переводы на суд известного поэта Я. П. Полонского. Яков Петрович принял его любезно и написал рекомендательное письмо редактору журнала «Русское слово» Г. Е. Благосветлову. Ответ поступил незамедлительно.
Г. Е. Благосветлов — Я. П. Полонскому, 3 октября 1860 года: «Милейший Яков Петрович, г. Писарева приму, усажу и поговорю с ним, а перевод позвольте передать Вам для прочтения. Не понимаю одного, почему мы бросились на Гейне. В редакции «Русского слова», по крайней мере, до 40 стихотворений и все из Гейне. Или нерв зла, растворяющего анализа и грустного отрицания немецкого поэта сошелся с нашей коренной болью или потому что своего творчества мало у нас. Во всяком случае хороший перевод стоит напечатать, дурняшку — лучше возвратить. Душевно преданный вам Григорий Благосветлов».
Прочитав перевод, Полонский нашел его превосходным. Вскоре, приглашенный Григорием Евлампиевичем Благосветловым, Писарев шагал по Сергиевской, направляясь к дому графа Кушелева-Безбородко, где помещалась редакция. Журнал «Русское слово» был одним из множества журналов, появившихся в последние годы. Своим возникновением он был обязан фантазии богача графа Г. А. Кушелева-Безбородко. Барин сам грешил сочинительством, но, как говорили злые языки, сочинений его печатать никто не хотел. Тогда он решился завести собственный журнал. Года два носился граф с этой мыслью, пока наконец не встретил за границей Полонского, который согласился стать соредактором. Во Флоренции Полонский разыскал старого товарища Аполлона Григорьева и привел к графу, чтобы тот пригласил его в сотрудники. Он убедил участвовать в журнале М. Л. Михайлова, договаривался с И. С. Тургеневым, В. П. Боткиным, М. В. Авдеевым, добыл новые повести Марко Вовчок и Н. А. Потехина, переводы В. Г. Бенедиктова, статьи П. Л. Лаврова и Н. А. Северцова. В Париже, в бедной мансарде Латинского квартала, он нашел никому доселе неведомого Благосветлова, у которого оказалась готовой хорошая статья. В Петербурге для Полонского придирчиво собирались материалы в салоне Штакеншнейдеров. Журнал начал выходить с января 1859 года. В первых номерах появились стихи А. Н. Майкова, Л. А. Мея, И. С. Никитина, А. Н. Плещеева, Я. П. Полонского, А. А. Фета, повесть Ф. М. Достоевского, статьи композитора А. Н. Серова и педагога В. И. Водовозова. Михайлов был представлен и стихами, и переводами, и очерком, и романом. Критический отдел почти полностью заполнялся статьями Аполлона Григорьева. В именах недостатка не было, но журналу не хватало направления. И откуда ему было взяться? Между редакторами не было единства. Главный редактор-издатель оставил за собой «исключительное право постоянно блюсти за развитием направления всего журнала», но он был дилетантом и в литературе, и в журналистике. Аполлон Григорьев, получивший в полное распоряжение отдел критики, мечтал превратить «Русское слово» в новое издание «Москвитянина» и исподволь развивал свою православно-славянскую теорию органической критики. Он сумел привлечь графа на свою сторону. Полонский оставался редактором только по имени: за его спиной заказывались статьи, помимо него они шли в типографию и даже в цензуру. Он вынужден был отказаться от редакторства, хотя и согласился на новое предложение графа быть «исключительным сотрудником» журнала. Триумвират просуществовал полгода, с июльской книжки 1859 года он окончательно распался. По рекомендации Григорьева заведовать редакцией был приглашен Александр Иванович Хмельницкий — «личность темная и в литературе совершенно неизвестная». Кажется, в прошлом он принадлежал к кругу «Москвитянина», так как был общим знакомым Григорьева и М. П. Погодина. Это не помешало ему очень скоро выжить из журнала своего благодетеля. Хмельницкий был желчен и резок, но с сотрудниками, которыми дорожил, становился искателен и вкрадчив. Он рыскал по Петербургу, выпрашивая статьи у знаменитостей. Ни о каком направлении по-прежнему речи быть не могло. Журнал наполнялся скучнейшими статьями по специальным вопросам или исследованиями об исторических памятниках. Книжки распухали до пятидесяти листов, но интерес к журналу в публике падал. С графом Хмельницкий обходился грубо и хвалился, что не печатает его повестей, хотя они были нисколько не хуже появлявшихся в то время в журнале. Все, что было интересного в «Русском слове» за это время, появилось благодаря влиянию Михаила Ларионовича Михайлова, которого Хмельницкий обхаживал и с мнением которого считался. В частности, в первых двух номерах 1860 года была напечатана статья Н. В. Шелгунова «Одна из административных каст», его первая публицистическая статья. Журнал пришел в полный упадок, убытки, приносимые им, стали чувствительны даже для колоссально богатого графа. После годичного управления журналом Хмельницкий был отстранен, и Кушелев предложил Благосветлову, только что вернувшемуся из-за границы, привести в порядок дела журнала. Григорию Евлампиевичу было тогда 36 лет. Сын священника, он был исключен из Саратовской семинарии «по безуспешности». Пришел пешком в Петербург и при содействии Иринарха Введенского, тоже бывшего саратовского семинариста, поступил в Петербургский университет. Политическое воспитание его началось в 1849 году в кружке Введенского, по настроениям близкого к петрашевцам. В этом кружке он вновь встретился с Чернышевским, своим младшим товарищем по Саратовской семинарии. Окончив университет кандидатом прав, Благосветлов четыре года преподавал русскую словесность в Пажеском корпусе, Михайловском артиллерийском училище, 2-м кадетском корпусе, Дворянском полку. В апреле 1855 года его увольняют из всех военно-учебных заведений «за неспособность преподавать науку в выражениях приличных» и отдают под негласный надзор полиции. В следующем году ему удается поступить учителем словесности в Мариинский институт благородных девиц, но через полгода его увольняют по личному повелению царя с тем, чтобы впредь «на службу по учебной части не определять». В июне 1857 года Благосветлов уезжает за границу, три года проводит в Швейцарии, Франции, Англии. Здесь он сотрудничает в «Колоколе», сближается с Герценом, учит его дочерей. Литературный опыт у Благосветлова был невелик — десяток статей, опубликованных за последние четыре года в журналах. Но, как вскоре оказалось, он был создан для редакторской работы. С июльского номера 1860 года Благосветлов становится фактическим и единственным редактором «Русского слова». Он замыслил проводить в журнале «демократический принцип с социальным отрицанием существующего». Следовало освободиться от сотрудников, которые не смогут проводить этого принципа, разыскать новых, особенно для критического отдела. Надо было научиться самому и научить сотрудников проводить свои идеи так, чтобы цензура не могла к ним придраться. Уже первый номер, подготовленный новым редактором, отличался от предшествующих, как небо от земли, но Благосветлов понимал, что для достижения его цели потребуется немало времени. Он нашел себе союзников среди наличных сотрудников журнала. Василия Петровича Попова, старого друга и единомышленника, пригласил в помощники. Он всячески побуждал больше писать Даниила Лукича Мордовцева, саратовского земляка. Это было только начало, нужны были молодые силы…
Г. Е. Благосветлов — Д. Л. Мордовцеву, 16 октября 1860 года: «С нами случился цензурный погром. За статью о Белинском, страшно искаженную, меня хотели сослать за границу, закрыть журнал… Вы, конечно, лучше меня видите, чем хромает журнал: у него нет критического нерва, потому что нет здоровой и всесокрушающей критики; а она чувствуется нашим обществом и просится в жизнь сквозь все давления официальной рутины».
Можно только удивляться совпадению. Именно в те дни, когда Благосветлов писал это письмо, в редакцию «Русского слова» впервые пришел молодой человек, которому было суждено внести на страницы журнала эту «здоровую и всесокрушающую критику»… Редакция «Русского слова» (и одновременно квартира редактора) располагалась в доме графа. Она была просторна, высока, по-барски отделана, но неуютна. Из передней посетитель попадал в пустынную комнату, обитую дорогими темными обоями и потому казавшуюся унылой и сумрачной. Здесь обычно новички-писатели ожидали приема. Следующая комната, просторная и светлая, служила и гостиной, и залом, и столовой, и комнатой для редакционных собраний. Два дивана — угловой и продольный, перед ними столы с высокими лампами, вдоль стен — несколько кресел и стульев, модных, в стиле ампир, но неуклюжих. В кабинете редактора — узкой комнате с зелеными стенами — всегда царил полумрак. На большом письменном столе в безукоризненном порядке сложены груды рукописей и книг. Среди них возвышались две зажженных стеариновых свечи в бронзовых подсвечниках. В глубине комнаты скромно пряталась белая постель. В этой обстановке и встретились впервые Дмитрий Иванович Писарев и Григорий Евлампиевич Благосветлов. Ни один из них, конечно, не мог и предположить, к каким значительным последствиям для каждого из них, для «Русского слова», для всей русской журналистики приведет эта почти случайная встреча. Писарева встретил невысокий человек совершенно заурядной наружности. Бросались в глаза только сизый цвет тщательно выбритых щек и подбородка, жестковатое выражение тускло-серых глаз да насмешливая и колкая улыбка. Благосветлов умел разбираться в людях. Он увидел, что юноша любит и понимает Гейне, и предложил ему продолжить сотрудничество. По словам Шелгунова, при первой же встрече Благосветлов посмотрел на прекрасный и умный лоб Писарева и сказал ему: «Вам нужно критические статьи писать, а не стихами заниматься».
Жить в меблированных комнатах после отъезда Писарева Кореневой было не по средствам. К тому же ее звали к себе родственники — старшие дочери Николая Эварестовича Писарева, в имении которого Раиса в детстве часто и подолгу гостила. Обе они были замужем: двадцатичетырехлетняя Люба — за уланским полковником, двадцатилетняя Ольга — за чиновником Малевинским. Коренева поселилась у Малевинских, но скоро об этом пожалела. К ней по-прежнему почти ежедневно приходил Гарднер. Тетушка Варвара Эварестовна, наблюдавшая за порядком в доме племянниц, упрекала Раису в безнравственности. На счастье, в Москве объявился Андрей Дмитриевич Данилов. Он получил место корректора в типографии Готье: 35 рублей серебром в месяц и квартира при типографии. В конце ноября Коренева переехала к нему на Кузнецкий мост, в дом Торлецкого. В Грунец полетели возмущенные письма сестер, но Раиса и сама откровенно написала Варваре Дмитриевне о причинах, заставивших ее переехать. Та не преминула поставить сыну на вид «неприличное поведение» его невесты.
В университет Писарев почти не ходил. Там ничего интересного и не происходило. Только в начале октября в сборном зале появилось любопытное объявление, которое предлагало студентам, желающим подписаться в 1861 году на «Колокол» и «Полярную звезду», приготовить деньги к 1 ноября. О том, как поступить с деньгами, обещалось объявить особо. От Алеева Писарев скоро съехал. Причиной этому были постоянные кутежи, которым предавался кузен Дмитрия Ивановича. По приглашению своего нового друга Владимира Жуковского Писарев поселился в квартире кухмистерши Мазановой (Большой проспект Васильевского острова, угол 7-й линии, в доме Белянина). Мазанова содержала нечто вроде меблированных комнат, и группа приятелей-студентов вскладчину снимала целиком всю ее квартиру. Владимир Жуковский был старше Писарева на два года. В 1856 году он поступил в Казанский университет, но вскоре «по домашним обстоятельствам» перевелся в Петербург. Сейчас он заканчивал юридический факультет. С ним жили два его брата: старший — Николай, кандидат Московского университета, управлял какой-то конторой, младший — Василий, только что приехавший из Оренбурга поступать в университет, и три юриста-однокурсника: Дмитрий Сурков, старый товарищ Владимира по гимназии и Казанскому университету, и братья-сибиряки Даниловы, Виктор и Осип. Жили здесь еще четыре студента-естественника: Петр Баллод и Семен Еленев, из рижских семинаристов, Александр Федотов, бывший московский студент, Павел Мошкалов из дворян Таврической губернии. Студенты жили дружно. Каждый занимал отдельную комнату, но нередко по вечерам все собирались вместе, чтобы поспорить и повеселиться. Писарева они сразу же приняли в свою компанию. Здесь он почувствовал себя гораздо спокойнее и увереннее, ему никто не читал нравоучений, никто не ужасался его взглядам, ибо вся компания состояла из отчаянных радикалов, черпавших свои взгляды из тех же источников, что и Писарев: из «Колокола» и «Современника». Тут Писарев мог успешно работать над диссертацией. Это была большая дерзость — взяться писать диссертацию за столь краткий срок. Тема была задана еще в начале февраля, когда Писарев «отрицал солнце и луну». Студенты, избравшие эту тему, принялись за работу сразу после объявления задачи и трудились над ней уже целых восемь месяцев. — Оставалось всего три, ибо все сочинения должны были быть представлены не позднее Нового года. Из намерений Писарева приняться за диссертацию еще в Грунце ничего не вышло. Только в начале октября он начал изучать предмет диссертации и месяц употребил на чтение и выписки. В официальном задании, подписанном профессорами Срезневским и Стасюлевичем, говорилось, что соискатель должен составить «рассуждение, в котором автор на основании биографии, составленной Филостратом, и писем Аполлония должен представить одну из любопытных попыток эпохи падения язычества поддержать языческую религию, рядом с другою попыткою, сделанною неоплатониками, и вместе противодействовать безверию, распространенному после Лукиана». Конкретизируя задание, профессор Стасюлевич предлагал «рассмотреть эпоху падения язычества как ряд попыток к реформам древней господствующей религии и показать, какое место занимало в ряду этих попыток лицо и учение Аполлония». Главными источниками профессор называл «Жизнеописание Аполлония Тианского» Филострата и «Возражение Филострату» отца церкви Евсения Памфилийского. Кроме того, указывались два пособия: сочинение Чирнера «Падение язычества» и в качестве общего обзора источников для изучения времени Аполлония небольшое исследование профессора Стасюлевича «Александр Авонотихит и его время» об одном из ложных чудотворцев и пророков язычества. Писарев со свойственным ему добродушием последовал указанию профессора и со всей ясностью увидел, что исследование Стасюлевича вовсе не исследование, а всего-навсего извлечение из упомянутой книги Чирнера, причем не слишком удачное. Между прочими красотами Писарев запомнил следующее место: «Нерон, — писал Стасюлевич, — приказал перенести 500 железных статуй…» Железных статуй?! Слыхал ли кто-нибудь, чтобы в древности или когда бы то ни было делали статуи из железа? У Чирнера же было написано: «500 медных колонн». Профессор обнаружил слабое знание немецкого языка и непонимание древней техники. Стоило ли после такого примера заниматься серьезным исследованием? «Дело пошло быстро и успешно, — вспоминал Писарев, — отчасти на живую нитку, кое-где на авось, с широкими взглядами и рискованными предположениями. Я писал без черновой, потому что переписывать было бы некогда, и старался обработать предмет так, чтобы произведение мое могло быть помещено в каком-нибудь литературном журнале. К началу января я кончил свой труд и заметил не без удовольствия, что в нем, по, крайней мере, пятнадцать печатных листов (240 листов). Впрочем, недостаток времени помешал мне развить некоторые мысли, которые были уже совсем выработаны в моем уме. Делать было нечего: я махнул на них рукою, написал на своей диссертации эпиграф: «Еже писах, писах», и представил ее куда следовало». Писарев здесь неточен. Его диссертация уже 14 декабря была направлена из совета университета декану историко-филологического факультета Срезневскому, а 16-го факультет поручил читать ее профессору Касторскому.
3. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
Писарев в этот день уже был в Москве: «Он приехал немного ранее, чем я его ожидала, — сообщала Коренева матери, — и вошел в комнату такой оживленный, славный и весь в снегу. Здоров он, как нельзя лучше, и такой же краснощекий, как всегда». Писарев был доволен собой и радостно возбужден. Диссертация окончена в срок, перевод «Атта Тролля» печатается в «Русском слове». Впереди полтора месяца, которые он проведет с любимой кузиной без всякой опеки старших. Ни ревнивого глаза матери, ни насмешек отца и дяди Сергея. Только милый дядя Андрей, который любит их обоих и все понимает. И еще общество Хрущова и Гарднера — людей интересных и развитых, приятных и ему и Раисе. Это будут замечательные каникулы. А там совсем не за горами окончание университетского курса и женитьба. Вместе с Раисой, за одним столом, они будут работать для «Русского слова»: он станет писать рецензии, Раиса — романы. Прежде всего Писарев дал отпор московским сплетникам. «Раиса живет у Ан[дрея] Дмитриевича], — написал он матери, — потому что она нигде не может жить до такой степени свободно и сообразно со своими желаниями и наклонностями. Она окружена мужчинами — это правда, но она любит общество мужчин гораздо больше общества женщин, потому что, при теперешнем состоянии общества, умных и развитых мужчин гораздо больше, чем умных и развитых женщин. У Раисы каждый день бывают Гарднер и Хрущов; я нахожу это совершенно законным: во-первых, потому, что вижу, что Раиса приятно проводит с ними время, во-вторых, потому, что мне самому с ними весело… Могу тебе поклясться, что между этими людьми у Раисы нет любовника, а если бы и был таковой, то ни ее отец, ни ты, ни я не имеем права вмешиваться в ее дела. Согласно с моими убеждениями женщина свободна духом и телом и может распоряжаться собой по усмотрению, не отдавая отчета никому, даже своему мужу. Если женщина, которая могла бы наслаждаться жизнью, не наслаждается ею, то в этом нет добродетели. Такое поведение является результатом массы предрассудков, которые стесняют и производят бесполезные и воображаемые затруднения. Жизнь прекрасна, и надо пользоваться ею. С такой точки зрения смотрю я на нее и нахожу справедливым, чтобы каждый руководился тем же великолепным правилом». В день приезда Митя выбросил из чемодана толстую рукопись и небрежно сказал: «Эти грехи молодости надо уничтожить». То был роман, который он писал осенью прошлого года. Андрей Дмитриевич уговаривал племянника сохранить произведение, предлагал помочь пристроить его в журнал, просил, наконец, подарить рукопись ему. Писарев отказался от авторства (он — приличный переводчик, хочет стать дельным критиком, прослыть же плохим романистом совсем не желает) и предоставил дяде право поступать с рукописью как угодно. Данилов своим правом воспользовался немедленно, уже на следующий день он прочитал рукопись всей компании. «Я тотчас от Кореневой… — записал Хрущов в дневнике 17 декабря. — Андрей Дмитриевич прочел «Свежие силы» — свою повесть. Она сразу же показалась далеко не художественной, сперва рассказ невероятный, потом биография Писаревых — все они тут. Все это неважное. Важен кодекс новых понятий, которые он почти теоретически излагает». 23 декабря вышла в свет декабрьская книжка «Русского слова», а через два дня в квартире на Кузнецком мосту был настоящий праздник. Писарев принимал поздравления от друзей с тем, что он после годичного перерыва вновь вернулся в журналистику. Писаревский перевод «Атта Тролля» (за полной подписью!) занимал 62 журнальные страницы, да еще в разделе критики были напечатаны две его рецензии. Сурово оценил Писарев «Сборник стихотворений иностранных поэтов» в переводах В. Д. Костомарова и Ф. Н. Берга. Он отнес эту книгу к числу «бесцельных и бесплодных явлений в области книжной торговли». Он доказывал, что переводчики не понимают Гейне и не знают немецкого языка, а их переводы из Беранже так же похожи на песни французского поэта, как произведения художника арзамасской школы на «Сикстинскую мадонну» Рафаэля. Хрущов познакомил Писарева со своими товарищами из «Библиотеки» — Гудимом, Маккавеевым, Самариным. В разговорах с ними Писарев открылся Хрущову с неожиданной стороны. «Писарев в самом деле не такой доктринер, каким он мне летом казался, — записал Иван Петрович. — И он бы пошел на баррикады». Однажды Самарин и Писарев столкнулись на эпикуреизме. И, к удивлению Хрущова, все кончилось смехом, ибо расхождения между спорящими оказались только словесными.Писарев — матери. 13 января 1861 года: «Мама, милая, поздравляю тебя с Новым годом и прошу на меня не сердиться, а главное, не огорчаться, что я давно не писал. Не скажу, чтобы мне было некогда, не скажу, чтобы я забывал, а так, «в мягких муравах у нас» очень весело, и дни проходят за днями, а письмо не пишется. Я думаю пробыть в Москве до 1 февраля, а там еду в Петербург с Хрущовым, с которым мы очень сошлись и с которым мы даже будем жить вместе… Вообще наши дела идут не дурно и живется хорошо. До некоторой степени нарушает нашу гармонию Андрей Дмитриевич; он мнителен до крайности, каждое слово считает за оскорбление и страстный охотник до объяснений, после которых сам же страдает. Но за то он сам топит печи, моет посуду и по крайней мере хоть этим заглаживает свою ворчливость. Я смотрю на него как на временное и необходимое зло; после моей женитьбы я постараюсь совершенно разойтись с ним. Раисе он тоже надоедает достаточно, но она по своей гуманности многое из его несносности прощает; я успел его в эти три недели узнать лучше, нежели во все предыдущее время, и согласен с тем, что для ежедневной жизни он невыносим. Гарднера я люблю больше, нежели когда-нибудь. Это такое доброе, симпатичное существо, какого я не встречал до сих пор. Хрущев очень порядочный и талантливый малый, но блаженный в полном смысле этого слова. А Раиза все-таки лучше их всех…»
«Смелость города берет и даже очаровывает профессоров университета, — вспоминал Писарев, — диссертация моя очень понравилась, несмотря на то, что вместе с нею был представлен основательный труд одного студента, долго изучавшего предмет и разработавшего его чуть ли не вдвое подробнее моего». Из четырех представленных на медаль сочинений профессор Касторский сразу отклонил два как не заслуживающие одобрения. Два оставшихся были, по его мнению, полны «живого интереса». «Писатель первого из них под № IV с девизом «еже писах, писах», — резюмировал профессор, — …очевидно, обнаруживает признаки замечательного оригинального литературного таланта. Усвоивши предмет основательно, научно, долгими и серьезными занятиями, автор излагает его потом в форме необыкновенно живой…изложение постоянно носит характер свежести, новости, сочетание мыслей и предметов умно, оригинально, так сказать, доходчиво; язык жив, но вместе и прост до такой степени, что автор не дает себе, кажется, ни малейшего труда подумать о внешней форме изложения, но после всего читатель все-таки охотно помирится с его фразой, потому что она сказала то, что хотела сказать». (На выпускном экзамене Касторский полюбопытствовал взглянуть на черновик. Услышав, что работа писана сразу набело, профессор «почувствовал несказанное удивление» и, пожимая студенту руку, растроганно проговорил: «Даже Пушкин писал «Капитанскую дочку» сначала начерно».) Профессор нашел в сочинении и недостатки, «впрочем, в юноше простительные»: «автор, еще не совсем привычный к полному управлению своим материалом, слишком широко понял в задаче фразу: время Аполлония Тианского. Читатель, конечно, с живым интересом читает изображение цезарей Юльева дома, двора их, высшего общества Римского, бедняков, рабов, жрецов, предводителей, философов и пр. и пр. Но статьи эти, или, точнее говоря, изложение их, не всегда имеет прямое отношение к деятельности Аполлония. Статьи эти можно увеличить и можно убавить, не вредя сюжету». Второй недостаток, по мнению Касторского, менее важен. «Наш талантливый писатель, — писал профессор, — не хотел во второй части очертить собственно всех отношений учения и жизни Аполлония, сообщенных Филостратом. Держась большей частию разделения сочинения Филостратова на главы, он, с свойственным ему талантом, останавливается больше на местах резких, главных, рисуя из содержания их нередко прекрасную картину древнего языческого мира: другие обстоятельства он или оставляет намеренно, или отделывается от них двумя-тремя живыми чертами». Автор другого сочинения № VI под девизом «Ты нам скажи: он просто человек, или какой чернокнижник, губитель?», по мнению профессора, «писатель более обдуманный, холодный, методический». Он. «счастливо, хотя, впрочем, несовершенно, избегнул излишнего распространения понятия «века Аполлониева» и «как бы в противность своему товарищу излагает последовательно все фазы жизни Аполлония, следом за ним шаг за шагом излагая и обсуждая речи его, дела, случаи и т. д.». Кроме того, в приложении автором дан интересный очерк литературы предмета. В этом серьезном, добросовестном, полном труде, «кроме также некоторой шаткости в плане первой части», профессор считает недостатком «усилия, не всегда счастливые, которые переданы письменам спустя более 100 лет по смерти неудачного реформатора язычества». Касторский предложил ходатайствовать перед советом университета о награждении обоих молодых писателей «с различными, но неоспоримо замечательными достоинствами» золотыми медалями, отдавая первое место сочинителю рассуждения под № VI. Факультет не согласился с этим заключением и в своем заседании 30 января 1861 года определил: «Ходатайствовать в Совете о назначении двух золотых медалей, одной № IV для сочинения с девизом «еже писах, писах», — другой № VI для сочинения с девизом «ты нам скажи, он просто человек», отдавая первое место первой из названных диссертаций». «В совете университета, — писал Писарев в «Нашей университетской науке», — произошло разногласие: присяжный ценитель наших работ, Креозотов, в своем отчете расхвалил обе диссертации и приписал моему труду высокое литературное достоинство, а работе моего соперника глубокую научную основательность. Кому же дать золотую медаль? Большинство говорило, что по всем правилам золотая медаль принадлежит научной основательности. Но сильная партия утверждала, что следует дать золотые медали и научной основательности, и литературному достоинству. Слышались даже еретические голоса, безусловно защищавшие литературное достоинство. Однако здравый смысл и справедливость одержали верх. Профессора поняли, что пленяться смелостью и живым языком и пренебрегать другими, более прочными достоинствами труда — не следует». 1 февраля совет по большинству голосов присудил золотую медаль сочинению № VI, а серебряную (за неимением другой золотой) № IV. «Положив такое решение, — писал Писарев, — они распечатали конверты, заключавшие в себе фамилии авторов, и узнали тогда, кому принадлежит научная основательность и кто отличился литературным достоинством». Совет определил: «донести г. попечителю СПб учебного округа об удостоении студента III курса историко-филологического факультета Ник. Утина — золотой медалью и студента IV курса историко-филологического факультета Д. Писарева — серебряной медалью». Решение совета, утвержденное попечителем, было оглашено для всеобщего сведения на годичном торжественном акте университета 8 февраля. Писарев возвратился из Москвы только 12-го. «Признанный обладатель литературного достоинства, — иронизировал он впоследствии над собой, — остался, конечно, очень доволен: единственное желание его состояло в том, чтобы достигнуть на акте почетного отзыва, который избавил бы его от необходимости писать кандидатскую диссертацию; а вместо почетного отзыва явилась медаль с изображением юноши, вероятно, Аполлона, и с надписью: «Преуспевшему». Все эти прелести составляли уже неожиданную роскошь». На следующий день он получил медаль и взял рукопись под расписку на два месяца для снятия с нее копии.
4. НЕДОСТОЙНЫЙ СЫН УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ
По традиции (уже третий год!) ожидали объявления «воли» в годовщину вступления Александра II на престол — 19 февраля. С октября 1860 года в печати запрещалось даже упоминать о «крестьянском деле». В общество проникали лишь неопределенные слухи о кознях крепостников. И действительно, проект реформы продвигался медленно, тяжело, в долгих прениях и проволочках. В Главном комитете крепостники добивались изменений в свою пользу, либералы уступали. Были понижены размеры крестьянских наделов, повышены оброки. Открывая 28 января 1861 года заседание Государственного совета, Александр II пожелал, чтобы все было закончено к половине февраля. «Дальнейшее ожидание, — сказал он, — может только еще более возбудить страсти и повести к самым вредным и бедственным последствиям для всего государства вообще и для помещиков в особенности». Призрак пугачевщины маячил перед правительством и дворянством. А в деревнях поговаривали о том, что помещики не позволяют царю дать «волю» крестьянам и надо ждать, пока явится «сам генерал Гарибалдов». «Умы в сильном напряжении по случаю крестьянского дела», — записал в дневнике профессор А. В. Никитенко. «Как передают мои люди, — тревожилась великая княгиня Елена Павловна, — если ничего не будет к 19-му, чернь явится к Зимнему дворцу с требованием освобождения». 17 февраля в газетах появилось объявление от петербургского военного генерал-губернатора: «Вследствие разнесшихся слухов объявляется, что 19 февраля никаких правительственных распоряжений по крестьянскому делу обнародовано не будет». На следующий день официозная «Северная пчела» сообщила о том, что обсуждения близятся к концу и «в предстоящие дни поста и молитвы совершится давно ожидаемое событие». Обер-полицеймейстер собрал столичных дворников и, объявив это, приказал на всякий случай всех их выпороть. В Петербург вызвали загородные гвардейские батальоны, полицейские части усилили солдатами. Войскам раздали боевые патроны, была приготовлена артиллерия. Столичные дворяне сменили запоры, запаслись оружием и сидели по домам как в осаде. Шеф жандармов князь В. А. Долгоруков провел ночь в покоях императора, сам Александр II ночевал на половине своей сестры. Запряженная царская карета стояла у Зимнего дворца до утра. 19 февраля царь подписал манифест и положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. В маленькой комнатке мазановских номеров вместе с Писаревым временно поселился Хрущов. Молодые люди сблизились еще теснее. Они вместе читали лекции Костомарова, ходили по книжным лавкам, бывали у тетушки Натальи Петровны Даниловой, по ночам вели бесконечные разговоры. Вместе с другими студентами приятели участвовали в политических демонстрациях: 28 февраля были на похоронах Тараса Шевченко, на следующий день — в католическом костеле на панихиде по полякам, убитым в Варшаве на Замковой площади. «Демонстрация удалась», — записал Хрущов в дневнике. Обнародование манифеста намечалось на последний день масленицы, но дата эта тщательно скрывалась. Манифест и положения составляли книгу более двухсот страниц форматом в газетный лист. Ее печатали четыре типографии девять дней. Все это время типографии строго охранялись, а участникам печатания запрещалось выходить оттуда. 2 марта на экстренном собрании сената министр юстиции зачитал манифест и, спрятав его в портфель, внушил сенаторам хранить молчание. Новость все-таки просочилась в публику через одного наборщика, отпущенного в порядке исключения к больной жене. «Завтра объявляют крестьянскую волю, — писал Благосветлов Мордовцеву 4 марта, — падаю на колени и молюсь, молюсь в первый раз в жизни или проклинаю все, что живет и дышит… Минута страшного ожидания. Тайны еще никто не знает. Да выручит же нас судьба — хоть один раз». Правительство сочло необходимым усилить охранительные меры. Петропавловскую крепость привели в боевую готовность. Масленичные балаганы перенесли подальше от Зимнего дворца. В полки разослали печатную инструкцию. Солдатам лейб-гвардии конно-артиллерийской бригады приказали зарядить ружья картечью и ждать вызова по тревоге. С 9 утра 5 марта застучали телеграфные ключи: манифест передавали в губернские города. Еще накануне царские флигель-адъютанты выехали в губернии с печатными Положениями.— Так вот что такое эта «воля». Вот что такое она! — восклицал Некрасов, сжимая в руке манифест. — А вы чего же ждали? Давно было ясно, что будет именно это, — говорил ему Чернышевский. — Нет, этого я не ожидал, — отвечал Некрасов. И стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но подобное решение дела далеко превзошло его предположения. Так позже вспоминал этот день Н. Г. Чернышевский.
«Лица, собравшиеся в Зимний дворец в ожидании государева выхода, — вспоминал очевидец, — были, очевидно, неспокойны. Послышался густой гул, как бы выстрел; генерал-губернатор посылает узнать, что такое; ему докладывают… что глыба снега скинута с дворцовой крыши. Через несколько времени послышался колокольный звон; опять опрометью мчится фельдъегерь и, возвратившись, докладывает… что у Исаакия по случаю похорон какого-то священника». Страхи были напрасны. День прошел преувеличенно спокойно. Даже пьяных было меньше, чем обыкновенно бывало в прощеное воскресенье. Манифест читался в церквах и был развешан на улицах. Народ выслушивал его молча, с недоумением.
«Вчера объявили манифест, — записал Хрущов в дневнике 6 марта, — было так радостно на душе… Писарев пришел в 4 часа, я не спал…» Дмитрий Иванович пришел от Благосветлова, и после разговора с Писаревым настроение Хрущова резко изменилось. Он написал о царе, видимо, резюмируя и свою и Писарева оценку событий: «Преуморительно он вылетел в трубу с ожиданием восторженных криков и изъявлений благодарности в день объявления манифеста». В эти дни Писарев работал над статьей о народных книжках. Прочитав с десяток таких книг, он не нашел в них «ни мысли, ни направления, ни понимания народности». Все это «топорные произведения промышленного пера», сочинения «недоучившихся бездарностей», спекуляция на «новых запросах общества». В своей статье, которая так и называлась «Народные книжки», Писарев с удовлетворением отметил, что общество начало сознавать свою обязанность «делиться с народом знаниями и идеями». Пути прогресса для Писарева были неразрывно связаны с вовлечением в общественную жизнь всей массы народа: «Потребность умственного прогресса, — писал критик, — была отодвинута в нашей жизни на задний план, и мы вместо истинного образования довольствовались одними внешними условиями его; мы не видели или, лучше, не хотели видеть, что позади нас есть миллионы других людей, которые имеют одинаковое право на человеческую жизнь, образование и социальное усовершенствование. Теперь мы сознаем, что без этих миллионов людей мы не далеко уйдем с своей привозной цивилизацией и с своим просвещением, взятым напрокат. Таким образом, великой задачей нашего времени становится умственная эмансипация масс, через которую предвидится им исход к лучшему положению нетолько их самих, но и всего общества». Слабые и бледные попытки провести в народное сознание «несколько светлых мыслей» побуждают Писарева выяснить те «формы, в которых вообще может и должна явиться пропаганда». И поэт, и учитель — пропагандисты, но пропаганда их различна. Поэту необходима искренность чувства, педагогу — постоянная наблюдательность и осторожность и в выборе предмета, и в его изложении. «Чтобы быть поэтом в деле народного образования, надо стоять на одной почве с народом, надо горячо любить его, и притом любить просто и без претензий, надо силою непосредственного чувства понимать и его невысказанное горе, и неосознанные надежды, и невыяснившиеся стремления». В русской литературе, по мнению Писарева, пока только один Кольцов умел «жить одною жизнью» с простым народом. Ни Пушкин, ни Лермонтов не проникли своей творческой мыслью в народное миросозерцание. В немногих характерных фигурах из простонародья, представленных в их произведениях, «кроме подробностей костюма и обстановки, кроме копирования домашнего быта и языка, кроме воспроизведения внешних отношений… не было ничего такого, в чем выразилось бы понимание внутренних и существенных особенностей русской жизни». Писарев готов был признать, что в произведениях Гоголя есть живые люди из народа, но они занимают незначительное место и представляют собой лишь декорацию, обстановку. Романы из народного быта, появившиеся после Гоголя, «рисовали и рисуют… не столько характеры, сколько положения». Это происходит потому, полагал Писарев, что все писатели принадлежат к достаточным классам, а с простым народом «каждый из нас имеет чисто внешние отношения». «Живое явление жизни, — замечает критик, — трудно исчерпать описанием; его надо прочувствовать и пережить на самом себе». Произведения дворянских писателей из народной жизни Писарев сравнивает с романом европейского путешественника о нравах жителей Парагвая или Сандвичевых островов. Описания местных обычаев, обрядов, образа жизни, быта и предрассудков очень любопытны, но в жизненной верности и полноте выведенных характеров и изображенных личностей читатель вправе усомниться. Между русским писателем и простолюдином нет никакой связи, кроме единства языка и места рождения. И отношение мужика к любому господину, одетому по-европейски, ничуть не искреннее и не ближе отношений парагвайца к. случайному путешественнику. Писарев говорит о вековом разрыве между образованными классами и народом. «Мы любим народ, — пишет он, — или, по крайней мере, воображаем себе, что любим, потому что мудрено действительно любить того, кого мы почти не знаем, но народ не любит нас и не верит нам». Можно ли винить мужика в том, что он не доверяет тем, кто столетия жил его трудами и ничего до сих пор не сделал для него? Писарев сомневается в том, что поэтическая и педагогическая пропаганда окажется по силам современному поколению. «Нашей поэтической пропаганды народ не поймет, — пишет он, — потому что мы говорим на двух разных языках, живем в двух разных сферах и в умственных наших интересах не имеем ни одной… точки соприкосновения… Расстояние между нашими воззрениями и наклонностями до сих пор еще так велико, что оно исключает всякую возможность непосредственного понимания». Отметив различие интересов и эстетических понятий образованного общества и народа, Писарев замечает, что современное мировоззрение, развернутое во всей его полноте, внушило бы народу недоверие и боязнь. «Есть такие народные верования и предрассудки, — пишет критик, — которые невозможно затрагивать грубо и неосторожно; их надо разрушать исподволь, надо вести народное развитие, не касаясь их прямо и предоставляя их устранение времени и здравому смыслу». Педагогическая пропаганда невозможна до тех пор, пока воспитатель не будет хорошо знать своего воспитанника и пока между ними не установится полное доверие. Изучение народности теперь только начинается, а возвратить доверие народа «мы можем… только тогда, когда станем к нему снисходительными братьями». Признавая невозможным в данных условиях распространение знаний в народе, Писарев выдвигал в качестве первоочередной задачи воздействие на общество. «Дело нашей народности, — писал он, — не стоит на одном месте, но его двигают не грошовые издания. Его несут на плечах наши публицисты, наши ученые и художники. Знакомя наше общество с государственными идеями и учреждениями Европы, изучая прошедшее нашего народа в его словесности, в его государственной, юридической и семейной жизни, выясняя мало-помалу, черту за чертою, характеристические особенности народного типа, публицисты, ученые и художники постепенно вырабатывают и проводят в общественное сознание тот идеал, к которому стремится наше современное общество». Итак, по мнению критика, главная задача современности (теперь, после опубликования манифеста 19 февраля) заключается в выработке и пропаганде среди образованных людей идеала нового общественного устройства, который сочетал бы особенности русского народа с опытом европейской политической жизни. Убедившись в отсутствии хороших книг для народа, Писарев не сожалеет об этом и выражает уверенность в том, что «произведения промышленного пера» останутся без всяких последствий. «Образование народа, — пишет он, — пойдет мимо этих бездарных попыток и пойдет неудержимою волною, когда дремлющие силы сознают собственное существование и двинутся по внутренней потребности». Смысл намека проясняется рассуждением о народной инициативе в другом месте статьи, на первый взгляд вне всякой логической связи. «До сих пор, сколько можно припомнить, — писал Писарев, — народная инициатива выразилась только в эпоху самозванцев да в 1812 году; во все остальное время народ наш представлял собою огромную массу, повиновавшуюся данному извне толчку по силе инерции и принимавшую любую форму, смотря по тому, откуда чувствовалось давление». По цензурным причинам критик лишен был возможности упомянуть здесь более яркие примеры крестьянских войн Разина и Пугачева, но оговорка «сколько можно припомнить» позволяла читателю восполнить этот вынужденный пробел. Статью о народных книжках Писарев окончил 14 марта и тот же день отнес ее в редакцию. Благосветлову статья понравилась, и он срочно послал ее в набор.
Вслед за Петербургом и Москвой с 7 марта по 2 апреля манифест был оглашен в 43 губернских городах. Неделей позже завершилось его чтение в уездах и деревнях. Повсюду народ встречал его недоумением. «Освобождаемые» не понимали освобождения, при котором сохранялись прежние обязательные отношения крепости ного к помещику. Крестьяне считали манифест подложным: настоящую-де волю, дарованную царем, помещики и чиновники подменили. Почти повсеместно крестьяне отказывались от барщины и оброка, кое-где пытались захватывать помещичьи земли. В марте — мае по стране произошло свыше 600 крестьянских выступлений. На их подавление были брошены войска. В апреле были расстреляны безоружные крестьяне в селе Бездна Казанской губернии и в селе Кандеевка Пензенской…
Мартовская книжка «Русского слова» вышла в свет 8 апреля. В «Современной летописи» подробно излагалось содержание манифеста. Без восторгов и пресмыкательства перед правительством, но и без малейшей критики. Обзор внутриполитических событий впервые появлялся в журнале, до сих пор цензура не разрешала этого. «Объективность» политического обозрения исправлялась соседними материалами. О подневольном труде говорилось в стихотворении Г. Гейне «Невольничий корабль». Об отношении к реформам в статье П. А. Бибикова «Третье сословие во Франции до революции». Оценивая крестьянскую реформу во Франции, публицист пишет, что она была вызвана боязнью всеобщего восстания, но не произвела полного освобождения, «нужны были радикальные изменения прав собственности». Скромная рецензия Писарева на народные книжки, где, однако, формулировалась главная задача современности — выработать и проводить «в общественное сознание тот идеал, к которому стремится наше современное общество» — играла роль минимальной положительной программы журнала. В апрельском номере «Русского слова», увидевшем свет 28 апреля, прямых откликов на крестьянскую реформу нет. Порицать ее было запрещено секретным распоряжением по цензуре, а участвовать в хоре либеральных славословий редакция не собиралась. Наряду с окончанием статьи Бибикова, трактовавшей о причинах Великой французской революции, Благосветлов напечатал собственную статью «Невольничество в Южно-Американских штатах». Главная мысль статьи была актуальна и для России: рабы не должны надеяться, что кто-то им подарит свободу, они должны завоевать ее сами. «Надобно, — писал автор, — чтобы негры знали, чего стоит завоевать себе свободу, оценили бы жертвы, без которых нельзя ее завоевать: тогда они будут беречь ее как зеницу ока…» Псевдоним А. Топоров, которым подписался Благосветлов, напоминал читателю об опубликованном год назад в «Колоколе» «Письме из провинции», где «Русский человек» взывал к Герцену: «К топору зовите Русь!» Писарев выступил со статьей «Идеализм Платона», занявшей в общем содержании номера немаловажное место. Хрущов, которому Писарев читал статью в процессе писания, заметил в дневнике: «Эта статья особенно хороша, она трактует о Платоне и делает свое confession de foi[3]». В «Идеализме Платона» Писарев заявляет себя решительным сторонником материализма. Он подвергает яркой и острой критике философский идеализм с его «полным отрицанием элементарных свидетельств опыта». В Платоне он видит родоначальника идеалистической философии и подчеркивает, что «платонизм есть религия, а не философия». Логическим следствием идеализма Писарев считает аскетизм, оправдание нравственного и политического насилия. Особое внимание он уделяет критике платоновского идеального государства. «В государстве Платона, — пишет Писарев, — есть чиновники, воины, ремесленники, торговцы, рабы и самки, но людей нет и не должно быть. Каждая отдельная личность есть известной формы и величины винт, шестерня или колесо в государственном механизме». Идея воспитания гражданской личности, получившая философское обоснование в этой статье Писарева, в дни, непосредственно следовавшие за провозглашением отмены крепостного права, была весьма актуальна.
Выпускные экзамены начались 3 апреля — экзаменом по новой истории. К этому же примерно времени относится и начало систематической работы Писарева в журнале. После разбора народных книжек в марте 10 апреля он окончил «Идеализм Платона», 12 мая — первую часть «Схоластики XIX века», 12 июня — «Физиологические эскизы Молешотта». За три месяца 117 журнальных страниц, более 7 авторских листов! Совсем немало и для опытного профессионального журналиста. А для студента, сдающего выпускные экзамены, пожалуй, даже слишком много. Это был блистательный дебют… Следом за новой историей выпускники сдавали русскую — 12 апреля. Под этим числом есть запись в дневнике А. В. Никитенко: «Надо отдать справедливость этим юношам: они прескверно экзаменовались…» Принимал экзамен Н. И. Костомаров. Он тоже запомнил его, хотя ошибочно и отнес к концу 1861 года. «Я сам экзаменовал этих недоучившихся юношей, — писал он в «Воспоминаниях»… Один студент, сознавшийся, что слушал в прошедшем году мои лекции о Новгороде и Пскове, не мог ответить, на какой реке лежит Новгород; другой не слыхал никогда о существовании самозванцев в русской истории; третий (это был впоследствии составивший себе известность в литературе Писарев) не знал о том, что в России были патриархи, и не мог ответить, где погребались московские цари». Трудно сказать, не перепутал ли Николай Иванович спустя четверть века еще что-нибудь, кроме даты. Как бы то ни было, все 30 студентов этого выпуска были выпущены кандидатами (по правилам, это возможно при среднем балле 3,5), а в дипломе Писарева стоят одни пятерки. Может быть, этому виновник декан И. И. Срезневский, который, по словам Костомарова, все время просил прибавлять баллы? В присутствии тех же Срезневского и Никитенко 8 мая М. И. Сухомлинов принимал экзамен по русской словесности. На сей раз отвечали хорошо. Были еще экзамены по римской и греческой словесности, по всеобщей истории, славянской филологии, французскому языку. Впрочем, в ведомости последнего экзамена фамилия Писарева отсутствует — очевидно, французский он сдал досрочно. Для него экзамены окончились 17 мая. В тот же день он получил увольнительное свидетельство из библиотеки. «Весною 1861 года все мы кончили курс, — вспоминал Н. С. Кутейников, — Писарев вышел кандидатом: уже тогда в нашем кругу на него смотрели как на человека, стоящего выше других по талантливости… Уже и тогда Писарев производил на нас впечатление натуры юной, чистой, безыскусственной и искренней до последней степени… Когда Писарев был в духе, юмор его бывал неистощим, веселость и светлый взгляд на жизнь — самые искренние; тогда он любил рассказывать про свои литературные занятия, про сношения с редакцией. Он очень заботился — чтоб ярче высказалось направление, «чтоб было выкинуто знамя».
«Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии… распространение по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров, появление прокламаций, возбуждение крестьян… — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной». Так расценивал В. И. Ленин ту ситуацию, которая сложилась в России в конце 50-х — начале 60-х годов. Обострение политической борьбы вокруг крестьянской реформы привело к окончательному размежеванию либералов и революционных демократов. Опасаясь последствий революционной проповеди «Современника», проповеди его идейных вождей — Чернышевского, Добролюбова, либералы перешли в наступление. Атаку начал самый солидный и влиятельный московский журнал «Русский вестник», во главе которого стоял М. Н. Катков. Либерал и англоман, крупная личность со сложной биографией. Когда-то, в юные годы, он был участником кружка Н. В. Станкевича, другом В. Г. Белинского и М. А. Бакунина, А. И. Герцена и Т. И. Грановского, сотрудником передовых журналов (в нем одно время Белинский видел «великую надежду науки и русской литературы»). В середине 40-х годов Катков отрекся от увлечений юности, разорвал прежние литературные связи и стал профессором философии Московского университета. С 1856 года он издавал «Русский вестник», вел его в духе умеренного либерализма, восхищался английским государственным устройством и выступал против революционных и социалистических идей. С января 1861 года почти в каждом номере «Русского вестника» имелась статья против «Современника». В январе — «Несколько слов вместо «Современной летописи» — об изменении тона «Современника» в отношении некоторых писателей (имелся в виду И. С. Тургенев, прекративший свое сотрудничество в журнале). В феврале — «Старые боги и новые боги» — против «Антропологического принципа в философии» Чернышевского, с обвинением, что он не умеет критически относиться к воспринятым им воззрениям и слепо следует за Фейербахом. В марте — «Наш язык и что такое свистуны?» — попытка создать общественное мнение против направления «Современника», сожаления о том, что оно до сих пор «не возбуждает никакой реакции в нашей литературе». Намекая на политический радикализм «Современника», Катков доносил: «Что совершенно возможно у нас в печати, то было бы совершенно невозможно в обществе». В апреле — перепечатка статьи профессора Киевской духовной академии П. Юркевича «Из науки о человеческом духе» — против «Антропологического принципа в философии». В предисловии Катков отметил, что эта статья «разоблачает наглое шарлатанство, выдаваемое за высшую своевременную философию». В мае — «Одного поля ягоды», где сближаются позиции «Современника» со взглядами крайне правой «Домашней беседы» мракобеса В. И. Аскоченского. «Они совершенно сходятся в своих отрицаниях», — писал Катков. В апреле — мае к «Русскому вестнику» присоединились «Отечественные записки», либеральный журнал «золотой середины», не имевший определенного направления, в котором могли появиться рядом и чрезмерно радикальные, и совсем ретроградные статьи. Редактор политического отдела Н. В. Альбертини вступился за итальянского министра Кавура, о котором непочтительно отозвался Добролюбов; редактор «Современной хроники» С. С. Громека подхватил упрек «Русского вестника» свистунам, которые «свергают идолов и авторитеты для того только, чтобы самим занять их место, разжалывают литературных генералов потому только, что сами хотят быть фельдмаршалами». Поощряемый Благосветловым, Писарев вмешался в эту полемику, выступив со статьей «Схоластика XIX века», где, по его словам, изложил «основу целого миросозерцания» — мысли, вылившиеся «из глубины души».
«Журналистика, проводящая общечеловеческие идеи в русское общество, нуждается в посредниках, которые проводили бы эти идеи к народу» — такова одна из опор, на которых Писарев строит все здание. Но из чего проистекает нужда в этих «посредниках»? Писарев убежден: «в настоящее время народ еще не в состоянии» осознать эти общечеловеческие идеи, «обращать их в свое умственное достояние», он не готов к тому, чтобы «органически перерабатывать их силою собственного мышления…». Бесплодными находит он всякие мечты о «сближении» сейчас с народом. Они лишь отвлекают журналистику от ее «настоящего дела». Но в чем же оно, это «настоящее дело»? Ответ вполне ясен: в «живом общении» с той сферой читателей, которая ждет от журналов, от литературы, «притока знаний и идей». Эта «сфера читателей» — среднее сословие, которое «наполняет собою университеты, держит в руках литературу и журналистику», занимается наукой. Люди молодые и свежие, способные «принять истину и отрешиться от отцовских заблуждений», и должны стать, по мысли Писарева, нужными журналам «посредниками». «Но что же может и что должна сделать журналистика» для этих людей? Очевидно, «помочь» им выработать себе разумное миросозерцание. «Литература во всех своих видоизменениях, — подчеркивает Писарев, — должна бить в одну точку; она должна всеми своими силами эмансипировать человеческую личность от тех разнообразных стеснений, которые налагают на нее робость собственной мысли, предрассудки касты, авторитет предания, стремление к общему идеалу и весь тот отживший хлам, который мешает живому человеку свободно дышать и развиваться во все стороны». Писарев исходил из мысли, что время таково, что «ум наш требует фактов, доказательств». К тому же здравый смысл, чувство юмора и скептицизм он полагал самым «заметным свойством чисто русского ума». Именно потому он считал, что «ни одна философия в мире не привьется к русскому уму так прочно и так легко, как современный здоровый и свежий материализм». Разумное миросозерцание — это разумный эгоизм. «Хорошая доза скептицизма всегда вернее пронесет вас между разными подводными камнями жизни и литературы. Эгоистические убеждения, положенные на подкладку мягкой и добродушной натуры, сделают вас счастливым человеком, не тяжелым для других и приятным для самого себя». Писарев предугадывает вопрос: «как согласить эти эгоистические начала» — жизнь в соответствии со своей природой — «с любовью к человечеству»? Он не видит здесь причин для забот. Ведь речь идет об эмансипации человеческой личности, которая возникает «на высокой степени общественного развития». Впрочем, тут же оговаривается Писарев, «эта цель еще так далека, что говорить о ней значит почти мечтать». Так получили свое дальнейшее развитие мысли, высказанные Писаревым и в рецензии на народные книжки и в статье «Идеализм Платона».
Неожиданно на «Схоластику» откликнулся… дядя Андрей Дмитриевич. В июльском номере московского юмористического еженедельника «Развлечение» он высмеял писаревскую «теорию эгоизма» за ее «безнравственность». Заметка, написанная в форме диалога барина с лакеем, завершалась репликой: «Совершенно справедливо, Иван. Я вижу, ты умнее рассуждаешь, чем г. Писарев. Действительно, нравственное чувство и отличает человека от животного». Свое нападение любимый дяденька замаскировал псевдонимом: В. Вол… Андрей Дмитриевич был странным человеком — в этом сходятся такие разные люди, как Скабичевский и Хрущов. Мнительный, неуравновешенный, неустойчивый в своих воззрениях, он с трудом уживался с людьми. Постоянные обиды, бесконечные выяснения отношений, письма объемом в сто страниц — просто ли это было вытерпеть? Любимый дяденька, лучший друг детства и первый наставник, открывший Писареву глаза на окружающее, поведавший ему семейные «тайны». А теперь литературный противник и, оказывается, еще и соперник. Данилов давно и безнадежно влюблен в Кореневу. Об этом есть упоминание в повести «Свежие силы». Рукопись, полученную зимой в подарок от Писарева, Андрей Дмитриевич сократил и переработал. В мае — июне она появилась в четырех номерах «Развлечения» за полной его подписью. Что именно осталось от текста Писарева, что внесено Даниловым, вряд ли можно теперь установить. Несомненно, однако, что чувства Юрия Павловича к Маше присочинены Даниловым. В повести Юрий Павлович (он же Данилов) предстает добрым гением влюбленной пары, учителем и другом молодого поколения. Поступает он вполне благородно: его любовь удовлетворяется сознанием того, что он способствовал счастью молодых людей. В жизни все было значительно сложнее. В душе дяди благородство боролось с его собственным чувством и не всегда одерживало верх. После отъезда Писарева в Петербург Данилов стал проявлять к невесте племянника совсем не родственное внимание. Раисе пришлось поспешно покинуть дом на Кузнецком. Данилов загрустил. В том же номере журнала, где кончалась повесть, он напечатал стихотворение «К Р. А. К.» (К Раисе Александровне Кореневой), в котором прощался со своим чувством («Грустный и тяжелый впереди мой путь, Потерял родную — тяжко ноет грудь») и заверял, что возврата «радостных дней» не желает («Тяжело досталась мне твоя любовь, За нее по капле высосали кровь»). Все это, конечно, поэтическая вольность: Раиса никогда его не любила. Съехав от Данилова, Коренева в начале марта отправилась погостить в Яковлевское, тверское имение Веры Николаевны Клименко, двоюродной сестры Петра Гарднера. В небольшой деревеньке в густом лесу над Волгой было шумно и весело. Здесь постоянно гостили многочисленные Гарднеры — «Николаевичи» и «Петровичи», родные и двоюродные братья хозяйки, наследники владельцев Вербилковского фарфорового завода. Никогда еще Раиса не чувствовала себя так хорошо. Никто не стеснял ее свободы, не делал ей внушений, не пытался воспитывать — к ней относились как к равной, а мужчины наперебой ухаживали. По ее собственным словам, здесь она отогрелась, стала нежней и ласковей, была «неистово весела». Особенно усердно ухаживал за Раисой один из «Николаевичей» — Евгений, двадцатипятилетний отставной прапорщик. В последний год Крымской войны он окончил Михайловское артиллерийское училище и отправился на Кавказ. В боях не участвовал, околачивался в Тифлисе. Как один из младших сыновей, он не мог надеяться стать со временем совладельцем фарфорового завода и, выйдя в отставку, получил свою долю наследства — 17 тысяч рублей. Четыре года нигде не служил, прожигал жизнь. Ни умом, ни развитием он не блистал, талантов не имел решительно никаких. Но был красив, высок и строен, весел, прост и обходителен. Раиса им увлеклась. И настолько, что уже в мае написала Писареву, что замуж за него не пойдет. Для Писарева решение Кореневой было ударом, он не мог примириться с ее изменой. В Яковлевское летели письмо за письмом. Он молил, убеждал, негодовал, но тщетно. Тогда у него родился план: притвориться, что он смирился, и пригласить Раису в Петербург сотрудничать в «Русском слове». Он не сомневался в том, что Благосветлов поможет ему в этом. Два месяца, с конца июня до конца августа, Писарев провел в родном Грунце. До середины июля он почти ежедневно общался с Хрущевым, пока тот не уехал из деревни. Читали Льва Толстого, Шевченко, говорили о Евгении Онегине. К сожалению, краткие заметки хрущовского дневника не дают возможности судить о характере этих бесед.
Между тем лето в деревнях проходило спокойно. Волнения почти повсеместно прекратились. Только в ряде мест крестьяне отказывались подписывать уставные грамоты. Мировым посредникам (из дворян) пришлось хорошенько похлопотать, чтобы привести крестьян к повиновению. Иван Иванович Писарев был одним из них. Закрыв лицо зеленой вуалеткой (он продолжал тщательно следить за своей наружностью), отец Писарева ездил в коляске по Новосильскому уезду и распоряжался поркой непокорных крестьян. Лагерь революционной демократии поднялся на защиту народа. «Народ царем обманут!» — провозгласил «Колокол» 15 июня. «Старое крепостное право заменено новым. Вообще крепостное право не отменено», — доказывал Н. П. Огарев на страницах «Колокола», подробно разбирая манифест и положения. Тогда же в «Колоколе» была напечатана статья-прокламация «Что нужно народу», а в последних числах июня в Москве и Петербурге появилась первая революционная листовка, напечатанная в самой России, — «Великорусе». Она обращалась к образованным классам, предлагая им взять в свои руки власть из рук неспособного правительства…
IV УЛЬТИМАТУМ НАШЕГО ЛАГЕРЯ
Позвольте людям, не достигшим крайних пределов своего развития, т. е. еще не остановившимся, — говорить, писать и печатать; позвольте им встряхивать своим самородным скептицизмом те залежавшиеся вещи, ту обветшалую рухлядь, которые вы называете общими авторитетами… Вот ultimatum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вздребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть.Д. Писарев
1. ДОЛОЙ АВТОРИТЕТЫ!
Писарев возвратился в столицу в самых последних числах августа 1861 года. Столичная атмосфера была наполнена тревожным ожиданием. Еще не прошли страхи, что с окончанием уборочных работ поднимутся крестьяне. Ожидали студенческих волнений в связи с новыми правилами, ущемляющими права студентов. Вот-вот должен был появиться обещанный второй номер «Велико-русса» с извещением о его программе. Ходили слухи об арестах в Москве, где полиция будто бы раскрыла тайное революционное общество и подпольную типографию. Петербургские литераторы готовились к созданию литературного клуба. Благосветлов предложил Писареву писать продолжение «Схоластики XIX века». Перелистав стопу журналов, Дмитрий Иванович убедился, что за лето полемика выросла как снежный ком. Против «Современника» дважды выступил «Русский вестник», дважды «Отечественные записки» (причем в августовском номере ему было посвящено сразу шесть статей!), трижды — «Время». Потерявший терпение Чернышевский напечатал в двух номерах «Современника» замечательный памфлет «Полемические красоты», где с олимпийским спокойствием и издевательской вежливостью разделался со своими литературными противниками… «Я не восстаю против полемики, — так начал вторую часть своей «Схоластики» Писарев, — не зажимаю ушей от свиста, не проклинаю свистунов; и Ульрих фон Гуттен был свистун, и Вольтер был свистун, и даже Гёте вместе с Шиллером свистнули на всю Германию… у нас на Руси свистал часто и резко, стихами и прозою, Пушкин… А разве во многих статьях Белинского не прорываются резкие, свистящие звуки». И, намекая на Герцена и Огарева, Писарев напоминал читателям «ближайших литературных друзей Белинского», которые «свистали, да и до сих пор свищут тем богатырским посвистом, от которого у многих звенит в ушах и который без промаха бьет в цель, несмотря на расстояние». Вторая часть статьи открыто заявляет о полной поддержке «Современника», о заключении союза с ним для борьбы с реакционной и либеральной журналистикой. С этого времени «Русское слово» становится органом последовательного революционного демократизма. Писарев гордо принимает кличку «свистун» и заявляет: «Оправдывать свистунов — напрасный труд: их оправдало чутье общества; на их стороне большинство голосов, и каждое нападение из противоположного лагеря обрушивается на голову самих же нападающих…» Писарев перечисляет выступления «Современника» и «Русского слова», вызвавшие негодование «солидных журналов»: статьи Чернышевского о Гизо и «Полемические красоты», политические статьи Благосветлова, «Схоластика» и статья о Молешотте Писарева, «Дневник темного человека», «Свисток». Но кому и чем опасны эти выходки свистунов? «Прикосновения критики боится только то, что гнило, что, как египетская мумия, распадается в прах от движения воздуха». И публицист выдвигает свой ультиматум: все, что можно разбить, нужно разбивать. «Весело смотреть на то, — продолжает он, — как защитники… умирающего принципа мечутся, суетятся, теряют голову, противоречат сами себе, сбивают друг друга с ног, говорят все вдруг, как Добчинский и Бобчинский, и все-таки лишаются постепенно своих прозелитов, а между тем новая идея, как пожар, разливается по сцене действия, не останавливается никакими преградами, просачивается сквозь щели стен и дочиста сжигает старый хлам, как бы ни был он плотно закупорен и под каким бы плотным караулом его ни содержали». Под статьей проставлена дата: «3 сентября». В этот день в Петербурге с исключительной смелостью была распространена новая прокламация «К молодому поколению», не листок, а почти брошюра в авторский лист, и значительно более резкая, чем «Великорусе». Рассказывали, что какой-то господин ехал на белом рысаке по Невскому и раскидывал ее направо и налево. Как стало известно впоследствии, распространяли прокламацию четверо: М. Л. Михайлов и Н. В. Шелгунов, написавшие ее и отпечатавшие в Лондоне, и два человека, которым они доверились, — А. А. Серно-Соловьевич (он-то и был на белом рысаке) и В. П. Михаэлис, студент, брат жены Шелгунова. Через несколько дней появился долгожданный второй номер «Великорусов», который требовал немедленного освобождения крестьян с полным земельным наделом, свободы Польше и конституции для России. Вопрос о царской династии откладывался до третьего номера. Прокламации в эти дни распространялись совершенно открыто. Они посылались по почте, их раскладывали в ресторанах на столиках, в театрах на креслах. Открыв на настойчивый звонок дверь квартиры, можно было увидеть знакомого, который протягивал пачку листовок, делая вид, что не знает вас. Встретив кого-нибудь на улице с оттопыренными карманами, на вопрос, что там, можно было услышать: «Прокламации». По настоянию Благосветлова Писарев переехал из мазановских номеров на квартиру В. П. Попова. На прощанье он устроил своим друзьям Петру Баллоду и Владимиру Жуковскому обед в ресторане Дюссо. В этот день — 5 сентября были именины Раисы, и официально считалось, что обед устроен в честь Кореневой.Из дневника И. П. Хрущева. 11 сентября: «Писарев все тот же, все так же весел — а ведь угадал я, что К.[оренева] за него не пойдет… Читал он свою новую «Схоластику XIX в.». Одна брань. Он с полугрустью сказал, что он журналист и де журналист и больше ничего. Благосветлову не делает чести так эксплуатировать Д. Ив.». 14 сентября: «Сегодня после обеда ездил к Писареву, пробыл у него долго. — Ну, что сказать? Это ухарское направленпе «Р. слова» и хорошо, и нет — хорошо по смыслу и дурно по значению. Однако я ему высказал — шельма, отбился, как и всегда, да я-то при своем. Насчет Тургенева Инсарова я как будто убедил его. Ну, и Благосветлов, и Попов мне зело не нравятся. Один циник а 1а Писарев, другой — умственная малость, ноль. Писарев все-таки жертва Благосветлова, а я — я художник, художник, художник…»
14 сентября неожиданно был арестован Михаил Ла-рионович Михайлов. На следующий день в доме графа Кушелева (издателя «Русского слова») около ста литераторов всех направлений составляли петицию министру народного просвещения. Среди них был и Писарев. Литераторы просили министра принять участие в судьбе Михайлова и, если окажется, что его необходимо за что-то привлечь к ответственности, назначить к следствию депутата от литераторов. Прошение писал С. С. Громека, а депутатами к министру были выбраны вместе с ним граф Кушелев и А. А. Краевский. Министр принял одного Кушелева. Просьба была доложена царю, который распорядился посадить депутатов на гауптвахту, но потом простил. А еще через неделю прошел слух, что Михайлов признался в провозе прокламации из-за границы и предан суду сената.
18 сентября забурлил университет. Студенты не хотели подчиняться новым правилам. Бурные сходки (запрещенные правилами), депутации к начальству (не позволяемые более) — и университет был закрыт. Сентябрьская книжка «Русского слова» вышла из цензуры 26 сентября с большими потерями. «Современная летопись» занимала всего две странички и содержала изложение официальных правительственных извещений о закрытии Петербургского университета и о наставлении военным начальникам в случае употребления войск для усмирения народных волнений и беспорядков. Цензурное вмешательство в «Схоластику» вопреки ожиданиям было незначительно: несколько мелких поправок и только одна существенная купюра: «Если вы слишком натянете струну — она лопнет. Если голодный народ дойдет до крайней степени страдания — он взбунтуется». Строк этих было жаль, они перекликались с прокламациями. Но особой беды в этом не было. Более глубокая мысль, правда, не столь энергично выраженная, сохранилась: «как только зло или, проще, неудобство общественного устройства становится невыносимым для большинства граждан, так это устройство и сваливается, как засохший струп, как бесполезная чешуя». Две другие статьи Писарева: «Процесс жизни» за его полной подписью и «Отживший мир» (перевод из Гейне) под псевдонимом И. П. Рагодин — печатались без искажений… Григорий Евлампиевич написал письмо Кореневой, приглашая ее в Петербург. Начав с комплиментов ее блестящим способностям, проявившимся в романе, который он прочитал с удовольствием (но, увы, не напечатал), Благосветлов убеждал Раису Александровну в том, что она не имеет права зарывать в землю свои «десять талантов», ибо они принадлежат обществу. А действовать и развиваться в России можно лишь в Петербурге. Он обещает Кореневой постоянную работу в «Русском слове» и сообщает, что Евгения Александровна Попова, жена его помощника, приглашает ее жить к себе. Он подчеркивает, как важно Раисе находиться возле старого друга, и дает Писареву характеристику. «Мой личный взгляд, — писал Благосветлов, — не есть приговор, но искреннее мнение человека, который понимает и уважает Писарева. В нем много недостатков, общих всем, кому жизнь достается не тяжело и весело; он способен- увлекаться, за неимением более достойных предметов, всякой дрянью, но в самых увлечениях его есть много добрых юношеских сторон; он еще только складывается для жизни, но кто же не видит, как он великолепно сложится, если только не ударит в какую-нибудь фальшивую крайность. Поверьте мне, что на него можно положиться всегда и во всем, если только нежная и любящая рука будет сдерживать и управлять этой юркой растительной силой. Он глубоко привязан к вам, он беспредельно уважает вас, и в этом много смысла и значения для нашего времени. Примите мое письмо как искреннее слово, вызванное расположением к Писареву, а Писарева трудно представить без вас; по крайней мере, вы держите его счастье, его деятельность, его услугу обществу в своих руках. Сберегите же их для лучших дней, чем те, в какие мы живем». Через три дня Писарев уехал в Москву. Ни малейшего сомнения в том, что Раиса не устоит перед соблазном жить в Петербурге и сотрудничать в «Русском слове», у него не было. «Он явился в Яковлевское с письмами от Благосвет-лова и Поповой, — вспоминала Раиса Александровна через два года. — Первый рекомендовал последнюю, а она предполагалась быть больной дамой, нуждающейся в постоянном обществе и которая, очень заинтересовавшись мной, была бы очень рада, если бы я согласилась поступить к ней в качестве demoiselle de compagnie[4]; доктора требуют, чтобы она не оставалась никогда одна и т. д. и т. д.». Раиса встретила Писарева настороженно, ей не понравился самовольный приезд кузена. Супруги Клименко, особенно Вера Николаевна, напротив, проявили себя гостеприимными хозяевами. «Ах, господи, смешно и досадно вспомнить, — писала Коренева. — А мы с Верочкой имели наивность всему этому поверить, пока нас не разубедил ее муж. Тогда я отказалась ехать. И чего, чего тут не было. Каких аргументов, каких уверений, что никаких искательств не будет, а что надо же мне составить себе какое-нибудь самостоятельное положение (что было совершенно справедливо), а тут предполагались журнальные работы, о которых мне писал Благосветлов. Наконец, доходило до таких тонкостей, что Митя обещал не оставаться у Поповых, как я перееду к ним, и переселиться к Благосветлову. На этом я не стала настаивать, потому что, права я или нет, но всегда ставила себя выше подобной дрязготни. Ну, и наконец была прислана Попова, которая своим кошачьим иезуитством так опутала меня, что я и не разобрала, что это за женщина». В конце концов Писарев добился своего, но случилось это еще спустя полтора месяца. Пока же, в десятых числах октября, он возвратился в столицу обескураженный своей неудачей.
Морозным утром 20 ноября хоронили Н. А. Добролюбова. На Волковой кладбище собралось около 200 человек — литераторы, профессора, офицеры, студенты. Последних, впрочем, было совсем мало — самые активные и боевые все еще сидели в крепости. Благосветлов был в числе тех, кто нес гроб. Писарев шел вместе с Баллодом. На паперти кладбищенской церкви Некрасов, сдерживая рыдания, произнес короткую речь. Чернышевский прочитал отрывки из дневника Добролюбова и два его стихотворения. Обычно сдержанный, никогда при посторонних не высказывавшийся откровенно, Николай Гаврилович сейчас совершенно забылся. Высоко оценив деятельность покойного, он с волнением сказал: «Какого человека мы потеряли, ведь это был талант. А в каких молодых летах он кончил свою деятельность, ведь ему было всего двадцать шесть лет, в это время другие только учиться начинают». Комментируя записи своего юного друга, он говорил о цензурных преследованиях и правительственном произволе. Болезнь смелого защитника правды и добра развилась вследствие тех нравственных страданий, которые он повседневно испытывал. «Добролюбов умер оттого, что был слишком честен», — заключил оратор. Петр Давыдович Баллод, который тогда еще не знал Чернышевского, принял его за опрометчивого студента. Впоследствии он вспоминал: «Говорить так резко там, где, конечно, присутствовал не один шпик, для меня казалось диким. Он плакал, говорил и был вне себя». Третье отделение получило подробный отчет о похоронах, превратившихся в антиправительственную демонстрацию. Агенты пересказали речь Чернышевского, назвали многих участников. Сообщалось о том, что Благосветлов собирал по подписке деньги для Михайлова, отправлявшегося на каторгу. В этом же был замечен и Баллод. Фамилия Писарева в донесениях не упоминалась. Утрата Добролюбова оказалась для «Современника» невозместимой. Чернышевский пригласил к себе молодого критика «Русского слова» с тем, чтобы предложить ему работать в «Современнике». Писарев пришел вместе с Благосветловым. Он выслушал предложение, поблагодарил за оказанную ему честь и отказался. Он сказал, что полюбил «Русское слово» и, пока он может быть ему полезен, до тех пор будет отдавать ему все свои силы. Так волею случая роль первого критика «Современника» досталась М. А. Антоновичу. Благосветлов, отдавая должное способностям Дмитрия Ивановича и его преданности журналу, назначил его своим помощником.
«Раиса Александровна здесь…» — записал Хрущов в дневнике 23 ноября. Кореневу привезла Е. А. Попова, по просьбе Писарева специально ездившая за ней в Яковлевское. Приехав в Петербург, Раиса подтвердила, что любит Гарднера и за Писарева никогда не выйдет. Дмитрий Иванович не стал спорить. Его желание исполнилось: «Раиза» живет с ним в одной квартире, и пока довольно. Он был уверен в том, что со временем она забудет о своем увлечении.
2. «И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НИГИЛИЗМОМ!»
В первых числах марта 1862 года вышла в свет февральская книжка «Русского вестника» с новым романом Тургенева. Читатели с жадностью набросились на журнал. По словам современника, «Отцы и дети» были прочитаны «даже такими людьми, которые со школьной скамьи не брали книги в руки». И сразу возникли споры. В русской литературе не было, пожалуй, другого романа, вокруг которого так бы кипели страсти. В дворянских гостиницах и студенческих кружках, в редакциях журналов, в клубах и даже на улице шли нескончаемые дискуссии. Слово «нигилист», которым в романе назвал Базарова один из персонажей, стало вдруг самым модным словом. «Выпущенным мною словом «нигилист», — вспоминал позднее Тургенев, — воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, овладевшее русским обществом. Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено мною это слово; но как точное и уместное выражение проявившегося — исторического — факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения — почти в клеймо позора». Независимо от воли автора в первое время после выхода романа слово «нигилист» приобрело исключительно бранное значение. Это записала в актив Тургеневу даже тайная полиция. Во всеподданнейшем отчете за 1862 год шеф жандармов князь В. А. Долгоруков писал: «Находясь во главе современных русских талантов и пользуясь симпатией образованного общества, Тургенев этим сочинением, неожиданно для молодого поколения, недавно ему рукоплескавшего, заклеймил наших недорослей-революционеров едким именем «нигилистов» ипоколебал учение материалистов и его представителей». В середине марта в Петербурге объявился Евгений Гарднер. Он ехал за границу и намеревался пробыть в столице несколько дней. Само появление Гарднера на квартире Поповых было воспринято Писаревым почти как личное оскорбление. Он не скрывал своего презрения к отставному прапорщику. Раису это раздражало, и она все более критически смотрела на своего кузена. «Мне становится как-то боязно говорить с вами о Мите, — писала она Варваре Дмитриевне, — точно я касаюсь до больного места у вас. Вы Митю идеализируете, право же, идеализируете; еще больше хотелось бы мне убедить вас, что его чувство ко мне вы видите несравненно сильнее и горячее, чем оно есть на самом деле; нет даже и похожего ничего на то, чем оно вам кажется. Он меня, конечно, все-таки любит, это так, и присутствие мое доставляет ему несомненное удовольствие, но карты гораздо больше… Вообще, когда он замечает за собою, что в нем копошится какое-нибудь чувство, то он этому всегда бывает очень рад и начинает сам над собой умиляться, что, вот, в нем, значит; и мягкость и нежность есть, и тогда он, неумышленно, разумеется, даже усиливает эти чувства. Так где же тут страдание и затаенность, о которых вы говорите? Мама, душенька милая, ну где же они? Но я все-таки Митю люблю и решительно не понимаю тех, которые его отталкивают, но, разумеется, еще менее поняла бы ту женщину, которая бы полюбила его и отдалась ему. Понятно, о какой любви я тут говорю и какая разница между ею и тем, как я люблю Митю…» Писалось это, пожалуй, больше всего для успокоения собственной совести. Рассуждения Раисы о холодности и равнодушии Писарева, стремление доказать, что чувство не сильно, а лишь искусственно подогревается, нужны были для самооправдания. Гарднер бывал каждый день. Вместе с Раисой он собирался осматривать Петербург, но за разговорами прошла неделя-другая, а кроме Исаакиевского собора и цветочной выставки, они нигде не успели побывать. Гарднер вдруг раздумал ехать за границу и сделал Кореневой предложение. Она его приняла. Писарев был потрясен. Надежда, что со временем Раиса согласится стать его женой, рушилась. Он принялся ее уговаривать, вновь развивал перед ней свои теории, убеждал, негодовал — все было бесполезно. Наконец в виде компромисса он предложил Раисе немедленно с ним обвенчаться и прямо из церкви ехать куда угодно с Гарднером. Когда ее страсть остынет, он с радостью ее встретит как любящий законный муж. Спустя много времени Писарев признавал, что «уместнее было засверкать глазами, схватить в объятия и поступить «по-мущински». Но в тот момент подобные мысли ему и в голову не приходили. Он испытывал «самое сильное горе, к которому только способен», был близок к отчаянию и, «наверное, застрелился бы, — иронизировал он над собой впоследствии, — не люби я так свою собственную особу». Оскорбленное чувство и уязвленное самолюбие отуманили мозг, пылкий темперамент толкал к безрассудствам. Писарев и думать забыл о том, что Раиса имеет право «распоряжаться собой по усмотрению»…Во второй половине марта Писарев принялся за статью об «Отцах и детях». «Новый роман Тургенева дает нам все то, чем мы привыкли наслаждаться в его произведениях» — так, с комплимента Тургеневу, начал Писарев свою статью. Отмечая безукоризненную художественность произведения и самую полную искренность автора, он, однако, полагал, что «события в романе вовсе не занимательны», а «идея вовсе не поразительно верна». Главный интерес «Отцов и детей», по мнению Писарева, состоял в том, что «все наше молодое поколение с своими стремлениями и идеями может узнать себя в действующих лицах романа». Это не значит, что идеи и стремления молодого поколения отразились в этом произведении как понимает их само молодое поколение. Типы текущей минуты в нем как в зеркале, которое, отражая предметы, несколько изменяет их цвета. Критик берет на себя задачу «жизненную, крупную и сложную»: исследовать, как смотрит на молодежь один из лучших людей прошлого поколения и почему он смотрит именно так. Это означало выяснить «причину того разлада, который замечается в нашей частной семейной жизни». «Мы видим то, что просвечивает, — заявляет Писарев, — а не то, что автор хочет показать или доказать». Центр всего романа — Базаров, человек сильный по уму и характеру. Он представитель молодого поколения, «в его личности сгруппированы те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах». Писарев различает Базарова как жизненный тип и Базарова как представителя этого типа в романе Тургенева. В соответствии с этим критик разбирает черты типовые и индивидуальные. Базаров — материалист и чистый эмпирик, который «признает только то, что можно ощупать руками, увидеть глазами, положить на язык, словом, только то, что можно освидетельствовать одним из пяти чувств». Базаров — разумный эгоист и утилитарист, который честен и искренен по расчету. Базаров — циник, иронически относящийся «к чувству всякого рода, к мечтательности, к лирическим порывам, к излияниям». Все это черты, присущие всему жизненному типу, коренное свойство которого — отвращение к фразистости, ко всему отрешенному от жизни. Тургеневский Базаров, кроме того, человек плохо воспитанный и дурного тона. Он грубо выражает свой цинизм, беспричинно и бесцельно резок. Отрицает сплеча вещи, которых не знает и не понимает («поэзия, по мнению его, ерунда; читать Пушкина — потерянное время; заниматься музыкою — смешно; наслаждаться природою — нелепо»). Но это не относится к сущности типа и потому не говорит ни против него, ни в его пользу. Тургенев выбрал представителем базаровского типа, полагает Писарев, человека неотесанного по двум причинам. Во-первых, писатель имел право взять своего героя из среды «пролетариев-тружеников», прошедших суровую школу жизни и не имевших возможности заботиться о воспитании собственных манер, ибо «личность человека, беспощадно и с полным убеждением отрицающего все, что другие признают высоким и прекрасным, всего чаще вырабатывается при серой обстановке трудовой жизни». Во-вторых, Тургенев «не благоволит к своему герою» и дал волю своей антипатии. Обрисовав крупными чертами «общий, складывающийся тип», представителем которого является герой тургеневского романа, Писарев прослеживает его историческое происхождение. Базаров — представитель того «незначительного меньшинства», которое существовало во всякое время и было недовольно «жизнью вообще или некоторыми формами жизни в особенности». К этой категории людей принадлежали Онегины, Печорины, Рудины, Бельтовы и другие литературные типы, «в которых, в прошлые десятилетия, молодое поколение узнавало черты своей умственной физиономии». Онегина и Печорина критик называет «скучающими трутнями» и разницу между ними видит только в темпераменте. «Немножко Онегиным, немножко Печориным, — заявляет Писарев, — бывал и до сих пор бывает у нас всякий мало-мальски умный человек, владеющий обеспеченным состоянием, выросший в атмосфере барства и не получивший серьезного образования». Иное дело Рудин и Бельтов. Они, утверждает критик, «люди грустящие, тоскующие от неудовлетворенного стремления приносить пользу». В гимназиях и университетах они узнали о том, «как живут на свете цивилизованные народы, как трудятся на пользу общества даровитые деятели, как определяют обязанности человека разные мыслители и моралисты». Выходя из школы в жизнь, эти люди полны неукротимых желаний «сделать хорошее дело или пострадать за правду». Они пробуют приложить свои силы в разных сферах жизни, мечутся из стороны в сторону, но все их стремления остаются бесплодными. «Пострадать им иногда приходится, но сделать дело никогда не удается, — замечает критик. — Они ли сами в этом виноваты, то ли жизнь виновата, в которую они вступают, — рассудить мудрено. Верно, по крайней мере, то, что переделать условия жизни у них не хватает сил, а ужиться с этими условиями они не умеют». Рассуждения Писарева о Рудиных и Бельтовых перекликаются с рассуждениями Добролюбова о «лишних людях» в «Литературных мелочах» 1859 года. Но Писарев не просто повторяет слова Добролюбова, развенчивавшего «идеалистов 40-х годов», он учитывает и возражения Герцена в «Колоколе», и материал, доставленный романом Тургенева. «Еще ни один Рудин, ни один Бельтов, — пишет Писарев, — не дослужился до начальника отделения; да к тому же — странные люди! — они, чего доброго, даже этою почетною и обеспеченною должностью не удовлетворились бы. Они говорили на таком языке, которого не понимало общество, и после напрасных попыток растолковать этому обществу свои желания они умолкали и впадали в очень извинительное уныние». Только некоторые Рудины делались учителями и профессорами, успокаивая себя мыслью, что передают свои «честные тенденции молодому поколению, которое будет крепче нас и создаст себе другие, более благоприятные времена». Идеалисты-педагоги не замечали, что плодят «таких же Рудиных, как и они сами, что их ученикам придется точно так же оставаться вне практической деятельности или делаться ренегатами, отказываться от убеждений и тенденций». Однако критик находит, что «отрицательная польза, принесенная и приносимая людьми этого закала, не подлежит ни малейшему сомнению». Размножая людей, неспособных к практической деятельности, Рудины роняли в мнении общества саму эту деятельность — «или, вернее, те формы, в которых она обыкновенно выражается теперь». Число молодых людей, не стремящихся сделать карьеру на государственной службе, постоянно растет. Писарев вспоминает, что вскоре после Крымской войны Рудины «вообразили себе, что их время настало», и «рванулись вперед»: оживилась литература и преподавание, общество кинулось читать журналы, преобразились студенты… «Казалось, — замечает критик, — рудинству приходит конец, и даже сам г. Гончаров похоронил своего Обломова и объявил, что под русскими именами таится много Штольцев. Но мираж рассеялся — Рудины не сделались практическими деятелями…» Новое поколение отнеслось к предшественникам недружелюбно. С укором и насмешкой оно обращалось к своим наставникам: «Об чем вы ноете, чего вы ищете, чего просите от жизни? Вам небось счастия хочется, — говорили эти новые люди мягкосердечном идеалистам, тоскливо опустившим крылышки, — да ведь мало ли что! Счастие надо завоевать. Есть силы — берите его. Нет сил — молчите, а то и без вас тошно!» Полагая, что молодому поколению присуща «мрачная, сосредоточенная энергия», Писарев перекликается с Герценом, с его характеристикой «желчевиков». Новое поколение сходилось с лучшими представителями предыдущего в своих понятиях о добре и зле, у них были общие симпатии и стремления. Но если люди прошлого «метались и суетились», то «люди настоящего не мечутся, ничего не ищут, нигде не пристраиваются, не поддаются ни на какие компромиссы и ни на что не надеются. В практическом отношении они так же бессильны, как и Рудины, но они осознали свое бессилие и перестали махать руками». Называя это состояние «холодным отчаянием, доходящим до полного индифферентизма», Писарев подчеркивает, что оно развивает «отдельную личность до последних пределов твердости и самостоятельности». Критик утверждает, что, «не имея возможности действовать, люди начинают думать и исследовать; не имея возможности переделать жизнь, люди вымещают свое бессилие в области мысли; там ничто не останавливает разрушительной критической работы; суеверия и авторитеты разбиваются вдребезги, и миросозерцание совершенно очищается от различных призрачных представлений». Создается впечатление, что Писарев в самом деле проповедует полный индифферентизм, совершенную изоляцию от жизни, абсолютное отстранение от всякой деятельности. Так и объясняют некоторые исследователи позицию критика, изложенную в «Базарове». Но это не так. «Махание руками» в представлении Писарева — это либеральная деятельность, направленная на частичное улучшение существующего строя; «холодное отчаяние, доходящее до полного индифферентизма» — выражает отстранение лишь от общепринятых форм общественной жизни. Критик находит способ разъяснить свою точку зрения и указать на коренное отличие нового поколения — революционных Базаровых от их предшественников — либеральных Рудиных. Цитируя разговор Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым, Писарев подчеркивает слова «грубейшее суеверие нас душит». Через несколько лет на это обратит внимание цензура: «автор распорядился напечатать… курсивом, очевидно, не без намерения, а это, без сомнения, намек на авторитет церкви». Усмотреть умысел в выделении слов дело нехитрое. Но понять смысл курсива цензурному комитету было не дано. Авторитет церкви здесь решительно ни при чем. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать подчеркнутое выражение в контексте: «— Что же вы делаете? [спрашивает Кирсанов у Базарова]. — А вот что мы делаем [отвечает Базаров]: прежде — в недавнее время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда. — Ну да, да, вы — обличатели, — так, кажется, это называется? Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но… — А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидели, что умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно от того, что оказывается недостаток в честных людях, когда сама свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы напиться дурману в кабаке…» В словах Базарова нетрудно увидеть изложение программы «Современника» — так, как представлялась она Тургеневу. Надо отдать справедливость художнику: в общих чертах она изложена довольно верно. В тираде Базарова отразилось и отрицательное отношение «Современника» к либеральному обличительству, и признание недостаточности крестьянской реформы, есть отголоски выступлений Добролюбова по поводу акционерных обществ и питейных откупов. Но, главное, в словах Базарова содержится намек на революционные замыслы: это слова о грубейшем суеверии. В октябрьской книжке «Современника» за 1859 год (действие романа отнесено к этому году) появилась статья Чернышевского «Суеверие и правила логики». Она посвящена доказательству того положения, что не общинное землевладение тормозит развитие сельского хозяйства, а всю жизнь страны калечит «азиатский порядок дел». Называя частные улучшения «тупоумными, суеверными рассуждениями», Чернышевский говорит: «Всмотритесь получше в состояние организма, и вы найдете, что лихорадочный озноб производится причинами, против которых необходимо употребить средства, совершенно различные от рекомендуемых вами суеверных пустяков. Вся обстановка жизни больного должна измениться для того, чтобы прекратилось гниение основного органа его тела». Вкладывая в уста Базарова слова о грубейшем суеверии, Тургенев опирался на смысл этой статьи Чернышевского. Подчеркивая эти слова, Писарев солидаризировался с Чернышевским и одновременно указывал на главное отличие Базарова от его предшественников. Для решения современных общественных проблем требуется радикальное — революционное — решение. Все попытки улучшить существующий строй всего-навсего суеверия. Они душат нас потому, что большинство общества еще не отрешилось от пустых надежд. В этом ключ к пониманию статьи. Но Писарев цитату продолжает: «— Так, — перебил Павел Петрович, — так; вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься? — И решились ни за что не приниматься, — угрюмо повторил Базаров. Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином. — А только ругаться? — И ругаться. — И это называется нигилизмом? — И это называется нигилизмом, — повторил опять Базаров, на этот раз с особенной дерзостью». Не комментируя диалога, Писарев делает вывод: «Словом, у Печориных есть воля без знания, у Рудиных — знания без воли;.у Базаровых есть и знание и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое». Это утверждение кажется парадоксальным: критик все время твердил о том, что Базаровы «в практическом отношении так же бессильны, как и Рудины», что они не имеют «возможность действовать» — и вдруг «мысль и дело сливаются в одно твердое целое»! Однако найденный «ключ» делает вполне прозрачным смысл приведенной Писаревым цитаты. Когда Павел Петрович перебил Базарова, тот понял, что откровенничать с «этим барином» ни к чему, и поспешил прекратить ненужный разговор. Его мнимое согласие с собеседником («и решились ни за что не приниматься») означает гораздо больше, чем сказано. Они стали не «только ругаться», но — «и ругаться». А что еще? Об этом ни писатель, ни критик не могли сказать прямо. Один из противников романа, революционер Сергей Рымаренко, выступая в студенческом кружке, говорил: «Мы вообще думаем, что современного молодого человека нельзя выбирать еще в герои романа: глубокий анализ его действий подлежит более ведению 3-го отделения, нежели художника современных нравов». Это понимал не только Рымаренко. Принимаясь за роман, Тургенев не намеревался изображать деятельность революционера, но лишь попытался воссоздать его характер. Объясняя в апреле 1862 года в частном письме образ Базарова, Тургенев признавался: «И если он называется нигилистом, то надо читать революционером». В романе об этом сказано лишь между строк. Но Писарев превосходно понял мысль автора. Этим объясняется совершенно неоправданный на первый взгляд вывод о том, что «у Базаровых есть и знание и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое». Важность этого вывода подчеркивается в начале следующей главы: «До сих пор я говорил об общем жизненном явлении, вызвавшем собою роман Тургенева». Критик как бы дает понять читателю, что главная мысль статьи уже высказана. Писарев не обвиняет Тургенева в смерти Базарова. Напротив, сцену смерти он считает лучшим местом в романе и даже, пожалуй, вообще самыми замечательными страницами, когда-либо написанными Тургеневым. «Весь интерес, весь смысл романа, — замечает критик, — заключается в смерти Базарова». Конечно, эта смерть — случайность, она не вытекает из описанных событий, но без нее характер героя был бы неполон. Мотивы критика весьма просты. Действие романа происходит летом 1859 года. Из жизни Базарова выхвачен только один эпизод. Читатель видит большие задатки, получает смутное понятие о колоссальных силах Базаровых, но он не может себе представить, что разовьется из этих задатков, в чем выразятся силы' этих людей. Ответа на эти вопросы не может дать и писатель. Только следующее поколение сможет верно оценить дело Базаровых, только биография и история ответят на эти вопросы. Но «биография, как известно, пишется после смерти деятеля», а «история… когда событие уже совершилось». Однако событие еще не совершилось. «В течение 1860 и 1861 года Базаров не мог бы сделать ничего такого, что показало бы нам приложение его миросозерцания в жизни». Писарев констатирует факт: ожидаемой революции в России пока не произошло. Так что же нового совершил бы в эти годы Базаров? Ничего, «он бы по-прежнему резал лягушек, возился бы с микроскопом и, насмехаясь над различными проявлениями романтизма, пользовался бы благами жизни по мере сил и возможности». Совершенно ясно, что художник ничего нового не смог бы сказать читателю, и поэтому, «не имея возможности показать нам, как живет и действует Базаров, Тургенев показал нам, как он умирает. Этого на первый раз довольно, чтобы составить себе понятие о силах Базарова, о тех силах, которых полное развитие могло обозначиться только жизнью, борьбою, действиями и результатами». Писарев недвусмысленно дает понять читателю, что не только потому, что событие еще не совершилось, Тургенев не может добавить никаких новых подробностей в жизни Базарова за последующие два года, но и потому, что он не имеет возможности показать, «как живет и действует Базаров», о жизни, борьбе и действиях, предшествующих результатам, событию, честный художник должен молчать. Революционер-землеволец Рымаренко отвергал роман Тургенева, в частности, потому, что не нашел намеков на революционную деятельность положительного героя. Но Писарев их не только увидел, но и постарался показать читателям. Указания его иносказательны, но современной публике были понятны. В том, что их не заметили последующие поколения, вины Писарева нет. Базаров, по мысли критика, не фразер, а человек дела. В нем есть сила, самостоятельность, энергия. «Из Базаровых, — пишет критик, — при известных обстоятельствах вырабатываются великие исторические деятели». Базаровы никогда не теряют из вида того великого мира, который их окружает, «они всегда готовы выйти из ученого кабинета и лаборатории», и «когда жизнь серьезно шевельнет их мозговые нервы, тогда они бросят микроскоп и скальпель». Базаров не станет фанатиком науки, он занимается ею для того, чтобы дать работу своему мозгу, или для того, чтобы получить непосредственную пользу для себя и для других. «Если представится другое занятие, более интересное, более хлебное, более полезное, — он оставит медицину, точно так же как Вениамин Франклин оставил типографский станок». Но кому не известно, что типографский станок Франклин оставил для того, чтобы принять участие в американской революции? Базаров примется за дело только тогда, когда увидит возможность действовать не машинально. Его упорный скептицизм не сломят ни обманчивые формы, ни внешние усовершенствования, «он не примет случайной оттепели за наступление весны и проведет всю жизнь в своей лаборатории, если в сознании нашего общества не произойдет существенных изменений. Если же в сознании, а следовательно, и в жизни общества произойдут желаемые изменения, тогда люди, подобные Базарову, окажутся готовыми…» Итак, смерть Базарова должна «торжественно и безапелляционно» опровергнуть мнения скептиков, не увидевших в Базаровых силы. «Умереть так, как умер Базаров, — все равно что сделать великий подвиг; этот подвиг остается без последствий, но та доза энергии, которая тратится на подвиг, на блестящее и полезное дело, истрачена здесь на простой и неизбежный физиологический процесс». Писарев восхищается Базаровым. «Такой человек, который умеет умирать спокойно и твердо, не отступит перед препятствием и не струсит перед опасностью». Смысл, вложенный Писаревым в облик Базарова, становится прозрачно-ясным: Базаров — лучший представитель современной молодежи, борец, готовый «в случае нужды» проявить стойкость и решительность и, если потребуется, смело смотреть смерти в глаза. Признавая наличие в русском обществе новых людей, революционеров, готовых вступить в борьбу, Писарев считает, что «известные обстоятельства» еще не наступили. «А Базаровым, — завершал он статью, — все-таки плохо жить на свете, хоть они припевают и посвистывают. Нет деятельности, нет любви, — стало быть, нет и наслаждения. Страдать они не умеют, ныть не станут, а подчас чувствуют только, что пусто, скучно, бесцветно и бессмысленно. А что же делать?» Многие страницы «Базарова», и в том числе концовка, написаны эзоповским языком. В самом деле, людям, созданным для революции, жить на свете плохо. Свист, то есть журнальная критика, — это не деятельность, не открытое действие, которое только и может доставить наслаждение революционеру, в котором он только и может проявить свой характер. Не умея ни ныть, ни страдать, революционеры понимают бессмысленность существующего строя, но час революции еще не пробил. Что же делать? Нужно же найти применение своим силам. «Ведь не заражать же себя умышленно, чтобы иметь удовольствие умирать красиво и спокойно?» — иронически спрашивает Писарев. И отвечает: «Что делать? Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, а вообще не мечтать об апельсиновых деревьях и пальмах, когда по'д ногами снеговые сугробы и холодные тундры». Ирония последних строк совсем не заключает в себе примирения с действительностью, как это нередко толкуется. Концовка настораживала читателя своей парадоксальностью и побуждала его еще раз просмотреть статью. Возвратившись на несколько страниц назад, читатель находил ту же самую мысль, но выраженную более четко и определенно: «Я не могу действовать теперь, — думает про себя каждый из этих новых людей, — не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружает, и не стану скрывать этого презрения. В борьбу со злом я пойду тогда, когда почувствую себя сильным. До тех пор буду жить сам по себе, как живется, не мирясь с господствующим злом и не давая ему над собою никакой власти. Я — чужой среди существующего порядка вещей, и мне нет до него никакого дела. Занимаюсь я хлебным ремеслом, думаю — что хочу, и высказываю — что можно высказать». Писарев предостерегает молодежь от преждевременных выступлений, он призывает ее накапливать силы и ждать наступления «известных обстоятельств».
3. «НЕПРЕРЫВНАЯ ЦЕПЬ ГЛУПОСТЕЙ»
Писарев — Гарднеру, 4 апреля 1862 года: «Эпиграф: Дуракам счастье. Милостивый Государь, Евгений Николаевич! Как вы легко можете представить, я вовсе не рад тому, что вы женитесь на моей двоюродной сестре. Не имея высокого понятия о вашем уме и характере, я просто считаю вас за дурака и за фата и с свойственной мне откровенностью выражаю вам это мнение. Я выражал его и другим, говоря по поводу вашей свадьбы русскую пословицу: «не в коня корм» и варьируя ее иногда так: «не в осла корм». Получив это письмо, вы не будете знать, что с ним делать. Я укажу вам три образа действия: 1. Или вы можете спрятать это письмо в карман, притвориться, как будто вовсе его не получали. Можете даже повеликодушничать со мною, оставаясь в прежних отношениях, и даже видеть меня шафером на вашей свадьбе. Во 2) вы можете меня вызвать на дуэль, и я буду к вашим услугам. В 3) вы можете донести на меня 3-му отделению, и меня посадят под арест. В первом случае мне будет приятно знать, что вы проглотили непозолоченную пилюлю. Во втором мне приятно будет сорвать зло на вас или на себе. В третьем мне будет приятно, что вы сделали подлость. Во всяком случае, мне приятно подлить каплю горечи в ваше незаслуженное счастье, которое дается вам на долю только потому, что теперь весна пробуждает чувственность женщин и усыпляет мозговую деятельность. Предупреждаю вас, что я оставил у себя копию с этого письма и, когда мне вздумается, покажу ее кому мне угодно. Если бы я вас уважал, я не написал бы этого письма. Письмо это в сущности не дерзость, это только откровенно выраженное мнение. Если вы с ним согласны, то проглотите пилюлю и смолчите, если паче чаяния не согласны, то протестуйте. Можем даже затеять диспут, в котором я буду доказывать, что вы дурак и фат; вы же можете утверждать совершенно противное. Готовый к услугам вашим Д. П.».Такое письмо можно было написать только в состоянии крайнего раздражения. Несколько остыв и подумав о том, что следовало бы сохранить с Раисой хотя бы дружеские отношения, Писарев отправил Гарднеру другое письмо, в котором приносил извинения за нанесенное оскорбление. Писарев обладал исключительным даром критического отношения к себе, он превосходно понимал, что поступает против своих убеждений, и, как только смог взять себя в руки, осудил себя публично. В первой части статьи «Бедная русская мысль», писавшейся в эти апрельские дни, Писарев беспощадно иронизирует над собой: «Область неизвестного, непредвиденного и случайного еще так велика, мы еще так мало знаем и внешнюю природу, и самих себя, что даже в частной жизни наши смелые замыслы и последовательные теории постоянно разбиваются в прах то об внешние обстоятельства, то об нашу собственную психическую натуру. Кто из нас не знает, например, что ревность — чепуха, что чувство свободно, что полюбить и разлюбить не от нас зависит и что женщина не виновата, если изменяет вам и отдается другому? Кто из нас не ратовал словом и пером за свободу женщины? А пусть случится этому бойцу испытать в своей любви огорчение! Что же выйдет? Неужели вы думаете, что он утешит себя своими теоретическими доводами и успокоится в своей безукоризненной гуманной философии? Нет, помилуйте! Этот непобедимый диалектик, этот вдохновенный философ полезет на стены и наделает глупостей, на которые, может быть, не решился бы самый дюжинный смертный. «Чужую беду я руками разведу, а к своей беде и ума не приложу», — говорит русская пословица». Это было не отказом от своих убеждений, а признанием того, что следовать теории значительно труднее, чем ее проповедовать.
Споры об «Отцах и детях» перешли на журнальные страницы. Мартовская книжка «Русского слова» со статьей «Базаров» вышла в свет 6 апреля, а неделей позже появился очередной номер «Современника», в котором была напечатана статья М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени». Читатель, раскрывший обе книжки, был обескуражен: мнения о романе Тургенева противоположны. Странное и непонятное явление! Почти два года оба журнала шли рука об руку и по всем принципиальным вопросам придерживались сходных мнений, расхождения были лишь в частностях и настолько незначительны, что читатели их просто не замечали. Теперь возникали сомнения: одного ли направления эти журналы, не перешел ли один из них в противоположный лагерь? Однако по всем остальным вопросам журналы продолжали выступать солидарно. Статья Антоновича полностью зачеркивала роман Тургенева. Критик не признавал за «Отцами и детьми» никаких художественных достоинств и называл роман пасквилем, злостной клеветой на молодое поколение… Между тем события нарастали. Две силы стояли друг против друга — правительство и революционеры. И те и другие выжидали, готовясь к столкновению. Революционеры объединяли разрозненные кружки в тайное федеративное общество «Земля и воля». Правительство готовило чрезвычайные меры. Сочувствие общества было на стороне революционеров. С середины марта подпольные (литографированные и печатные) листки появлялись в столице один за другим: «Профессор Павлов сослан в Ветлугу», «Земская дума», два номера «Русской правды», «Офицеры! Настало время…», «Подвит капитана Александрова», «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти»… Печатные прокламации, набранные разными шрифтами и с различным искусством, привозились из Лондона, иные издавались столичными кружками. На пасху, 8 апреля, в дворцовой церкви какие-то смельчаки рассовали по карманам молящихся прокламацию «Офицеры! Настало время…». Листовка призывала офицерство «подумать… о бедном угнетенном народе, о нашей жалкой родине», рекомендовала «каждому честному офицеру спросить у своей совести, чего ему держаться в виду совершающихся событий», обдумать, проверить «свои и чужие убеждения… теперь же», так как в «минуту столкновения рассуждать будет поздно». «В Шах-клубе, — доносил 18 апреля агент в III отделение, — ходит по рукам воззвание «Земская дума»… В том же клубе предлагают подписывать адрес для поднесения государю, составленный, как там говорили, профессором Утиным. Пока он подписан не более как 15 лицами, между коими замечены следующие фамилии: Василий Курочкин, Вернадский, Писарев и полковник Лавров… Адрес кончается заметкою, что добровольное дарование конституции спасет Россию от тяжких смут и волнений и вместо раздора даст мир и новую жизнь». 19 апреля петербургский обер-полицеймейстер специальным приказом предписывал чинам полиции наблюдать за тем, чтобы подпольные воззвания не появлялись в столице, и само появление их относил к недостаточности полицейского надзора. Полиция следила, но… прокламации продолжали появляться.
18 апреля Раиса обвенчалась с Гарднером. Разумеется, Писарева не было в числе гостей. Ему передали, что Раиса считает любые отношения между ними впредь невозможными. Это окончательно вывело его из равновесия.
Писарев — Гарднеру, 28 апреля: «Супруга ваша написала сегодня к г-же Поповой, что сближения между мною и ею невозможно. Только надежда на возобновление дружеских отношений с нею, отношений, которыми я дорожу больше всего на свете, побудила меня написать к вам то письмо, которое дало вам возможность уклониться от дуэли. Теперь, обманувшись в этой надежде, я беру это письмо назад и, если этого мало, готов повторить вам те комплименты, которые вас оскорбили в первом моем письме».
События приняли неожиданный для Писарева оборот. Вместо того чтобы вызвать обидчика на дуэль, Гарднер в тот же вечер ворвался в квартиру Писарева и ударил его хлыстом. На оскорбление словом он ответил оскорблением действием.
Писарев — Гарднеру, 29 апреля: «Сегодня вечером или завтра утром приедет к вам доверенное лицо для определения условий по известному вам делу. Надеюсь, что вы не уедете из города до решения этого любопытного дела».
Писареву не оставалось ничего другого, как послать самому вызов, которого он тщетно добивался. В секунданты он пригласил старого дуэлянта А. С. Афанасьева-Чужбинского. Посетив Гарднера, Александр Степанович сообщил Писареву, что вызов тот принимает, но требует десятидневной отсрочки и назначает местом дуэли Москву. Это означало уклонение от поединка, ибо по правилам выбор места дуэли принадлежал только секундантам. Кроме того, Гарднер не мог не знать, что срочная журнальная работа и скромный заработок делают для Писарева поездку в Москву почти невозможной. Когда чувство одерживает верх над мыслью, самый умный человек теряет способность принимать обдуманные решения. Сам ли Писарев пришел к мысли о дуэли, или его кто-то надоумил — тот же Чужбинский, например, — не имеет большого значения. Важно, что в конце марта, разбирая дуэль Базарова с П. П. Кирсановым, критик не только оправдал, но и теоретически обосновал поведение своего героя, принявшего вызов вопреки своим убеждениям. «Дуэль, по понятиям Базарова, нелепость, — писал Писарев. — Спрашивается, хорошо ли поступил Базаров, принявши вызов Павла Петровича? Этот вопрос сводится на другой, более общий вопрос: позволительно ли вообще в жизни отступать от своих теоретических убеждений? Насчет понятия убеждение господствуют различные мнения, которые можно свести к двум главным оттенкам. Идеалисты и фанатики готовы все сломать перед своим убеждением — и чужую личность, и свои интересы, и часто даже непреложные факты и законы жизни. Они кричат об убеждениях, не анализируя этого понятия, а потому решительно не хотят и не умеют взять в толк, что человек всегда дороже мозгового вывода, в силу простой математической аксиомы, говорящей нам, что целое всегда больше части. Идеалисты и фанатики скажут, таким образом, что отступать в жизни от теоретических убеждений — всегда позорно и преступно. Это не помешает многим идеалистам и фанатикам при случае струсить и попятиться, а потом упрекать себя в практической несостоятельности и заниматься угрызениями совести. Есть другие люди, которые не скрывают от себя того, что им иногда приходится делать нелепости, а даже вовсе не желают обратить свою жизнь в логическую выкладку. К числу таких людей принадлежит Базаров. Он говорит себе: «Я знаю, что дуэль — нелепость, но в данную минуту я вижу, что мне от нее отказаться решительно неудобно. По-моему, лучше сделать нелепость, чем, оставаясь благоразумным до последней степени, получить удар от руки или от трости Павла Петровича». Стоик Эпиктет, конечно, поступил бы иначе и даже решился бы с особенным удовольствием пострадать за свои убеждения, но Базаров слишком умен, чтобы быть идеалистом вообще и стоиком в особенности. Когда он размышляет, тогда дает своему мозгу полную свободу и не старается прийти к заранее назначенным выводам; когда он хочет действовать, тогда он по своему благоусмотрению применяет или не применяет свой логический вывод, пускает его в ход или оставляет его под спудом. Дело в том, что мысль наша свободна, а действия наши происходят во времени и пространстве; между верною мыслью и благоразумным поступком такая же разница, как между математическим и физическим маятником. Базаров знает это и потому в своих поступках руководствуется практическим смыслом, сметкою и навыком, а не теоретическими соображениями». Уклонение Гарднера от дуэли толкнуло Писарева к новой нелепости. На удар хлыстом в квартире он решил ответить таким же ударом в публичном месте. Третьего мая, нарядившись в кучерский армяк и подвязав бороду, Писарев отправился на Царскосельский вокзал. Дождавшись счастливого соперника, он обвинил его в отказе дать удовлетворение и ударил хлыстом по лицу. Завязалась драка, собралась толпа. Полицейские разняли дерущихся, составили протокол. Было возбуждено дело о нарушении тишины и спокойствия в публичном месте. Водевиль с переодеванием поставил Писарева в комическое положение. Приятели-студенты, обсуждая происшествие, сочувствовали Писареву, но не одобряли. «Я стал упрекать его и смеяться над ним за такой способ решения дела, — вспоминал Баллод. — Писарев сказал, что он то же слышал и от Зайцева». Хрущов устроил у себя на квартире встречу Писарева с мадам Гарднер, надеясь помирить их. Из этого ничего не вышло. О возобновлении каких-либо отношении Раиса не хотела и слышать. Она потребовала не беспокоить больше ее мужа, и Писарев обещал ей прекратить полицейское дело. На следующий день оба противника подали в полицию прошения о том, что согласны на мировую. В Каретной части состоялось официальное примирение. Писарев получил сильную встряску, но горе свое он переносил стойко. «Не было ни слез, ни бессонных ночей, ни внутренней боли, ни неспособности к работе», — вспоминал он впоследствии. Напротив, в эти два с половиной месяца — с половины марта до конца мая — он работал очень много: написал четыре статьи, около 230 журнальных страниц, две из них — «Базаров» и «Бедная русская мысль» — были настоящими шедеврами. Как всегда, он писал сразу набело, четко и без единой помарки. Спустя тридцать лет типограф В. Ф. Демаков, в молодости работавший наборщиком в типографии «Русского слова», с восторгом описывал А. Л. Волынскому «великолепные достоинства этих чистых, каллиграфически безупречных оригиналов». Все виденные старым наборщиком бесчисленные писательские почерки слились в его воображении во что-то расплывчатое, неприглядное, мучительно нестерпимое для глаз, но почерк Писарева — эти чистые страницы с ровными строками и отчетливо выписанными буквами — были самым приятным для него воспоминанием. Иногда, рассказывал Демаков, Писареву случалось дописывать статью в типографии, необычная шумная обстановка нисколько не мешала ему.
12 мая 1862 года вышла апрельская книжка «Русского слова» с первой частью писаревской «Бедной русской мысли». 14 мая в столице распространилась «Молодая Россия» — самый решительный и резкий революционный манифест 1860-х годов. Выдвигая требование «социальной и демократической республики Русской», Центральный революционный комитет призывал молодежь и войско готовиться к скорому восстанию, в ходе которого будет уничтожена императорская фамилия, а в случае сопротивления и вся императорская партия. А 16 мая в Петербурге начались пожары. Ежедневно где-нибудь что-нибудь вспыхивало, иногда в один день в нескольких местах. Выгорали кварталы и целые улицы. Пожарные команды работали круглосуточно. 23-го было пять пожаров. Большой участок, примыкающий к Лиговке, горел до утра. В большинстве случаев причины пожаров оставались неизвестными. Ходили слухи о поджогах и даже о поимке каких-то разбойников-поджигателей. Поговаривали, что скоро сгорит Толкучий рынок, а за ним и весь Петербург. Самый большой пожар произошел в Духов день 28 мая в самом центре города. Под вечер загорелись Апраксин и Щукин дворы, огонь перекинулся на здание министерства внутренних дел, на жилые дома, примыкающие к Невскому. Пожарные команды, войска и добровольцы из местных жителей боролись с огнем до утра. Торговые дворы сгорели дотла, отдельные дома догорали еще на следующий вечер. В последующие дни пожары возникали в разных частях города и ко 2 июня прекратились так же неожиданно, как и начались. Петербург был объявлен на военном положении. Был создан Особый временный комитет по обеспечению безопасности столицы. По улицам курсировали военные патрули. Все дворы были заперты, у ворот посажены дворники — наблюдать за подозрительными лицами.
4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ
Петербургские пожары ускорили развязку. «Молодая Россия» на фоне зловещего зарева напугала обывателя. Провокационные слухи, распространяемые темными лицами, и прозрачные намеки в официальных и официозных изданиях обвиняли в поджогах революционную партию. Либералы и «салонные» демократы качнулись вправо — революционеры лишились сочувствующей среды, правительство приобрело союзников. В конце концов доказать причастность революционеров к поджогам не удалось, поджигателей не нашли вообще (и тогда, и позднее возникали подозрения, что их искали совсем не там, где следовало), «пожарную эпопею» поспешили замять, но дело было сделано. Нет доказательств, что пожары были инспирированы правительственными сферами, нет даже уверенности в том, что имели место злоумышленные поджоги, за сто с лишним лет причина пожаров так и не прояснилась. Несомненно одно: пожары сыграли на руку правительству, оно сумело воспользоваться сложившейся ситуацией и нанести решительный удар по революционной партии. Пожары стали поводом для реализации охранительных мер, намеченных еще в апреле, рубежом новой политической реакции. В доносах, полученных полицией, сообщалось об открытой революционной пропаганде в Сампсониевской и Введенской воскресных школах и назывались фамилии двух рабочих, якобы говоривших в артели о необходимости сжечь весь Петербург и о свободе Польши. 1 июня эти рабочие были арестованы. На допросах восемнадцатилетний МихаилМитрофанов и шестнадцатилетний Михаил Федоров показали, что преподаватели читали и разъясняли в классе печатные листки и брошюры «Что нужно народу?», «Что надо делать войску?», «Подвиг капитана Александрова», «Молодая Россия». В тот же день обе школы были закрыты. К двум уже действовавшим следственным комиссиям — А. Ф. Голицына о распространении революционных воззваний и П. П. Ланского о поджогах — добавилась третья — сенатора С. Г. Жданова по воскресным школам. «Государь император Высочайше повелеть соизволил, — извещала «Северная почта» 6 июня, — лиц, виновных в поджогах в С.-Петербурге, судить военным судом по полевым уголовным законам с предоставлением С.-Петербургскому военному генерал-губернатору конфирмовать и приводить в исполнение приговоры военного суда». По подозрению в поджигательстве к 5 июня было арестовано 22 человека. «Сегодня решено, — писал 7 июня министр внутренних дел П. А. Валуев управляющему III отделением А. Л. Потапову, — что университет не будет открыт, кроме математического факультета, воскресные школы закрыты по всей империи до преобразования их, отделы помощи студентам будут закрыты, и журналы «Современник» и «Русское слово» приостановлены на 8 месяцев». Комендант Петропавловской крепости А. Ф. Сорокин представил в III отделение «опись помещений для лиц, предположенных к арестованию». В ней значилось 38 казематов, занятых заключенными, 30 свободных, и, кроме того, еще 33 каземата комендант считал возможным подготовить в две недели. На документе резолюция Потапова: «Иметь в виду. 7 июня». Правительство решительно наступало. Доносы, обыски, аресты становились обычным явлением. Три следственные комиссии заседали в столице ежедневно. III отделение и столичная полиция, конкурируя между собой, обеспечивали их напряженную деятельность. Газеты ежедневно приносили известия о новых репрессиях. 8 июня был опубликован приказ военного министра о закрытии воскресных школ при войсках и о запрещении всяких «сборищ посторонних лиц в зданиях, занимаемых войсками». В тот же день петербургский генерал-губернатор объявил о закрытии Шахматного клуба и народных читален в столице. 14-го объявлено о запрещении публичных лекций и о закрытии отделения помощи студентам при Литературном фонде. Все эти меры оправдывались необходимостью обеспечить «прекращение встревоженного состояния умов» и предупредить «не имеющие никакого основания толки о современных событиях» среди населения.Майская книжка «Русского слова», задержанная цензурой, вышла в свет 10 июня. Кроме окончаний «Бедной русской мысли» и «Очерков из истории печати во Франции», Писарев напечатал в ней небольшую рецензию на сборник переводов «Поэты всех времен и народов». Критик вновь — и не без умысла — обратился к изданию В. Д. Костомарова и Ф. Н. Берга, первый выпуск которого он жестоко раскритиковал еще полтора года назад. Сейчас Писарев почти не касается качества переводов. Он не одобряет состав сборника, иронизирует над издателями, в предисловии пообещавшими создать со временем обширную антологию мировой поэзии, и со всей силой обрушивается на объяснительные статьи Костомарова. По мнению Писарева, статья о Бернсе — неумелая компиляция, а Гейне автор просто не понимает. Но дело здесь совсем не в качестве этих статей, перед критиком стояла иная задача: ему нужно было заклеймить провокаторскую роль Всеволода Костомарова, предавшего М. Л. Михайлова. И Писарев блестяще справился с этой задачей. Писарев приводит небольшую песню Бернса, которая «особенно замечательна по идее и выполнению», «хотя петербургская публика уже слышала ее в нынешнем году на публичном чтении». В этом сразу чувствуется какой-то намек, тем более что в рецензии нет других стихотворных цитат из сборника. Начальные строки «Бедняк, будь честен и трудись. Трудись прежде всего; холопа встретишь — отвернись С презреньем от него!» — заставляют задуматься над смыслом намека… Критик приходит на помощь читателю. Он пишет по поводу пояснений Костомарова: «Уличив Гейне в отсутствии чистой, спасительной любви, г. Костомаров преследует поэта на его смертном одре и не без соболезнования доносит читателю, что раб божий Генрих Гейне умер нераскаянным грешником». В заключение критик стреляет в упор: «Напрасно г. Костомаров к имени пиетиста Генгстенберга, встречающемуся в переводе «Германии», делает следующее язвительное замечание: «Генгстенберг, по доносу которого отнята кафедра у Фейербаха». Кто так близко подходит к Генгстенбергу по воззрениям, тому следовало бы быть поосторожнее в отзывах. Кто знает? Может быть, Генгстенберг сделал донос с благою целью! Может быть, делая свой донос, Генгстенберг воображал себя таким же полезным общественным деятелем, каким воображает себя г. Костомаров, обличая нераскаянного грешника и «иронического юмориста» Генриха Гейне». После такой концовки даже недогадливому читателю становилось все ясным. Ведь Михайлов был одним из лучших и самых известных переводчиков немецкого поэта.
Между тем в литературные круги просочились слухи о предстоящем запрещении двух радикальных журналов. В связи с этим 12 июня А. А. Краевский («Отечественные записки») и В. Д. Скарятин (газета «Весть») обратились к министру народного просвещения с письмом. Либерал «золотой середины» и крайний реакционер-крепостник объединились в подобострастном стремлении послужить правительству. Высказав догадку о том, что поводом к запрещению послужат распространяемые этими журналами воззрения, которые «привели постепенно к тем нелепым учениям, какие заявлены в тайной прокламации «Молодая Россия», Краевский и Скарятин стремились убедить министра воздержаться от репрессивной меры. Они доказывали, что правительству эти журналы не опасны, что тайные прокламации и особенно «Молодая Россия» подорвали моральный кредит крайней партии, столь еще значительный несколько месяцев тому назад, и лишили ее сочувствия во всех слоях общества: напротив, нравственный авторитет правительства значительно вырос, число писателей, решившихся стать на сторону правительства, увеличивается с каждым днем. При столь благоприятном отношении литературы и публики правительство должно стремиться к свободе печати, она окончательно разрушит всякий авторитет крайней партии. «Не запрещать следовало бы «Современник» и «Русское слово», — взывали защитники свободы печати, — а дать им высказаться до дна и таким образом обнаружить всю их пустоту».
К середине июня в «карманной типографии» скопилось так много работы, что Баллод не выходил из квартиры по нескольку суток кряду. Сил хватало только набирать, печатать вручную он больше не мог. Он внес задаток фирме Сан-Галли за большой печатный станок и перевез в секретную квартиру на Выборгской стороне девятипудовый цилиндр с доской. Денег, чтобы рассчитаться за остальное, не было, станок бездействовал. И тут Баллод вспомнил о наборщике типографии комиссариатского департамента военного министерства, отставном унтер-офицере Горбаневском, у которого Жуковский доставал валик и краски. Тогда он сам предлагал свои услуги при покупке шрифта, рекомендовал ученика в наборщики, а сейчас он открыл собственную типографию. Утром 13 июня Баллод поехал в Коломну. В маленьком домике у церкви Покрова он разыскал наборщика и попросил его за хорошую плату напечатать нечто с готового набора. В тот же вечер наборщик донес начальству, что к нему обратился какой-то господин с просьбою отпечатать большое количество экземпляров набранного уже сочинения, что он обещал за эту работу большие деньги, а за неисполнение страшное мщение. Сделав оттиск, увидели, что это возмутительное воззвание к офицерам, с самыми сердитыми нападками и бранью на правительство. Начальник комиссариатского департамента генерал И. Д. Якобсон сам допросил наборщика и, отправив его под арест, написал доклад военному министру, проект отношения к генерал-губернатору с просьбой расследовать дело и письмо обер-полицеймейстеру об опечатании всех вещей в вольнонаемной типографии наборщика Горбаневского. Не подозревая о случившемся, Баллод весь день 14-го набирал «Что нужно народу?», надеясь и эту прокламацию отпечатать при содействии Горбаневского. Вечером Писарев принес ему окончание статьи в защиту Герцена, начало которой лежало у Баллода уже дней десять.
Статья-прокламация, начинавшаяся словами «Глупая книжонка Шедо-Ферроти», единственное бесцензурное произведение Писарева. Написанная по частному поводу, она, естественно, не содержит подробно разработанной социально-политической программы, но ее революционно-демократическая направленность несомненна. Эта статья — ключ к многочисленным метафорам и иносказаниям, к которым Писарев прибегал, излагая свои идеи на страницах «Русского слова». Под псевдонимом Шедо-Ферроти выступал барон Ф. И. Фирке, представитель российского министерства финансов за границей, добровольно взявший на себя обязанность защищать самодержавие в иностранной печати. Его брошюрка против Герцена, изданная в Берлине, была допущена к продаже в России. После долгих лет замалчивания самого имени Герцена началась полемика с ним внутри страны. «Глупая книжонка Шедо-Ферроти, — по мнению Писарева, — сама по себе вовсе не заслуживает внимания». Она любопытна потому, что из-за автора виднеется рука, «которая щедрою платою поддерживает в нем и патриотический жар и литературный талант». Брошюра — маневр правительства, члены которого не умнее своего наемника, но «надо же взглянуть в глаза нашим естественным притеснителям и врагам». «Умственный пигмей» и «сыщик III отделения» нападает на Герцена, сочинения которого строжайше запрещены в России. Брошюра, напечатанная за границей без цензуры, открыто продается в книжных лавках, сохраняя «заманчивость запретного плода». Но разбирать книгу, наполненную клеветой на человека, лишенного возможности защищаться, журналам запрещено. «Правительство, — заявляет Писарев, — сражается двумя оружиями: печатною пропагандою и грубым насилием, а у общества отнимается и то единственное оружие, которым оно могло и хотело бы воспользоваться». Писарев разоблачает мнимый либерализм правительства, реакционность умеренных либералов. Он отмечает, что в этих условиях остается или либеральничать с разрешения цензуры, или идти путем тайной пропаганды. Сама листовка-прокламация свидетельствует о личном выборе Писарева. Публицист на примере Александра II иллюстрирует свою мысль о роли личности в истории (уже неоднократно высказанную в журнале): «Посмотрите на Александра II: в его личном характере нет ни подлости, ни злости, а сколько подлостей и злодеяний лежит уже на его совести! Кровь поляков, кровь мученика Антона Петрова, загубленная жизнь Михайлова, Обручева и других, нелепое решение крестьянского вопроса, истории со студентами, — на что ни погляди, везде или грубое преступление, или жалкая трусость. Слабые люди, поставленные высоко, легко делаются злодеями. Преступление, на которое никогда не решился бы Александр II как частный человек, будет непременно совершено им как самодержцем всея России. Тут место портит человека, а не человек место». Мысли, выраженные в этой прокламации, не были случайны для Писарева. Враждебность к самодержавию была видна уже в «Оде на памятник Николаю I», написанной осенью 1859 года, а статьи в «Русском слове», начиная с «Идеализма Платона», наполнены протестом против всяческого деспотизма. Решимость Писарева сражаться на баррикадах, когда придет для этого время, засвидетельствована Хрущевым в декабре 1860 года, и это подтверждает весь пафос статьи о Базарове, написанной в феврале 1862 года. Однако непосредственного призыва к революционному действию в статьях Писарева до апреля 1862 года усмотреть нельзя. Более того, в статье «Базаров» содержалось предостережение молодежи против преждевременного выступления. Только в статье «Бедная русская мысль», написанной в апреле — мае 1862 года, содержатся намеки на приближение революционного взрыва. Вывод, к которому приходит публицист в статье-прокламации против Шедо-Ферроти, расшифровывает эти намеки. «Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляет единственную цель и надежду всех честных граждан России. Чтобы, при теперешнем положении дел, не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла». Обстановка в стране, репрессии правительства, усилившиеся в апреле — мае, послужили толчком для Писарева. Прокламация «Молодая Россия» окончательно убедила его в возможности и целесообразности немедленного революционного выступления. «Посмотрите, русские люди, — восклицал Писарев, — что делается вокруг нас, и подумайте, можем ли мы дольше терпеть насилие, прикрывающееся устарелою фирмою божественного права. Посмотрите, где наша литература, где народное образование, где все добрые начинания общества и молодежи. Придравшись к двум-трем случайным пожарам, правительство все проглотило; оно будет глотать все: деньги, идеи, людей, будет глотать до тех пор, пока масса проглоченного не разорвет это безобразное чудовище. Воскресные школы закрыты, народные читальни закрыты, два журнала закрыты, тюрьмы набиты честными юношами, любящими народ и идею, Петербург поставлен на военное положение, правительство намерено действовать с нами как с непримиримыми врагами. Оно не ошибается. Примирения нет. На стороне правительства стоят только негодяи, подкупленные теми деньгами, которые обманом и насилием выжимаются из бедного народа. На стороне народа стоит все, что молодо и свежо, все, что способно мыслить и действовать… Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть… То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу; нам остается только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы». Резкость тона и решительность призыва к свержению самодержавия ставят статью Писарева рядом с «Молодой Россией», влияние которой на прокламацию несомненно.
15 июня в 7 часов утра в домик Горбановского постучал посыльный Баллода, слуга меблированных комнат Иван Лисенков. Когда он предъявил хозяину экземпляр прокламации, его схватила полицейская засада. А в Нутра полиция нагрянула в меблированные комнаты на Васильевском острове. В каморке Баллода нашли пальмовый валик с отпечатками нескольких букв, рукописи прокламации «Предостережение» и статьи, начинавшейся словами «Глупая книжонка Шедо-Ферроти…», квитанцию на типографский станок… Во время обыска пришел человек от Жуковского, не ночевавшего дома, за какими-то бумагами — его задержали. Через некоторое время Жуковский прислал второго — он тоже попал в лапы полиции. Не дождавшись возвращения посыльных, Жуковский сообразил, что дело неладно, и поспешил скрыться. Баллод отвечать на вопросы отказался. Опечатав бумаги и вещи, полиция препроводила его в камеру при полицейской части. «…Дуралей, принесший позавчера набор возмутительного сочинения, — записал генерал И. Д. Якобсон 15 июня в дневнике, — сегодня утром прислал со своим наемным лакеем преисправный экземпляр воззвания и просил по этому экземпляру исправить ошибки в сделанном им наборе. Человека тотчас схватили, узнали квартиру пославшего его и вместе с ним и наборщиком Горбаневским отправились к нему на Васильевский остров. Господин этот нанимает крошечный нумер у какого-то кухмистера… К величайшему прискорбию, был он в Петербургском университете студентом. Его схватили, тотчас изобличили и в числе бумаг нашли еще безумное воззвание к молодой России. Со всеми уликами преступления повезли молодца в полицию, которая выпытает из него, без сомнения, полное сознание…» На другой день была обнаружена вторая квартира Баллода — на Выборгской стороне, в доме генеральши Максимович. Здесь полицию ожидала большая пожива: печатный станок, много шрифта и типографских принадлежностей, прокламации и заграничные издания. Доставленный туда Баллод подтвердил, что квартира и все найденные в ней вещи принадлежат ему.
Письмо А. А. Краевского и В. Д. Скарятина министр доложил царю, но оно осталось без последствий. 14 июня 1862 года были опубликованы для всеобщего сведения «Временные правила о цензуре», а на следующий день на основании 6-го пункта этих правил специальным циркуляром министра народного просвещения «Современник» и «Русское слово» были приостановлены на восемь месяцев. В понедельник 18 июня Чернышевский и Благосветлов посетили министра. Каждый из них был на приеме отдельно, но разговор повторился почти слово в слово. — Вы слишком вперед забегаете, — сказал Головнин, глядя на посетителя исподлобья. — Надобно ли думать, что остановка издания продлится действительно на весь восьмимесячный срок или она может быть отменена раньше? — спрашивал редактор. — Нет, раньше отменена не будет, — отвечал министр. — По окончании восьмимесячного срока будет ли позволено продолжать издание или надобно считать эту остановку равносильною решению уничтожить журнал? — Да, я советую вам считать издание конченым и ликвидировать это дело. — В таком случае можно ли рассчитаться с подписчиками изданием сборников? — Можно, — милостиво согласился вельможа. «Первое впечатление еще слишком живо и во рту слишком горько, чтобы рассказывать подробно об этом факте, — писал Благосветлов Мордовцеву в день опубликования циркуляра. — Значение еще не взвешено нами, последствия впереди, на руках так много дела, что я ограничусь одним простым извещением о предательствах Головнина и шалостях Валуева. Оба они — ребята тертые и знакомые с бюрократическим иезуитизмом. Соединив предупредительную цензуру с карательной, они изобрели кнут о двух концах — не тем, так другим, не по литературе, так по карману литератора можно стегнуть во всякое время, но во взаимном соглашении двух ослов. Ни суда, ни объяснения, а так просто взяли и запретили два журнала на 8 месяцев. Уведомьте меня хоть строчкой, как относится саратовская публика к этому факту. Если она промолчит равнодушно и апатично, тогда не стоит и возобновлять издания». «Кажется, закрытие обоих журналов продолжится до Нового года, — сообщал Писарев матери, — в этом интервале я не намерен писать в других журналах, потому что все они — дрянь; поэтому я думаю ехать в Грунец и жить там, покуда не откроется «Современник» или «Русское слово», или что-нибудь им подобное. Нужно уметь с достоинством переносить политическое поражение».
Донос Горбановского только ускорил арест Баллода. На его след полиция напала еще неделю назад, совсем с другой стороны. Ночью 2 июня загорелось уездное училище в маленькой Луге. Его поджег пьяный учитель Николай Викторов, который и донес сам на себя. Доставленный в Петербург, он назвал в числе своих знакомых студента Баллода и писателя Альбертини. Следователь принялся обрабатывать Викторова и продиктовал ему показания. На первом же допросе Баллоду предъявили обвинение в подстрекательстве к поджогу. Баллод отрицал это. Вызвали учителя: «Вот г. Викторов говорит, что вы велели ему поджечь Лугу». Тот возразил: «Нет, я этого не говорил». — «Как не говорили, позвольте, вот ваше показание», — стали копаться в бумагах, но почему-то ничего не нашли. Тогда следователь предложил: «Что ж, если вы отказываетесь от вашего показания, то дайте другое или разъясните, что сказали тогда». Викторов показал, что своими резкими отзывами о правительстве Баллод имел на него сильное влияние. Поджог он объяснил своим полным опьянением. Затем предложили вопрос Баллоду: «Где вы были во время пожара на Апраксином дворе?» — «В квартире Максимович», — отвечал он. Введенные две женщины-прислуги показали, что в этот день его не было дома. Ввели Лисенкова. Его едва можно было узнать. Дрожа и заикаясь, он нес чепуху. Слуга показал, что на другой день после пожара он сказал Баллоду: «Подлецы, как жгут», но услышал в ответ: «А откуда ты знаешь, что это подлецы?» На вопрос следователя: «Что это значит?» — Баллод ответил: «Если я это и сказал, то для того, чтобы узнать, что говорит народ о пожарах, а Лисенков, конечно, мог сказать кое-что об этом, так как постоянно торчал на базаре». Баллод показал, что его посещали многие знакомые, но никто из них ни в печатании, ни в распространении листков участия не принимал и об этих занятиях его не знал. Может быть, только его сосед по квартире, Николай Жуковский, об этом догадывался. «Колокол» он получал прямо по почте в конвертах, а другие заграничные издания купил у букиниста. «Найденное у меня при обыске сочинение относительно брошюры Шедо-Ферроти, — объяснял Баллод, — оставлено у меня в квартире на Васильевском острове при записке неизвестного мне человека, который обещал ко мне зайти после, — в это время меня дома не было. Часть этого сочинения оказалась на Выборгской стороне в квартире Максимович по тому случаю, что я, отправляясь туда, по ошибке взял с собой не всю рукопись. На отпечатание означенного сочинения я не был еще положительно расположен, потому что оно в некоторых местах требовало исправления». 20 июня свитский генерал Слепцов доложил высочайше учрежденной следственной комиссии, что царь лично приказал ему передать «непреклонную волю», «чтобы комиссия обратила преимущественно и безотлагательно внимание на действия арестованного при полиции студента Баллода». Через три дня петербургский обер-полицеймейстер Анненков, передавая дело Баллода в следственную комиссию, сообщил, что Баллод с 18 июня содержится в Петропавловской крепости, а Николай Жуковский, «которого, по мнению полиции, положительно можно подозревать в соучастии с Баллодом, из квартиры своей скрылся, и к розысканию его приняты полицейские меры».
Правительство было озабочено не только положением в столице. В Польше, всегда доставлявшей много хлопот царизму, росло и крепло национальное движение. С мая 1860 года оно то вспыхивало внушительной массовой демонстрацией, то вдруг на время затихало, тая неведомую угрозу. К осени 1861 года в Царстве Польском возникла обширная тайная организация, начавшая подготовку к восстанию. Внутри организации постепенно все большее влияние приобретало левое, революционное крыло — партия «красных», по своим взглядам близкая к русским революционным демократам. «Красные» установили тесные контакты с революционно настроенными русскими офицерами I армии, расквартированной в Польше, наладили выпуск прокламаций и подпольных газет, в мае 1862 года был создан руководящий орган партии — Центральный национальный комитет. Оживление деятельности «красных» и особенно пропаганда в войсках, расположенных в Польше, тревожила царское правительство. Еще в апреле по доносу была арестована группа офицеров, обвиненных «в распространении между нижними чинами крайне зловредных идей, имевших целью поколебать в них дух верности и повиновения властям». Военный суд приговорил трех из шестерых обвиняемых к смертной казни. 14 июня граф А. Н. Лидере, наместник Царства Польского, с благословения Александра II утвердил приговор. На следующий день товарищ осужденных подпоручик Андрей Потебня выстрелом из пистолета тяжело ранил Лидерса и, оставшись неузнанным, скрылся. На исполнение приговора это не повлияло: на рассвете 16 июня у крепостного рва Новогеоргиевской крепости поручик Иван Арнгольд, подпоручик Петр Сливицкий и унтер-офицер Франц Ростковский были расстреляны. На смену Лидерсу в Варшаву приехал брат царя, великий князь Константин Николаевич, пользовавшийся славой либерала. Вечером 21 июня портновский подмастерье Людвик Ярошинский выстрелил в упор в великого князя и ранил его. При допросе Ярошинский держался хладнокровно и отвечал, что поляки решили убивать всех наместников, которых будут к ним присылать. В день, когда в церквах служили молебны по случаю «спасения» Константина, 24 июня, члены офицерской организации устроили в военном лагере близ Варшавы политическую демонстрацию — панихиду по казненным товарищам. Варшава по числу арестов могла конкурировать с Петербургом.
27 июня следственная комиссия собралась почти в полном составе. На председательском месте важно сидел престарелый князь Голицын. По бокам длинного стола, покрытого красным сукном, торжественно восседали управляющий III отделением свитский генерал-майор Потапов, петербургский обер-полицеймейстер генерал-лейтенант Анненков и другие лица. Комиссия вернулась было к прежним показаниям Баллода, но он сразу же заявил, что там многое неверно. Расспросив подследственного о соседях по квартире и знакомых, комиссия особенно интересовалась прокламациями: от кого получал тексты, в каком количестве печатал, как распространял. Баллод показал, что листок «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти» напечатал сначала в количестве 125–150 экземпляров, а потом еще 300–400 экземпляров. Прокламацию «Офицеры» набирал с «Колокола» и напечатал во второй половине мая 70–80 экземпляров. С «Колокола» набрал и статью «Что нужно народу?». Статью о капитане Александрове получил по почте и напечатал 400–500 экземпляров, Отпечатанные листки разбрасывал сам на Васильевском острове, на Выборгской стороне около Медико-хирургической академии, на Невском проспекте и на Литейном, в кафе-ресторанах Еремеева и Доминика вкладывал листки в газеты или просто оставлял на столе. На вопрос комиссии о том, каких последствий он хотел достигнуть, распространяя прокламации, Баллод ответил, что это была шалость. «Действительно, — добавил он, — я иногда думал, что подобные листки склонят правительство на уступки, как, например, на свободу книгопечатания, но это было только между прочим». Особенно настойчиво комиссия допытывалась о связях с «Молодой Россией». На вопрос о том, как попала к нему эта ^прокламация и кто автор «Предостережения», Баллод изложил целую историю. Он рассказал, что в первой половине мая получил по городской почте письмо, приглашавшее его в Александровский парк. Он пошел туда и встретился с двумя незнакомыми господами, которые предложили ему вступить в революционный комитет, вручили в качестве своей программы «Молодую Россию» и назначили следующее свидание через неделю. На втором свидании Баллод оспаривал каждую строчку «Молодой России», считая ее крайне уродливой программой. Вступить в комитет он пока отказался, но обещал отпечатать листок, если он не будет иметь столь кровожадный характер. В начале июня он полудил новое письмо, на этот раз с приглашением прийти в Петровский парк. Здесь ему продиктовали «Предостережение» и дали денег на выкуп нового станка. Баллод обещал сделать работу к следующему воскресенью. Допрос был долгим и утомительным. Члены комиссии поочередно покидали помещение, чтобы проветриться и подкрепиться, а Баллод беспрерывно отвечал на вопросы и тут же повторял их в письменном виде. Священник Петропавловского собора Михаил Архангельский многократно увещевал подследственного. Комиссия не верила таинственной истории с неизвестными господами в Александровском парке. В конце дня, после очередного увещевания, Баллод, измученный долгим допросом, признал наконец, что «Колокол» получал от студента Лобанова, к печатанию приступил по совету студента Мошкалова, статья против Шедо-Ферроти дана литератором Писаревым… Комиссия постановила обыскать и арестовать всех троих. Баллод был отправлен в крепость с вопросными пунктами — он должен был повторить письменные показания, уличающие названных лиц. Баллод был уверен, что автора отыщут по почерку, и Писарев сочтет бесполезным отпираться. Он опасался, что Писареву поставят в вину не только авторство, но и недоносительство, а может быть, даже и соучастие в тайном печатании. Баллод надеялся, что тех нескольких дней, в которые он не называл автора статьи, Писареву было достаточно, чтобы скрыться за границу. «Я не хотел сказать фамилии писавшего статью против Шедо-Ферроти потому, — пытался он выгородить Писарева, — что знаю автора этой статьи очень хорошо как не революционера, но которого будут, как я думал, судить как революционера за высказанное им в конце статьи мнение в пользу революции. Причины, по которым он впал в крайность, два несчастья, постигшие его одно за другим. Коренева, которую он сильно любил и которую он считал давно своей невестой, вышла в апреле месяце замуж за другого. Второе несчастье — закрытие журнала «Русское слово», от которого он только и получал средства к жизни».
2 июля управляющий III отделением генерал-майор Потапов подписал два документа: предписание полковнику корпуса жандармов Ракееву об обыске и аресте Писарева и указание коменданту С.-Петербургской крепости генерал-лейтенанту Сорокину о заключении Писарева в отдельный каземат. В этот вечер Дмитрий Иванович, встав из-за стола после вечернего чая и пожелав спокойной ночи Поповым, долго сидел в своей комнате. «Меня решительно одолевает желание писать к тебе, — обращался он к бывшей невесте, — и я пишу, хотя совершенно уверен, что ты мне отвечать не будешь. Я даже не знаю, зачем я пишу, не знаю, что хочу тебе сказать, а так, есть какая-то неопределенная потребность вообразить себе, что я говорю с тобою. О прошлом, т. е. о последней истории, вспоминать не хочется не потому, чтобы я считал себя виновным, а потому что мне просто надоела эта непрерывная цепь глупостей с той и с другой стороны. Твой муж завершил эту цепь последним звеном, — длинным письмом ко мне, письмом, на которое я, конечно, не отвечал; пусть он воображает себе, что его верх, и пусть он думает обо мне все, что ему угодно. В отношении к тебе я исполнил все, что говорил тебе у Хрущова: я окончил сразу полицейское дело, я не назвал тебя в своих показаниях и я не вызвал его на дуэль, а объявил ему письмом, что жду его вызова. Теперь дело решительно кончено, и ты можешь преспокойно полнеть и здороветь в деревне. У нас, как тебе, вероятно, известно, случилось значительное событие: «Русское слово» и «Современник» закрыты на восемь месяцев, и я до нового года свободен, как птица' небесная. Я остаюсь совершенно без работы, но это меня нисколько не беспокоит. Я полагаю, что другие журналы приняли бы каждого из нас с большим удовольствием (т. е. Благосветлова, Чернышевского, Антоновича и меня), но, вероятно, ни один из нас не пожелает работать в другом журнале, потому что после закрытия «Современника» и «Русского слова» остается в русской журналистике такая сволочь, с которою порядочному человеку совестно связываться. Чтобы не работать в других журналах…» Надрывный звон колокольчика, тяжелые шаги по лестнице, громкие голоса. Дверь широко распахнулась, и в комнату, гремя саблями, вошли три офицера — двое с красными воротниками, один в голубом мундире. За ними толпились еще какие-то незнакомые люди — в полицейских мундирах и в штатском. Позади стояли перепуганные Поповы. Вошедшие отрекомендовались: — Полковник Золотницкий. — Полковник Ракеев. — Подполковник Сербинович. Полицеймейстер, представившийся первым, предъявил предписание. Подполковник, пристав исполнительной Васильевской части, с несколькими полицейскими прошел на половину Поповых. Жандармский полковник, немолодой и приземистый, с воспаленными глазами, с лицом, попорченным оспой, уселся за письменный стол и, выдвигая поочередно ящики, стал вынимать из них бумаги. Просматривая рукописи и письма, он складывал их в ровные стопы и говорил не умолкая: — А знаете-с, молодой человек, ведь я тоже-с в некотором смысле причастен к литературе… Тело Пушкина препровождал-с… Один я, можно сказать, и хоронил его… Да-с, великий поэт был Пушкин, великий!.. И я теперь попаду в историю… Да-с!.. Опять же у сочинителя Михайлова бывал-с… с обыском… и у других-с… Вот с вашими* писаниями знакомлюсь… Будут-с и еще литературные знакомства… Не сомневайтесь, молодой человек. Сидевший напротив полицеймейстер изредка брал из стопы какую-нибудь бумагу, рассеянно читал ее и клал обратно. Закончив осмотр бумаг, оба полковника стали перебирать книги, отыскивая запрещенные. Возвратившийся тем временем подполковник наблюдал, как два унтер-офицера обыскивали комнату: передвигали- мебель, приподнимали ковер, рылись в постели. Два понятых в штатских сюртуках, проявляя чрезмерное любопытство, норовили всюду успеть, они сновали по комнате, то бесцеремонно читая бумаги, лежащие на столе, то услужливо помогая ворошить белье в сундуке. Дворник конфузливо переминался с ноги на ногу у самых дверей. Не прошло и часа, как все было перевернуто вверх дном, бумаги и книги увязаны в четыре тюка, вещи сложены отдельно. Квартальный надзиратель, во все время обыска безучастно стоявший в сторонке, сел за стол и под диктовку полицеймейстера стал писать. Наконец процедура была окончена. Оба полковника встали из-за стола и предложили Писареву отправиться с ними. С такой свитой Писарев ходил впервые: впереди подполковник, квартальный надзиратель, дворник и оба унтер-офицера, рядом с ним — два полковника, а позади — понятые и десяток полицейских и жандармских солдат. Лестница сотрясалась от топота столь многолюдной процессии. У подъезда ждала карета. Арестованному предложили сесть на заднее сиденье, рядом с ним уселся жандармский полковник, напротив — два других офицера. На козлы вскочил унтер, кучер хлестнул лошадей, и карета понеслась по ночному Васильевскому острову — Средний проспект, Кадетская линия — и через Тучков мост на Петербургскую сторону. Миновав Большую Никольскую и Кронверкский проспект, карета резко свернула направо и въехала в каменную толщу крепостных ворот. Часы Петропавловского собора пробили полночь, когда карета остановилась у белого двухэтажного дома. В небольшой комнате, куда ввели арестанта, стояло несколько столов, на них горели свечи. В этот час канцелярия была почти пуста, только в углу у дверей дремал на стуле пожилой унтер-офицер, моментально ставший во фрунт, да в раскрытую дверь еще меньшей комнаты виднелась склоненная над ярко освещенным столом фигура. Услышав шум, из-за стола поднялся человек небольшого роста, с седой головой и полицейски-любезным выражением лица, одетый в сюртук с красным воротником, с орденом Станислава на шее. Делопроизводитель что-то сказал унтер-офицеру, и тот исчез. Через несколько минут явился высокий сухой старик в погонах генерал-лейтенанта — комендант крепости. Уединившись с полковником в маленькой комнате, оц что-то говорил низким лающим голосом. Затем все вышли в канцелярию. Делопроизводитель расписался в книге, которую ему протянул полицеймейстер, и три офицера, звякнув шпорами, вышли наружу. А еще через несколько минут арестованный в сопровождении плац-адъютанта и двух солдат брел по крепостным лабиринтам. Наконец распахнулись какие-то двери, короткий подъем по крутой лестнице, и перед Писаревым открылся длинный коридор, в конце которого виднелось окно в железном переплете. По обе стороны коридора — множество дверей, у каждой из них часовой. Часовые козыряли шедшему впереди плац-адъютанту. Щелкнул замок, одна из дверей растворилась, и плац-адъютант сделал рукой приглашающий жест…
Его Императорскому Величеству Государю Императору Александру Николаевичу Писарев принят в С.-Петербургскую крепость и заключен в отдельный каземат Невской куртины. Комендант С.-Петербургской крепости Генерал-лейтенант А. Ф. Сорокин 3 июля 1862 г.
Рапорты аналогичного содержания были направлены в тот же день военному министру, Санкт-петербургскому военному генерал-губернатору и управляющему III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии. На рапорте, адресованном царю, рукою шефа жандармов князя Долгорукова помета: «Доложено Его Имп. Велич. 4 июля».
V НЕЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Для теоретиков этот год был невыносимо тяжел. Разные совершенно нелитературные обстоятельства привлекали внимание общества к таким предметам, которые не поддавались спокойному анализу. Лирические восторги были в полном ходу.Д. Писарев
1. ЖЕРТВЫ ИСКУПЛЕНИЯ
Третье отделение давно искало прямых связей литераторов с революционным подпольем. И вот наконец удача. Рукопись ведущего публициста одного из радикальных журналов обнаружена в нелегальной типографии. Ниточка найдена. Остается лишь умело потянуть за нее, чтобы размотать весь клубок. Следственная комиссия с нетерпением ожидала показаний Писарева. Вдруг оказалось, что в письменном показании Баллода Писарев не назван. И вообще нет ответа по 12-му пункту — о тираже и времени напечатания прокламаций, о фамилиях лиц, от которых получены тексты воззваний, о способах распространения напечатанных листков. Вызванный в комиссию, Баллод объяснил, что ответ уничтожил, так как допустил в нем ошибку. Затем он признался, что разорванный лист бросил в печь. В каземат был послан офицер, который извлек из печи смятые клочки бумаги. Сделав Баллоду строгое внушение, комиссия дала ему новые вопросы. 4 июля комиссия рассмотрела полученные ответы и констатировала: «Баллод, сознаваясь в своих преступлениях, стремится, однако, к закрытию сообщников». Действительно он держался в рамках сделанных ранее признаний: подтвердил свои показания на Писарева, Яковлева, Мошкалова и Лобанова, но новых имен, фактов, подробностей не сообщил. Восемнадцатилетний студент Алексей Яковлев отсидел прошлой осенью два месяца в крепости за участие в студенческих волнениях. Арестованный вторично еще в мае за пропаганду среди солдат, он был заключен в ожидании военного суда в Трубецком бастионе. Его допросили 5-го. Он показал, что никаких прокламаций от Баллода не получал и печатать воззвание «Офицерам» не просил. Одновременно с Писаревым арестовали Лобанова; в комиссии выяснилось, что по ошибке взят Николай вместо Василия. На другой день это исправили. Студент Василий Лобанов, двадцати лет от роду, был арестован в первый раз в прошлом году как участник сентябрьских волнений в университете, затем привлекался по делу о распространении «Великорусса», но судом был оправдан. На допросе Лобанов отвечал, что Баллода знает хорошо по университету, но снабжать его «Колоколом» не мог, так как сам не имел ни одного номера. Мошкалова взять не удалось: еще в конце апреля он вполне легально уехал за границу. 6 июля Писарева привели на допрос. «Дмитрий Иванович Писарев, — отвечал он на первый вопросный пункт, — 21 год от рождения, православного вероисповедания, на исповеди и у св. причастия бываю ежегодно. Родители мои: отставной штабс-капитан Иван Иванович Писарев и Варвара Дмитриевна Писарева, урожденная Данилова, проживают в Тульской губернии, в Новосильском уезде, в сельце Бутырки. У меня две сестры, братьев нет. Состояние моего отца заключается в деревне или сельце Бутырках, около 600 дес. земли…» Подробно и обстоятельно ответил Писарев и на второй вопросный пункт — о знакомствах: «В Петербурге я знаком с графом Кушелевым-Безбородко, с г. Благосветловым, с Поповым, с г. Минаевым, с г. Крестовским, составляющими ближайший круг редакции «Русского слова»… В университете я был знаком с очень многими студентами… Встречался я у гр. Кушелева со многими литераторами и познакомился довольно коротко с г. Афанасьевым-Чужбинским, Палаузовым, Шишкиным, с братьями Тибленами, с Достоевскими, с Кремпиным… С другими редакциями я не сходился и только два раза был по делам журнала у г. Чернышевского». Легко справился Писарев и с ответом на третий вопросный пункт — об отношениях с Баллодом. При всей обширности этого ответа новых фактов он сообщил немного, ибо лишь перелагал заданные вопросы. «Со студентом Баллодом я познакомился, как сосед по квартире и как товарищ по университету. Видались мы с ним осенью 1860 г. и весною 1861-го почти ежедневно, осенью 1861-го реже, раз в неделю или в две, а с начала 1862 г., после того, как приятель мой, Владимир Жуковский, уехал в Уфу, я перестал бывать в доме Белянина и не видался с Баллодом до мая. В мае мы с ним встретились на улице; он упрекнул меня, зачем я его забыл; я обещал зайти к нему и звал его также к себе; потом я был у него раза два или три, и он у меня раза два, но застал меня дома только один раз. Когда — я бывал у Баллода ежедневно, то встречал обыкновенно наших соседей по квартире, играл с ними в карты; иногда мы пили вместе и принимали женщин. О политической деятельности своей Баллод мне ничего не говорил; иногда только, осенью 1861 г., соседи предупреждали меня, чтобы я не входил к Баллоду, потому что у него собрался интимный кружок. Не желая мешать их занятиям, я всегда пользовался этим предостережением и потому близких и доверенных лиц Баллода не знаю. Участия в действиях Баллода я не принимал. Я догадывался, что кружок Баллода имеет политические стремления, но так как сам Баллод никогда не говорил мне об этом, то я и не расспрашивал, чтобы не показать любопытства и навязчивости». Далее все застопорилось. Ему предъявили рукопись, содержавшую открытый революционный призыв: «Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть… То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу. Нам остается только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы». Он отвечал: «Я, кандидат С.-Петербургского университета Дмитрий Писарев, предъявленной мне статьи не писал и не сочинял…» Комиссия возвратила его в каземат. Действительному статскому советнику Каменскому было предложено ускорить рассмотрение бумаг Писарева, а генерал-губернатору сообщили, что срочно требуются опечатанные бумаги Попова. В день ареста Писарева Варвара Дмитриевна и Верочка были в Петербурге. Мать, убежденная в невиновности сына, сразу же принялась за хлопоты. Однако попасть на прием к начальнику III отделения оказалось непросто. В письме на его имя Варвара Дмитриевна выразила недоумение по поводу ареста и тревогу за здоровье сына. Она умоляла поскорее освободить его и выслать к ней в деревню.Среди бумаг скрывшегося Николая Жуковского комиссия обратила внимание на три документа: письмо неизвестной дамы, которая рекомендует Жуковского княгине Долгоруковой как человека, которому можно вполне довериться, и просит передать ему деньги, собранные в пользу Михаила Бакунина; письмо из Уфы, в котором задаются разные вопросы, в томчисле «что великорусс-цы?»; записку Василия Жуковского, в которой говорится: «Дядя посылает тебе 4 № «Колокола», один «Под суд» и один номер «Будущности». Если успеешь прочитать к завтрему, то завтра получишь следующие номера с Володей, а старые отдашь ему». 7 июля в Уфу пошла шифрованная депеша: «В Уфе проживают братья Василий и Владимир Жуковские. Доложив губернатору, арестуйте их сейчас одновременно, опечатайте все бумаги и книги, если найдутся запрещенные, и пришлите все это с самими Жуковскими в Петербург с жандармами, но каждого порознь; если там есть третий брат их Николай, губернский секретарь, то с ним поступите так же». Спустя десять дней уфимский жандарм доносил в III отделение, что братьев сейчас в городе нет, всего же их пятеро и «все они заражены в последней степени учением юной России и в настоящем виде суть лишь вредные члены семейства и общества». Обещая арестовать их по возвращении в город, жандарм оговаривал возможную неудачу: «Есть темный слух, что они имеют в Петербурге сведения об опасности их ожидающей». А между тем 8 (20) июля к политическому эмигранту князю П. В. Долгорукову, жившему в бельгийском курортном городке Спа, явился молодой человек с отличными манерами и объявил, что он пересек Бельгию специально, чтобы познакомиться с князем. На вопрос хозяина, с кем он имеет честь говорить, гость представился: — Я — Жуковский. — Как! — удивился князь. — Это вы, который имел счастье ускользнуть? — Да. А вы уже знаете об этом? — Разумеется. Князю был сообщен этот факт в письме из Петербурга. Николай Жуковский провел в Спа целый день. Он рассказал Долгорукову подробности провала «карманной типографии» и своего побега. Друзья в Петербурге снабдили его деньгами и всем необходимым, поляки помогли перейти границу, Через Германию и Бельгию он едет теперь в Лондон.
В тот самый день, когда за Писаревым захлопнулась дверь каземата, в Лондоне вышел очередной номер «Колокола». «В Петербурге террор, — писал Герцен, — самый опасный и бессмысленный из всех, террор оторопелой глупости… Правительство в белой горячке, вчерашние прогрессисты и либералы вместе с ним, на их стороне общество, литература, народ… И все это оправдывается петербургскими пожарами и последней прокламацией! «— Да когда же в России что-нибудь не горело?..» Герцен не понимает петербургской оргии страхов. Он обвиняет правительство в том, что оно не знает, откуда опасность, и, не ведая ни силы своей, ни слабости, наносит удары зря. Оно обещает, дразнит, но ничего не делает, «будит — и бьет по голове проснувшихся». «Юношеский порыв, неосторожный, несдержанный… не сделал никакого вреда и не мог сделать». Жаль, что вышла эта прокламация, но винить юношей за это нельзя. «Стыдно вам! — гневно бросает Герцен русскому обществу. — Вы всю жизнь молчали от страха перед дикой властью, помолчите же сколько-нибудь от страха будущих угрызений совести». «Наши жертвы искупления… — писал Герцен, — должны вынести двойное мученичество: народ их не знает, нет — хуже, он знает их за дворян, за врагов. Он не жалеет их, он не хочет их жертвы». Это «страшное историческое несчастье», «черные плоды черных дел». К этому привел вековой разрыв общества с народом. «Довершите ваш подвиг преданности, — обращается Терпен к пострадавшим от репрессий, — исполните великую жертву любви и с высоты вашей Голгофы и из подземелий ваших рудников отпустите народу невольную обиду его…» Извещение на последней странице предлагало издателям «Современника» и «Русского слова» продолжать их издание в Лондоне. Пройдет не меньше недели, прежде чем первые экземпляры «Колокола» попадут в Петербург, но тайной полиции предложение Герцена стало известно в тот же день. Кронштадтская таможня обнаружила недозволенный багаж у одного из пассажиров английского парохода. Владельца багажа Павла Ветошникова задержали. Случайности здесь не было: агент, засланный в Лондон, заранее сообщил, что при Ветошникове будут важные улики. И действительно, кроме большого количества запрещенных изданий, у него оказались письма лондонских изгнанников. В бумагах Ветошникова нашелся наконец долгожданный повод для ареста Чернышевского. В письме к Н. А. Серно-Соловьевичу Герцен спрашивал: «Мы готовы издавать «Современник» здесь с Чернышевским или в Женеве — печатать ли предложения об этом?» 7 июля Чернышевский и Серно-Соловьевич были заключены в отдельные казематы Алексеевского равелина. Туда же доставили и Ветошникова. Два дня спустя следственная комиссия начала производством новое дело — «о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами». Намечалась новая цепь обысков и арестов. Дело о «карманной типографии» в свете новых открытий становилось второстепенным.
9 июля Писарева привели в комиссию вторично. Ему снова предъявили рукопись статьи и одно из писем его, взятых при обыске. Продолжая все отрицать, он написал: «Я, кандидат Дмитрий Писарев, действительно писал предъявленное мне письмо, но статья, заключающая в себе возражения на брошюру Шедо-Ферроти, написана но мною, хотя почерк поразительно похож на почерк моей руки…» Чтобы сломить его упорство, было решено дать очную ставку… Допрошенный в тот же день Лобанов сознался, что дважды давал Баллоду «Колокол», полученный года два назад от студента Евгения Печаткина. Он подтвердил, что Баллод выражал желание получать «Колокол» регулярно, а Печаткин обещал это устроить и взял адрес Баллода. Арестовали Печаткина. Двадцатичетырехлетний молодой человек, брат известного книгопродавца и владельца бумажной фабрики, был уже знаком с крепостью, как участник студенческих волнений. Он был заметной фигурой среди студентов и пользовался в кружках влиянием. При обыске у него нашли записку, в которой его просят принести последние прокламации. (К счастью, не заглянули в почтовый ящик, где лежала их целая пачка.) По почерку комиссия установила, что записку писала Варвара Глушановская. Приказали обыскать ее и арестовать. Впоследствии Печаткин рассказывал, что уже в заключении он неожиданно получил товарищеский совет о том, что следует показывать, чтобы выйти сухим из воды. И он показал, что о конспиративной деятельности Баллода ничего не знает; ни ему, ни Лобанову «Колокола» не давал; с Глушановской встречался лишь на лекциях в университете, но близко не знаком. Лобанов, видно, страдал от неосторожной откровенности своих показаний. Встретив в крепостном коридоре друга, он крикнул ему: «Прости меня, Печаткин!»
Потапов — Писаревой, 9 июля 1862 года: «Милостивая Государыня Варвара Дмитриевна! На письмо Ваше от 6-го июля замедлил отвечать потому, что ожидал постановления комиссии, которая определила: собственно Вам принадлежащие вещи, взятые при арестовании сына Вашего, Вам выдать, а потому неугодно ли Вам будет прислать за ними в 3-е отделение Собственной ЕИВ Канцелярии к ДСС Каменскому; что же касается до свиданий Ваших, то, как я имею честь объяснить Вам, комиссия не считает себя вправе их дозволить впредь до разъяснения обстоятельства дела, по которому Ваш сын арестован. Сын Ваш здоров. Я видел его лично сего дня. Примите, М[илостивая] Г[осударыня], уверения и проч. А. Потапов».
На очной ставке 11 июля Баллод подтвердил свое показание. Писарев попытался выкрутиться. Он объяснил, что писал статью против Шедо-Ферроти для «Русского слова», запрещенную потом цензурой, и что именно ее имеет в виду Баллод, а не предъявляемую рукопись. «Я, вообще, говорил с Баллодом о моих журнальных работах, как о предмете, наиболее занимавшем меня, — показывал Писарев, — при этом я упомянул вскользь о статье по поводу Шедо-Ферроти, пожаловался на строгость цензуры, которая даже таких пустяков не пропускает, и когда Баллод просил показать ему запрещенную статью, я отвечал ему, что это ничтожная статья, которую не стоило ни читать, ни запрещать, ни отстаивать от цензуры. При этом я должен оговориться, что запрещенная статья моя не заключала в себе возражения на брошюру Шедо-Ферроти, а только группировку отзывов его о Герцене и Огареве. Она никуда не пошла и, вероятно, не сохранилась». Баллод не принял эту версию и настаивал на своем. Писарев был тверд: «Улик г. Баллода я не признаю и остаюсь при прежнем показании моем, данном в комиссии». В архивах III отделения и Петропавловской крепости не обнаружено никаких указаний на заключение Писарева в Алексеевский равелин. Тем не менее очевидно, это факт. В 1901 году некто Ив. Борисов напечатал в «Русской старине» воспоминания об Алексеевском равелине. В 1862–1865 годах, будучи совсем молодым человеком, он служил там помощником смотрителя. «На службе в равелине, — писал Борисов, — мне нередко приходилось встречаться с заключенными. В особенности я хорошо помню Чернышевского, Шелгунова и Писарева…» Борисов утверждает, что Писарев в равелине находился недолго и «вскоре был переведен в один из казематов самой крепости». Детали, которые рассказывает далее мемуарист, подтверждаются другими источниками. Кратковременное заключение Писарева в равелин могло случиться только в это время: его перевели сюда для устрашения после того, как он продолжал запираться на очной ставке.
Писарева — Потапову, 24 июля: «…Премного благодарю Ваше превосходительство за уведомление и ответ на мои просьбы; надеясь на Ваше милостивое снисхождение — ожидаю письма от сына и моих вещей, которые мне необходимы для отъезда. Молю Всевышнего, чтобы он не оставил моего несчастного сына, и поручаю его Вашему милостивому вниманию. Ваше Превосходительство! Когда он будет освобожден, прикажите ему немедленно ехать в деревню: ему надо отдохнуть от волнения, которое он должен был испытать; страшусь за его здоровье! Ваше Превосходительство! Не оставьте моего сына…»
Варвара Дмитриевна все еще не получила вещей, за которыми Потапов предлагал ей прислать две недели назад. Добиться аудиенции ей так и не удалось, и новым письмом она напомнила о себе жандармскому превосходительству. Любезный ответ Потапова содержал опять лишь обещания, и Писарева, благодаря за внимание, в третий раз излагает свои просьбы. Рукой Потапова на письме карандашом: «Все выдано». Дата не указана, но прошло, наверное, еще два-три дня, пока Варвара Дмитриевна смогла получить вещи и первое письмо сына из заключения. «Насчет моего здоровья, — писал Писарев, — ты с Верочкой можете быть совершенно спокойны. Я чувствую себя хорошо; сегодня ровно две недели с тех пор, как я в крепости, а между тем меланхолии, которой ты так боялась, не показывается. О положении моего дела не могу сказать тебе ничего, потому что сам ничего не знаю. Ради бога только, мой друг, Маman, не сокрушайся заранее, но смотри на дело спокойно и серьезно, не увлекаясь приятными надеждами. Ты спрашиваешь, ехать ли тебе в деревню, или оставаться здесь. Мне бы хотелось, конечно, чтобы ты осталась здесь, и я попрошу тебя это сделать, если только позволят это твои домашние дела… Обо мне вы обе, Maman и Верочка, не беспокойтесь, мне денег не нужно; у меня все казенное, и я сам, как человек казенный, пропасть не могу… Ну, кажется, все, больше писать не о чем. Крепко обнимаю вас и прошу обеих быть благоразумными — не плакать и не заболевать. Обнимаю Вас. Поклонитесь всем знакомым, в особенности М-me Гарднер, и пишите по возможности часто и много». Письмо было написано еще 17 июля и больше недели его продержали в III отделении. Уже это настораживало и заставляло думать, что все гораздо серьезнее, чем полагала Варвара Дмитриевна. И сын просит сам не увлекаться приятными надеждами. Что же делать? Остается ждать и готовиться к худшему. В Петербурге она больше ничем не может быть полезной сыну, а дома — дела. Получив наконец из III отделения вещи, Варвара Дмитриевна вместе с дочерью уехала в Грунец.
В первой половине июля подписчики «Русского слова» получили циркулярное письмо, в котором сообщалось о приостановке журнала по 13 января 1863 года и предлагались на выбор формы компенсации: возврат подписных денег за второе полугодие или зачет их в подписную сумму будущего года. «Самое же издание «Русского слова», — говорилось в письме, — передается графом Г. А. Кушелевым-Беэбородко Г. Е. Благосветлову, заведовавшему в продолжение последних двух лет редакцией». «Граф Кушелев отказался от продолжения «Русского слова» и передает мне его, — писал Благосветлов Мордовцеву 27 июля 1862 года. — Беру его с трепетом и страхом, но хоронить журнал навсегда было бы бесчестно в настоящую минуту. Я войду в долги, поставлю всю жизнь на карту, но буду продолжать. Ни цензура, ни даже равнодушие публики не разочарует меня, пока не увижу, что я ошибаюсь. Впрочем, о будущем всего меньше думается в настоящую минуту. Повсюду аресты и обыски. Писарев в крепости, — за что? Бог ведает эту тайну тайной полиции. Сколько я знаю, кроме журнальной деятельности, этот милый юноша ни во что не мешался. Чернышевский и Серно-Соловьевич тоже в крепости; я не безопасен, когда все пишущее берется и заключается в каземат. Чем все это кончится — неизвестно, но жить становится скучно, так скверно, что ничего путного не делается, ни о чем путном не думается. Положение мое невыносимо тяжелое, я работник, у которого отняли и труд, и кусок хлеба, и даже не потрудились объяснить, за что отняли. Страшная апатия, страшная тоска!» Ответ цензурного комитета на прошение графа Кушелева о передаче «Русского слова» задерживался. Министр народного просвещения запросил III отделение: «Не встречается ли с его стороны препятствий к позволению г-ну Благосветлову быть редактором и издателем «Русского слова». Потапов отвечал Головнину: «О сем я буду иметь честь объясняться с Вашим превосходительством лично». В июле следственная комиссия сообщила в III отделение, что «по рассмотрении бумаг, взятых в квартире литератора Писарева… и принадлежащих живущему в оной штабс-капитану Попову, оказалось, что сей последний состоял в противозаконных сношениях с литератором Благосветловым». Имелись в виду старые письма Благосветлова, писанные им Попову из-за границы в 1857–1860 годах, в которых откровенно высказывались весьма радикальные взгляды. Из писем также следовало, что Попов содействовал Благосветлову в контрабандной транспортировке в Россию большого количества заграничных революционных изданий. «Последствия… допросов в продолжение минувшей недели, — писал Голицын Потапову 5 августа, — указали на неблагонамеренность действий проживающих в С.-Петербурге прикомандированного ко 2 кадетскому корпусу гвардии штабс-капитана Попова и литератора, занимающегося в редакции «Русское слово» Благосветлова… Но имеющиеся в виду о сих лицах данные не могут еще служить достаточным поводом к принятию касательно их решительных мер и к их арестованию». Для большего разъяснения поступков этих лиц комиссия обращалась к управляющему III отделением с просьбой об учреждении секретного наблюдения за Поповым и Благосветловым. Надзор был установлен, а для начала тайная канцелярия поделилась с комиссией Голицына теми сведениями, которые уже имелись. «Благосветлов, — сообщал Потапов, — близкий знакомый Утина, один из сильнейших порицателей в Шахматном клубе, не чужд изданий «Великорусса» и «Земской думы».
21 июля владелица меблированных комнат Таисия Мазанова передала в III отделение письмо для своего бывшего постояльца. Она просила Баллода заплатить ей 386 рублей долга за квартиру и стол и, между прочим, сообщала, что Николай Жуковский скрылся. Проявилось ли в этом простодушие полуграмотной вдовы кухмистера? Или наивная попытка сообщить симпатичному квартиранту важную для него новость? А может быть, ей кто-то помогал сочинять письмо? Письмо Мазановой не было вручено адресату. Однако с его текстом узника познакомили. 26 июля в Уфе арестовали Василия и Владимира Жуковских. 4 августа они были доставлены в Петербург и заключены в отдельные казематы Невской и Екатерининской куртин. Затем комиссия попросила высочайшее повеление о вызове Николая Жуковского и Павла Мошкалова для ответа в Россию и передала его для исполнения в министерство иностранных дел. Население Петропавловской крепости быстро увеличивалось. После 31 мая, когда ранним утром вывели на гражданскую казнь Владимира Обручева, в Алексеевском равелине оставался только один узник — поручик Михаил Бейдеман, арестованный в августе 1861 года за намерение возмутить крестьян. 7 июля 1862 года в равелин прибыло сразу трое: Чернышевский, Серно-Соловьевич, Ветошников. К середине августа две трети покоев равелина были заняты. Разумеется, ни один из узников даже не подозревал о столь многолюдном соседстве. Три четверти казематов в Никольской, Невской, Екатерининской куртинах и в Трубецком бастионе были также заполнены. Арестанты содержались в тюрьмах при III отделении и при полицейских частях. И не только в Петербурге, но и в Москве, Варшаве, Киеве… Аресты и обыски шли по всей России. На квартире матери Хрущева в Курске полиция перевернула все вверх дном. Приехавший на каникулы Иван Петрович был перепуган смертельно. Он боялся за свой дневник, боялся за себя. Но все обошлось: ничего не нашли, самого не взяли, даже извинились. Страх, однако, остался. Хрущов был убежден, что его должны арестовать. Число жертв искупления росло.
2. «КОВАРНАЯ ЛЖИВОСТЬ» ЦЫПЛЕНКА
И августа через месяц после очной ставки с Баллодом Писарева вновь доставили в следственную комиссию. «Я вижу, что дальнейшее запирательство бесполезно и невозможно, — начал он свои показания, — и потому решаюсь разъяснить все дело. Разговор мой с Баллодом происходил, действительно, так, как показывает Баллод. Я принял его предложение и исполнил данное ему обещание. В разговоре с Баллодом я выразил раздражение против цензурных притеснений и вообще против отношений правительства к литературе. Баллод предлагал мне выразить это раздражение, и я согласился, потому что, во-первых, это предложение давало мне возможность вылить накопившуюся желчь; во 2-х, оно льстило моему авторскому самолюбию; в 3-х, оно было так поставлено, что не принять его значило бы обнаружить трусость. Вот побуждения, заставившие меня писать эту статью. Определенной цели у меня не было, потому что я не знал и не расспрашивал, каким образом Баллод намерен распространить мою статью. Я слышал от него только, что он может ее напечатать. Когда я стал писать, то уже увлекся за пределы всякой осторожности и благоразумия; я дал полную волю моему раздражению и обругал всех и все, что только попалось мне под руку. Статья эта, как и большая часть моих журнальных статей, писана без черновой, прямо набело, под впечатлением минуты. А впечатления эти были: закрытие воскресных школ и читален, закрытие Шахматного клуба, приостановление журналов «Современник» и «Русское слово», упразднение II отделения Литературного фонда. Все это волновало меня и отражалось на моей статье. Поэтому она написана резко, заносчиво и доходит до таких крайностей, которые я в спокойном расположении не одобряю». Четко формулируя ответы, Писарев в основном соглашался с версией Баллода. При этом он только сильнее подчеркнул свое раздражение на цензуру, побудившее принять предложение товарища, попытался обосновать невозможность отказаться от него и категорически уверял, что понятия не имел о наличии «карманной типографии». Кроме того, он настаивал, что статья писалась под впечатлением минуты. Комиссия была удовлетворена тем, что сломила упорство подследственного. Однако усомнилась в том, что под впечатлением минуты возможно доходить до таких крайностей, которые имеются в статье. Кроме того, следователи попросили объяснить причины столь долгого запирательства. «Что я действительно человек впечатлительный и сильно увлекающийся, — отвечал Писарев, — это доказывается, во 1-х, моим умопомешательством, о котором я упомянул в ответе на второй вопросный пункт. Сведения о моем темпераменте могут быть получены от докторов Штейна и Шульца, пользовавших меня во время моей душевной болезни; во 2-х, моею историею с г. Гарднером, о которой я упоминаю в ответе на 1-й пункт; в 3-х, моими карточными долгами, о которых говорится в 10 пункте. Написавши свою отчаянно резкую статью, я отдал ее Баллоду, который вскоре после того был арестован. Когда меня арестовали и привели в комиссию, я решил не сознаваться. Главною побудительною причиною моею в этом случае было нежелание набросить тень на ту часть журналистики, к которой я принадлежал. Я не хотел подать повода думать, что литераторы замешаны в тайной агитации, тем более что нелепые толки в обществе и даже в газетах (в «Северной пчеле» и в «Сыне отечества») приводили эту агитацию в связь с петербургскими пожарами. Так как я сам принял участие в агитации совершенно случайно, то я не хотел, чтоб мое неосторожное поведение повредило в каком бы то ни было отношении литераторам, с которыми я работал». Объяснения Писарева не убедили комиссию — неискренность их была вполне очевидна. Однако широких перспектив для следствия он не представлял, а уличать в неискренности столь упорного арестанта дело непростое и длительное. Стоит ли в таком случае тратить на него время? В руках комиссии находились куда более крупные фигуры и перспективные дела. Было решено удовлетвориться полученным признанием, но потребовать от Писарева формального раскаяния. Писарев исполнил это требование: «Объяснивши, таким образом, дело мое по чистой совести, — писал он, — я совершенно предаю себя правосудию комиссии. Находясь теперь в спокойном состоянии духа, решившись откровенно сознаться в моем преступлении, я осмеливаюсь обратиться к милосердию монарха, хотя чувствую, что не имею на то ни малейшего права. Я умоляю его величество не считать меня закоренелым преступником и взглянуть на мою преступную статью как на минутный порыв, а не как на выражение обдуманного плана действий. Я так молод, так способен увлекаться и ошибаться, так мало знаю жизнь, что часто не умею взвесить свои слова и поступки. Все это нисколько не оправдывает меня, но я уверен, что высочайше утвержденная комиссия повергнет эти обстоятельства на милостивое внимание его величества и что милосердие монарха даст мне возможность загладить последующим моим поведением совершенное мною преступление…» Это не письмо на высочайшее имя, как полагают некоторые исследователи, а только часть показаний — сама форма требовала обращения к императору. Баллод не ошибается в своих воспоминаниях — специального письма к царю Писарев действительно не писал. Баллод и Писарев сошлись наконец в своих показаниях. Новых открытий здесь комиссии ждать не приходилось. Но не откроется ли что-нибудь в другой области? Писарева попросили подробнее рассказать о своих отношениях с Благосветловым и Поповым. И здесь комиссию ожидало разочарование: хорошие, мол, дружеские отношения, и больше ничего. Затем комиссия задала несколько вопросов по бумагам, взятым при обыске. Его попросили объяснить одно место в письме матери от 18 сентября 1861 года, где она осуждает какой-то обед у Дюссо в честь каких-то «странных убеждений». Писарев ответил: «Обед у Дюссо 5 сентября давался мною в честь моей двоюродной сестры Раисы Александровны Кореневой, с которою я воспитывался и в которую был влюблен. В этот день — ее именин — я хотел их праздновать. На обеде присутствовали г. Баллод и Владимир Жуковский; нас было всего трое. Сестра моя сочувствовала любви моей, а мать моя смотрела на нее недоброжелательно, но почему она называет ее — «странными убеждениями», — этого я не знаю». Комиссию заинтересовало еще одно место из другого письма матери, от 18 января 1862 года, где она неодобрительно отзывалась о занятиях сына социальными вопросами. Он объяснил: «Моя мать была недовольна тем, что я редко пишу к ней; кроме того, ей не нравилось реальное направление мыслей, проявлявшееся в моих статьях для «Русского слова», поэтому она и отзывается с укоризною о социальных вопросах и ложной дороге». Ему предъявили клочок бумаги, на котором против десятка фамилий значились трехзначные и двузначные цифры. Он со смехом ответил, что это запись его карточных долгов. По поводу найденной у него карточки издателей «Колокола» Писарев показал: «Фотографические портреты Герцена и Огарева продаются почти во всех бумажных лавках. В одной из них я купил этот экземпляр. С этими лицами я незнаком и не имел с ними никаких сношений, ни личных, ни письменных; купил я их миниатюрный портрет из любопытства, как мог бы купить портрет Гарибальди, Кавура или Людовика-Наполеона». Его спросили, откуда у него иностранные книги, безусловно запрещенные в России. Писарев ответил, что все они куплены в разных магазинах иностранных книг в Петербурге. Вопросные пункты были исчерпаны, и комиссия сочла возможным возвратить Писарева в отдельный каземат Невской куртины. Обвиняемые по политическим делам, как правило, не заинтересованы в открытии суду истины и меньше всего думают о своих будущих биографах. Вступая в единоборство с властью, обвиняемый чаще всего стремится очиститься от обвинений сам или выгородить своих товарищей, оправдать практику кружка или партии, к которым он принадлежит, или даже пропагандировать определенные идеи и разоблачать правительственную политику. Преследуя любую из этих целей, подсудимый умышленно искажает истинную картину и представляет ее в выгодном для него освещении. Успех или неудача самозащиты подсудимого определяется также многими причинами: его личными качествами, обоснованностью и полнотой обвинения, личностями судей и методами следствия, поведением других подсудимых. Только с учетом этих обстоятельств можно понять тактику подсудимого и мотивы его поведения. И лишь они дают ключ к оценке правдивости показаний. Теоретически с этим согласны все. На практике же зачастую следственные материалы оказываются единственным источником, и — велик соблазн! — из них щедро черпают, забыв про осторожность. Биографы Писарева, за небольшим исключением, принимают все его показания за чистую монету, а раскаяние считают искренним. Могло ли быть иначе? Писарев, «хрустальная коробочка», способен ли он солгать? При этом забывают, что Писарев был совсем не глуп и, как утилитарист, руководствовался теорией «личной пользы». Не замечается, что бесцензурная статья против Шедо-Ферроти весьма близка по духу подцензурным статьям о Базарове и книге Пекарского. А ведь из этого следует, что «впечатления минуты» были гораздо обширней и продолжительней, чем это признает Писарев на следствии. Не принимаются во внимание и явные несуразности в показаниях: о «странных убеждениях», например, или о том, что Писарев мог бы вместо портрета Герцена и Огарева приобрести портрет Кавура или Наполеона III. Такой наивный подход, смешивающий норму поведения с вынужденной обстоятельствами тактикой самозащиты, не имеет ничего общего с научным анализом. Сам Писарев решительнейшим образом восстает против этого. Свой взгляд на поведение обвиняемого перед судом Писарев изложил в марте 1866 года в статье «Популяризаторы отрицательных доктрин», по стечению обстоятельств ставшей последней его статьей, написанной в каземате. Статья рассказывает о первом периоде французского Просвещения — о революции в умах, ставшей прелюдией великой революции 1789 года. «Герои свободной мысли, — пишет Писарев, — так недавно выступили на сцену всемирной истории, что до сих пор еще не установлена та точка зрения, с которой следует оценивать их поступки и характеры. Историки все еще смешивают этих людей с бойцами и мучениками супранатурализма»[5]. Можно ли судить Вольтера так же, как Яна Гуса? Справедливо ли обвинять философа нового времени в недостатке мужества, когда он уклоняется от той наши, которую Гус смело выпивает до дна? Нет, отвечает Писарев: «Утилитариста невозможно мерять тою меркою, которая прикладывается к мистику». В средние века идея олицетворялась в личности, в новое время идея сильна сама по себе — своей разумностью и убедительностью. У Гуса был расчет идти на костер, твердя то, что он считал за истину, его отречение сбило бы с толку тысячи его последователей. Другое дело Вольтер, который низвергал вековые авторитеты и стремился возможно шире распространить свои взгляды в обществе. Его идеи не нуждались в обаянии имени автора — они работали сами. Вольтер печатает свою книгу анонимно, она раскупается и производит впечатление. Власти в тревоге — ищут автора. Наконец требуют Вольтера, а он отвечает: «знать не знаю, ведать не ведаю». Читателей такое отречение не обманывает и не смущает («Как же! Держи карман! Дурака нашел! Так сейчас он тебе и признается»), а полицейских сыщиков и иезуитов лишает возможности мучить оппозиционного мыслителя. Писарев сравнивает поведение французского писателя с «коварной лживостью» цыпленка, «который улепетывает от повара, вместо того чтобы честно и мужественно стремиться в его объятия». Что бы вышло, если бы Вольтер признался? Его посадили бы в Бастилию. Кому это было бы выгодно — философам или иезуитам? Вольтерьянцы не разгромили бы Бастилию, и Вольтер просидел бы положенный срок, расстраивая свое здоровье, вместо того чтобы продолжать борьбу. «И все это, — иронизирует Писарев, — только для того, чтобы лишний раз удивить парижскую полицию честностью и мужеством. Нечего сказать: цель великая и достойная!» Мысль выражена предельно ясно: искренность и правдивость в полицейской камере совершенно неуместны. Публицист защищает Вольтера, а уж дело читателя сообразить, что это вынужденный прием, что Вольтер лишь повод для выражения взглядов автора. «Конечно, — заключает свои рассуждения Писарев, — все это очень похоже на тактику бурсаков в отношении к начальству; но что же делать? Бывают такие времена, когда целое общество уподобляется одной огромной бурсе. Виноваты в этом не те люди, которые лгут, а те, которые заставляют лгать». Этим сказано все: ложь не может быть моральной нормой, но другого выхода из положения пока нет. «Коварная лживость» цыпленка, улепетывающего от повара, заслуживает оправдания и поощрения. Можно ли в этом свете считать раскаяние Писарева искренним?Следствие по делу «карманной типографии» приближалось к концу. На новом допросе Яковлев сознался, что давал Баллоду «Полярную звезду» и «Колокол». Девятнадцатилетняя Варвара Глушановская, получившая, как и Печаткин, товарищеский совет, заявила, что в записке написала совсем не то, что было на самом деле. Ей просто хотелось самой прочесть воззвание «К офицерам», но она не была уверена, что Печаткин сможет исполнить ее просьбу. В тот же день Глушановскую освободили на поруки. Наконец допросили Жуковских. Владимир показал, что именно он познакомил брата Николая с Баллодом, но не знает, занимались ли они какой-либо политической деятельностью. Полагает, что Николай и сейчас в Петербурге. Насколько он помнит, Василий не посылал Николаю через него запрещенных изданий. «Дядей» называли Баллода, который действительно получал по почте «Колокол». Василий же показал, что Баллод в резких выражениях отзывался о правительстве, а в сентябре прошлого года играл роль вожака на студенческих сходках. Он сознался, что иногда брал «Колокол» у Баллода, который постоянно распространял сочинения Герцена. 11 сентября Баллода вызвали снова в комиссию и потребовали дать объяснения. Он отрицал свое участие в студенческих беспорядках: на демонстрациях в стенах университета не бывал и вожаком не держался. Но вообще студенческие демонстрации его забавляли как новость, и он с удовольствием рассказывал о них всем, в том числе и Жуковским, — верно, поэтому и прослыл у них за вожака. Запирался в комнате он с товарищами по Рижской семинарии, советовался с ними об устройстве коммуны. Сочинения Герцена ему нравились за остроумие, доставать их было последнее время очень легко, и он давал их всем, кто интересовался. Типографские принадлежности добыл Мошкалов, он же научил наборному искусству и помогал разбрасывать прокламации. К мысли о печатании прокламаций пришел под влиянием сочинений Герцена и «Великорусса», а непосредственной причиной было недовольство закрытием университета. 17 сентября следственная комиссия познакомилась с письмом Николая Жуковского, опубликованным в «Колоколе», где он извещал друзей о своем благополучном прибытии в Лондон. Одновременно комиссия получила уведомление министра внутренних дел о том, что высочайше поведено вызов Жуковского и Мошкалова приостановить, так как «в настоящее время представляется неудобным вызывать из-за границы политических преступников, тем более что самый порядок вызова ни законами, ни бывшими примерами не установлен». Вскоре Баллода вновь привели в комендантский дом. В небольшой комнате, где обычно арестанты ожидали вызова в комиссию, на сей раз сидел только один человек, сенатор Жданов. — Вы, пожалуй, не узнали меня, — обратился он к Баллоду. — Там, в комиссии, вы видели меня в ленте и орденах, а тут мы запросто побеседуем о вашем деле. И сенатор принялся доказывать, что дело очень серьезное и. что Баллоду грозит смертная казнь. — Но я постараюсь вам помочь, — продолжал Жданов, прикрывая дверь и вынимая из кармана номер «Колокола». — Я вам помогу, но вы не забудьте меня за это, когда ваша партия восторжествует. Ведь я уже стар и опасным быть не могу. Вот читайте: Жуковский сбежал в Лондон; валите все на него. Ему все равно там, а вам все-таки легче. О бегстве Жуковского Баллод уже знал, но в подлинность газеты не поверил. Он слыхал, что отдельные номера «Колокола» перепечатывались с изменениями в III отделении. Не желая попадаться на полицейскую уловку, Баллод ответил сенатору, что лгать не хочет. — Очень жаль, — сказал на это Жданов и приказал увести арестанта. Этот эпизод впоследствии рассказал сам Баллод в своих воспоминаниях. Он показателен: хотя высший гребень революционной волны остался позади, этого не сознавали не только революционеры, ожидавшие повсеместного крестьянского восстания весной 1863 года, но и некоторые представители верхов, испытывавшие чрезмерные страхи за свое будущее.
После 11 августа Писарев был вновь предоставлен самому себе. Однообразное и томительное одиночество несколько скрашивалось ежедневными прогулками в чахлом саду у комендантского дома. Ему их разрешили в начале сентября — полчаса после обеда в сопровождении двух конвойных и под надзором жандармского унтер-офицера.
Писарев — родным, 16 сентября 1862 года: «Cher Papa, Маman и Верочка! Давно я не писал Вам, но надеюсь, что вы на меня не будете сердиться. Желал бы также надеяться на то, что вы не будете тревожиться, но знаю, что эта надежда неосуществима. По тону твоего письма, душечка Maman, я вижу, что ты почти так же грустишь и беспокоишься, как в то время, когда я был у Штейна. Не знаю, как бы мне уверить тебя, что я действительно ни в чем не нуждаюсь и не чувствую ни малейшего страдания — ни физического, ни нравственного. С тех пор, как мы расстались с тобой, прошло уже более 2-х месяцев, и все это время я был совершенно здоров, расположение духа с начала до конца было самое ровное, светлое и спокойное. Я получил от тебя два письма, первое, писанное в Петербурге, второе — из Грунца; оба чрезвычайно обрадовали меня; родным воздухом повеяло; особенно приятные минуты доставило мне второе письмо, как более длинное и подробное. Дурно только одно: зачем ты, мама, так страдаешь? Хоть бы ты с Верочки пример брала. Она гораздо мужественнее тебя. Как бы мне хотелось сообщить тебе хоть незначительную часть моей беспечности, которая составляет счастливейшую черту моего характера. Зачем горевать? Ведь все же это со временем пройдет и понемногу забудется, как начинает забываться и мое пребывание у Штейна. Мне кажется даже, что эти волнения и испытания вместе с семейными событиями, совершившимися нынешнею весною, теснее приблизят меня к вам, а то я в самом деле начал превращаться в какую-то окаменелость. В жизни бывает хорошо получать столь сильные толчки. От этого крепнешь и умнеешь. Пишите, пожалуйста, побольше».
Два раза в месяц плац-адъютант приносил письма от матери и оставлял листок писчей бумаги для ответа. На следующий день он брал готовое письмо у заключенного и сдавал его в канцелярию крепости. Здесь оно могло пролежать несколько дней: его прочитывали писаря, а нередко и сам комендант. Письмо поступало затем в III отделение, где с ним тоже внимательно знакомились. В среднем проходило около двух недель, пока письмо сдавалось на почту. Бывало, однако, что письма задерживались на более длительные сроки или даже исчезали совсем. В архиве III отделения лежит письмо В. Д. Писаревой к сыну от 27 сентября 1862 года. Оно не было вручено адресату, так как написано по-французски. Но прочитать его Писареву позволили — мать беспокоилась, что от него долго нет вестей. Там же ответ Потапова: препровождаю письмо сына от 6 октября. Следующее письмо матери Писареву вручили, а затем опять был большой перерыв.
Писарев — родным. 2 ноября 1862 года: «Все идет по-прежнему: я здоров, спокоен и ни в чем не нуждаюсь. Жду известий от вас, потому что последнее письмо ваше от 7 октября я получил с лишком две недели тому назад. Завтра будет ровно четыре месяца с тех пор, как я арестован; наступает зима, и я мог бы пожалеть о потерянном лете, если бы имел дурную привычку жалеть о том, что прошло, или жаловаться на то, что нельзя переделать. Больше нечего писать. Обнимаю Вас, Верочку и Катю. Пишите, пожалуйста, непременно по-русски».
Невиннейшее письмо. Но что-то в нем — упоминание ли об аресте или намек на умышленную задержку писем — пришлось не по вкусу крепостному начальству, и оно было задержано. Свою роль, однако, оно сыграло: письмо матери, залежавшееся в III отделении, было Писареву вручено, и 14 ноября он получил возможность на него ответить. Писарев нежно успокаивал мать, советовал десятилетней Кате «не откладывать для него лучшие яблоки, так как они могут испортиться», и специально обращался к Вере: «Я особенно благодарен тебе за то, что ты веришь моему спокойствию и понимаешь, что в нем нет ничего искусственного. Действительно, это сфера моего эгоистического характера». Письма любимого сына и брата в Грунце ожидали с нетерпением. Они читались вслух соседям, выписки из них посылали родным и знакомым. Самая небольшая задержка очередной весточки из крепости вызывала острую боль, панические мысли и полные отчаяния послания близким. Порой у Варвары Дмитриевны, при всем ее сильном характере и громадной энергии, опускались руки. Но она не могла позволить себе раскисать. Имение еще раз было перезаложено, и ее занятия музыкой с дочерьми соседних помещиков были единственным источником существования всей семьи. А главное, предстояли еще хлопоты за освобождение любимого сына. 18 ноября Варвара Дмитриевна обращается к Потапову: «Здоров ли сын? С начала октября ничего о нем не знаю». Запрос возымел свое действие — письма Писарева от 2 и 14 ноября были отправлены по назначению. Более того, ему было разрешено написать внеочередное — третье в этом месяце — письмо.
Писарев — матери. 27 ноября: «Друт мой Maman! Меня чрезвычайно удивляет и огорчает то, что ты не получаешь моих писем и беспокоишься об моей участи. Повторяю тебе еще раз то, что я писал тебе 6-го октября, именно: я пишу к тебе аккуратно два раза в месяц. Кроме того, я умоляю тебя, убедись ты в том, что я совершенно здоров и что беспокоиться обо мне решительно нечего; если бы и случилось так, что пройдет несколько лишних недель между двумя моими письмами, то и тогда не следует тревожиться; ведь сколько раз уже это случалось, и постоянно оказывалось, что все идет по-прежнему и что не произошло никакого несчастия… Все, что я могу сказать тебе о себе, все это уже сказано выше, в этом же письме; я здоров, следовательно, спокоен. Особых известий нет, а это в своем роде хорошее известие. Прощай! Крепко обнимаю тебя, папашу, Верочку и Катю. Поздравляю Катю с прошедшим днем рождения и ангела (17 и 24 ноября), а тебя, друг мой мамаша, с будущими именинами (4 декабря). Прощайте!»
26 ноября следственная комиссия просила разрешения царя отделить производство следствия о Баллоде, Писареве, Лобанове, Печаткине, братьях Жуковских и Мош-калове от общего дела о распространении возмутительных воззваний и первых четырех предать суду сената. Александр II все утвердил. Еще через два дня комиссия дала свое заключение по делу «карманной типографии».
«По производству следствия оказались виновными: 1) Баллод, по собственному сознанию: а) в печатании возмутительных воззваний: «Офицеры» в количестве 80-ти экземпляров, «О капитане Александрове» около 500 экземпляров, «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти» около 650 экземпляров; б) в распространении этих воззваний посредством разбрасывания их на улицах и в гостиницах; в) в покушении распространить таким же образом листок «Что нужно народу», который уже был набран Баллодом; г) в имении у себя в количестве 9-ти экземпляров в высшей степени возмутительной прокламации под заглавием «Молодая Россия», о приобретении коей Баллод неосновательно показывал, что будто получил оную от членов какого-то революционного комитета, с которым имел тайные свиданпя в Александровском парке, и д) в заказе наборщику Горбаневскому напечатать возмутительный листок под заглавием «Офицеры», который Горбаневский представил начальству. 2) Писарев — также по собственному сознанию, в сочинении статьи возмутительного содержания под названием: «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти» и в передаче оной Баллоду для напечатания и распространения».
7 декабря князь Голицын доложил следственной комиссии, что царь утвердил заключение: дело о Баллоде, Писареве, Лобанове и Печаткине передается на рассмотрение правительствующего сената, а бежавший за границу Н. Жуковский и находящийся за границей с дозволения начальства П. Мошкалов вызываются в Россию для дачи показаний.
3. «ОБО МНЕ БЕСПОКОИТЬСЯ НЕЧЕГО»
Как две капли воды похожи друг на друга дни одиночного узника. Проснувшись утром на узкой и жесткой кровати, не хочется открывать глаза, настолько все вокруг опостылело. Все те же грязные, закопченные стены, закругленный в одну сторону свод, два больших полукруглых закрашенных известью окна с толстымижелезными решетками в глубоких темных амбразурах. Узкое зеркало небольшой печи, топка которой выходит в коридор. Все тот же стол с оловянной кружкой на нем, деревянный стул, закрытый крышкой ящик в углу — параша… В Невской куртине не так сыро, как в равелине. Зато гораздо жестче постель (тюфяк и одна из двух подушек набиты соломой, одеяло из солдатского сукна) и значительно хуже еда (в равелине на содержание «благородного» арестанта отпускалось 50 копеек в сутки, здесь половина этой суммы, правда, с октября добавили пятачок). Нет здесь и зловещей тишины равелина, но почти несмолкающая симфония звуков, наполняющих каземат, еще отвратительнее. Надрывистый и острый кашель в соседних камерах и топот солдатских сапог в коридоре. Бряцанье замков и смачная брань часового, раздосадованного на кого-то из заключенных. Гудки пароходов на Неве и выстрел над самым ухом из крепостной пушки, возвещающий полдень. Бой курантов Петропавловского собора и их назойливая музыка. От всего этого можно сойти с ума. Когда прибывает вода в Неве, над головой несколько раз в сутки раздаются залпы десятка пушек, предупреждающих петербуржцев об опасности наводнения. А в царские дни стены каземата дрожат от пушечной канонады. Вставать не хочется, но и лежать дольше невозможно. И не только потому, что болят бока от жесткого ложа. В каземате стоит дикий холод — протопленная с вечера печь давно остыла. Но при этом почти нечем дышать: постоянный запах затхлой сырости, сдобренный коридорными ароматами — вонью от фонаря и кожаных сапог, — за ночь смешивался с чадом ночника и спертым воздухом от дыхания сидящих в коридоре солдат. Стуча зубами, узник облачается в казенную одежду — халат, похожий на больничный, чулки, солдатские башмаки. Одевшись, быстро открывает форточку, хотя помогает это слабо — она слишком мала. Иногда же, при сильном ветре, в нее влетают новые запахи и кухонный чад — из подвала. Чтобы согреться, заключенный начинает быстро ходить взад-вперед: десять шагов вдоль одной стены, восемь — вдоль другой, тринадцать по диагонали. Только бы не задуматься слишком, чтобы не стукнуться головой о закругленный свод. Если встать на стул, можно высунуть нос в форточку и узнать, какая погода на дворе. Увидеть же почти ничего не удается: только пустой угол садика перед комендантским домом да кусок забора, огораживающего этот сад. Писарев сидел в нескольких камерах Невской куртины, но ему ни разу не повезло: казематы на противоположной стороне коридора выходили окнами на Неву — там можно было видеть широкую водную гладь реки, пароходы и лодки, скользящие по ней, и маленькие фигурки катающихся людей — совершенно свободных и совсем непричастных ц крепости. Время от времени заключенный слышит характерный скрип: это часовой в коридоре поднимает железную шторку оконца в двери, чтобы сквозь стекло убедиться, что арестант на месте. Можно мгновенно среагировать на знакомый звук и показать часовому язык или скорчить рожу. Но это забавы начинающих. Со временем узник перестает обращать внимание на такую мелочь, которая повторяется, по крайней мере, двадцать раз в сутки. Убедившись в сохранности арестанта и в полном его одиночестве, часовой через секунду опускает шторку. В десятом часу, иногда и позже в коридоре слышится окрик: «Старшего!» Затем гремят ключи, и в камеру буквально врываются несколько солдат во главе с унтер-офицером. Следом за ними входит плац-адъютант. Начинается знакомая пантомима. Один солдат бросается к ночнику — тушит его и заправляет маслом, затем хватает кружку на столе и наполняет ее водой, он же выносит парашу. Двое других энергично махают метлами по сухому полу или — это бывает дважды в неделю — поливают его водой и размазывают грязь швабрами. Еще двое вносят табурет и таз, один из них подает узнику кружку с водой, помогая умываться. Становится теплее — снова затопили печь. Иногда появляется еще один солдат — он кропит стены и пол какой-то жидкостью и курит на раскаленном кирпиче квасом. Воздух в каземате от этого свежеет, хотя совсем ненадолго. Так же стремительно, как и появились, уборщики удаляются. Им на смену входят новые солдаты: один несет большой медный чайник, весь черный от копоти, и глиняную кружку, другой — корзину с белыми булками. Оставив булку, два куска сахара и налив кружку горячего чая без вкуса и запаха (на завтрак больше ничего не полагалось), и эти солдаты удаляются. Пока — в полном молчании — все это происходит, дверь распахнута настежь, и в каземате находятся жандармский унтер-офицер и дежурный плац-адъютант. Только к одному из них можно обратиться с вопросом, хотя в ответ услышишь лаконичное «да» или «нет». Если рядом нет унтера — двое из трех плац-адъютантов позволяют себе вступать с узниками и в более пространные разговоры. Оставив на столе десять папирос — суточную норму, — уходит и дежурный. После завтрака дверь в каземат запирается, и до обеда узник остается один. Эти несколько наиболее светлых дневных часов заключенные обычно проводили за чтением. Впрочем, светлыми эти часы можно назвать лишь с большой натяжкой. В камере всегда стояли сумерки: даже в полдень, лежа на койке, читать было невозможно. Читал ли что-нибудь Писарев в первый год своего заключения? Сведений об этом нет. В крепости имелась библиотека, и желающие могли получать оттуда религиозные сочинения, романы первой половины века, книги о путешествиях и исторические исследования, журналы десяти-двадцатилетней давности. Были книги на немецком и французском языках. Конечно, такой выбор литературы не вызывал особого энтузиазма у заключенного. Но все же, если нет ничего другого? Известно, кроме того, что другие заключенные, Михайлов и Чернышевский, например, пользовались собственными книгами, взятыми при их аресте. Можно полагать, что и Писареву была предоставлена такая возможность. Иногда в дневные часы каземат посещало начальство! довольно часто — крепостной плац-майор, очень редко — комендант, а как-то раз — сам генерал-губернатор. Комендант Сорокин, сухой формалист, ограничивался краткими вопросами о здоровье арестанта и его претензиях. Он задавал их отрывистым, лающим голосом и почти не слушал ответов. Зато добрый плац-майор старался подбодрить узника теплым словом и шуткой. Около двух часов пополудни опять гремели ключи и снова врывались солдаты — несли обед из двух блюд (по воскресеньям и в праздники к ним добавлялся пирог). Обед отличался разнообразием, ведь он предназначался для «благородных арестантов». Сам комендант крепости каждые полгода утверждал семидневную раскладку. Но продукты были крайне низкого качества (при петербургской дороговизне на отпускаемые средства трудно было достать лучшие, не обходилось и без воровства), а приготовление — из рук вон. Как бы суп ни назывался, он всегда был только мутноватой горячей водичкой; макароны сваривались в какую-то плотную массу, масло было всегда прогорклое, а мясо следовало бы рубить топором (здесь его подавали цельным куском — приходилось рвать зубами). Хлебодары и чаечерпии появлялись в каземате еще один раз — в семь вечера. На ужин полагался снова чай с белым хлебом и второе блюдо с двумя ломтями черного. И еще однажды открывалась дверь в камеру — летом случалось это после ужина, зимой значительно раньше, — солдаты входили зажечь ночник. По инструкции каземат должен был освещаться в июне 4 часа, в сентябре — 11, а в ноябре — 18 часов в сутки. Ночи тянулись томительно долго. При скудном освещении читать невозможно, неуютная постель не манит, да и нельзя же ежедневно спать по 18 часов. Правда, до десяти вечера разрешается жечь стеариновую свечу, но это — за свой счет. Широким черным столбом поднимается вверх копоть от ночника на окне. Рядом, на оконном косяке, — слабая полоска от наружного фонаря. На сводчатом потолке веером отражается застекленная рама над дверью. В коридоре — мерные шаги часового, тяжелый храп спящих солдат. Звон курантов в ночной тишине значительно громче. Прогоревшая печь постепенно остывает, все сильнее чувствуется сырость. Свернувшись в комок под тонким одеялом и набросив сверху халат, узник наконец засыпает. За ночь раза три он пробуждается от громкого стука и крика. Часовой, приподняв железную шторку глазка, стучит в стекло и, прижавшись к нему лицом, кричит: — Ночник! Надев на босу ногу башмаки, заключенный подходит к окну и лучиной поправляет обгоревший толстый фитиль. И так изо дня в день. Узник не живет, а гаснет. Он чувствует себя заживо погребенным, и вся его прошлая жизнь представляется каким-то сказочным сном. Оставленные на воле родные, близкие, друзья кажутся нереальными тенями, а далекая жизнь за стенами каземата с ее суетой — каким-то иным, совершенно невероятным миром. Человек может привыкнуть ко всему, но примириться с этой ежедневной нравственной пыткой невозможно. В душе узника непрерывно переливается вся сложная гамма человеческих чувств — от абсолютной апатии до яростной злобы. Но изменить что-либо он бессилен, и ему остается, смирив свою ярость, механически следовать ритму тюремной жизни. Только постоянная работа мысли помогает узнику сохранить бодрость духа, отвлекая его от окружающей обстановки. Разнообразие вносили прогулки. Так приятно снимать казенную одежду и облачаться в собственный костюм. Надеяться на случайные встречи, на новые впечатления. Полной грудью вдыхать свежий воздух. Однако случайности были редки, а полчаса — это так мало. Скоро и прогулки стали такой же механической обязанностью, как все остальное. Устойчивое удовольствие доставляла лишь баня — дважды в месяц вымыться, выпариться, одеться в чистое белье (пусть грубое и колючее) и хоть несколько часов почувствовать себя снова человеком. Истинную же радость заключенный испытывал, лишь получая письма из дома.Писарев — матери, 30 декабря 1862 года: «Старый год совсем кончается, и ты, друг мой мамаша, вероятно, уже получила то письмо, в котором я поздравляю Вас всех с наступающим Новым. Недели полторы назад я получил твое письмо от 4-го декабря, и чувствую потребность поговорить с тобой серь^ евно и по душе: меня тревожит и огорчает твое уныние; я начинаю бояться за твое здоровье, с которым ты вообще обходишься с не простительной небрежностью. Ты говорила и писала мне несколько раз, что желала бы всеми силами души разделить со мною заключение, и вообще как-нибудь облегчить мое положение, которое, неизвестно почему, представляется тебе и всем вам невыносимо тяжелым. Я, конечно, вполне верю искренности этих теплых слов; я бы знал, что ты так думаешь и чувствуешь, если бы даже ты этого не писала; если бы я в чем-нибудь нуждался, и если бы ты могла помочь мне, принеся лично какую-нибудь тяжелую жертву, я бы, не задумавшись, попросил у тебя этой жертвы, потому что я уверен, что ты с радостью пожертвовала бы собою для меня, или вообще для кого-нибудь из твоих детей. Все это я знаю, но вот в чем дело: непосредственно для меня ты ровно ничего не можешь сделать, а между тем от тебя и от тебя одной зависит поддержать до конца то спокойное и светлое настроение духа, которое не оставляло меня ни на минуту с первого дня моего ареста. Сделай так, чтобы я мог быть уверен, что, как бы долго ни продолжалась наша разлука, я, при свидании, увижу тебя здоровою и спокойною… Я знаю, что слово долг производит на тебя магическое действие, и потому, становясь на твою точку зрения, показываю тебе, как тесно связаны заботы о твоем здоровье с моим душевным спокойствием, которое существенно необходимо в моем положении. Ради бога, не отнимай у меня этой твердости и спокойствия. Подумай, каково бы мне было, если бы я тосковал и грустил все это время. А если мне придется бояться за твою жизнь и думать, что мои поступки кладут тебя в могилу, то согласись, что тут не устоит никакая твердость. Только, пожалуйста, не вздумай хитрить со мной. Я хочу и должен знать все, что с тобою делается. Если ты решишься скрывать от меня настоящее положение твоего здоровья, то ты сделаешь еще хуже. Я сейчас увижу, что в письме есть недомолвки, и когда недоверие будет возбуждено, то уже нельзя будет его уничтожить. Я буду воображать себе бог знает что, и спокойствие все-таки будет нарушено. Я знаю твою твердую волю, друг мой мама, пойми только, что ты должна быть здорова, и я уверен, что так и будет. О себе скажу вам коротко: здоров и спокоен. Обо мне вообще беспокоиться нечего; я не хрупок и не чувствителен…»
Дело о «карманной типографии» в самый канун Нового года было направлено в правительствующий сенат. В связи с этим управляющий III отделением Потапов написал частным образом госпоже Писаревой, что письма сыну впредь следует адресовать на имя коменданта Петропавловской крепости.
4. ПЕРЕД СУДОМ СЕНАТА
8 января в присутствии I отделения 5-го департамента правительствующего сената слушали предложение управляющего министерством юстиции с изложением высочайшего повеления о предании суду сената Баллода, Писарева, Лобанова и Печаткина. Генерал-губернатору было предложено в будущий четверг 10 января представить — в сенат каждого подсудимого отдельно. Около полудня Писарева вывели на крепостной двор. У комендантского дома стояла четырехместная извозчичья карета. Незнакомый штабс-капитан, переговорив о чем-то с крепостным плац-адъютантом, открыл дверцу, приглашая сесть. Сам он сел рядом с Писаревым, напротив поместились два жандарма. Неплотно задернутые занавески из тафты позволяли видеть, что карета движется по Троицкому мосту и Дворцовой набережной. Въехав в арку сената, карета остановилась. Во дворе стояло много экипажей. Жандармы быстро выскочили из кареты и, обнажив палаши, стали по обе стороны двери. Следом за штабс-капитаном вышел и Писарев. В том же порядке — впереди полицейский офицер, за ним узник, а по бокам жандармы — двинулись по двору к подъезду у самых ворот, затем поднялись по лестнице. Писарева ьвели в небольшую комнату и предложили сесть. Через четверть часа дверь присутствия распахнулась, и оттуда вышли какой-то поручик, затем Баллод, следом два жандарма. Писарев привстал, желая приветствовать друга. Невысокий, полный, затянутый в мундир господин с корявым и тупым лицом — обер-секретарь Кузнецов — вышел из присутствия и сказал Писареву, глядя поверх его головы: — Пожалуйста! Писарев вошел. Следом — сопровождающий его штабс-капитан и жандармы, ставшие по обе стороны двери. Длинный стол, покрытый красным сукном, украшенный зерцалом. За ним — пятеро старцев сенаторов. Самому молодому из них около шестидесяти. Парадные мундиры сверкают — золотое шитье, цветные ленты, шнуры, ордена. На лицах неподвижная важность. Во главе стола — первоприсутствующий: умные глаза на хитро-злобной физиономии под шапкой длинных торчащих волос, — Матвей Михайлович Карниолин-Пинский, тайный советник. В молодости он был учителем провинциальной гимназии, потом преподавал декламацию в театральной школе и писал водевили. И вот уже тридцать восемь лет отправляет правосудие, из них тринадцать присутствует в сенате, а с прошлого года занимает председательское кресло. По правую сторону от председателя — двое в военных мундирах. Высокая жердь с крашеными волосами и усами на одутловато-дряблом лице, свирепо-тупой взгляд солдафона — Алексей Петрович Бутурлин, генерал-лейтенант, бывший ярославский генерал-губернатор, а еще раньше участник подавления польского мятежа 1831 года и усмиритель крестьянских беспорядков в Лифляндии. Рядом — низенький старичок крайне добродушного вида, Николай Михайлович Корнеев, тоже генерал-лейтенант и тоже где-то губернатор в прошлом; ему больше восьмидесяти, и он так давно присутствует в сенате, что никто уже не помнит, где именно он губернаторствовал. Напротив — два придворных мундира: гофмейстеры двора и тайные советники — Алексей Владимирович Веневитинов и Борис Иванович Бер, господа неопределенного возраста и невыразительной внешности, чем-то похожие друг на друга. Первый из них замечателен тем, что был младшим братом давно умершего талантливого поэта и короткое время занимал должность товарища министра уделов. За отдельным столом у окна — представительный сорокалетний мужчина с красивым, холеным, но удивительно антипатичным лицом — обер-прокурор Яков Яковлевич Чемодуров, действительный статский советник. Это образованный бюрократ новой формации. Двадцать лет назад, окончив училище правоведения, он пришел в канцелярию сената помощником секретаря и, неуклонно продвигаясь по служебной лестнице, пять лет назад стал обер-прокурором. И в этой должности, и позднее, будучи сенатором, он стяжает немало лавров в борьбе с государственными преступниками. Обер-секретарь указал место, где должен стать подсудимый, — напротив председателя, в конце длинного стола. Сам он, держа бумаги в руках, встал рядом, повернувшись вполоборота к Писареву, и по знаку первоприсутствующего начал читать. Читал он как актер — громко, выразительно, с чувством. Слова «преступная статья возмутительного содержания» он произнес с особым трагическим пафосом. Тон его стал торжественно-елейным, когда он читал: «…по всеподданнейшему докладу о вышеизложенных обстоятельствах государь император повелеть соизволил…» Чтение кончилось. Первоприсутствующий откашлялся, спросил подсудимого, доверяет ли он своим судьям и не имеется ли у него на кого-либо из них подозрения. Писарев отвечал, что не имеется. Обер-секретарь положил перед ним на край стола заранее заготовленный текст, и Писарев подписал его. Обер-секретарь передал бумагу первоприсутствующему, тот внимательно прочитал ее, будто видел текст в первый раз, подписал и передал сенаторам, каждый из которых не спеша прочитал текст, прежде чем расписаться, затем бумагу подписали и чиновники. Слегка постучав ладонью по толстой папке с материалами, первоприсутствующий спросил, признает ли подсудимый свои показания, данные в следственной комиссии. Писарев отвечал утвердительно. — Прочтите, — предложил председатель обер-секретарю. На сей раз выразительное чтение длилось почти полчаса. Когда оно закончилось, Писарева спросили: имеет ли он что-либо добавить? Получив отрицательный ответ, ему предложили дать новую подписку. Обер-секретарь положил на край стола еще один стандартный текст, и вся процедура повторилась снова. На сегодня все кончилось. Председатель предложил штабс-капитану препроводить подсудимого в крепость, и Писарев в сопровождении жандармов вышел из сената. В проходной комнате он успел заметить дожидающегося своей очереди Лобанова. В три часа дня он возвратился в каземат. 21 января сенат получил от генерал-губернатора сведения о результатах так называемых «повальных обысков» об образе жизни и поведения Баллода, Лобанова и Печаткина. «При этом долгом считаю присовокупить, — писал А. А. Суворов, — что повальный обыск о литераторе Писареве не мог быть произведен полицией, потому что во время проживания Писарева здесь, в доме иностранца Дорна, он вел себя таким образом, что о образе жизни этого подсудимого знал только квартирный хозяин его, штабс-капитан лейб-гвардии Павловского полка Попов, который состоит под секретным надзором полиции за противозаконные сношения с бывшим учителем Благосветловым; посему требовать от него удостоверение о поведении Писарева признается неудобным». 29 января сенат определил, что Баллод и Писарев подлежат содержанию в крепости до окончания дела. Лобанов и Печаткин через два дня были освобождены на поруки с «приличным внушением», чтобы вели себя безукоризненно.Пламя, таившееся тридцать лет под пеплом, наконец вспыхнуло. В ночь на 11 (23) января 1863 года отряды польских повстанцев напали на царские гарнизоны. В большинстве пунктов русские войска сумели отразить нападение, но полякам удалось нарушить телеграфную и дорожную связь Варшавы с Петербургом. Встревоженное командование царских войск принялось концентрировать свои силы. Тем временем росли повстанческие отряды. Пожар партизанской войны разгорался. К концу января значительная территория Польши, включая многие уездные города, фактически контролировалась восставшими. «Льется польская кровь, льется русская кровь… Отчего же и для чего она льется?» — спрашивал Центральный комитет «Земли и воли» в прокламации, выпущенной в первые недели восстания. Разъясняя справедливость польского дела, прокламация призывала офицеров и солдат русской армии помнить, что с освобождением Польши тесно связана и свобода России, не проливать крови польских братьев, иначе «дети будут стыдиться произносить имена своих отцов». «Вместо того чтобы позорить себя преступным избиением поляков, обратите свой меч на общего врага нашего, выйдите из Польши, возвративши ей похищенную свободу, и идите к нам, в свое отечество, освобождать его от виновника всех народных бедствий — императорского правительства». Почти одновременно в Петербурге распространялась и другая листовка — «Свобода» № 1. В ней сообщалось о создании общества «Земля и воля» во главе с Русским Центральным народным комитетом. Выражая уверенность в неизбежности народной революции, комитет призывал образованные классы стать на сторону народа, чтобы «предотвратить или по крайней мере ослабить то кровопролитие, которое правительство вызовет своим дальнейшим существованием». Своей целью комитет провозглашал свержение самодержавия и созыв Народного собрания из выборных представителей свободного народа. Одним из членов Центрального комитета «Земли и воли» с ноября 1862 года был Благосветлов. Вместе с А. А. Слепцовым, Н. Н. Обручевым, В. С. Курочкиным и Н. И. Утиным он стоял во главе крупнейшей в то время революционной организации.
Срок запрещения «Современника» и «Русского слова» истекал 18 февраля. Закрывая радикальные журналы на восемь месяцев, правительство не рассчитывало на их продолжение. Однако издатели думали иначе. Некрасов, исходя из буквального смысла запрета, не стал и хлопотать о разрешении возобновить «Современник», он просто представил в цензуру текст объявления об издании журнала в 1863 году. После нескольких изменений, сделанных министром, в начале ноября объявление было разрешено к печати. Благосветлову было сложнее. Получив «Русское слово» в подарок от Кушелева, он безуспешно добивался своего утверждения издателем-редактором, а не добившись, решил издавать журнал явочным порядком. Он уговорил А. С. Афанасьева-Чужбинского стать подставным редактором (его беспрепятственно утвердили), разослал подписчикам письмо о возобновлении журнала, принялся хлопотать о досрочном выпуске первой книжки. Почти одновременно, в начале февраля, подписчики получили январскую книжку «Русского слова» и сдвоенную январско-февральскую — «Современника». Однако не прошло и месяца, как в цензурном ведомстве возникло специальное дело «О редакторе «Русского слова» Благосветлове». Основанием послужило письмо о возобновлении журнала, в котором говорилось, что он «был закрыт по капризу двух министров». Один из подписчиков донес об этом в III отделение. Шеф жандармов князь Долгоруков возмутился не столько этой «крамольной» фразой, сколько тем, что, несмотря на его запрет, Благосветлов фактически редактирует журнал. В секретном письме министру внутренних дел П. А. Валуеву Долгоруков сообщил сведения о Благосветлове, имеющиеся в III отделении. Указав, что утвердить Благосветлова редактором журнала «по вышеизложенным сведениям о нем признано было неудобным», шеф жандармов спрашивал министра, «на каком же основании допущен к редакции Благосветлов? На основании чего в печатном циркулярном письме редакции к подписчикам… сказано, что самое издание передается Благосветлову?» В начале 1863 года Благосветлов попал в поле зрения агентуры петербургского обер-полицеймейстера И. В. Анненкова, озабоченного деятельностью тайного революционного общества в столице. «Со времени последнего моего визита у Вашего превосходительства, — доносил агент в середине марта, — я продолжал следить за всеми действиями известной вам партии. Главное и видное место нынче в круге ее действий в Петербурге принадлежит г-ну Благосветлову, бывшему главному члену Шахматного клуба, ныне редактору журнала «Русское слово». Поэтому я решился искать случаев познакомиться с ним лично для ближайшего следования за действиями партии… Случай я скоро нашел и в настоящее время уже лично знаком с Благосветловым и в первый мой визит у него заметил на столах в гостиной несколько иностранных брошюр без клейма…» Обер-полицеймейстер поделился с управляющим III отделением своими сведениями и соображениями, но твердого мнения у него не было. С одной стороны, он считает возможным, что прокламация «Льется польская кровь, льется русская кровь…» напечатана в типографии «Русского слова». «Образ мыслей, направление и вся предшествовавшая деятельность Благосветлова… допускают возможность подобного предположения». С другой стороны, он выражает «весьма сильно сомнения» в этом. Агенту казалось более вероятным, что из типографии «Русского слова» вышла осенняя прокламация к образованным классам. С этого времени полиция начинает тщательно следить за Благосветловым. Министерство иностранных дел принимало меры для вызова на суд сената А. А. Серно-Соловьевича, В. И. Кельсиева, И. С. Тургенева, В. И. Касаткина, А. А. Черкесова, Н. И. Жуковского, П. С. Мошкалова. Генеральный консул в Лондоне пригласил Жуковского к себе специальной повесткой. На следующий день он получил ответ: «На повестку от 8 февраля 1863 г. Николай Жуковский уведомляет господина ген. российского в Лондоне консула, что он в консульство являться не считает нужным и просит г. консула сообщить Жуковскому письменно те причины, по которым он желает видеть его лично». Русский консул в Лондоне приказал консулу напечатать вызов в «Таймсе». На это откликнулся только Мош-калов: «Имею честь уведомить русское консульство в Лондоне, — писал он 1 марта из Фрейберга, — что я, действительно, с 1859 по 1862 год был студентом Спб университета, почему и покорнейше прошу уведомить письменно, что именно русский консул имеет мне сообщить». В «Таймсе» напечатали новое объявление: Жуковский и Мошкалов приглашались явиться в сенат до 1 июня старого стиля. На это объявление никто не откликнулся.
Одним из крепостных плац-адъютантов был Иван Федорович Пинкорнелли. Высокий, крайне худощавый поручик с бледно-желтым лицом был далеко не молод и не вполне здоров. Ему только что исполнилось пятьдесят четыре года. Он несвободно владел левой рукой, пораженной ревматизмом, плохо видел, был глуховат на одно ухо. Никаких средств, кроме жалованья, он не имел, но это не мешало ему быть другом узников. «Добрый, милый Пинкорнелли!» — вспоминал в далекой Сибири М. Л. Михайлов. И не он один впоследствии с теплым чувством говорил о крепостном плац-адъютанте. В архиве крепости сохранилось дело 1863 года «О неисполнении плац-адъютантом поручиком Пинкорнелли инструкции при посещении в казематах арестованных лиц». Вот что там говорится. 4 февраля плац-адъютант был у арестанта № 9 четыре минуты и разговаривал с ним, но так тихо, что удалось разобрать только отдельные слова. Поручик говорил, что «будет помогать сколько сил хватит», и спросил: «Приготовлено ли?» Заключенный показал на подушку, Пинкорнелли протянул было руку, но арестант кивнул на дверь. «Пустые головы, что они могут понять», — сказал плац-адъютант и приказал унтер-офицеру закрыть дверь. Унтер приказание выполнил, но в глазок видел, как поручил взял из-под подушки какую-то бумагу. В тот же день поручик Пинкорнелли был пять минут у арестанта № 4, читал какую-то бумагу и взял ее с собой. Донес об этом унтер-офицер Павел Иванов. Второй же унтер-офицер Матвей Савельев говорил, что ничего не видел и не слышал. Комендант сделал плац-адъютанту замечание за нарушение инструкции. В другом архивном деле есть запись: «Д. Писарев (Невская куртина, каземат 9) в феврале 1863 в великую четыредесятницу у исповеди и св. причастия был». Значит, нет никаких сомнений, что именно Писарев передал 4 февраля поручику Пинкорнелли какую-то бумагу. Это ему говорил плац-адъютант, что будет помогать сколько хватит сил. О чем шла речь? Возможно, о письме домой, в котором Писарев сообщал, что на поруки его не освободили и до окончания дела он подлежит содержанию в крепости. Ведь в письмах, отправленных официальным путем, о ходе дела сообщать было «не положено». Ни одно из писем, писанных Писаревым домой в первой половине 1863 года, не сохранилось целиком. Только несколько отрывочных фраз из них процитировано первым биографом Писарева Е. А. Соловьевым. Как видно, главной заботой Писарева по-прежнему оставалось утешение матери. «В крепости жить очень дешево, что при дороговизне петербургской жизни вообще очень приятно», — пишет он в одном письме. Или уверяет в другом, что заключение бережет его «от простуды, насморка и кашля, которые, вероятно, свирепствуют теперь в Петербурге». Выдвигая как бы в шутку те или иные «преимущества» тюремного заключения, Писарев внушает матери вполне серьезную мысль: «Если бы ты, мама, взглянула на мое положение с этой точки зрения, то ты, вероятно, убедилась бы в том, что каждое несчастие, как бы велико оно ни было, представляет свою утешительную сторону». За годы заключения эта мысль в различных вариациях будет высказана Писаревым в письмах домой. Весной Писарев был болен. Об этом есть несколько строк в записках землевольца И. Г. Жукова, сидевшего в Петропавловской крепости с 9 марта по 21 июня 1863 года. Случилось так, рассказывает он (из контекста воспоминаний следует, что эпизод относится скорее всего к апрелю), что однажды, при обходе казематов плац-майором, одновременно отворили двери в камеру Жукова и в камеру напротив. «Писарев сидел в кровати полураздетым, опахнувшись одеялом; выглядел больным». Вошедший плац-майор, добрейший и внимательнейший к заключенным старик полковник, кивнул головой в сторону Писарева и произнес: «Нездоров!» Впоследствии Жуков узнал, что плац-майор, считая казенный паек неподходящим для больного, оделял Писарева пищею от своего стола. Имя этого полковника Петр Петрович Кандауров. Только в середине апреля 1863 года сенат вернулся к делу «о карманной типографии». 16 и 18 апреля был допрошен Баллод. Сенаторы интересовались составом революционного комитета. Они заявили Баллоду, что его рассказ о встречах с неизвестными людьми в Александровском и Петровском парках лишен всякого правдоподобия, а все обстоятельства дела приводят к убеждению, что Баллод сам является членом революционного комитета. Баллода предупредили, что запирательство лишь усугубит его вину. Если же он чистосердечно признается и назовет всех своих сообщников, то суд будет ходатайствовать перед царем о смягчении наказания. Баллод остался при прежних показаниях. Он лишь уточнил, что к написанному Мошкаловым тексту прокламации «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти» он, Баллод, сочинил заголовок и выноску: «Интересно бы знать, во сколько обходится это покровительство». К показаниям он добавил: «Что же касается до последствий, могущих быть для меня, то я об этом думал столько же, сколько думает охотник, отправляющийся для забавы на медведя». Баллода спросили, не он ли печатал «Великорусе», так как шрифт его очень похож на шрифт «карманной типографии», и просили раскрыть эту организацию. На это Баллод ответил: «Воззвание «Великорусе» я не печатал и составлявших и печатавших его не знаю». Утром 22 апреля к комендантскому дому подали две кареты: в сенат одновременно вызывали двух арестантов — Писарева и Рымаренко. В секретарской комнате перед присутствием было многолюдно — за столом что-то писали два секретаря, возле несколько чиновников вполголоса беседовали, в углу сидел священник. Только крайние четыре стула были свободны — для двух арестантов и сопровождавших их офицеров. Между Писаревым и Рымаренко сел полицейский поручик. Ровно в полдень дверь присутствия распахнулась, и обер-секретарь, как и в прошлый раз, глядя чуть выше головы Писарева, пригласил его войти. Знакомый длинный красный стол с водруженным на нем зерцалом. Тот же блеск парадных мундиров и та же неподвижная важность старцев сенаторов. Но что-то изменилось… Где же солдафон со свирепым взглядом? В его кресле неестественно прямо, будто верхом на лошади па-ред фронтом, сидел небольшой человечек в военном мундире и бессмысленно глядел на арестанта пустыми серыми глазами. (Бутурлин скончался, и его место занял тоже генерал-лейтенант Карл-Бургарт Карлович Венцель, бывший иркутский генерал-губернатор.) Нет и добродушного старичка Корнеева (он лежал при смерти), вместо него восседал совершенно круглый толстяк с апоплексическим лицом и в генеральской форме — Николай Евгеньевич Лукаш, генерал-майор и гофмейстер. Первоприсутствующий обратился к подсудимому: — Мы имеем дать вам несколько вопросных пунктов, но сначала священник сделает вам духовное увещевание. Священник в епитрахили вступил в присутствие с воздетыми руками, держа в одной евангелие, в другой — крест. Подойдя почти вплотную к Писареву, он стал вполоборота к нему и начал. Тонким негромким голосом нестерпимо долго и усыпляюще монотонно читал он заученную наизусть речь: о важности присяги, о невозможности ее нарушить, о необходимости раскаяться в содеянном преступлении и раскрыть его во всех подробностях… Когда священник ушел, его место занял обер-секретарь. По предложению первоприсутствующего он прочел сразу все вопросы, на которые предстояло ответить подсудимому. Потом стал читать каждый пункт отдельно. Писарев отвечал сначала словесно, а затем вместе с обер-секретарем подходил к стоящему в стороне письменному столу, садился там и письменно повторял свой ответ. Прежде всего Писарева спросили, имея в виду его показания в следственной комиссии, ради чего он обратился к милосердию царя, не ради ли желания отделаться меньшим наказанием? Писарев ответил: «Совершенно я убежден в том, что не имею никакого права обращаться к милосердию монарха; я сочту совершенно справедливым и без малейшего ропота перенесу всякое наказание. Обращение мое к милосердию монарха было вызвано не расчетом на смягчение моей участи, а желанием выразить мое полное смирение и чистосердечное раскаяние. Сознание мое было полное; в нем не было ни задней мысли, ни утайки». Писарев настаивал, что он во всем уже полностью сознался. Это заявление не обещало новых сведений суду. И действительно, в ответах на следующие вопросы Писарев ничего не добавил к прежним показаниям. Напротив, кое-что он объяснил иначе, смягчая факты, создавая новые затруднения для обвинения. Писареву предложили рассказать о своих отношениях с Валлодом и о «преступных замыслах» последнего. «Сношения мои с Баллодом, — отвечал Писарев, — начались с того, что мы встречались с ним у студента Шефнера и у братьев Жуковских. Нам случалось кутить вместе; мы выпили с ним брудершафт и стали говорить друг другу «ты»; из этого не вышло особенной короткости, потому что во время моего студенчества я был на «ты» с 20-ю или с 30-ю человеками. Мы с Баллодом почти никогда не говорили серьезно, потому что встречались за карточным столом или за бутылкой вина; занятия науками не могли нас сблизить: он был натуралист, а я филолог; мы никогда не доверяли друг другу никаких задушевных мыслей; я не знаю ни семейных, ни сердечных дел Баллода; между нами была только дружеская бесцеремонность, безо всякого нравственного сближения. Эти отношения не изменились и тогда, когда я поселился в одном доме с Баллодом, потому что другом моим был только Владимир Жуковский. Куда ходил Баллод, с кем он виделся, замышлял ли он что-нибудь — об этом я решительно ничего не знал и не догадывался». Все новые подробности, приведенные им теперь, были направлены к доказательству того, что Баллод был только собутыльником. Такая постановка вопроса позволяла Писареву утверждать, что о деятельности Баллода он не мог ни знать, ни догадываться. Писареву напомнили его показания в следственной комиссии, где он имел неосторожность сболтнуть, что догадывался о политических стремлениях кружка Баллода. Ему зачитали отрывок из показания Василия Жуковского о том, что осенью Баллод играл роль вожака в студенческих сходках. Писарев вышел из этого положения. «Один раз, — показал он, — когда я уже переехал на квартиру Попова, в декабре или в конце ноября 1861 г., я зашел к Жуковским и, не заставши Владимира, хотел зайти на минуту к Баллоду. Тогда Василий Жуковский сказал мне: «не ходи, — у него какое-то интимное собрание; не любит, чтоб к нему входили». Какое это было собрание и действительно ли оно было, этого я не знаю. Василий, как мальчик недальнего ума и совершенно неразвитой, мог принять за собрание с особым значением простую сходку студентов, ругавших матрикулы. Я не стал его расспрашивать, потому что не люблю выведывать чужие секреты. Я высказал в своих показаниях, что предполагаю политический характер этого собрания только потому, что теперь Баллод арестован за агитацию». Писарев внес сразу несколько поправок в свое прежнее показание. В следственной комиссии он говорил, что «иногда соседи предупреждали» не входить к Баллоду. Теперь он показывает, что было это один раз, и называет Василия Жуковского («неразвитого», «мальчика недалекого ума»), который сам в этом признался. Этим Писарев полностью дезавуировал неприятные для Баллода показания. Наконец, Писарев заявил, что предположения о политической деятельности Баллода возникли у него только после ареста. Сенаторы поинтересовались, почему же Писарев согласился написать статью по предложению Баллода. На этот вопрос Писарев ответил гораздо короче и определеннее, чем в первом показании. «Объяснить, почему я; очертя голову, согласился, по предложению Баллода, написать статью, — показал он, — я могу только указанием на весь мой характер. Человек благоразумный не сделал бы этого, а я сделал это из мальчишеского ухарства; кроме того, я страдал тогда оттого, что любимая мною женщина вышла замуж за другого; я был расстроен закрытием «Русского слова». Написать статью было недолго, и я не успел одуматься, когда Баллод был уже захвачен с моей статьей. Ни в моем предыдущем поведении, ни в журнальных моих статьях нет никаких фактов, которые указывали бы на обдуманное намерение и установившиеся политические убеждения. Баллод предложил мне написать резкую декламацию, — я так и сделал». Не вникая в детали, Писарев признал, что совершил свой поступок «из мальчишеского ухарства», будучи человеком неблагоразумным. Он всячески подчеркивал, что «не успел одуматься», что у него нет «установившихся политических убеждений». Это самый слабый пункт дополнительных показаний Писарева, но он рассчитывал (и не ошибся), что сенат не будет читать его журнальных статей. Для большей же убедительности он завершил свои ответы заверением: «Эти показания вполне истинны, я готов подтвердить их даже присягою». Ответив на вопросы, Писарев обратился к сенату со словесным прошением освободить его на поруки матери. Сенат не нашел возможным исполнить эту просьбу. Тогда Писарев просил разрешить ему хотя бы свидания с матерью. Это было обещано. 26 апреля петербургский генерал-губернатор сообщил в III отделение: «Правительствующий Сенат Указом от 24 апреля разрешил Писареву иметь свидание с матерью. Нужно высочайшее повеление». Резолюция: «Высочайше разрешено с соблюдением установленных правил. 27 апреля». «Я находилась в это время в деревне… — вспоминала В. Д. Писарева. — Получив известие от сына; что разрешено свидание, я… отправилась в Петербург…»
5. «ВСПОМНИТЕ СТАРИКА ГАЛИЛЕЯ»
Только теперь, встретившись с сыном в комендантском доме, Варвара Дмитриевна узнала толком, в чем он обвиняется. Дмитрий Иванович объяснил матери, что он потерял голову, когда Раиса вышла замуж, и сгоряча наделал глупостей. Он даже просил передать кузине, что если его сошлют, то виновата в этом будет она. Однако было бы опрометчиво принимать объяснение Писарева за чистую монету. Во-первых, при свидании присутствовал плац-адъютант, и, конечно, следовало держаться своих показаний. Во-вторых, как бы иначе мог Писарев объяснить матери свой поступок? При всем доверии, которое он к ней питал, вряд ли стоило рассказывать что-либо касающееся других лиц. И в этом случае личные причины всего удобнее. Наконец, кто знает, не рассчитывал ли Писарев своим обвинением вызвать раскаяние любимой женщины? Вернувшись со свидания, Варвара Дмитриевна написала приемной дочери ожесточенное письмо. На такое письмо отвечают сразу или не отвечают вовсе. Раиса ответила.Раиса Гарднер — Писаревой, 3 мая 1863 года: «Маman, ведь я в положении матери, нечаянно задушившей своего ребенка. Я вас задушила, задушила, я знаю, но поймите же и мое положение. Меня тяготит такое страшное чувство, что ему и названия нет. Я говорю чувство, но умом я не обвиняю себя. Вы говорите: «зачем было приезжать в Петербург?» Теперь и я сказала бы то же самое, но не тогда. Если бы я знала, что буду женою Евгеши, то, разумеется, не приезжала бы; а Митя обманывал меня, показывая вид, что мирится с мыслью не быть моим мужем, меня разубедила в этом только известная вам история. А до той поры, скажите, считали ли и вы сами Митю способным на отчаянный поступок с горя. Я — никогда не считала…» Прощайте, мама, обнимаю вас, моя милая, добрая мама, хоть и навсегда, прощайте, а все-таки от этого не отступлюсь. Верочка, крепко обнимаю тебя. Господи, как мне жалко-то всех вас. Мите ничего не говорю, не знаю, что сказать».
Писаревы восприняли письмо Раисы как признание вины. В этом духе в Москву полетело письмо Варвары Дмитриевны и Верочки. Собирался писать и Писарев. Но Раиса поспешила рассеять заблуждение.
Раиса Гарднер — Писаревым, 18 мая: «Я и ждала и не ждала от вас письма; то думалось, что не напишете, то казалось, что ваша любовь ко мне возьмет верх над чувством невольного отчуждения от всего, что вредно близкому нам человеку. Чувство это я понимаю, понимаю тоже, что вы считаете меня косвенной причиной горькой участи Мити; одного не могу я понять, как это он-то пожелал передать мне, что если он будет сослан, то виною этого — я. Какое действие думал он произвести этим обвинением, да и в чем состоит оно? В том, что я полюбила Евгещу? Так подобное обвинение не имеет смысла, да и оченьоно опоздало; ведь Митя знал об этом чувстве два года назад. А если он обвиняет меня в том, что я приехала в Петербург, так попросила бы его припомнить все усилия, все уловки и обманы, к которым он прибегал, чтобы убедить меня приехать… Ах! Господи, смешно и досадно вспомнить… Что мне не надо было соглашаться на предложение Благосветлова оттого только, что тут было соприкосновение с Митей, так этого я до сих пор не понимаю, почему же? По последствиям я знаю, что не надо было ехать, но тогда не было уважительных причин. Впрочем, была: надо было бы побольше оберегать себя, ну да, к несчастию, я этим не умею руководиться… Во втором письме вы пишете, что ему хочется, чтобы я знала, что он меня поистине любил. Что любил-то, я знаю, а истинным мы называем то чувство, которому сочувствовать можем; а я его чувство ко мне и понимать-то перестала. Прошедшее во мне так отжило, что я недавно сожгла всю его переписку более чем за десять лет; сожгла для того только, чтобы не попадалась мне на глаза и не будила воспоминаний, подчас горьких, но большею частью тяжелых и желчных. Пусть же он лучше не пишет, ведь нам говорить друг другу нечего, а главное, мне положительно не хочется ни говорить, ни слушать. Я бы не стала и читать его писем. Передайте ему это…»
Возмущенная несправедливым обвинением, Раиса и сама была несправедлива. Только в состоянии сильного раздражения могла она отречься от прошлого, оскорбив этим и приемную мать, и кузину. На три с половиной месяца переписка оборвалась. Успокоившись и осознав свою неправоту, Гарднер первая сделала шаг к примирению. «Я слишком резко выразилась в письме моем к Верочке о том, что для меня прошедшее не существует, — писала она в начале сентября, — но мне было так обидно, так обидно, что она… ну да, право, этого не расскажешь в немногих словах…» Взаимная привязанность взяла верх, размолвка была забыта. По молчаливому соглашению обе стороны избегали упоминать в письмах имя Писарева. Мать поселилась совсем близко от крепости. Здесь же на Петербургской стороне, напротив Иоанновских ворот, в доме, принадлежавшем Петропавловскому собору. Всего два часа в неделю Варвара Дмитриевна могла видеться с сыном, но и все остальное время — до последней минуты — было посвящено только ему. После первого свидания она спешила поделиться всем, что узнала, с родными, знакомыми и приятелями Мити, — на письма ушло, по крайней мере, несколько дней. Затем начались хождения по присутственным местам. Среди петербургских знакомых Писаревых были влиятельные лица. Значительный пост занимал даже один из родственников, кузен Варвары Дмитриевны — Михаил Мартынович-Роговский, у которого Писарев жил когда-то, был генерал-лейтенантом, членом военного совета и инспектором военно-учебных заведений. Но ни он, ни кто-либо из знакомых не приняли участия в судьбе Писарева. Во всяком случае, следов этого участия не сохранилось. Спустя пятнадцать лет В. Д. Писарева в письме к Ф. М. Достоевскому вспоминала о своей беседе с Карниолин-Пинским и Чемодуровым: «Оба сказали мне, что я напрасно так тревожусь, что сын мой и спокоен и весел даже, и когда его требуют в Сенат, то он из крепости приезжает не как из заключения, а как бы с балу, и что когда ему дали прочесть статью, за которую он арестован, то он, улыбаясь, сказал, что теперь она и ему не нравится — и более ничего, никакого раскаяния, никакого горестного выражения в лице…» Раскаяния здесь и не было. «Резкая декламация», сочиненная «из мальчишеского ухарства», не могла нравиться Писареву совсем по другим причинам. Год, проведенный в одиночном каземате Петропавловской крепости, не прошел даром для его умственного роста. Почти полное отсутствие внешних впечатлений, невозможность заниматься любимым трудом, крайняя ограниченность духовной пищи, которую могла поставить крепостная библиотека, не повергли его в отчаяние, а толкнули к усиленным размышлениям. «Вспомните старика Галилея, — писал Писарев в июле 1863 года, — подумайте, почему он перед папским инквизиционным судом не побоялся произнести знаменитые слова: «А она все-таки вертится!» — подумайте об этом, и вы увидите, какой могучий и незаменимый талисман составляют для мыслящего человека любимые занятия его мысли». Писарев имел право писать так. Он сам выдержал одиночное заключение и не пал духом благодаря этому могучему талисману. Увлеченный потоком событий весны 1862 года, Писарев на короткое время поверил было в возможность скорой революции. В крепости он освободился от иллюзий и глубоко продумал то, о чем на свободе лишь догадывался. Не отречение от политических убеждений руководило им, когда он осуждал свою «резкую декламацию». В его голове уже сложились мысли о новых путях борьбы.
Писарев был на скудном крепостном содержании и ни от кого не хотел принимать помощи. Мать передала ему предложение адресоваться в Комитет Литературного фонда, но сын категорически отказался. Он хотел улучшать свое положение только лично заработанными деньгами. Узнику крепости разрешалось писать дважды в месяц и только родителям. При содействии матери Писарев получил возможность писать когда и кому заблагорассудится. Он отрывал поля от книжных страниц и на этих узких полосках бумаги писал микроскопическими буквами. Почти с каждого свидания мать уносила в своем башмаке такое письмо. Дома она переписывала текст и отсылала адресату, а подлинник оставляла себе на память. А. Д. Данилов вспоминал, что, совершая эти преступления, Варвара Дмитриевна дрожала от страха. Одно из первых писем сына Варвара Дмитриевна отнесла Благосветлову. И тот предложил добиваться разрешения писать. Прецедент был налицо: в «Современнике» печатался роман Чернышевского, тоже узника крепости. С ходатайством полагалось обращаться непосредственно в сенат, но кто-то посоветовал Варваре Дмитриевне действовать через Суворова. Военный генерал-губернатор Петербурга Александр Аркадьевич Суворов, внук великого полководца, был влиятельным вельможей и личным другом царя. Светлейший князь Италийский, граф Рымникский, генерал-адъютант царской свиты, генерал от инфантерии, член Государственного совета и т. д. не обладал военными талантами деда, но унаследовал от пего простоту и человечность. Он был «действительно добрым, гуманным и вполне культурным человеком, сочувствующим каждому человеческому страданию», — писал о нем И. В. Шелгунов. Суворов был доступен для каждого, независим и настойчив в своей готовности оказать кому-либо помощь. Петербургским генерал-губернатором с чрезвычайными полномочиями Суворов был назначен в октябре 1861 года. Едва заняв этот пост, он убедил царя досрочно освободить из крепости студентов, а затем своей властью фактически отменил постановление о высылке двухсот из них в 24 часа из столицы. 50 человек он лично взял на поруки, а остальных расписал на своих знакомых и подчиненных. Известно его содействие политическим заключенным Михайлову, Чернышевскому, Шелгунову, Пантелееву и другим. Суворов говорил, что по примеру своего деда не может утвердить смертного приговора. И действительно, он добивался их отмены. Неудивительно, что Суворов пользовался большой популярностью среди петербуржцев, особенно среди молодежи. Столь же естественно, что у пего было немало противников в среде высшей администрации. В первых числах июня Варвара Дмитриевна с дочерью отправились в резиденцию генерал-губернатора на Большой Морской. В громадной приемной зале толпилось множество людей. Из кабинета доносился громкий голос и веселый раскатистый смех. Точно в назначенный час в дверях показалась величественная фигура Суворова в парадной форме. В сопровождении свиты он начал по кругу обходить просителей: наклоняя правое ухо, терпеливо выслушивал каждого, задавал вопросы, отдавал распоряжения сопровождающим. Наконец он остановился перед Писаревой, и она передала прошение ему в собственные руки. Бегло взглянув на листок, князь поднял голову — голубые глаза его смотрели приветливо.
Суворов — Сорокину, 5 июня 1863 года: «Мать содержащегося в здешней крепости литератора Писарева ходатайствует о дозволении сыну ее, во время содержания под стражей, продолжать свои литературные занятия, которые до заключения его в крепость составляли единственный источник как для собственного существования этого литератора, так и для поддержания его семейства. Принимая во внимание, что литературные произведения Писарева, прежде напечатания их, по установленному порядку будут рассматриваться цензурой, я с своей стороны не нахожу препятствий к удовлетворению означенного ходатайства г-жи Писаревой… Сообщая об этом Вашему Превосходительству для зависящего от Вас распоряжения, покорнейше прошу уведомить, каким порядком полагаете Вы отправлять в цензуру произведения Писарева». Сорокин — Суворову, в июня: «…Просьба г-жи Писаревой подлежит разрешению Правительствующего Сената, в который должны препровождаться и рукописи для дальнейшего распоряжения. Но заниматься литературным трудом в казематах высочайше запрещено. Разрешение такового есть особенная высочайшая милость».
Генерал-губернатору не оставалось ничего другого, как соблюсти все формальности. Он снесся с сенатом и получил оттуда указ о том, что «Сенат не встречает возражений». Необходимо еще разрешение царя, но это функция III отделения.
Суворов — Долгорукому, 23 июня: «…Хотя занятия литературной деятельностью в казематах воспрещены, по, принимая во внимание изложенные в просьбе матери Писарева обстоятельства, считаю долгом покорнейше просить Ваше Сиятельство об исходатайствовании высочайшего разрешения подсудимому Писареву продолжать в каземате свои литературные занятия, подобно тому, как дано уже, сколько известно, таковое же разрешение содержащемуся в Алексеевском равелине титулярному советнику Чернышевскому».
Шеф жандармов записывает для памяти, по рассеянности сливая две фамилии в одну: «23-го. На каком основании дозволено было писать Писаревскому?» Здесь ясе вторая пометка, уже после доклада царю: «24-го. Разрешено. Кн. Суворову сообщил». Князь Суворов оправдал возложенные на пего надежды и настоял на своем. Но когда же Писарев фактически приступил к литературному труду? Существует версия о том, что будто бы Суворов чуть ли не в январе своей властью разрешил Писареву писать и Писарев якобы приступил к работе. (Нужды пет, что плодов этой работы не существует.) Затем будто бы комендант крепости и III отделение вознамерились лишить Писарева возможности писать — и тогда-то Суворов добился официального разрешения. Версия эта основана на недоразумении: записка Потапова от 22 мая без указания года в архивном деле оказалась подшитой не на месте, из ее содержания следует, что относится она не к 1863-му, а к следующему году. Из приведенных документов видно, что Суворов действительно пытался обойтись своей властью, но этому воспротивился комендант. Ввиду происшедшего конфликта маловероятно, чтобы генерал Сорокин стал спешить: скорее всего ом сообщил узнику о высочайшей милости только после того, как послал оправдательную записку генерал-губернатору. Но и в этот день Писарев не мог еще приступить к работе: нужно было условиться с Благосветловым о теме статьи и получить необходимые пособия. Для этого тоже требовалось время. Впоследствии Благосветлов вспоминал о том восторге, с которым Писарев принял от него первую пачку книг. «Ну, теперь, — говорил он, — кругом меня все сделалось светлей и просторней; давай только больше книг и работы, и я оживу». И действительно, Писарев ожил с той минуты, как представилась ему возможность возобновить после годичного молчания свою литературную деятельность. Это случилось в начале июля 1863 года.
В двадцатых числах июня в Петербурге, объявился Иван Петрович Хрущов. В день приезда он разыскал Писаревых, и до поздней ночи светилось оконце в доме Петропавловского собора. Варвара Дмитриевна и Верочка так были рады старому знакомому, что не сразу уловили происшедшую в нем перемену. Прошлогодний обыск в Курске стал для Ивана Петровича потрясением. Сам того не сознавая, он постепенно отходил от своих кратковременных увлечений радикальными идеями. Перемена эта поначалу была едва заметна. Возвратившись осенью в Петербург, он по-прежнему бывал в студенческих кружках — может быть, только немного реже; так же напрашивался на обеды и ужины к знакомым аристократам — пожалуй, лишь несколько чаще. Правда, в салонах уже не декламировал «Парадный подъезд» и «Се человек» и не бросался в споры, когда слышал нападки на молодежь. Хрущов интуитивно ощущал вокруг себя какую-то «подземную» деятельность и очень боялся оказаться в нее вовлеченным. Петербург его тяготил. Зимой он сдал экзамены н, получив кандидатский диплом, откровенно сказал попечителю, что не хотел бы оставаться в столице. Делянов предложил ему место старшего учителя русского языка в Олонецкой гимназии. Иван Петрович с радостью согласился. О лучшем месте он и не мог мечтать — избавляясь от повседневного влияния петербургской среды, он уезжал не тай далеко, чтобы лишиться возможности бывать в столице. Как бы Хрущов ни оправдывал свой отъезд из Петербурга, он просто-напросто сбежал от соблазнов и сомнений. Покой, которого так жаждал Хрущов, оказался весьма относительным. В Петрозаводске в это время собралась большая группа политических ссыльных, пользовавшаяся влиянием в городе. В губернском правлении советником служил известный этнограф Павел Рыбников, высланный сюда еще в 1859 году из Москвы как член кружка «вертепников». Там же в качестве мелких чиновников подвизались харьковский студент Петр Завадский, высланный за участие в тайном обществе, и студенты Петербургского университета Константин Ген и Евгений Михаэлис, главари сентябрьских студенческих беспорядков. Вокруг этой группы ссыльных сложился кружок местной интеллигенции: читали Бокля, статьи из «Современника», «Что делать?» Чернышевского. Хрущов сразу же вошел в этот кружок. Просветительский характер кружка, отсутствие в нем политических целей импонировали Ивану Петровичу, но все-таки «освежающие душу разговоры» по вечерам, которые он когда-то так любил, действовали ему на нервы. В Петрозаводске Хрущов познакомился и вскоре сблизился с семьей известного историка Д. В. Поленова, крупного землевладельца Олонецкой губернии и не менее важного Петербургского чиновника. С детьми историка Иван Петрович Подружился — с дочерью Верой, ставшей через год его женой, и сыном Василием, впоследствии знаменитым художником. Сердечные привязанности постепенно отдаляли его от Кружка.
В Петрозаводск приехал великий князь Николай Александрович. Двадцатилетнего наследника престола сопровождал его наставник граф Строганов. Когда высокие гости знакомились с гимназией, их сопровождал сам директор. На долю Хрущона выпала лишь короткая беседа с графом. Однако хотелось представиться наследнику. Поводом стал заонежский сказитель Кузьма Романов, которого в это утро Хрущов сам впервые услышал. Наследник, учившийся у Буслаева, интересовался народным творчеством. Важно было сообразить это. Остальное пустяки: помчаться на пристань и задержать пароход, на котором старец отправлялся домой… затем в губернаторский дворец, передать записку графу Строганову, приглашая его «разделить со мною наслаждение сегодняшнего дня, прослушать рапсода, значение которого тут же объяснил». И вот Иван Петрович вместе со всей камарильей на пароходе. Пока Строганов расспрашивает певца, Хрущов отвечает на вопросы наследника: — Как вы сюда попали? Почему не живете в Петербурге? — В столице я не нашел места, а собственных средств не имею. К тому же в последнее время Петербург меня раздражал. — Чем же? — Тем, например, что некоторые из моих товарищей посажены в крепость. — Кто же? — Писарев. — Это тот, что писал в «Очерках»? — В «Русском слове». И знаете, за что попал он? — Нет, не знаю. — За то, что невеста его вышла замуж за другого, а он с горя принял участие в прокламации. Мы с ним давно знакомы, и вот я с прошлой почтой имел письмо от его матери, которая с ним видалась. Записывая разговор в дневник, Иван Петрович спешит оговориться: «Я это только потому сказал, что он сам признался официально». Конечно, Хрущов с добрыми намерениями затеял разговор о Писареве, но великого князя не интересовал какой-то журналист, написавший прокламацию. Наследник задавал новые вопросы о петрозаводской жизни, о гимназии, затем беседа перешла на более широкие темы: освобождение крестьян, отмена телесных наказаний, патриотический подъем народа и т. п…Через несколько дней вместе с Поленовым Хрущов приехал в Петербург хлопотать о переводе в столицу. 24 июня он записал в дневнике, что обедал у попечителя учебного округа Делянова в обществе профессора Коссовича и графа Сиверса. (В гору идет Иван Петрович! Он еще сделает карьеру по учено-бюрократической части. Когда со временем Делянов станет министром народного просвещения, Хрущов будет ближайшим его сподвижником.) «Кудахтали мы долго о суете мирской, опасном направлении «Современника», — продолжает он, — а с Писаревым я виделся в крепости». Иван Петрович и сам смущен такой широтой: «И богу свечка, и черту кочерга», — замечает он вскользь. Через несколько дней он испишет целую страницу, стараясь придать благопристойный смысл своему двусмысленному положению. О Писареве еще одна фраза: «Митя пополнел». И только. Подробностей встречи нет в дневнике. По всей вероятности, Писарев встретил Хрущова холодно, и разговор не получился. Впоследствии Иван Петрович записал: «А потом заключение твое, — и ты был не прав ко мне; ведь я искренне хотел продолжить знакомство». Конечно, Писарев был прав — он понял, что их пути окончательно разошлись.
VI ТЕОРИЯ РЕАЛИЗМА
Кто хочет бороться против зла, не для препровождения времени, а для того, чтобы когда-нибудь действительно победить и искоренить его, тот должен работать над решением вопроса: как сделать труд производительным для работника и как уничтожить все неприятные и тяжелые стороны современного труда? Труд есть единственный источник богатства; богатство, добываемое трудом, есть единственное лекарство против страданий бедности и против пороков праздности. Стало быть, целесообразная организация труда может и должна привести за собою счастье человечества.Д. Писарев
1. БУДУЩЕЕ СВЕТЛО И ПРЕКРАСНО
Литературная работа Писарева возобновилась статьей «Наша университетская наука». Получив разрешение заниматься любимым делом, он лихорадочно принялся писать. Статья в шесть печатных листов была начата и завершена за две недели. 17 июля комендант препроводил ее генерал-губернатору, 9 августа она возвратилась в крепость с уведомлением, что сенат не имеет препятствий к ее опубликованию. Седьмой и восьмой номера «Русского слова» (оба вышедшие с большим опозданием — в сентябре) открывались статьей Писарева. Помещая ее на почетном месте, Благосветлов как бы приглашал читателей разделить с ним его радость по поводу возвращения ведущего сотрудника на страницы журнала. Статья делилась на две части. Первая — без подзаголовка (название «Университет» она получила только в Собрании сочинений) — воспоминания о годах учения. С тонким юмором и едкой иронией Писарев рассказывает о перипетиях своего умственного развития, об обстановке на филологическом факультете, о своих профессорах, которых изображает под прозрачными псевдонимами. Публицист не щадит ни себя, ни других. И все же это мемуарный очерк, а отнюдь не памфлет, как иногда его называют. За точность фактов ручается сам автор. «Я заранее могу дать читателю торжественное обещание, — писал Писарев в самом начале статьи, — что не сочиню ни одной сцены, не выдумаю для украшения моих воспоминаний ни одного разговора». Оснований сомневаться в этих заверениях нет. Статья печаталась за полной подписью Писарева в то время, когда не менее сотни людей могли бы уличить автора в искажениях и передержках, если бы они оказались. Этого никто не сделал. Более того, статью одобрили. Н. Н. Страхов похвалил ее в письме к Ф. М. Достоевскому. Д. В. Аверкиев в статье «Университетские отцы и дети» полемизировал с Писаревым по поводу его взглядов на образование, но не оспаривал ни фактов, ни оценок; напротив, он столь же непочтительно характеризовал профессоров естественного факультета. Впоследствии В. П. Острогорский и А. М. Скабичевский в своих воспоминаниях полностью присоединились к оценкам Писарева. На свой портрет обиделся М. М. Стасюлевич (Иронианский), в частном письме он жаловался на И. И. Срезневского (Сварожич), который якобы пером Писарева сводил с ним счеты. Вторая часть статьи — «Общее образование» — посвящена анализу гимназической программы и постановки университетского образования. Выбор темы не был случаен. Только что 18 июня царь утвердил (в 5-й редакции!) новый университетский устав, проект которого был составлен еще в 1858 году. На очереди был новый устав гимназий, с весны в обсуждении его проекта на страницах журналов сталкивались мнения сторонников и противников классического образования. Своей статьей Писарев вмешался в эту дискуссию. «Наша университетская наука» — первая статья Писарева, специально посвященная вопросам воспитания и образования. Поддерживая прогрессивных педагогов, он выступил ярым сторонником реального образования и решительным противником классического. Остроумно и резко критикуя систему российского образования, Писарев высказал несколько оригинальных (и на первый взгляд даже парадоксальных) педагогических и социологических мыслей. «История Ломоносова повторяется у нас в России каждый день, — размышлял Писарев, — а между тем Ломоносовы так же редки теперь, как были редки в прошлом столетии». Молодые люди с самых отдаленных окраин стекаются в университетские города для учения; голодают, зарабатывая себе на жизнь грошовыми уроками, терпят всевозможные лишения; по истечении четырехлетнего курса благополучно (а иногда и блистательно!) выдерживают выпускной экзамен, а затем растворяются в общей массе чиновников, учителей, ученых, ничем замечательным не проявляя свою личность. Разгадка этого явления заключается в том, что молодые люди стремятся не к знаниям, а к карьере. «До тех пор, пока университеты будут давать своим слушателям какие-нибудь права, — подчеркивает Писарев, — до тех пор, пока университетский диплом будет открывать дорогу к таким местам, которые не могут занять люди, не имеющие дипломов, до тех пор всякие сладкие речи и стремления общества к образованию будут относиться к легиону наших патриотических самообольщений». «Мы никогда не относились к образованию просто и бескорыстно, — развивает свою мысль Писарев, — всякое знание мы забираем в голову как источник доходов…» Об образовании много говорят, изменяются программы, раздаются голоса о том, что «следует формировать человека, а не моряка, не чиновника, не офицера». Между тем так называемое специальное образование все более поглощает образование общее. («Развелось пропасть разных образований: это, говорят, юридическое, а вот это — техническое, а вон то — военное. Идя по этому пути, можно дойти до образования кирасирского, отличающегося от гусарского и уланского, до образования, свойственного чиновнику казенной палаты и совершенно непохожего на образование сенатского или почтамтского чиновника, до образования кожевника, не имеющего ничего общего с образованием мыловара или мясника. Когда мы доведем свое развитие до такого невиданного совершенства… мы даже не заметим того, как общее образование совершенно уничтожилось и превратилось в миф, потому что сотни различных образований растащили его по кусочку».) По мнению Писарева, специальное образование «не что иное, как навык в каком-нибудь ремесле», неважно, в области физического или умственного труда, в производительной или непроизводительной сфере, «образованный специалист» может быть мастером своего дела и в то же время оставаться «неучем и полудикарем», находящимся в плену многих предрассудков, имеющим «самые смутные понятия о достоинстве человека, об интересах общества, об отношениях гражданина к своим согражданам и семьянина к своему семейству». Писарев выступает за широкое общее образование, пока «сдавленное» между воспитанием и изучением ремесла, которые должны иметь второстепенное значение. Выбор специальности в сфере умственного труда нужно предоставить самому молодому человеку после получения им хорошего и полного образования, а простому ручному ремеслу следует учить ребенка с малолетства. «Воспитывать следует как можно менее», — заявляет Писарев. Все разнообразные приемы воспитания сводятся к двум основным типам: к воспитанию розгой и к воспитанию авторитетом. «Воспитание заставляет только повиноваться, а образование учит будущего человека жить и распоряжаться своими силами». Поэтому уже в самом раннем возрасте воспитание должно уступить место образованию (которое начинается, «как только сообщаются какие-либо знания, каким бы то ни было образом и по какому бы то ни было поводу»)…Едва окончив первую статью, Писарев принимается за новую. «Очерки из истории труда» — одна из крупнейших (6,5 печатного листа) и важнейших его статей. Это единственная специально экономическая статья в творчестве публициста, она наиболее полно и систематично раскрывает его взгляды на историю человеческого общества. В начале статьи Писарев сообщает, что будет излагать идеи американского экономиста Кэри. И дело здесь не только в том, чтобы ввести в заблуждение цензуру. Книга Кэри давала публицисту фактический материал, который он излагал критически, оплодотворяя его идеями Фурье и Оуэна, Герцена и Чернышевского. Собственные размышления над книгой буржуазного экономиста привели Писарева к изложению социалистических идей — в оригинальной форме и в оригинальном приложении к России. «Очерки» стали своеобразным введением к целой серии статей, излагавших «теорию реализма». В основе взглядов Писарева на общество лежало материалистическое представление о двух основных потребностях человека — приобретать материальные обеспечения жизни и сближаться с другими людьми. «Все богатство человека, — писал он, — заключается в сырых материалах, добываемых из земли; все могущество человека заключается в умении перерабатывать и обращать в свою пользу добываемые материалы». Однако в процессе общения человека с человеком «гораздо быстрее, чем элементы труда и обмена услуг», развился «элемент присвоения чужого труда». Он возник «в доисторические времена в семейном быту и из него раскинул свои ветви по всем отраслям человеческой деятельности». Элемент присвоения «преобладает во всех существующих обществах», составляет источник и причину всякого зла, «является единственной причиной страданий и преступлений». Он, по мнению Писарева, «составляет единственный предмет изысканий историка», ибо «государственные формы, политический смысл и даже национальное чувство составляют прямое следствие элемента присвоения, т. е. все эти вещи или произошли от присвоения или возникли как отпор присвоению». Публицист выступает против буржуазно-либеральных представлений о прогрессе: «Различные видоизменения войны и различные проявления рабства, — писал он, — наполняют собой все страницы всемирной истории. Переход от одного вида войны к другому и от одной формы рабства к другой называется благозвучным Именем прогресса». Писарев ярко изображает «патологические формы труда», то есть различные формы эксплуатации. На примере Англии он показывает противоречия капитализма: огромные богатства небольшой кучки эксплуататоров и неисчислимые бедствия трудящихся масс. Он подвергает сокрушительной критике антинаучную сущность «учения» Мальтуса о перенаселении. Человеческое общество в первоначальной его форме Писарев представляет в виде четырехэтажной пирамиды. Ее основание, нижний этаж, непосредственно соприкасающийся с землей, составляют люди, добывающие сырые материалы. Во втором этаже происходит механическая и химическая переработка добытых материалов, в третьем — их перевозка. Все разнообразные классы людей, живущих за счет производительного труда нижнего этажа, обитают в самом верхнем, четвертом этаже. Равновесие пирамиды тем устойчивее, чем обширнее и тяжелее будут нижние этажи. («Так как специфическая сила человека заключается не в мускулах, а в мозгу, — поясняет Писарев, — то весом человека в переносном смысле может быть названа сумма его деятельных умственных способностей… Следовательно, когда мы говорим: «нижние этажи должны быть тяжелее», это значит, что в массах земледельцев и фабричных должно сосредоточиваться и обращаться больше знаний, чем в кучках людей, занимающихся очень неголоволомным делом исключительного потребления продуктов».) Оба условия равновесия постоянно нарушаются. Благодаря «замысловатому механизму» большая часть продуктов из двух нижних этажей молниеносно переносится в верхний ярус, где так же молниеносно и потребляется. Изобилие, которым пользуются жильцы четвертого этажа, привлекает к себе обитателей нижних этажей, все стремятся вскарабкаться кверху («лезут и гастрономы, и честолюбцы, и тщеславные посредственности; но туда же лезут и замечательные таланты и люди безукоризненные в нравственном отношении, потому что только в верхнем этаже можно найти умственную деятельность и некоторую степень нравственной самостоятельности»). Поднявшись вверх, каждый старается там удержаться. Камни вынимаются из основания и кладутся на вершину, постепенно основание становится уже, а вершина шире и тяжелее. Жильцы нижних этажей беднеют и все более зависят от произвола верхних капиталистов. Жизнь внизу становится невыносимой, производительные работы идут вяло и плохо, растут преступления против жизни и собственности. Со временем пирамида рухнет и превратится в безобразную кучу мусора. В неустойчивом равновесии перевернутой пирамиды будет находиться всякая цивилизация до тех пор, пока работник не станет образованным и довольным своим положением. «Мы уважаем труд, но этого мало, — писал Писарев в заключение статьи. — Надо, чтобы труд был приятен, чтобы результаты его были обильны, чтобы они доставались самому труженику и чтобы физический труд уживался постоянно с обширным умственным развитием». Сформулировав социалистическую цель, Писарев признается в том, что средств достижения ее не знает: «Рецентов предлагалось много. Но до сих пор ни одно универсальное лекарство не приложено к болезням действительной жизни». Современные ему общественные и экономические теории Писарев сравнивает с «отжившими призраками астрологии, алхимии, магии и теософии». Со временем, по его мнению, они приобретут «чисто научные формы» и обнаружат свое влияние на практическую жизнь. Однако произойдет это не скоро. «Со временем многое переменится, — завершает Писарев первую часть статьи, — но мы с вами, читатель, до этого не доживем, и поэтому нам приходится ублажать себя тем высоко бесплодным сознанием, что мы до некоторой степени понимаем нелепости существующего. «— И это называется нигилизмом? — И это называется нигилизмом! — повторил опять Базаров, на этот раз с особенной дерзостью». Эффектная концовка отсылает читателя не столько к «Отцам и детям», сколько к писаревской статье о романе Тургенева, где Базаров обрисован революционером. К мысли о неизбежности социализма Писарев пришел в результате признания определяющей роли экономики и решающей роли народных масс в истории. «Все цветы погибших цивилизаций, — писал Писарев, — росли и распускались в ущерб благосостоянию масс-, и поэтому нас не должно удивлять то обстоятельство, что во всех этих цивилизациях упадок с такою ужасающею быстротой следовал именно за эпохою величайшего блеска… Крепка, прочна и богата благодетельными последствиями будет только та цивилизация, которая будет улучшать быт и развивать умственные силы всех людей, составляющих данное общество». Социализм для Писарева был закономерной ступенью в развитии общества: «Только очень близорукие мыслители, — подчеркивал он, — могут воображать себе, что так будет всегда. Средневековая теократия упала, феодализм упал, абсолютизм упал; упадет когда-нибудь и тираническое господство капитала». Писарев повторяет свою излюбленную мысль о том, что революцию искусственно вызвать нельзя: «Пробуждение масс, необходимое для вступления в истинную цивилизацию, всегда производится только каким-нибудь решительным поворотом в течении общественной и экономической жизни, а не громкими и гуманными кликами старших братьев, подвизающихся на пользу младших в литературе и на различных кафедрах». Буржуазно-либеральной теории прогресса он противопоставляет свою собственную: «Каждый поворот, действующий освежительно на жизнь и самосознание масс, обыкновенно заключается в том, что эти массы освобождаются от какой-нибудь стеснительной опеки и полнее прежнего предоставляются естественному ходу собственных инстинктов и стремлений. Чем больше эта темная масса, о которой так соболезнуют просвещенные деятели, получает возможность жить собственным дрянным умишком, тем удобнее она устраивает свой быт, тем быстрее она богатеет, тем рациональнее становится ее земледелие, и тем человечнее делается каждый из ее отдельных кусочков». Однако плоды революций до сих пор не доставались народу. «В истории, — писал Писарев, — трудно отыскать хоть один такой факт, в котором энергия народа, его героические усилия, его жертвы, приносимые трудом и кровью, произвели бы в его образе жизни действительное улучшение, соответствующее подобным затратам… все великие эпохи дали до сих пор людям несколько пламенных стихотворений, несколько красноречивых страниц в истории, да, кроме того, приращение налогов и то чувство утомления, которое всегда следует за напряжением сил». Новый поворот в жизни человеческого общества Писарев связывает с социализмом. С этого поворота начнется «правильный прогресс», который поведет к осуществлению «истинной цивилизации», но когда начнется этот прогресс и когда он дойдет до своих результатов — это вопросы интересные, но не решенные».
Писарев — матери, 15 сентября 1863 года: «Жпзнь моя, которую так разнообразили в продолжение 4-х месяцев свидания с вами, опять покатилась своим ровным течением, опять я ничего не ожидаю, живу себе с минуты на минуту и опять замечаю, что время идет особенно скоро, и опять радуюсь, потому что дни опять так быстро уходят за днями. К уединению и к моему правильному образу жизни я так привык, что мне и в голову не приходит, чтобы этими вещами можно было тяготиться. Я не думаю, чтобы я, подобно Шпльонскому узнику, вздохнул когда-нибудь о моей тюрьме, но я совершенно уверен в том. что всегда буду вспоминать о времени моего заключения с самою добродушной улыбкой. Мне даже иногда становится смешно смотреть на себя: какой я кроткий агнец, и как я со всем примиряюсь, и как я всем остаюсь доволен! Со стороны смотреть, должно быть, еще смешнее, но мне, от кротости моей, очень хорошо; эта кротость похожа на пуховик, который предохраняет меня от боли при каждом падении».
Узнав, что Чернышевский написал роман, Писарев удивился: «Мыслитель, посвятивший все свои силы Исследованию экономических и социальных вопросов, вдруг стал художником!» Глубоко сочувствуя автору, критик боялся его неудачи. С предубеждением и робостью принялся он за чтение: а если роман так плох, что его даже нельзя защитить от официального остроумия Катковых? Опасения оказались напрасными. Писарев был в восторге от «Что делать?»: «Оставаясь верным всем особенностям своего критического таланта и проводя в свой роман все свои теоретические убеждения, г. Чернышевский создал произведение в высшей степени оригинальное и, с Какой бы точки зрения вы ни взглянули на него, во всяком случае чрезвычайно замечательное». Для Писарева это был долгожданный ответ на вопрос, поставленный им в статье о Базарове. Впоследствии Ф. Ф. Павленков утверждал, что сам замысел романа родился из этого вопроса. Очевидно, это не так. Вряд ли Чернышевский даже читал эту статью. Павленков никогда не встречался с Чернышевским и скорее всего рассказал одну из семейных легенд Писаревых. Тем не менее нельзя сомневаться в том, что узник Алексеевского равелина подарил своему младшему сотоварищу, заключенному в каземате Невской куртины, немало счастливых часов. Роман Чернышевского был ответом не только Писареву, а всему молодому поколению, всем, кто задумывался о Том, что так больше жить нельзя. Этот ответ крайне прост — бороться! «Будущее светло и прекрасно, — зовет Чернышевский. — Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы сумеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него все, что можете перенести». Устанавливая генеалогию героев Чернышевского, в своей статье-отклике на «Что делать?» Писарев вспомнил Тургенева. Он первым в русской литературе задумался о новых людях и, потерпев неудачу с Инсаровым, создал яркий образ Базарова. Тургеневу не хватило материалов, и он не вполне сочувствовал новому типу, не будучи сам новым человеком. Поэтому в его роман вкрались фальшивые ноты, но строгая и несправедливая рецензия Антоновича в «Современнике» была ошибкой. Роман Чернышевского, по мнению Писарева, явился лучшим опровержением этой рецензии, поскольку в нем «нее новые люди принадлежат к базаровскому типу». Они обрисованы гораздо отчетливее и объяснены гораздо подробнее, чем тургеневский герой. Тургенев наблюдал новых людей только издали и со стороны, он видел их в окружении людей старого закала и «не знал, как держат себя Базаровы с другими Базаровыми». Он чувствовал небывалость этого тина и останавливался перед ним в недоумении. Чернышевский же сам новый человек и знает, как они «любят и уважают друг друга, как устраивают свою семейную жизнь и как горячо стремятся к тому времени и к тому порядку вещей, при которых можно было бы любить всех людей и доверчиво протягивать руку каждому». Различие в позициях писателей объясняет, почему Тургенев в Базарове остановился на одной суровой стороне отрицания, а у Чернышевского новый тип «выяснился до той определенности и красоты, до которой юн возвышается в великолепных фигурах Лопухова, Кирсанова и Рахметова». Писарев охарактеризовал основные особенности нового типа людей. Прежде всего новые люди пристрастились к — общеполезному труду: «Для них труд и наслаждение сливаются в одно общее понятие, называющееся удовлетворением потребностей организма». Они устраивают свою жизнь так, что их личные интересы ни в чем не противоречат действительным интересам общества, в их жизни нет разногласия между влечением и нравственным долгом, между эгоизмом и человеколюбием. Ум и чувства новых людей не искажены хронической враждой против отдельных людей и находятся в самой полной гармонии между собой. «Новыми людьми, — формулирует Писарев, — называются мыслящие работники, любящие свою работу». Три особенности новых людей очерчивают только самые общие контуры типа, внутри которых открывается широкий простор «всему бесконечному разнообразию индивидуальных стремлений, сил и темпераментов человеческой природы». Подробно прослеживая, как развивается в Вере Павловне любовь к Кирсанову, другу ее мужа, и как ведут себя при этом трое новых людей, Писарев выясняет своеобразие их индивидуальностей. Самым замечательным местом в романе критик считает описание мастерской, которое сделано Чернышевским «очень ясно и подробно и с тою сознательною любовью, которую подобные учреждения естественным образом внушают ему, как специалисту по части социальной науки». Писарев не видит здесь ничего мечтательного и утопического и надеется, что этою стороной роман «Что делать?» может произвести много деятельного добра. «Искать обновления в труде во всяком случае гораздо рациональнее, — замечает критик, — чем видеть альфу и омегу человеческого благополучия в учреждении палаты депутатов или палаты перов». «Ни одно литературное произведение, как бы оно ни было глубоко задумано, — пишет Писарев, — не может выполнить такую задачу, которой разрешение связано с радикальным изменением всех основных условий жизни; но чрезвычайно важно уже то, что роман «Что делать?» является в этом отношении блестящей попыткой». Изображая Веру Павловну, Лопухова и Кирсанова, Чернышевский показывает своим читателям, какими могут быть обыкновенные люди. Светлое будущее сделается настоящим тогда, «когда все обыкновенные люди действительно почувствуют себя людьми и действительно начнут уважать свое человеческое достоинство». Рахметов не участвует в действии романа; по мнению Писарева, ему в нем нечего делать, титаническая фигура этого «особенного человека» выведена Чернышевским для того, чтобы убедить читателя в том, что Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна действительно люди обыкновенные. Но что же за человек Рахметов? Почему он не действует в романе? «Такие люди, как Рахметов, — объясняет критик, — только тогда и там бывают в своей сфере и на своем месте, когда и где они могут быть историческими деятелями; для них тесна и мелка самая богатая индивидуальная жизнь; их не удовлетворяют ни наука, ни семейное счастье; они любят всех людей, страдают от каждой совершающейся несправедливости, переживают в собственной душе великое горе миллионов и отдают на исцеление этого горя все, что могут отдать». Читатель уже догадывается, какого рода исторический деятель Рахметов, но объяснение становится еще прозрачнее: «Как они работают и что выходит из этих работ, это объяснить довольно трудно, потому что работы эти начались очень недавно, всего лет пятьдесят или семьдесят тому назад, и потому, что окончательный результат этих работ, передающихся от одного поколения деятелей к другому, лежит еще далеко впереди».. Теперь уже ясно каждому, что Рахметов — социалист, ибо критик указывает на рубежXVIII–XIX веков, когда началась деятельность великих утопических социалистов Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Критик говорит, что этих людей не понимают, им мешают делать добро и поэтому «их мирная работа принимает совершенно несвойственный ей характер ожесточения и борьбы». Так Писарев вслед за Чернышевским делает шаг вперед, признавая необходимость объединения социализма с революционным движением. Эти люди, продолжает вести читателя критик, способные по своему уму и характеру решать самые сложные вопросы современной истории, остаются обычно в неизвестности и принуждены всю жизнь заниматься самой мелкой черновой работой. Они не отворачиваются от нее — «нельзя сделать все, так они будут делать что-нибудь для облегчения человеческого горя». У этих людей нет ни «канцелярской сметливости», ни «других служебных дарований». Карьеры они не сделают и на свое место, где они могли бы развернуться, попадают очень редко, а когда попадают, то исключительно какими-нибудь эксцентрическими путями. В качестве примера тех немногих необыкновенных людей, которые, претерпев всяческие несправедливости и притеснения, смогли занять свое настоящее место, Писарев называет Оуэна и Гарибальди. Он объясняет, что Гарибальди получил возможность действовать потому, что для Италии наступило время политического обновления, а деятельность Оуэна протекала в Англии, которая «при всех недостатках своего общественного устройства, обеспечивает за своими гражданами значительную свободу действий». Однако на каждого Оуэна и Гарибальди, печально констатирует критик, «приходится, наверное, по несколько необыкновенных людей, которым на всю жизнь суждено оставаться полезными чернорабочими в деле служения человечеству». Некоторых исследователей возмущает, что Писарев поставил рядом социалиста и буржуазного революционера, и они обвиняют его в неясности мысли. Они ошибаются: сочетание двух имен у Писарева объединяет политическое обновление и социализм — насущные стремления людей 60-х годов. Теперь читателю совершенно ясно, что за человек Рахметов. Он прежде всего исторический деятель, пекущийся о счастье всех людей, социалист и революционер, который пребывает в неизвестности потому, что в России нет значительной свободы действий, потому что время политического обновления еще не наступило. Калибр его велик — это человек масштаба Оуэна и Гарибальди. Так что же такому человеку делать в романе! Единственный пункт, вызывающий возражения Писарева, — это аскетизм и ригоризм Рахметова. Полагают, что здесь критик ошибся и не понял самого главного в Рахметове. Но это совсем не так. Напротив, Писарев понял Рахметова лучше, чем кто-нибудь другой, и сумел показать читателю его во весь рост. Нельзя забывать, что автор романа и автор статьи были заключенными Петропавловской крепости, и суд над ними еще не кончился. И роман и статья писались для подцензурных журналов. Из этого следует, что Чернышевский не мог обрисовать Рахметова как революционера, а ограничился намеками, позволяя читателям проявить свою догадливость. Задача критика состояла в том, чтобы найти такие приемы эзоповской речи, которые прояснили бы намеки автора романа. И можно только поражаться, насколько удачен и необходим оказался комментарий Писарева. Писарев не соглашается со словами Рахметова, который, требуя для людей полного наслаждения жизнью, сам в этом не нуждается. Он считает это рассуждение логически несостоятельным. Нельзя ставить себя выше человеческих потребностей, вне общих физиологических законов; нельзя подрывать свои доказательства примером собственной жизни. «Вообще, жизнь и учение человека должны находиться в возможно полном согласии». Людям мешают наслаждаться, продолжает рассуждать критик, собственные предрассудки или внешние обстоятельства. Очевидно, предрассудки не могут быть свойственны Рахметову. Писарев их отметает и обращает внимание на внешние обстоятельства. Но это слепые, стихийные силы, которым нет никакого дела до личных принципов и страстей. Писарев признает, что сам факт аскетизма ему нисколько не представляется сомнительным и невозможным. «Бывают натуры, — пишет он, — в которых любовь к людям, сохраняя всю пылкость чувства, принимает непреклонность догмата, управляющего всеми- мыслями и поступками человека» и «чем меньше силы такого человека могут быть приложены к внешней плодотворной деятельности, тем больше эти силы обращаются вовнутрь, на самого деятеля, которого они тиранят без малейшей пощады и без всякой пользы». Ни один человек, знающий Рахметову, не подумает, что он когда-нибудь забывает о нуждах простых людей. Зачем же тогда ему напоминать себе о них ненужными лишениями? «Причина одна, — утверждает Писарев, — общая таким натурам потребность взимать на себя грехи мира, бичевать и распинать себя за все людские глупости и подлости». Критик уверяет, что не умеет объяснить эту потребность (это тоже прием), потому что только исключительные натуры ее испытывают и понимают. Действительное существование этой потребности подтверждает множество достоверных исторических явлений. Предлагая два объяснения рахметовскому ригоризму (против которого он возражает!) — вынужденность внешними обстоятельствами и потребность исключительных натур, Писарев затем синтезирует их, чтобы окончательно высказаться. «В общем движении событий, — продолжает он, — бывают такие минуты, когда люди, подобные Рахметову, необходимы и незаменимы; минуты эти случаются редко и проходят быстро, так что их надо ловить на лету, и ими надо пользоваться как можно полнее. Я говорю о тех минутах, когда массы, воняв, или, по крайней мере, полюбив какую-нибудь идею, воодушевляются ею до самозабвения и за нее бывают готовы идти в огонь и в воду». Писарев подчеркивает, что минуты эти редки и коротки. Итак, речь идет о народных революциях, только тогда Рахметовы находят применение своим силам, они «выпрямляются во весь свой рост, и этот колоссальный рост как раз соответствует величию событий». Рахметовы «несут вперед знамя своей эпохи, и уже, конечно, никто не может поднять это знамя так высоко и жести его так долго и так мужественно, так смело и так неутомимо, как те люди, для которых девиз этого знамени давно заменил собою родных и друзей, и все личные привязанности». Объявись десятки Рахметовых — всем нашлась бы работа. Но таких людей мало, и «но недостатку в таких людях, все великие минуты в истории человечества до сих пор обманывали общие ожидания». Обрисовав Рахметова как народного вождя в момент революции, критик замечает, что «в обыкновенное время, когда господствует невозмутимая рутина, когда тянутся скучные и томительно длинные исторические антракты, силам Рахметова нет приложения, эти силы давят и гнетут своих обладателей, и те мелкие дела, к которым они прикладываются, только разжигают в этих людях стремление к полезной деятельности, не доставляя этому страстному стремлению ни малейшего удовлетворения». Перечисляя занятия Рахметова, Писарев цитирует Чернышевского: «…остальное время он занимается чужими делами, или ничьими в особенности. Постоянно соблюдая то же правило, как и в чтении: не тратить времени над второстепенными делами и с второстепенными людьми, заниматься только капитальными, от которых уже и без него изменяются второстепенные дела и руководимые люди». Критик понимает, что речь здесь идет о руководящей подпольной деятельности, и новым возражением подчеркивает ее значение. Эта деятельность была, быть может, рассуждает Писарев, очень обширна и важна по своим результатам, но что она не удовлетворяла Рахметова, это всего убедительнее доказывается всей его системой ригоризма, которая придумана без малейшей необходимости. Отдельные случаи, в которых проявляется его ригоризм, могли быть устранены без малейшего ущерба для его любимого дела. «Такие исторические деятели, — пишет Писарев, — которые каждый день рисковали головою, не отказывали себе в любви и не находили, чтобы любовь в каком-нибудь отношении связывала им руки. Даже те люди, которых наш русский Тацит, Смарагдов, давно заклеймил заслуженным названием чудовищ и злодеев, даже они (по свойственному мне целомудрию я не называю их по имени), даже они были люди женатые, еще того лучше, имели невест и мечтали об идиллиях, которым, конечно, никогда не суждено было осуществиться. И руки у них — ничего, не были связаны». Последнее возражение Писарева связано с гвоздями в кровати Рахметова. «Ну, а если бы Рахметов увидел, что не может выносить физическую боль, — спрашивает Писарев, — разве он переменил бы что-нибудь в своем образе жизни, в своей деятельности?» И отвечает: «Разумеется, нет. Скорее умер бы, чем переменил». Очевидно, все эти выдумки происходят от избытка сил, не находящих себе достаточно широкого и обширного приложения. Казалось бы, Писарев осуждает Рахметова за ригоризм и аскетизм, очевидно, он должен признать Рахметова неправдоподобным и надуманным лицом. Но вот вывод критика: «Попытку г. Чернышевского представить читателям «Особенного человека» можно назвать «очень удачной». И далее, сравнивая Инсарова с Рахметовым, он пишет: «Тургенев хотел из Инсарова сделать человека, страстно преданного великой идее; но Инсаров, как известно, остался какою-то бледною выдумкою. Инсаров является героем романа; Рахметов даже нс может быть назван действующим лицом, и, несмотря на это, Инсаров остается для нас совершенно неосязательным, между тем как Рахметов совершенно понятен даже по тем немногим выпискам, которые приведены в моей статье. Правда, мы не видим, что именно делает Рахметов, как не видели того, что делает Инсаров, но зато мы вполне понимаем, что за человек Рахметов, а рассматривая Инсарова, мы только до некоторой степени можем догадаться о том, каковы были намерения и желания автора». На первый взгляд Писарев нелогичен и противоречит сам себе. Но это не так. Писарев возражал для того, чтобы обратить внимание читателя на то, чего в романе нет, а что лишь подразумевается, то есть на подпольную деятельность Рахметова. Критик объяснил, что самоистязания Рахметова, его ригоризм и аскетизм только заполняют время, которое у него остается от полезной деятельности, не удовлетворяющей его. Все возражения Писарева сводятся к тому, что Рахметовы не способны на предрассудки, что они не могут допустить разрыва между теорией и практикой, что они своей жизнью показывают пример, но если они что-то делают не так, как полагается по их теории, то тому виной внешние обстоятельства, которые не слушают никаких убеждений. Правильность этого вывода подтверждают автобиографические строки в этой же статье. Писарев, ярый противник аскетизма, говорит о смысле отказа от наслаждений и даже от жизненных удобств ради убеждений, то есть об аскетизме, вынужденном внешними обстоятельствами. «Кто в молодости не связал себя прочными связями с великим и прекрасным делом или по крайней мере с простым, но честным и полезным трудом, — писал Писарев, — тот может считать свою молодость бесследно потерянною, как бы весело она ни прошла и сколько бы приятных воспоминаний она ни оставила. Забирайте с собою чувства молодости, после не подымете, — говорит Гоголь, и правду он говорит. А как их заберешь с собою, если не вложишь их целиком в такое дело, на которое до последней минуты твоей жизни будет откликаться каждая фибра твоего существа. Кому удалось это сделать, о том нечего жалеть, если даже молодость его прошла в суровом труде, вдали от дорогих и близких людей, без наслаждений, без объятий любимой женщины. И дорогие люди, и наслаждения, и любимая женщина — все это, несомненно, очень хорошие вещи, но сам человек для самого себя дороже всего на свете. Если ценою труда и лишений, ценою потраченной молодости, ценою потерянной любви он купил себе право глубоко и сознательно уважать самого себя, право унести с собою на край света и удержать за собою во всех испытаниях неизменную молодость и свежесть ума и чувства, то нельзя сказать, что он заплатил слишком дорого. Он отдал кусок жизни, чтобы по-человечески прожить всю жизнь, он лишился двух, трех радостей, но взамен их получил высшее наслаждение, которое служит украшением для жизни и поддержкою в минуту агонии; он получил право знать себе настоящую цену и видеть, что эта цена не мала».
Статью о романе Чернышевского, названную «Мысли о русских романах», Писарев вручил коменданту накануне своего двадцатитрехлетия. Сорокин вместе с окончанием «Очерков из истории труда» (полученным от автора раньше) отправил статью военному генерал-губернатору. 8 октября Суворов переслал обе статьи в сенат, а уже 14-го они возвратились к нему. В заключении сената обращалось внимание на статью «Мысли о русских романах», опубликование которой «может иметь вредные последствия». Впрочем, отвечал сенат, «предмет этот подлежит рассмотрению цензуры». По каким-то причинам обе статьи в канцелярии генерал-губернатора задержались дольше обычного: только 6 ноября они возвратились в комендатуру крепости. Почти одновременно Суворов сообщил мнение сената в министерство внутренних дел. На письме генерал-губернатора министр внутренних дел написал: «Теперь же предварить г. г. цензоров конфиденциально». В тот же день 8 ноября ничего не подозревавший Писарев обратился к коменданту с просьбой передать статьи Благосветлову. «Мысли о русских романах» предназначались в запоздавший октябрьский номер, в котором для статьи было оставлено место. Кажется, Благосветлов предчувствовал какую-то опасность, ибо, передавая статью в цензуру, изменил ее заголовок на «Новый тип». Хитрость не помогла. 30 ноября Валуев написал новую резолюцию на письме Суворова: «Статью запретить». А днем раньше цензор подписал в свет октябрьскую книжку «Русского слова» без писаревской статьи.
2. «ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ИСТОРИИ»
В конце ноября Писарев вдруг обнаружил, что в комнате слева, которая давно пустовала, появился заключенный. Этим соседом оказался Баллод. Когда это выяснилось, друзья несколько вечеров подряд беседовали, пользуясь тюремной азбукой. Старое как мир изобретение им пришлось изобретать заново. Легкий стук костяшками пальцев о стену, число непрерывных ударов — порядковый номер буквы в алфавитном ряду. Это долго и томительно: «п» — пятнадцать, а «я» — даже тридцать ударов! Разделили алфавит на строчки, дело пошло быстрее: один — шесть ударов — номер строки, после короткой паузы еще один — пять ударов — место буквы в строке. Вскоре собеседники научились угадывать слова по первым буквам и часто удар кулаком в стену прерывал угаданное слово, предлагая выстукивать следующее. Потом придумали сокращения, стали пропускать гласные. Беседы стали живее. Однако так разговаривать больше полутора-двух часов подряд было трудно: уставали пальцы. В камере напротив Писарева помещался студент-медик Сергей Стахевич. С Баллодом он разговаривал, стуча оловянной кружкой по столику. Звук получался достаточно сильный, чтобы его слышал заключенный через коридор в камере, расположенной наискосок. Порой Баллод укорял собеседника в чрезмерной осторожности: «Стучите громче, ведь уж за это нам каторги не прибавят». Писареву общаться со Стахевичем было проще: став вплотную к дверям своих камер, они разговаривали обыкновенным голосом. Студент Медико-хирургической академии Стахевич был членом «Земли и воли». Арестованный по доносу в марте за распространение прокламации «Льется польская кровь, льется русская кровь», он сидел в Трубецком бастионе, Екатерининской куртине, а с сентября переведен в Невскую. Следствие по его делу уже кончилось, и он тоже ждал приговора. Он не был раньше знаком со своими соседями по заключению, но имена их слыхал: Баллода — как одного из переводчиков популярного среди медиков учебника описательной анатомии Гиртля, а Писарева — как главного сотрудника радикального журнала «Русское слово». В свою очередь, Писарев рассказал товарищу по заключению собственную историю. По словам Стахевича, он не сердился на Баллода, понимая, что тот был вынужден показать в следственной комиссии «хоть что-нибудь настоящее, не фантастическое». Разговоры Писарева со Стаховичем продолжались недолго. На третий или четвертый день часовые заметили нарушение крепостного режима, и Писарев был переведен из Невской куртины в Екатерининскую. В своих воспоминаниях Стахевич рассказывал, что Писарев успел прочитать ему «бойко написанный отрывок» о французской революции. Мемуарист не знал, из какой именно статьи и был ли напечатан этот отрывок. Краткий пересказ, сделанный Стахевичем, не оставляет сомнения, что Писарев читал ему пятнадцатую главу «Исторических эскизов», одно из самых замечательных мест этой статьи. Над «Историческими эскизами» Писарев работал в ноябре и декабре. Первая часть статьи была отправлена генерал-губернатору 23 ноября, пятнадцатая глава (вторая во второй части) писалась в конце ноября — начале декабря, тогда же она и была прочитана товарищу. Рассказывая о первом этапе Великой французской революции, Писарев подчеркивал закономерности ее неудержимого развития: «Беспокойство, неудовольствие, шаткость ежедневных расчетов, отсутствие правильных заработков, отвращение к труду, — писал публицист, — все эти моменты составляли ту общую канву, на которой революционное движение могло рассыпать щедрой рукой самые роскошные и причудливые узоры. Все действовало заодно с революцией, и все предвещало ей в будущем много фаз тревожного и неудержимо-стремительного развития. Усилия правительства и Национального собрания остановить революцию не могли иметь ни малейшего успеха, потому что и правительство, и собрание, стараясь одной рукой обезоружить народные страсти, другой рукой, сами того не замечая, увеличивали раздражение умов и заготовляли материалы для нового взрыва. И новая революция действительно приближалась с неумолимой быстротой, приближалась независимо от единичных желаний или опасений, приближалась как громадное и неизбежное явление природы, вытекающее из данных условий по слепым и безжалостным законам необходимости. Средневековое ярмо было разбито и сброшено; несмотря на это, в сельском и городском населении Франции лежали еще неистощимые запасы материалов для самых всеобъемлющих переворотов». Анализируя положение в деревне, Писарев отмечал, что выгоду от уничтожения феодализма получили лишь крестьяне-собственники, которых во Франции было немного. Подавляющее большинство крестьян не имело собственной земли, а нанимало крошечные клочки у феодалов за половину урожая. Для этих крестьян-пролетариев устранение феодальных повинностей было незначительным облегчением. С уничтожением обязательного труда они оказались в вынужденной праздности и глубокой нищете. Видя выгоды, полученные их соседями, крестьянами-собственниками, пролетарии рассчитывали, что дальнейшее развитие революции позволит и им воспользоваться подобными выгодами. «Каждый просвещенный либерал, — иронизировал Писарев, — мог бы поразить этих глупых крестьян бесчисленным множеством аргументов, взятых из всех областей права, истории, нравственной философии и политической экономии. Он мог бы сказать им в общем результате: «Глупые друзья мои! Как вы этого не понимаете? Они — собственники, а вы — не собственники. У вас нет совсем ничего, и потому вы никак не можете получить от революции те удовольствия, которые приобрели от нее люди, имеющие что-нибудь. Революция может изменить законы и учреждения, но если она посягнет на священную собственность, тогда это будет уже не революция, а одно безобразие». Когда летом 1790 года Национальное собрание пустило в продажу церковные земли, оно надеялось обогатить казну и заодно превратить «глупых пролетариев в счастливых собственников и, следовательно, в просвещенных либералов, против которых не нужно будет употреблять никаких героических лекарств». Было приказано продавать церковные земли мелкими участками. «Мера была превосходная, — насмешливо замечает Писарев, — но на земле не бывает полного совершенства. И не может его быть, прибавляет солидный читатель». («И даже совсем не должно быть, прибавляю я, и оказываюсь, таким образом, солиднее всякого читателя», — добавляет Писарев в подстрочном примечании.) Подражая Чернышевскому, который на страницах «Что делать?» полемизировал с «проницательным читателем», Писарев избирает себе в оппоненты «солидного читателя». Это родной брат «проницательного читателя», российский двойник французского просвещенного либерала, произнесшего тираду в защиту священного права частной собственности. Поспешную реплику «солидного читателя», явно удовлетворенного превосходной мерой, Писарев парировал подстрочным примечанием, в котором выразил свое признание закономерности и действий Национального собрания и непредвиденных им последствий. «У глупого пролетария, — разъяснял публицист солидному читателю, — совсем ничего не было, так что если бы землю продавали не десятинами, а цветочными горшками, то и тут он мог бы только украсть себе такой горшок земли, а никак не купить его. Если бы государство захотело подарить землю своему убогому детищу, то и тогда этот блудный сын мог бы пахать эту землю только собственными ногтями, потому что у него не было даже своей лопаты; стало быть, сделавшись собственником, такой фермер все еще не превращался в просвещенного либерала и все еще искал себе в революции недозволенных удовольствий». Последствия «превосходной меры» столь же неожиданны для «солидного читателя», как и для Национального собрания. Так же как французский буржуа, российский либерал не в состоянии ни понять положения пролетария, ни тем более согласиться с его стремлениями. «— Ну, однако, — спрашивает наконец раздосадованный читатель, — что же вы с ним прикажете делать? И как же его наконец пристроить так, чтобы он не кричал и не лез на стены? И чем же тут виновато Национальное собрание?» С насмешливой снисходительностью публицист отвечает вконец растерявшемуся либералу: «Ах вы, мой читатель! ах вы, мой гневный читатель! неужели вы не знаете, что в жизни бывают такие положения, в которых решительно ничем нельзя помочь и решительно ничего нельзя сделать путного? Куда ни кинь, все клин. В подобных случаях частной жизни русский человек утешается пословицею: «Перемелется — мука будет». Перемелется-то оно точно, и мука будет непременно; но уже зато не взыщите: что попадет под жернов и из чего выделяется мука — это никто не знает заранее». Исторический план перерастает в план теоретический, намекая на возможность подобной ситуации не только во Франции в прошлом, но и в России в будущем. Мнимое утешение вырастает в реальную угрозу. Публицист вновь возвращается на французскую почву и с нарочитой примитивностью, как малому ребенку, объясняет «солидному читателю» причины и ход французской революции. «Вот в таком-то положении и находились дела во Франции в конце прошлого столетия. И если бы они находились не в таком положении, тогда во Франции не было бы революции, а совершилось бы полюбовное размежевание заинтересованных сторон. Но ни одна попытка подобного размежевания в тогдашней Франции не удалась, и между заинтересованными сторонами не оказалось ни малейшей полюбовности; обнаружилось, что все интересы противоречат друг другу и все перепутаны между собой до последней крайности. Со всех сторон заговорили страсти, и каждая из этих страстей сама по себе была вполне естественна, а между тем каждая из них для своего удовлетворения должна была теснить и истреблять другие страсти. Люди разгневались друг на друга и сначала стали шуметь, а потом передрались. И больно передрались. И долго продолжалась их драка». Брошенный вскользь намек не пропал даром; читая о Франции, читатель думает о России. Усыпляя бдительность цензуры, Писарев якобы солидаризируется с «солидным читателем», но здесь же снова подчеркивает объективную закономерность описанных событий: «И все это вовсе не хорошо, и вовсе не нравится ни мне, ни моему читателю. Но мало ли что нам не нравится. Многое, друг Горацио, очень многое делается в этом мире совсем не так, как мы с тобою того желаем». Завершив главу, публицист как бы оправдывается перед читателем за игривый тон и легкомыслие изложения. Этим оправданием он подчеркивает ключевое значение пятнадцатой главы для всей статьи. «Этим печальным размышлением, изумительным по своей новизне, я заканчиваю эту XV главу, которая, по какому-то необъяснимому капризу судьбы, пропиталась небывалым легкомыслием изложения. В оправдание этого легкомыслия я могу, впрочем, поставить на вид читателю, что я все-таки тем или другим тоном выразил все то, и только то, что я хотел выразить, а это во всяком случае заслуга немаловажная, за которую многое может быть мне прощено». Смысл писаревского «легкомыслия» заключается в том, чтобы в обход цензуры объяснить русскому читателю значение уроков французской революции для России. «Исторические эскизы» — первая из серии статей, в которых Писарев намеревался рассказать читателям «Русского слова» о главных этапах европейской истории. Вместе с тем это первая попытка конкретизировать и развить общеисторические положения, изложенные в «Очерках из истории труда». Писарев не перечеркивает своих прежних суждений и не отрекается от них, он их уточняет и углубляет в духе окончательно осознанного им социалистического идеала. Мысли, высказанные Писаревым в статьях 1861–1862 годов, приобретают теперь ярко выраженную социалистическую окраску. Отмечая, что история еще не стала наукой, так как в ней преобладают биография и нравственная философия, Писарев подчеркивает важность исторических материалов «для решения многих вопросов первостепенной важности». «Только история, — утверждает он, — знакомит нас с массами; только вековые опыты прошедшего дают нам возможность понять, как эти массы чувствуют и мыслят, как они изменяются, при каких условиях развиваются их умственные и экономические силы, в каких формах выражаются их страсти и до каких пределов доходит их терпение». Определяя задачи истории как науки, Писарев считает коллективную жизнь народа единственным предметом, достойным исторического изучения. «История, — пишет он, — должна быть осмысленным и правдивым рассказом о жизни массы; отдельные личности и частные события должны находить в ней место настолько, насколько они действуют на жизнь массы или служат «ее объяснению». «Действующая сила» исторических событий, конкретизирует Писарев свою мысль, «лежала и лежит всегда и везде — не в единицах, не в кружках, не в литературных произведениях, а в общих и преимущественно — в экономических условиях существования народных масс». Обратившись к событиям Великой французской революции, Писарев интересуется прежде всего экономическими явлениями, этой «внутренней стороной истории». Он ярко характеризует условия народной жизни накануне революции и неотвратимость революционного взрыва, тщетность попыток спасти полумерами старый порядок и назревание новых социальных конфликтов в ходе революции. Рассказывая о формировании и решительном размежевании двух главных партий революции — буржуазно-либеральной и демократической, Писарев высмеивает сторонников «постепенного и спокойного прогресса» и выражает искренние симпатии к якобинцам, которые «безгранично верили в народ и надеялись, что его живые силы выработают что-нибудь превосходное, если только силы эти будут взволнованы во всей своей глубине и если брожение, необходимое для этого народного творчества, будет постоянно поддерживаться в полном своем могуществе». Непобедимую силу революции Писарев видел в том, что «она успела уже дать всем классам народа осязательные доказательства своего существования и своей деятельности». Возвращение старого порядка вещей сделалось совершенно невозможным, когда революция «проложила себе дорогу в мир материальных интересов, когда она переделала по-своему весь строй экономических отношений». Излагая ход революционных событий, Писарев подмечает, как накапливались причины, которые привели к поражению якобинцев, к торжеству буржуазии. Писарев следит за поляризацией новых крайних сил, определивших главный конфликт новейшего времени — конфликт между капиталом и трудом, между буржуазией и пролетариатом. Понимая под пролетариатом всех лишенных собственности (неопределенность, присущая всем социалистам до Маркса), Писарев представляет его грозной силой современности. «Кто сколько-нибудь имеет понятие о смысле событий, совершающихся во всемирной истории, — пишет он, — тот знает, что каждый голодный день пролетария, каждая прореха на его рубище, каждая болячка на его истомленном теле составляют общественные явления колоссальной важности и ведут за собою такие последствия, которых «ни в сказке сказать, ни пером написать».Писарев — матери, 15 декабря 1863 г.: «Многий черты моего характера огорчали других людей, но не потому, что эти черты наносили им большой убыток, а потому, что они желали, чтобы я был не такой человек, а другой. Эти люди были не правы, и к числу их принадлежала и ты. Не правы они были потому, что хотели невозможного. Каков есть человек, таков и есть, и другим он не будет и быть не может. Пока ты желала переделать меня, я стоял в оборонительном положении, потому что мне, как и всякому другому человеку, чрезвычайно дорога неприкосновенность и самостоятельность характера. Человек защищает ее, как свою жизнь, совершенно инстинктивно, когда даже не понимает, что такое самостоятельность и неприкосновенность. На этом основана вечная борьба между воспитателями и детьми. Воспитатели обыкновенно хотят сделать слишком много, и это им не удается, и в эту ошибку впадают именно самые усердные и умные воспитатели, к числу которых принадлежишь и ты. Ошибка эта, впрочем, не приносит нисколько вреда; жаль только, что воспитателю она доставляет много хлопот и даже огорчений: она ведет обыкновенно к тому, что между воспитателем и воспитанником, переходящим уже в мужской возраст, поселяется на время холодность и натянутость отношений. Но как только воспитатель мирится с характером воспитанника, как с существующим фактом, тотчас же исчезает всякая холодность и Начинается прежнее Дружелюбие. Вот самый простой очерк ваших отношений с тобой; вот почему между вами было что-то неладно и вот почему мы теперь большие друзья с тобой и с каждым годом будем дружиться все сильнее… Что касается до тебя, друг мой, Маman, то твой характер совершенно и окончательно сложился, так что в нем, конечно, нельзя делать никаких изменений и дополнений. Тебя надо покоить, чтобы тебе не было больно жить на свете; но ублажать Верочку совсем не следует: она сама может и должна сделать так, чтобы ей во всяком положении было весело и приятно; а если она не умеет пли не хочет этого сделать, пускай ей будет тяжело и неприятно; значит, сама виновата. В отношении к людям молодым и здоровым я не понимаю возможности сострадания, и не понимаю его потому, что никогда не требую его для себя. В последнем письме твоем, друг мой, мамаша, есть одно непростительное место, — это насчет упрека совести в том, что ты не сохранила состояния для дочери. Это место, разумеется, написано тайком от Верочки, потому что Верочка» а это обозлилась бы до слез, по крайней мере, на полчаса, или даже больше. Совесть в этом случае упрекает зря, и когда она станет приставать к тебе с такими нелепостями, ты ей можешь ответить, что надо было делать одно из двух: или состояние удерживать, или детей воспитывать. Давши детям воспитание, ты им дала и состояние. Если воспитание не пойдет им впрок, то состояние и подавно бы не пошло. Если бы ты сохранила состояние и если бы ты имела в виду, что Верочка будет выезжать в свет в Ливнах, в Задонске, в Туле, пожалуй, Даже в Москве и т. д., то ты должна была бы воспитывать ее так, чтобы она подошла под общий уровень наших барышень. А спроси ее, чем бы она желала быть: тем, что она есть теперь, без состояния и без выездов, или провинциальною барышнею, с состоянием и с выездами, — увидишь, что она тебе ответит. Поверь мне, друг мой, Maman, те люди, которых бедность не раздавила и не опошляла, получают от этой самой бедности такой побудительный толчок, который заставляет их развернуть все свои силы. Что мы не раздавлены и не опошлены, — это ясно».
Протоиерей Петропавловского собора (и одновременно профессор богословия Петербургского университета) Василий Петрович Палисадов славился как проповедник-импровизатор. Эту славу он снискал за границей, где долго служил в посольских церквах Парижа и Берлина. Однако студенты были иного мнения о красноречии своего профессора. «На лекциях Палисадов, чтобы привлечь к себе слушателей, до безобразия паясничал и городил зачастую непроходимую чушь, облекая ее в самые суконные формы», — вспоминал один из них. По своей должности отец Палисадов часто посещал узников Петропавловской крепости. Он отправлял требы для заключенных, совершал таинства исповеди и причастия, а кроме того, но заданию начальства наставлял политических заключенных на путь истинный, приводя их к раскрытию обстоятельств, полезных для следствия. Он взялся обрабатывать Н. А. Серно-Соловьевича, заключенного в Алексеевском равелине, предлагая ему установить «частные письменные сношения», но получил такой отпор, что вынужден был отступиться. Отец Палисадов часто посещал и Писарева. Сначала Писарев отвечал на вопросы священника охотно, но затем что-то заподозрил и стал уклоняться от разговоров. Однажды, раздражившись на Палисадова, Писарев выгнал его из своей камеры и швырнул ему вслед книгу. Об этом случае протоиерей рассказал заключенному в Алексеевском равелине Н. В. Шелгунову. «И к Писареву, и ко мне, — вспоминал впоследствии Шелгунов, — отец Палисадов проявлял большое внимание и часто к нам заходил. Писарев не доверял Палисадову и приписывал его посещения причинам, которых нельзя было бы оправдать, если бы Писарев не ошибался. Палисадов был в этом отношении вне всяких подозрений и держал себя умно, с тактом и осторожно (но крайней мере, таким я его иомню). От Палисадова я знал, что Писарев находится в сильно возбужденном состоянии… Палисадов отзывался о Писареве с глубоким уважением и сочувствием и, видимо, старался облегчить ему одиночество». Добрейший Николай Васильевич очень ошибался, думая так. Глубокая порядочность не позволила Шелгунову разглядеть в проповеднике самого обыкновенного шпиона. Палисадов рассказывал Баллоду о том, какие возмутительные статьи пишет Писарев по рабочему вопросу — «они вызывают рабочих к ножовщине». Эти рассказы протоиерея навели Баллода на мысль, высказанную им в его воспоминаниях, что Писарева осудили «не столько за статью против Шедо-Ферроти, сколько за те статьи, которые он писал в Петропавловской крепости».
Из отчета министерства внутренних дел о направлении и содержании главных периодических изданий в 1863 году. «Русское слово»: «Этот журнал придерживается того же направления, которым отличается «Современник». Различие между двумя журналами состоит прежде всего в том, что статьи «Современника» составляются с большим талантом и строже подводятся под один цвет, чем статьи «Русского слова», который допускает иногда и статьи умеренного оттенка, но зато, не имея способности проводить свое направление с надлежащею последовательностью, часто выражается гораздо резче. Таким образом, в минувшем году некоторые статьи «Русского слова» были даже рельефнее «Современника». Далее, социализм «Русского слова» выводится как бы из начал науки и из экономических требований нашего народа, тогда как «Современник» основывает его на пожеланиях инстинктивных и стремится иногда довести его до самого грязного коммунизма. «Русское слово» придает иногда своему материализму характер скептического реализма, «Современник» же отвергает вса эти тонкие оттенки одного и того же направления и берет только окончательный его цвет. Выдающуюся черту в «Русском слове» составляет критический отдел… По возобновлении своем в 1863 он хотя и не изменил своих тенденций, тем не менее под влиянием цензурных ограничений стал выражаться гораздо умереннее, что, впрочем, не мало содействовало уменьшению к нему внимания со стороны прежних его почитателей». Из отчета следственной комиссии за 1863 год: «Из 82-х лиц, привлеченных к дознаниям в течение этого года, 51 были преданы суду военному и гражданскому уголовному, а 31 — подвергнуты административным взысканиям. Из первой категории осуждены к смертной казни — 4, к каторжной работе — 14, к заключению в крепости — 3, к заключению в тюрьме — 2, к аресту — 1, к ссылке в отдаленные губернии — 1, к отдаче под надзор полиции — 18, к отдаче в военную службу — 2, бежало — 4 чел. Из второй категории — высланы административным порядком — 13, отданы под надзор полиции в местах жительства — 18 чел.». Из всеподданнейшего отчета III отделения: «1863 год замечателен еще тем, что в журналах печатаются сочинения содержащихся в крепости но политическим делам — Чернышевского, Шелгунова, Серно-Соловьевича, Писарева, Михайлова (Мих. Илецкого), осужденного на каторгу». Из хозяйственных ведомостей Петропавловской крепости: «С 1 января по 31 декабря 1863 выдано подсудимому Писареву на продовольствие (из расчета по 30 коп. в день) 109 руб. 50 коп.».
3. МОТИВЫ РУССКОЙ ДРАМЫ
Возобновленные после восьмимесячного запрещения радикальные журналы были уже не те, что прежде. Лишившись Добролюбова и Чернышевского, «Современник» заметно потускнел. Ни Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, вступивший в редакцию, ни Максим Алексеевич Антонович, ставший идейным руководителем и фактическим редактором журнала, не могли восполнить утраты. Оставаясь передовым и все же лучшим русским журналом, «Современник» потерял свой боевой дух. На его страницах появились статьи, противоречащие прежней программе, а новой программы журнал еще не выработал. Интерес читателей к нему падал. Напротив, «Русское слово» набирало силу и популярность. В полную мощь развернулись Николай Васильевич Соколов, Дмитрий Дмитриевич Минаев и сам Благосветлов. Постоянными сотрудниками журнала стали Варфоломей Зайцев, бойкий и резкий молодой критик, и Николай Васильевич Шелгунов, бывший публицист «Современника», томящийся в заключении. А с июля и Писарев вновь получил возможность печататься в журнале. С первых номеров 1863 года между «Современником» и «Русским словом» начались разногласия. В феврале Антонович повторил: «Базаровщина есть, может быть, чистая клевета на литературное направление», напоминая о прошлогоднем разномыслии журналов, не разросшемся в полемику лишь ввиду их прекращения. В апреле Щедрин в пылу полемики с «Временем» посмеялся над «Записками из мертвого дома» Ф. М. Достоевского. Он немедленно получил отпор со стороны Зайцева. Но это были лишь внешние проявления более глубоких расхождений. События 1862 и особенно 1863 года показали с полной очевидностью, что реакция перешла в решительное наступление. Столь же ясно стало, что революционная ситуация, сложившаяся в стране в 1859–1861 годах, не разрешилась ожидаемым многими крестьянским восстанием. «Волна революционного прибоя была отбита…» (В. И. Ленин). Факт был слишком очевиден. Вера в революционные возможности народа была подорвана. В этих условиях вопрос о путях развития России следовало решать заново. Варфоломей Зайцев склонялся к якобинству. На страницах «Русского слова» он писал: если народ по своему неразвитию не может поступать сообразно со своими выгодами, то революционеры могут «действовать энергически» против народа. Не разделяя настроений своего друга, Писарев начал разрабатывать программу достижения социализма помимо «исторических событий», то есть без крестьянской революции, в возможности которой теперь он сомневался больше чем когда-либо. Кроме общего взгляда на историю человечества, движущей силой которой он полагал экономическое развитие («Очерки из истории труда»), Писарев успел только изложить свои мысли (да и то в общих чертах) о науке — ей в программе отводилась важнейшая роль. Но и высказанного оказалось достаточно для того, чтобы восстановить против себя Щедрина. Великий сатирик тоже размышлял о судьбах своей страны и разрабатывал свою программу. Так же как и Писарев, Щедрин сомневался в революционных возможностях современного народа, но в отличие от Писарева считал несвоевременным выдвигать социалистические требования. Передовая молодежь должна отказаться от «сектаторства» (то есть от революционной деятельности) и принять участие в практической жизни (то есть поступать на государственную службу, чтобы «проводить политику либерализма в капище антилиберализма»). При сходстве исходных позиций направления, в которых развивались программы ведущих публицистов «Современника» и «Русского слова», противоположны. Столкновение между журналами было неизбежно. В январе 1864 года Писарев написал статью «Цветы невинного юмора». Поводом для нападения на Щедрина послужили две его книги, вышедшие одна за другой в 1863 году, — «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы». В выступлении Писарева против Щедрина остался до сих пор незамеченным важный аспект: преемственность «Цветов невинного юмора» от «Литературных мелочей» Добролюбова. Обосновывая в 1859 году новую тактическую линию «Современника», Добролюбов выступил против обличительной литературы. Это была форма легального выражения революционной мысли о том, что критика отдельных недостатков не имеет смысла, что эти недостатки исчезнут сами собой при изменении главных условий жизни. Выдвигая требование коренного переустройства общества, Добролюбов имел в виду социальную революцию. Писарев применил тот же прием и в тех же целях. Начиная статью с характеристики «чистого искусства», Писарев включает в его сферу все, что пишется не для высказывания собственных идей или популяризации чужих, но самостоятельно продуманных мыслей, а ради процесса писания, ради заработка. К литераторам, живущим чужими, непереваренными мыслями и лишь владеющим пером, он причисляет и Щедрина. «Рассказ, — писал Писарев, — должен производить на нас то же впечатление, какое производит живое явление; если же жизнь тяжела и безобразна, а рассказ заставляет нас смеяться приятнейшим и добродушнейшим смехом, то это значит, что литература превращается в щекотание пяток и перестаетбыть серьезным общественным делом». «Смеяться над безобразием глуповца все равно, что смеяться над уродством калеки, или над дикостью дикаря, или над неопытностью ребенка…» У Щедрина, полагает Писарев, нет ничего общего с молодежью. Ее сочувствием он пользуется потому, что печатается в «Современнике» и только «до поры до времени». Его влияние Писарев считал вредным и старается «разрушить пьедестальчик этого маленького кумира». Оценка творчества Щедрина Писаревым явно несправедлива, об этом неоднократно писалось. И только М. С. Ольминский заметил, что нечто в критике Писарева было и справедливым, ибо период 60-х годов для Щедрина был периодом «принципиальной беспринципности». Главным же в полемической статье Писарева были позитивные идеи. Они-то и составляют ее рациональное зерно. Некоторые исследователи находят в «Цветах невинного юмора» «наиболее прямолинейный апофеоз естествознания». Принято считать также, что в этой статье Писарев отклонился от социалистических идеалов и отдал дань иллюзиям о культурном капитализме. Все это едва ли справедливо. Думаю, что именно в этой статье содержится ключ к правильному пониманию смысла пропаганды естествознания, предпринятой публицистом. Не апофеоз естествознания, а апофеоз опытной науки, в том числе и общественной. «Наука, раскрывающая пред человеком жизнь клеточки, жизнь человеческого организма и историческую жизнь человеческих обществ» — так определяет Писарев содержание пропагандируемой им науки, в большинстве случаев (по цензурным причинам) именуемой им естествознанием. Подобное недоразумение произошло и с так называемыми «иллюзиями о культурном капитализме». Разве Писарев возлагал на «всякого рода капиталистов» какие-либо необыкновенные надежды? Вовсе нет, он только полагал, что, научившись мыслить, они поймут совпадение их собственной пользы с интересами экономического развития России. Тогда капиталы не будут «уходить за границу», или «тратиться на безумную роскошь», или «ухлопываться на бесполезные сооружения», а «будут прилагаться к тем отраслям народной промышленности, которые нуждаются в их содействии». Речь идет о нормальном процессе развития капитализма. Идиллическим предположение это может казаться только потому, что все это было еще впереди, а в реальной действительности пока ничего похожего не было: Россия едва вступила на этот путь и еще не осознала направления своего движения. Публицист намекает и на дальнейшие перспективы развития. «Что касается до меня, — пишет он, — то я решительно не вижу резона, почему сын капиталиста не мог бы сделаться Базаровым или Лопуховым, точно так же как сын богатого помещика сделался Рахметовым». Имена литературных персонажей, неоднократно охарактеризованных Писаревым, говорят сами за себя. Здесь идет речь не о «перерождении молодых и наиболее образованных представителей буржуазии», а о выходцах из этого класса, становящихся на сторону народа, о социалистах и революционерах. «Подобные превращения» станут обыкновенны, если в обществе будет постоянно поддерживаться «та свежая струя живой мысли, которую вносит к нам зарождающееся естествознание». Экономическое развитие страны при капитализме, полагал Писарев, поднимет на новую, более высокую ступень и народные массы: «Если все наши капиталы, если все умственные силы наших образованных людей обратятся на те отрасли производства, которые полезны для общего дела, — продолжает публицист, — тогда, разумеется, деятельность нашего народа усилится чрезвычайно, богатство его будет возрастать постоянно, и качество его мозга будет улучшаться с каждым десятилетием. А если народ будет деятелен, богат и умен, то что же может помешать ему сделаться счастливым во всех отношениях?» Вопрос риторический — ответа не требует. Но уже в самом вопросе подразумевается активная роль народа. Без каких-либо пояснений Писарев продолжает: «Конечная цель лежит очень далеко, и путь тяжел во многих отношениях; быстрого успеха ожидать невозможно…» Нет сомнений в том, что для Писарева конечная цель заключается в том, чтобы народ сделался счастливым во всех отношениях, и лежит за пределами капитализма. Внимательный читатель «Русского слова» понимал это прекрасно: всего два месяца назад Писарев предрекал падение «тиранического господства капитала». «Путь умственного развития», по мнению Писарева, «оказывается необходимым, единственно верным путем», «путем к счастию». Терминология Писарева дает основания для обвинения его в идеалистическом понимании исторического процесса. Не будем, однако, чрезмерно к нему строги. Это всего лишь оболочка, гораздо важнее то, что содержится в ней. Несовершенство (и своеобразие) терминологии Писарева вполне удовлетворительно объясняется новизной постановки вопроса, с одной стороны, и цензурными условиями — с другой. Под идеалистической терминологией скрывается в конечном счете вполне материалистическое содержание. Так, «путь умственного развития» оказывается на деле путем экономического развития, а «опытная наука» — синонимом производительных сил. Заслуга Писарева в том, что он одним из первых в русской литературе признал закономерность и неизбежность пути России к социализму через капиталистическую стадию. Выдвигая на первый план закономерности экономического развития, Писарев вовсе не исключает из истории другие двигатели событий. Он признает роль революции: «Народное чувство, народный энтузиазм остаются при всех своих правах; если они могут привести к цели быстро, пускай приводят». Но, занимая вполне материалистические позиции, Писарев считает, что народный энтузиазм пробуждает не литература, а «исторические обстоятельства», которых в данный момент нет налицо. Настоящее дело литературы — выдвигать новые идеи, только этим она может приносить пользу. Однако, продолжает Писарев, если даже народный энтузиазм приведет к какому-нибудь результату, то упрочить его могут только люди, умеющие мыслить. И Писарев провозглашает естествознание самой животрепещущей потребностью русского общества в настоящее время — «кто отвлекает молодежь от этого дела, тот вредит общественному развитию». Завершая статью, Писарев советует Щедрину заняться популяризацией науки, «а Глупов давно пора бросить». Писарев окончил статью в двадцатых числах января. Затем она совершала свой обычный путь: от автора в сенат и обратно. 15 февраля Писарев через коменданта передал статью Благосветлову, и в тот же день январская книжка «Русского слова» получила цензурное разрешение. Однако Щедрин опередил и нанес удар первым. Очередная его хроника в январском номере «Современника», увидевшем свет еще 14-го, почти наполовину была посвящена «Русскому слову». «…О птенцы, внемлите мне!.. — обращается сатирик к Писареву и его товарищам. — Вы, которые надеетесь, что откуда-то сойдет когда-нибудь какая-то чаша, к которой прикоснутся засохшие от жажды губы ваши… вы можете успокоиться… Никакой чаши ниоткуда не сойдет, по той причине, что она уж давно стоит на столе, да губы-то ваши не сумели поймать… Ждите же, птенцы, и помните, что на человеческом языке есть прекрасное слово «со временем», которое в себе одном заключает всю суть человеческой мудрости». Щедрин зло иронизировал не только над идеями «Русского слова», он не пощадил и собственного журнала. «Когда я вспомню, например, — продолжал он, — что «со временем» дети будут рождать отцов, а яйцы будут учить курицу, что «со временем»… милые нигилистки будут бесстрастною рукой рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать «Ни о чем я, Дуня, не тужила» (ибо «со временем», как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтоб до тех пор совесть моя была чиста». («Как известно! — воскликнет Н. Н. Страхов в «Эпохе». — Несчастный! Откуда это известно? Это могло быть известно только из одной книги, — из романа «Что делать?»!») Далее следовала веселая сценка. Одна нигилистка, «вся содрогаясь от негодования», рассказывала сатирику, что в театре она, «честная нигилистка», задыхалась в пятом ярусе, а публичная женщина всенародно демонстрировала свои обнаженные плечи в бельэтаже. «Где же тут справедливость? и неужели правительство не обратит наконец на это внимание?» — возмущалась нигилистка. Автор спросил собеседницу, согласилась бы она променять свою чистую совесть на ложу в бельэтаже, и услышал в ответ: «Конечно, нет», но как-то невнятно. Затем излагалась беседа с нигилистом, который утверждал, что наука все даст со временем, а «жизненные трепетания» считал положительным вздором. На замечание сатирика, что подобные рассуждения уж слишком близки к «Русскому вестнику», нигилист заявил: «Э, батюшка, все там будем!» И Щедрин, соглашаясь с собеседником, повторил сказанное им в прошлом обозрении: «Нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты». Принято считать, что «Цветы невинного юмора» будто бы явились ответом на январское обозрение Щедрина. Это глубокое заблуждение. Предположение о том, что узники Петропавловской крепости имели возможность читать свежие журналы в день их выпуска, совершенно неосновательно. Писарев не мог держать в руках январского номера «Современника» в те сутки (или двое), пока статья, возвращенная из сената, находилась у него. Никаких дополнительных «изменений и дополнений» в «Цветах невинного юмора» до сих пор никто не обнаружил. Полагают, однако, что таким дополнением может быть начало третьей главы: «Г. Щедрин не подчиняется в своей деятельности ни силе любимой идеи, ни голосу взволнованного чувства; принимаясь за перо, он также не предлагает себе вопроса о том, куда хватит его обличительная стрела — в своих или в чужих, «в титулярных советников или в нигилистов». И примечание к этой фразе: «Сия последняя острота, побивающая разом и титулярных советников и нигилистов, украшает собой страницы «Современника» (см. «Наша общественная жизнь», 1864 г., январь)». Но эта «острота» содержалась уже в декабрьском обозрении Щедрина, откуда и попала в статью Писарева. А примечание, не имеющее никакого значения для содержания статьи, было добавлено Благо-светловым. Редактор преследовал сразу две цели: писаревский удар по Щедрину направлял всей редакции «Современника»; создавалась иллюзия, что это не нападение, а вынужденная оборона. Итак, два ведущих публициста двух радикальных журналов одновременно ринулись в атаку друг на друга. «Современник» и «Русское слово», солидарные до сих пор почти во всем, схлестнулись в открытой полемике. Щедрину отвечал Варфоломей Зайцев. Со всей силой полемической страсти, которой ему было не занимать, он написал шестистраничную заметку «Глуповцы, попавшие в «Современник». Намекая на недавнюю государственную службу Щедрина, младший соратник Писарева восклицал: «Целый год фельетонист носил костюм Добролюбова, скрывая под ним золотое шитье своего мундира. Костюм был велик и неудобен, но расстаться с ним фельетонист никак не решался. Теперь маскарад близок к концу, маски сбрасываются — «да, это он, тот самый, который благоденствовал в Твери и в Рязани». Зайцев напоминает, что еще в прошлом году фельетонист подтрунивал над «Мертвым домом» Достоевского. Тогда эта насмешка «казалась просто бестактностью и следствием привычки к повелительному наклонению». Но теперь фельетонист с успехом доказал, что это было не более как следствие особенного пристрастия Щедрина к смеху, которое вызывается не столько внешними предметами, сколько игривостью нрава. Вот теперь его разбирает смех по поводу романа «Что делать?». Он юмористически, но, в сущности, бессмысленно намекает на него… Подобная выходка может показаться совершенно ясной и достойной изумления, ибо где же видано, чтоб какой-нибудь администратор издевался над учреждением, украшаемым его собственной персоной». Призывая Щедрина «объясниться попрозрачней» и «раскрыть свои намеки», Зайцев обращается в заключение к другим сотрудникам журнала. Он подчеркивает, что «Русское слово» всегда считало «Современник» лучшим русским журналом и полностью ему сочувствовало. И теперь, несмотря на потери, понесенные журналом (смерть Добролюбова, арест Чернышевского), «Русское слово» продолжает ему симпатизировать и желать полного успеха. Но только как может уважающий себя журнал совмещать тенденции своего фельетониста с идеями Добролюбова? «Надо выбирать одно из двух: или идти за автором «Что делать?», или смеяться над ним». В февральском обозрении Щедрин, еще не прочитавший статей Писарева и Зайцева, продолжает свои насмешки над «идиллией будущего» и «привлекательностью труда». Некто Леон Городищенский, которого обозреватель называет своим другом, едет зимней дорогой в санях и, размышляя о разных разностях, между прочим, задает себе вопрос: «Может ли труд быть привлекательным?» В товарищеском кругу он всегда утверждал, что непременно должен, «ведь Людовик XVI делал же замки с удовольствием!» (в «Исторических эскизах», характеризуя личность французского короля, Писарев писал: «Людовик был честным человеком и хорошим слесарем»). А сейчас он вдруг вспомнил «совершенно некстати», как ответил на подобный вопрос его старик камердинер: «Нет той работы слаще, как с бабой лежать, а оприч того другой приятной работы не знаю». Эпизод служит поводом для рассуждений Щедрина о тяжести крестьянского труда и издевательства над слащавыми описаниями мужицкого быта в произведениях писателей-славянофилов. Высказывая отрицательное отношение ко всяким утопиям, сатирик не желает замечать различия между «идиллией настоящего» и «идиллией будущего». Он уверен, что народу нет никакого дела до абстрактных теорий о счастливом будущем человечества, что эти теории не могут улучшить современную участь масс, что с мужиком «было бы очень трудно сговориться и насчет привлекательности труда, несмотря на то, что теория эта, очевидно, построена в его пользах». Скептическое отношение Щедрина к идеям утопического социализма, проскальзывавшее и раньше, в ежемесячных обозрениях «Современника» выражается ярко и определенно — в насмешках над снами Веры Павловны и в нападках на взгляды Писарева.В начале февраля Писарев закончил статью «Мотивы русской драмы» — о «Грозе» А. Н. Островского. Само заглавие статьи несло двойной смысл: речь шла не только о мотивах литературного произведения, но главным образом о драме русской жизни. В самом деле, к чему было браться за анализ старой пьесы, критические бури вокруг которой давно отшумели? «Гроза» была написана еще в 1859 году, тогда же поставлена на сцене, в следующем году была опубликована и увенчана Уваровской премией Академии наук. О ней писали А. Г. Григорьев, П. В. Анненков, Н. А. Добролюбов. Писарев расширяет фронт наступления на «Современник». Теперь он вступает в спор с самим Добролюбовым. «Дело идет об общих вопросах нашей жизни, — предупреждает он читателя, — а о таких вопросах говорить всегда удобно, потому что они всегда стоят на очереди и всегда решаются только на время». Публицист принимает метафорическую систему Добролюбова и заявляет себя его последователем. «Пока будут существовать явления «темного царства», — пишет он, — и пока патриотическая мечтательность будет смотреть на них сквозь пальцы, до тех пор нам постоянно придется напоминать читающему обществу верные и живые идеи о нашей семейной жизни». Однако Писарев обещает быть строже и последовательнее Добролюбова и готов «защищать его идеи против его собственных увлечений». Статью «Луч света в темном царстве» он считает ошибкою со стороны Добролюбова, который «увлекся симпатиею к характеру Катерины и принял ее личность за светлое явление». Собственно, анализ характера Катерины занимает едва пятую часть статьи. Писарев не отрицает симпатичных свойств натуры героини «Грозы», но оспаривает верность оценки. «Эстетики, — пишет он, — подводят Катерину под известную мерку, и я вовсе не намерен доказывать, что Катерина не подходит под эту мерку; Катерина-то подходит, да мерка-то никуда не годится, и все основания, на которых стоит эта мерка, тоже никуда не годятся…» По мнению критика, ни способность страдать, ни кротость страдальца, ни порывы его бессильного отчаяния невозможно назвать лучом света. «Вы должны, — пишет он, — считать светлым явлением только то, что в большей или меньшей степени может содействовать прекращению или облегчению страдания». «Критик имеет право видеть светлое явление только в том человеке, который умеет быть счастливым, т. е. приносить пользу себе и другим, и, умея жить и действовать при неблагоприятных условиях, понимает в то же время их неблагоприятность и, по мере сил своих, старается переработать эти условия к лучшему». Называя Катерину «лучом света в темном царстве», Добролюбов ценил в ней способность к протесту. В условиях нараставшей революционной ситуации, когда ожидалось всеобщее стихийное крестьянское восстание, это было закономерно. Писарев, выступая в период поражения революционной ситуации, когда надежда на стихийное возмущение народа не оправдались, пересматривает эту оценку. Он первым в русской литературе выдвигает проблему соотношения стихийности и сознательности. Лучом света он считает не Катерину, а Базарова. «Разница между мной и Добролюбовым объясняется в двух словах, — писал Писарев матери, — Добролюбов был энтузиаст и считал некоторую долю энтузиазма необходимой для каждого честного человека, а я глубоко ненавижу и презираю всякий энтузиазм; он противен всей моей природе, и я считаю его всегда вредной нелепостью. Добролюбов думал, что жизнь может обновиться порывами чувства, а я убежден, что она обновляется только работою мысли. Добролюбов почти не имел понятия о естественных науках, а я считаю их краеугольным камнем здорового умственного развития и всякого человеческого прогресса».
4. ЧАША С ГОРЬКИМ НАПИТКОМ
С января Писарева в сенат не вызывали. Еще в ноябре он прочитал сенатскую записку и подписался под ней в знак согласия с тем, что обстоятельства дела изложены в ней правильно. Сам факт «рукоприкладства», казалось, давал основания предполагать скорое окончание дела. Но время шло, а приговора все не было. Заваленный множеством дел, сенат не успевал с ними справляться.Писарев — матери, февраль 1864 г.: «Я, разумеется, ничего не знаю о ходе моего дела и о том, когда оно решится, но думаю, что скоро. Вспомни, что мы в сентябре 63 г. ожидали его окончания; ведь теперь прошло с того времени около полугода. Трудно себе представить, чтобы дело могло продолжаться еще несколько месяцев. Да и неужели ты желала бы этого? Ведь я, конечно, не сомневаюсь в том, что ты прежде всего желаешь, чтобы мне было хорошо, чтобы со мной случилось именно то, что я сам себе желаю. Ну, а я тебе скажу, что самое сильное мое желание в настоящее время заключается в том, чтобы дело решилось как можно скорее. Каким бы строгим приговором оно ни кончилось, во всяком случае тот день, когда мне объявят этот приговор, будет для меня днем величайшей радости. Я очень желал бы тебя видеть и очень обрадовался бы тебе, но если бы меня спросили, чего я больше желаю, чтобы ты приехала или чтобы дело решилось, то я, не задумываясь, скажу: чтобы дело решилось… Я все такой же, каким ты меня видела в прошлом году, так же весел, так же спокоен и так же хорошо мне живется во всех отношениях; я не терзаюсь позывами нетерпения, но когда я подумаю, что мне, может быть, скоро предстоит совершенная перемена жизни, то я чувствую такую сильную радость, что мне даже не верится, что это в самом деле возможно. Пойми ты меня, я человек полный жизни; мне необходимо, чтобы жизнь затрагивала меня с разных сторон, а между тем жизнь моя полтора года тому назад остановилась и замерла в одном положении. Сначала самая остановка эта, самый застой жизни был для меня новым и очень сильным впечатлением, но теперь я уже извлек из этого нового положения все, что можно было извлечь. Я развился и окреп в моем уединении, и теперь я чувствую, что мне было бы очень полезно и приятно перейти в какую-нибудь новую сферу жизни. Я залежался на одном месте и потому буду чрезвычайно рад, когда меня куда-нибудь сдвинут. Куда — я об этом не спрашиваю. Я ко всему сумею привыкнуть и всегда найду возможность быть спокойным и довольным… Стало быть, друг мой, если ты встанешь на мою точку зрения, то ты не только будешь бояться близости решения, а напротив того, ты будешь желать, чтобы решение состоялось как можно скорее. Перед тобой и передо мною стоит чаша с довольно горьким напитком; мы вот уже полтора года все собираемся выпить это питье и все морщимся в ожидании неприятного ощущения, а чаша все-таки полна, и от того, что мы долго разбираемся в ней, не убавляется ни одной капли жидкости, и сама жидкость вовсе не становится вкуснее. Стало быть, чем скорее мы возьмем чашу в руки и начнем пить, тем лучше будет и для меня — я-то уже давно в этом убедился и с самого начала желаю только, чтобы в меня поскорее влили эту микстуру. Уж такое я питье мудреное устроил, что никак от него не отвертишься».
Еще 6 февраля сенаторы подписали приговор Чернышевскому: «За злоумышление к ниспровержению существующего порядка, за принятие меры к возмущению и за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания в видах распространения лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на четырнадцать лет и затем поселить в Сибири навсегда». Александр II сократил срок каторжных работ наполовину. 4 мая приговор был объявлен осужденному под расписку. На мрачной и болотистой Мытнинской площади, окруженной глухими брандмауэрами домов, вырос эшафот. Выкрашенный в черную краску, почти квадратный помост, каждая сторона которого была длиной около восьми метров, возвышался метра на полтора от земли. Между столбиками, поставленными по углам, протянута толстая веревка. Справа на стороне, обращенной к Невскому, лестница из нескольких ступенек. В правом заднем углу — трехметровый черный столб, с которого свешивались две толстые железные цепи с большими кольцами на концах. Среди студенческой молодежи ходили слухи, что эшафот поставлен для совершения позорного обряда над любимым писателем. Однако ничего достоверного никто не знал. Наконец в «С.-петербургских полицейских ведомостях» появилось объявление, что гражданская казнь Чернышевского состоится в четверг 19 мая в восемь часов утра. Утро было пасмурным и хмурым. Над городом низко нависали тучи, мелкий дождевой туман пронизывал сыростью, под ногами хлюпала грязь. С пяти утра поодиночке и небольшими группами на Мытнинскую площадь подходили студенты, литераторы, мелкие чиновники, офицеры. Часа через два у эшафота толпилось более пятисот человек, среди них было несколько десятков дам и девиц. Около семи утра на площадь прибыл полк пехоты. Оттеснив публику шагов на десять от эшафота, солдаты стали вокруг него в четыре шеренги, образуя плотное каре с широким проходом напротив ступеней. Прискакавшие следом конные жандармы осадили публику еще на десяток шагов назад и расположились редкой цепью вокруг каре. В промежутках между всадниками и чуть позади встали городовые. Оттесненные на значительное расстояние от эшафота, зрители стояли теперь плотным полукольцом в три-четыре ряда, но подходили все новые и новые. Большинство публики составляли представители «образованных классов», мещан и купцов было немного. В толпе сновали переодетые полицейские, они пытались вступать в разговоры, но им никто не отвечал. Часть площади, прилегающая к Болотной улице, была отгорожена невысоким и редким дощатым забором — там что-то строили. За этим забором, выглядывая в промежутки между досками, толпился простой люд: мастеровые, фабричные. Дождь полил сильнее, и над толпой развернулись сотни зонтиков, образуя почти сплошную крышу. Вскоре в сопровождении восьми конных жандармов с саблями наголо к эшафоту подъехала карета, запряженная парой вороных, взмыленных от быстрого бега. Толпа встрепенулась. Распахнулись дверцы кареты, из нее вышли два жандарма с обнаженными саблями и Чернышевский в темном пальто с меховым воротником и в круглой меховой шапке. Все зонтики разом закрылись, раздался общий тяжелый вздох. Священник поднес осужденному крест для целования. Два палача в красных рубахах встали по бокам осужденного и вместе с ним поднялись на эшафот. Следом поднялся аудитор в треуголке и мундире, с бумагами в руке. У подножия осталось начальство: генерал-губернатор, управляющий III отделением, обер-полицеймейстер, комендант крепости и еще какие-то чины, большие и малые. Комендант махнул рукой, и командир полка скомандовал: «На пле-чо!» Один из палачей снял с Чернышевского шапку, другой надел ему на шею веревку, на которой висела черная доска с белой надписью: «Государственный преступник». Дождь прекратился, постепенно прояснилось. Чернышевский, бледный, с большой бородой, отросшей за время заключения, стоял лицом к толпе, меж двумя палачами. Воцарилась тишина. Аудитор, ставший справа, начал читать приговор. Читал он плохо, часто запинаясь, коверкая слова. В задних рядах было почти невозможно понять, что именно он читал. Рабочий люд, толпившийся за забором, громко выражал свое неодобрение осужденному. Сам Чернышевский был совершенно спокоен. Он смотрел на публику, кого-то отыскивая глазами. Несколько раз снимал очки, чтобы протереть их. Иногда улыбался. Чтение приговора закончилось. Палачи подвели Чернышевского к столбу и продели его руки в кольца, которыми оканчивались цепи. Раздалась команда «На-кра-ул!». Кто-то из публики крикнул: «Шапки долой!» Все обнажили головы. Какой-то офицер остался в фуражке, соседи сбили ее с его головы. В толпе всхлипывали и рыдали. Минут через десять палачи освободили руки Чернышевского от цепей и, подтолкнув его вперед, поставили на колени. Один из них переломил над головой Чернышевского шпагу. Чернышевский поднялся на ноги, раздалась команда «К но-ге!». Ярко заблестело солнце, и к ногам Чернышевского упал букет живых цветов. Посмотрев в ту сторону, откуда прилетел букет, Чернышевский кивнул головой. Солдаты вплотную придвинулись к эшафоту, а через их головы летели букеты и венки. Чернышевский улыбался. Осужденного поспешно свели с эшафота (кто-то в толпе крикнул: «Накройсь!» Все надели шапки), усадили в карету. Окруженная конными жандармами карета помчалась стрелой. За ней — частные экипажи, коляски, дрожки… До самого Невского на дороге валялись венки и букеты.
Дело Писарева крайне медленно, но все же подвигалось вперед. Господа сенаторы обсуждали последние детали сенатского определения. Обер-прокурор предлагал сенаторам «не усматривать в ответах Писарева чистосердечной откровенности, ибо, передавая статью Баллоду, обещавшему напечатать ее, Писарев, без сомнения, знал о том, что Баллод занимается тайным печатанием…». Сенаторы отвергали такую формулировку, считая обстоятельство недоказанным. Начались поиски новой формулы, примиряющей несогласные мнения. Пока шли дебаты в сенате, над Писаревым нависла новая угроза. Комендант крепости считал обычный крепостной режим для Писарева слишком легким. Его раздражали всевозможные льготы, которыми Писарев имел возможность пользоваться благодаря содействию князя Суворова. Генерал-лейтенант Сорокин предпринял попытку лишить Писарева всех этих льгот, а заодно и самой возможности пользоваться покровительством военного генерал-губернатора.
Потапов — Долгорукову, 22 мая 1864 г.: «Представляемое письмо передано генерал-лейтенантом Сорокиным. Письмо это обращает на себя внимание, потому что Писарев сообщает своей матери, что он самый деятельный сотрудник журнала «Русское слово», известного своим дурным и вредным направлением. При этом генерал-лейтенант Сорокин сообщил, что Писарев пишет очень много. Статьи его передаются прямо Санкт-Петербургским военным генерал-губернатором Благосветлову, который весьма часто посещает Писарева. Писарев содержится в Екатерининской куртине, в отдельном каземате, и поэтому как переписка, так и свидания его не подлежат ведению III отделения. Писарев по своему преступлению подлежит лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы, а потому, во избежание, чтобы статьи Писарева не произвели бы тех последствий, какие произошли от романа Чернышевского «Что делать?», я полагал бы снестись с министрам юстиции, не признает ли он нужным переместить Писарева в Алексеевский равелин и тогда как выпуск его статей, так и неуместные свидания могут быть прекращены».
На письме две пометки Долгорукова: «Переговорить при свидании, 23 мая» и «Оставить без последствий, приобщить к делу, 26 мая». Очевидно, в беседе двух руководителей тайной полиции выяснилось, что приговор сената не требует Писареву каторжных работ. Сенатское определение было готово 25 мая, как раз накануне того дня, когда шеф жандармов решил оставить донос коменданта крепости без последствий. В сенатском определении после изложения обстоятельств дела, относящихся к каждому из подсудимых, следовала постановляющая часть. О Писареве там говорилось: «Кандидат СПб университета Писарев виновен, также по собственному сознанию, с обстоятельствами дела вполне согласному, в составлении возмутительной статьи, заключающей в себе опровержение брошюры Шедо-Ферроти и преисполненной дерзких и оскорбительных выражений и против правительства и против самого государя императора… Сенат находит, что первоначальное упорное запирательство его в преступлении, а потом неискренность и в самом сознании, несмотря на все делаемые ему увещания, ведут к тому, что он должен понести наказание ему следующее, в высшей оного мере, а сокращено должно быть оное… только на одну треть, т. е. он должен быть лишен некоторых прав и преимуществ и подвергнут заключению в крепости на 2 года и 8 месяцев, а по предмету покушения на распространение сочиненной им возмутительной статьи оставлен в сильном подозрении. Писарев во время производства дела сего ходатайствовал о смягчении ему наказания, оправдывая себя тем, что преступление его было плодом минутного увлечения и что он — человек впечатлительный до такой степени, что даже подвергался умопомешательству, от коего и был пользуем. Такое ходатайство Писарева Сенат признает не заслуживающим уважения, потому что статья, составленная им и заключающая два листа весьма мелкого письма, написанная притом не в один раз, а с значительным промежутком времени, доказывает обдуманность преступного его действия». Баллод был приговорен к лишению всех прав состояния и ссылке в каторгу на рудники на пятнадцать лет с последующим поселением в Сибири навсегда. Печаткин — к трехмесячному аресту с последующей отдачей под надзор полиции на три года. Лобанов освобожден от всякой ответственности; находящиеся за границей Николай Жуковский и Мошкалов приговаривались «к лишению всех прав состояния и к вечному изгнанию из пределов государства». 2 июня сенаторы подписали приговор. Для узников перемен не произошло; они и не подозревали, что уже осуждены. Сенатскому определению еще предстояло пройти несколько инстанций: министерство юстиции — Государственный совет — император. Тем временем Писарев закончил наконец статью о Дарвине. 17 июля он сдал коменданту ее последнюю часть и вместе с ней две другие статьи — «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» (о романах Станицкого) и первые девять глав «Реалистов», статьи, в которой он подробно изложил свое миросозерцание. «Литературные занятия в настоящее время не только могут прокормить человека, но даже могут составить ему обеспеченное состояние, — писал Писарев матери. — А я нахожусь в особенно выгодном положении, потому что я первый содействовал успеху «Русского слова» в то время, когда еще этот журнал был совершенно неизвестен. Издатель его в твоем присутствии предлагал взять меня в долю, как только журнал будет приносить барыш… Все это я говорю для того, чтобы ты не осмелилась думать, что я, женившись, не буду в состоянии осуществить наших общих и самых задушевных мечтаний о глубокой комнате и о том большом кресле (напротив письменного стола), на котором будет сидеть мамаша со свойственною ей важностью на лице, с разными спицами и вязаньями в руках и постоянною улыбкою на губах. Глубокая комната, большое кресло и все аксессуары составляют самое основание моих планов о женитьбе. Это только одна из принадлежностей, какая может быть и не быть, смотря по обстоятельствам. Но мне кажется, что женитьба составляет для меня чистый расчет, это верное средство совершенно остепениться, сидеть дома, много работать и отдыхать так, чтобы отдых действительно освежал голову, вместо того, чтобы еще более отуманивать ее… Я не желал бы во второй раз сделать любовь к женщине высшим интересом моей жизни, но я думаю, что этого больше со мною и не случится. Но я знаю, что я способен быть очень хорошим мужем, т. е. я буду постоянно любить и уважать ту женщину, которая согласится быть моей женой и сумеет хоть немного понять и полюбить меня. Ты знаешь, что я не требователен в отношении к моим друзьям и что со мной почти невозможно поссориться. Представь себе эти свойства моего характера в семейной жизни, и ты увидишь, что будущая жена моя будет очень счастливою женщиною. Если бы даже она стала требовать от меня безусловной супружеской верности, то и с этой стороны я бы вполне удовлетворил ее, а по той простой причине, что мне некогда было бы изменять…» В июле 1864 года Писарев попросил мать снова приехать в Петербург. За год он заработал вполне достаточно, чтобы Варвара Дмитриевна могла прекратить свои занятия музыкой с девочками, дочерьми соседних помещиков. Верочка не захотела обременять брата и осталась служить гувернанткой. Свой возможный приезд в Петербург сестра обусловила предоставлением ей самостоятельной работы. Этим летом Писарев вступил в переписку с девушкой, никогда им не виденной. Среди соседей Писаревых в Новоснльском уезде была семья мелкопоместных дворян Цвиленевых. Там происходила характерная для того времени драма. Умная и красивая двадцатилетняя девушка задыхалась в атмосфере родного дома. Варвара Дмитриевна и особенно Верочка прониклись к ней сочувствием и мечтали помочь ей устроить свою жизнь. В каждом письме мать и сестра писали Писареву о тяжелой жизни несчастной девушки, расхваливали ее внешность, ум и характер. Дмитрий Иванович заочно предложил девушке руку и сердце. Сохранилось два письма Писарева к Лидии Осиповне Цвиленевой, в которых он высказывает свои взгляды на брак и семейную жизнь. Из писем этих следует, что умная девушка отказалась принять предложение неизвестного ей молодого человека. «Другого ответа я никогда и не ожидал, — отвечал ей Писарев, — и если б я считал вас за девушку, способную броситься на шею к совершенно незнакомому человеку, то я бы никогда и не сделал вам предложения. Осмелился я написать к вам не для того, чтобы получить ваше согласие, — на что оно мне в настоящую минуту? Что б я с ним стал делать в моем теперешнем положении? Написал я единственно для того, чтобы заинтересовать вас странностью этого поступка и чтобы ваше возбужденное любопытство заставило вас отложить на год или на полтора года окончательное решение вашей участи, то есть свадьбу с каким-нибудь новосильским туземцем». Писарев предлагает Цвиленевой остаться добрыми друзьями до встречи, а там будет видно: «Когда увидимся, будем говорить долго, серьезно и совершенно откровенно, как люди положительные, собирающиеся заключить между собою очень важное условие». Этим и закончился «роман по переписке». Спустя два года Лидия Осиповна отправилась в Петербург, чтобы познакомиться с Дмитрием Ивановичем, по что-то задержало ее в Москве, и знакомство не состоялось.
Сенатское определение было наконец одобрено, и 16 октября в Ницце Александр II на мнении Государственного совета положил резолюцию: «Быть по сему, но с тем, чтобы Баллоду срок каторжной работы ограничить 7-ю годами». 28 октября министр юстиции возвратил приговор в сенат для исполнения высочайшего повеления. 5 ноября 1864 года к 12 часам дня в I отделение 5-го департамента правительствующего сената были доставлены в сопровождении пяти полицейских офицеров и пяти пеших жандармов подсудимые. Здесь, при открытых дверях, в общем собрании отделения, им была объявлена высочайшая воля. Теперь и Писарев дотянулся губами до своей чаши. Он был доволен, ибо напиток мог оказаться значительно более горьким: после 2 лет и 4 месяцев предварительного заключения ему оставалось провести в крепости немногим больше — 2 года и 8 месяцев по судебному приговору. К этому Писарев был вполне готов.
6 ноября цензура подписала сентябрьскую книжку «Русского слова», в которой печатались первые девять глав «Реалистов». Писарев пришел в бешенство, узнав, в каком виде увидела свет важнейшая для него статья. Посвящение матери было исключено, подпись автора снята, заголовок изменен — статья называлась «Нерешенный вопрос». Имя Рахметова заменено неопределенным выражением «человек вполне реальный», множество купюр искажало авторский замысел. Словом, цензура произвела в «Реалистах» настоящий «геологический переворот». В присутствии матери, принесшей ему эту весть, Писарев вырывает чистые листки из журнала и пишет по-французски возмущенное письмо генерал-губернатору. Но как доставить письмо Суворову? Законным путем, через коменданта крепости это сделать было невозможно. Конечно, Варвара Дмитриевна могла снова отправиться на прием к светлейшему князю и передать ему письмо в собственные руки. Только как ему объяснить, почему узник подведомственной ему крепости пересылает письмо тайно? Было решено прибегнуть к содействию мадам Эттин-ген, к которой В. Д. Писарева уже обращалась за помощью. В воспоминаниях Л. Ф. Пантелеева мадам Эттинген называется «добрым гением пересылаемых», ее имя с глубоким уважением произносили все поляки, содержавшиеся в пересыльных тюрьмах за участие в восстании. С разрешения Суворова она посещала тюрьмы, снабжала нуждающихся необходимыми вещами и т. и. По всей вероятности, она была родственницей лифляндского гражданского губернатора А. А. фон Эттингена, близкого Суворову по его прежней службе в Прибалтике. Письма не были доставлены адресату. Опасаясь дурных последствий «для лиц, живущих в крепости» (то есть для плац-майора Кандаурова и плац-адъютанта Пинкорнелли), а «главное, для заключенных, чтобы не прибавили еще строгости в присмотре за каждым движением, за каждым листком бумаги», Варвара Дмитриевна задержала их у себя. Писарев успокоился и при следующем свидании с матерью уже не настаивал на их доставке. Статья все же была напечатана, хоть и с огромными пропусками, возможностью писать Писарев очень дорожил, а могли бы отнять и это право.
В «Реалистах» Писарев обобщал и систематизировал мысли, высказанные им за последние полтора года. Здесь было дано развернутое изложение «теории реализма» — программы ближайших действий молодого поколения при отсутствии условий для революции. Быть реалистом для Писарева означало, действуя в соответствии с особенностями современной обстановки, постепенно добиваться изменений социальной жизни, подготовить возможности ее коренного преобразования. Публицист ставил вопрос о двух формах исторического развития. «Иногда, — писал он, — общественное мнение действует на историю открыто, механическим путем. Но кроме того, оно действует еще химическим образом, давая незаметно то или иное направление мыслям самих руководителей». Механический путь — путь революционного переворота. Химический — путь медленной подготовки сознания общества к коренным общественным переменам, путь эволюции. В условиях своего времени Писарев признавал реальным второй путь — путь экономического развития страны по пути капитализма и через капитализм к социализму. Подчеркивая демократическую направленность «теории реализма», публицист писал: «Приобретенный… запас свежей энергии и новых умственных сил отправляется все-таки вниз по течению, в то живое море, которое называется массою и в которое тем или другим путем, рано пли поздно, вливаются, подобно скромным ручьям или бурным потокам, или величественным рекам, все наши мысли, все наши труды и стремления». Идея общей пользы, или общечеловеческой солидарности, или деятельной любви (для Писарева это синонимы социализма) один из основных законов человеческой природы для реалиста. «Конечная цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека, — писал Писарев, — все-таки состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать; но вопрос этот и сам по себе так громаден и сложен, что на его разрешение требуется вся наличная сила и зрелость человеческой мысли, все напряжение человеческой энергии и любви и весь запас собранных человеческих знаний; излишку оказаться не может, а напротив, оказывается до сих пор громадный недочет, который поневоле будут пополнять рабочие силы следующих поколений». В этой связи в качестве одной из составных частей «теории реализма» Писарев выдвигал принцип «экономии умственных сил». Противопоставляя реализм эстетике, Писарев подчеркивал: «Мы собственно только затем и стараемся доконать эстетику, чтобы сосредоточить внимание и умственные силы общества на самом незначительном числе жгучих и неотразимых вопросов первостепенной важности». Возвращаясь к характеристике Базарова, публицист брал вновь его под защиту: «Критика наша по обыкновению смотрит в книгу и видит фигу и на основании этой фиги изобличает Базарова в непочтительности, в жестокости и во всяком озорстве. Долго придется г. Антоновичу раскаиваться в его статье об «Асмодее нашего времени». Много вреда наделала эта статья. Сильно перепутала она понятия нашего общества о молодом поколении». Писарев обвинял критика «Современника» в измене традициям Добролюбова: «Г. Антонович употребил все силы своей диалектики на то, чтобы доказать, что роман Тургенева плох, хотя публике не было никакого дела ни до Тургенева, ни до его романа». Анализируя эпизоды романа, вызвавшие наибольшие нападкиАнтоновича, Писарев приходил к противоположным выводам.
8 ноября генерал-губернатор запросил коменданта крепости о свиданиях Писарева с матерью. Генерал Сорокин ответил, что госпоже Писаревой свидание дается еженедельно, а иногда и чаще. В тот же день Суворов официально сообщил коменданту крепости о приговоре сената. На письме Суворова Сорокин написал: «Испросить разрешение г. военного генерал-губернатора отправить в Шлиссельбургскую крепость». 17 ноября Суворов ответил коменданту, что «при настоящих обстоятельствах, имея в виду неудобство препровождения политических арестантов для срочного заключения в Шлиссельбургскую крепость», он полагал бы Писарева, как и других арестантов, причастных к делу, оставить на время в С.-Петербургской крепости. Одновременно особым предписанием Суворов снова разрешил Писареву, теперь уже как отбывающему наказание по приговору, продолжать литературную работу, направляя рукописи в управление генерал-губернатора. Новая атака коменданта была отбита.
20 ноября в девять часов утра на Александровском плацу состоялось публичное объявление приговора Баллоду. Его привезли на «позорных дрогах», на груди висела табличка: «За печатание и распространение возмутительных против правительства воззваний». С площади Баллода отправили в пересыльную тюрьму, а оттуда — в Сибирь.
VII РАСКОЛ В НИГИЛИСТАХ
Повторять слова учителя — не значит быть его продолжателем. Надо понимать ту цель, к которой шел учитель.Д. Писарев
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ
На «Нерешенный вопрос» Антонович откликнулся немедленно: 10 ноября 1864 года вышел в свет сентябрьский номер «Русского слова» с началом статьи Писарева о теории реализма, а уже 19-го в октябрьской книжке «Современника» «Посторонний сатирик» напечатал «Вопрос, обращенный к «Русскому слову». Антонович — а именно он скрывался за этим псевдонимом — удивляется появлению подобного рода статьи в радикальном журнале, ей бы более пристало, с его точки зрения, быть напечатанной в «Эпохе», «Отечественных записках» или «Русском вестнике». Может быть, иронизирует он, здесь скрыт какой-то фокус, и «Русское слово» собирается вызвать спор в журналистике, а затем отречься от этой статьи? Начальническим тоном он вопрошает: согласна ли редакция журнала со статьей «Нерешенный вопрос»? Разделяет ли она положительную оценку Писарева «Отцов и детей», самого типа Базарова и отрицательную — статьи Антоновича «Асмодей нашего времени»? А как относятся Минаев и Благосветлов к деянию своего товарища по журналу? Спорить с «Русским словом» Постороннему сатирику сейчас совсем некстати, завален делами, но уж так и быть, он согласен: и, получив ответ, поднимет брошенную ему перчатку. С выдержкой и достоинством, как бы игнорируя тон Постороннего сатирика, Писарев призвал сотрудников «Современника» к спокойному и дельному обсуждению вопросов, в равной степени близких и дорогих обоим журналам. Он написал «Объяснение» к своей статье, где попытался сосредоточить внимание оппонентов на трех основных, как он полагал, вопросах: 1) Существуют ли люди, подобные Базарову? 2) Полезны ли они для общества? 3) В чем заключается приносимая ими польза? На первые два вопроса, полагал Писарев, его статья дает положительный ответ. Третий в ней разобран подробно. «Журналы «Русский вестник», «Отечественные записки», «Время» и «Библиотека для чтения», — замечал критик, — на первый вопрос ответили да, на второй — нет. Вследствие этого, третий вопрос не мог даже быть поставлен. «Современник» на первый вопрос отвечал — нет. Вследствие этого, второй и третий вопросы не могли быть поставлены». «Каждый мыслящий читатель, — продолжал Писарев, — понимает, что весь интерес дела сосредоточивается именно в третьем вопросе. «Современник» и журнальное стадо различными путями пришли к одному результату. А «Русское слово» проложило себе совершенно самостоятельную дорогу, то есть поставило и решило третий вопрос, который игнорируется до сих пор…» «Евлампиев! — писал Писарев Благосветлову. — Эту заметку, по моему мнению, следует отпечатать в октябрьской книжке. Но это только мое мнение, а ничуть не требование. Я вовсе не хочу насиловать твое решение и разгонять сотрудников «Русского слова». Поэтому объявляю тебе заранее, что, как бы ты ни поступил, я ни в каком случае не выражу и даже не почувствую ни малейшего неудовольствия». 10 декабря вышла в свет октябрьская книжка «Русского слова» со второй частью «Нерешенного вопроса». В ней же был напечатан без подписи «Ответ «Современнику». В основе ответа лежало «Объяснение» Писарева, но Благосветлов подверг его собственной редакции. Заявив о полной солидарности редакции журнала с «Нерешенным вопросом», он целиком сводил его содержание к объяснению образа Базарова. «Г. Тургенев… — говорилось в ответе, — старался отнестись к Базарову, как к представителю современного реализма, беспристрастно. Критике оставалось только разъяснить и дополнить те черты, которые г. Тургенев упустил из виду. В этом разъяснении весь смысл и вся задача «Нерешенного вопроса». Это был тактический ход: статья Писарева имела куда более обширный и значительный смысл. Характеристика Базарова служила лишь отправным пунктом для изложения целой системы взглядов. Да и сам Базаров был взят в качестве представителя реализма только за невозможностью анализировать другую, более подходящую фигуру — Рахметова. Очевидно, «геологический переворот», совершенный цензурой над статьей, заставлял Благосвет-лова бояться за судьбу журнала и требовал сугубой осторожности. В «Ответе» высказывалось категорическое нежелание полемизировать с «Современником», потому что «Русское слово» сознает всю бесполезность полемики, особенно в такое время, когда она… не может оказать существенных услуг литературе». Благосветлов подчеркпвал, что «Русское слово» может расходиться с «Современником» на частных и отдельных вопросах, но оно всегда настолько уважало общую идею, что не решится пожертвовать этой идеей в пользу какого бы то ни было личного самолюбия». Обмен первыми репликами позволяет составить представление о настроениях сторон перед началом сражения. Оба журнала заявляют, что не желают полемики, но каждый твердо стоит на своем и в случае упорства противной стороны к спору готов. Писарев предпочитал бы спокойное и дельное обсуждение широкого круга проблем, выяснение тех идей, которые одинаково дороги «Современнику» и «Русскому слову». Его коллега по журналу, Благосветлов, напротив, считает предмет разногласия частным вопросом. Антонович настроен воинственно: ом воздержится от полемики только в том случае, если редакция отречется от статьи своего сотрудника. Однако ответ, сводящий все к ошибке Антоновича, лишь раздразнил его болезненное самолюбие. В той же книжке «Русского слова» Варфоломей Зайцев, делая обзор современной журналистики, слегка зацепил Антоновича, сказав, что «полемические приемы «Современника»… не отличаются изяществом». Метнул он стрелу и в Щедрина, отсылая читателя к его фельетонам как первоисточнику этих приемов. В декабрьской книжке «Современника», вышедшей в начале января, Посторонний сатирик выступил с «Предварительными объяснениями». Он пока не начинает полемики, нужно еще выяснить кое-какие вопросы. Прежде всего он обращается к Зайцеву: «Ужели, — спрашивает он его, — вы не захотели бы подписать ни одной из моих полемических статей, ужели и вам кажется, как «Отечественным запискам», что моя полемика не требуется для блага отечества и не проливает света на мировые вопросы?» Антонович утверждает, что Тургенев показал «Русскому слову» фигу, а оно «приняло ее «за идеал, за комплимент». Антонович считает «Нерешенный вопрос» вызовом «Современнику» и в подтверждение этого цитирует писаревские оценки своей статьи «Асмодей нашего времени». Антонович указывал, что по-прежнему держится своего отрицательного взгляда на роман Тургенева, и обещал дать в дальнейшем подробный разбор «Нерешенного вопроса» и подвергнуть критике ошибки «Русского слова». Попутно он сообщил, что статью его о Тургеневе принял сам Чернышевский… «Русское слово» ответило на «Предварительные объяснения» сдержанно. Благосветлов (под псевдонимом Заштатный юморист) и Зайцев в Библиографическом листке в насмешливых выражениях указали Постороннему сатирику, что он начинает полемику не по-рыцарски и, если не изменит своей тактики, то рискует остаться один на этом турнире. Заштатный юморист сетовал на то, что Антонович воспользовался статьей Писарева «Нерешенный вопрос», чтобы придраться к «Русскому слову» и «из частного вопроса сделать предмет общего спора». При всем уважении к «Современнику» сотрудники «Русского слова» готовы к преломлению копий. Атмосфера наполнялась грозовым электричеством. Еще ничего не сказано по существу, еще не рассмотрен ни один принципиальный вопрос, а страсти кипят вовсю. Сотрудники двух передовых журналов потрясают копьями, издают воинственные кличи — вот-вот начнется побоище!Писарев в этой перепалке пе участвует. Более того, он лишен возможности оказать, какое-либо влияние на своих товарищей по журналу. Видеться с Благосветловым ему запрещено, а после отъезда матери в Грунец в конце ноября он вновь почти совершенно отрезан от внешнего мира. Правда, иногда посещает его сестра Вера и даже приводит с собой кое-кого, но с ней он не рискует передать послание Благосветлову. И уж конечно, не через коменданта крепости вступать в контакт с журналом по поводу полемики. Дмитрий Иванович по-прежнему много работает. В декабре он заканчивает и в два приема сдает коменданту большую статью «Историческое развитие европейской мысли», в январе нового 1865 года пишет разбор повести Помяловского «Мещанское счастье» и первую часть статьи «Перелом в умственной жизни средневековой Европы». Он много размышляет и делится своими мыслями с матерью.
Писарев — матери, 24 декабря 1864 г.: «Журналистика — мое призвание. Это я твердо знаю. Написать в месяц от 4 до 5 печатных листов я могу незаметно и уже нисколько не утруждая себя; форма выражения дается мне теперь еще легче, чем прежде, но только я становлюсь строже и требовательнее к себе в отношении мысли, больше обдумываю, стараясь яснее отдавать себе отчет в том, что пишу… Мой взгляд на вещи и тот план, по которому я намерен со временем построить мою жизнь и деятельность, выясняются для меня с каждым днем явственнее и отчетливее. Если мне удастся выйти опять на ровную дорогу, т. е. жить в Петербурге и писать в журнале, то я, наверное, буду самым последовательным из русских писателей и доведу свою идею до таких ясных и осязательных результатов, до каких еще никто не доводил раньше меня… Все наши хорошие писатели имели значительную слабость к общим рассуждениям и высшим взглядам, и у меня есть эта слабость, хотя я еще и не считаю себя хорошим писателем; но я понимаю, несмотря на эту слабость, что общие рассуждения и высшие взгляды составляют совершенно бесполезную роскошь и мертвый капитал для такого общества, которому недостает самых простых и элементарных знаний. Поэтому обществу надо давать эти необходимые знания, т. е. знакомить публику с лучшими представителями европейской науки. Мне эта задача во всех отношениях по душе и по силам. Во-первых, я пишу, как тебе известно, чрезвычайно быстро; во-вторых, я пишу весело и занимательно; в-третьих, я усваиваю себе очень легко чужие мысли, так что могу передавать их совершенно понятным образом; и, наконец, в-четвертых, я одержим страстной охотой читать. Все эти свойства до сих пор все еще растут и развиваются во мне, так что каждая новая статья моя выходит живее и пишется легче, чем предыдущая. При таких условиях я, нимало не утомляя себя, могу писать по 50 листов в год, т. е. по 800 страниц. Стоит только выбирать тщательно сюжет статей, и таким образом публика будет ежегодно получать целую массу званий по самым разнообразным предметам. Припомни теперь, сколько пользы принес Белинский, и сообрази, что Белинский ограничивается почти исключительно областью литературной критики; кроме того, Белинский был человек больной и раздражительный, что непременно мешало ясности и последовательности работы. Принявши все это в расчет, ты поймешь, сколько настоящей пользы могу принести я при моем порядочном здоровье, при моей способности писать, не раздражаясь, при моей ненависти к фразам и при моем постоянном стремлении доказывать и объяснять, придерживаясь метода опытных наук…» Писарев — матери, 17 января 1865 года: «Теперь к моему характеру присоединилась еще одна черта, которой в нем прежде не существовало. Я начал любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, мне до них не было никакого дела. Прежде я писал отчасти ради денег, отчасти для того, чтобы доставить себе удовольствие; мне приятно было излагать мои мысли, и больше я ни о чем не думал и не хотел думать. А теперь мне представляется часто, что мою статью читает где-нибудь в глуши очень молодой человек, который еще меньше моего жил на свете и очень мало знает, а между тем желал бы что-нибудь узнать. И вот, когда мне представляется такой читатель, то мною овладевает самое горячее желание сделать ему как можно больше пользы, наговорить ему как можно больше хороших вещей, надавать ему всяких основательных знаний и, главное, возбудить в нем охоту к дельным знаниям. Это, наверное, отражается и в изложении моих статей, и в выборе их сюжетов, и это придает процессу работы особенную прелесть для меня самого. Работа перестает быть делом одной мысли и начинает удовлетворять потребности чувства… Я с самого начала так повел свою жизнь, что мне неудобно приниматься теперь самому за микроскопы и за анатомический нож, но я перечитаю все, что есть замечательного по естествознанию, и, как дилетант, принесу много пользы распространением дельных сведений посредством журнальных статей».
В начале февраля Варвара Дмитриевна возвратилась в Петербург. На сей раз она остановилась на территории самой крепости, в доме плац-майора Петра Петровича Кандаурова. Добрый старик сам предложил ей свое гостеприимство. Возможности свиданий с сыном были теперь почти ничем не ограничены. На сей раз мать прежде всего принялась за проверку финансов сына — и не без результата.
Писарев — Благосветлову, 8 февраля: «Бесстыжие твои глаза! Ты меня огрел при расчете на 77 р. 50 к. серебром, которых я тебе не подарю ни за какие коврижки. Слушай! В расходе никаких разногласий быть не может. Но число написанных мною листов определено у тебя неверно. По-твоему выходит с чем-то 64 листа, а по-моему 66 листов и 5 страниц… Ты, при расчете, вероятно, отбрасывал хвостики, то есть неполные страницы, а я всякий хвостик, как бы он ни был мал, считаю за полную страницу, и всегда буду так считать, к величайшему твоему негодованию ц огорчению. Я так добросовестен в типографском отношении, что не позволяю себе в моих статьях почти ни одной красной строки. А уж хвостики я беру себе без всякого разговора. Поэтому, если не хочешь меня изобидеть и разогорчить, доплати мне мои 77 с полтиной. Впрочем, так как я мог ошибиться, я уполномачиваю Верочку проверить по книжкам журнала, верно ли обозначено у меня число страниц. — А теперь о другом. Правда ли, что у нас всего только 1700 подписчиков? Если правда, то не поторопился ли ты прибавить мне по 10 руб. на лист? Если эта прибавка тебя обременяет, я готов от нее отступиться. Но, разумеется, ты примешь мою жертву только в том случае, если она необходима для существования журнала. А от моих 77 с полтиной я даже и для спасения журнала не отступлюсь. Хоть тресни, а подавай мои деньги…»
Не ограничиваясь финансовыми разногласиями, Писарев в этом обширном письме сообщает и о своих новых работах. Статья о «Мареве» Клюшникова окончена, пишет Дмитрий Иванович, «она написана чрезвычайно политично и наносит Клюшникову и Каткову коварнейшие удары с той стороны, с которой их не защитит никакая цензура». Писарев статьей совершенно доволен и считает, что «никогда еще не писал такой оскорбительной рецензии». Историческую статью, которую Писарев заканчивает, он намерен назвать «Вымирание и перерождение средневековых идей»: «Под этой рубрикой можно поговорить обо всем на свете». Он собирается очень долго возиться с средними веками и, приближаясь к новому времени, «писать подробнее, то есть не размазывать, а давать больше фактов». Он восхищается историком Лораном, который «свистит неподражаемо, и притом свистит фактами». Пользуясь Лораном и Шлоссером, Писарев намечает написать серию интересных статей («публика ахнет», «будет хохотать так, как хохотали читая Вольтера»), но просит не стеснять его в объеме («поверь, что скажут нам спасибо»). Историю французской революция Писарев предполагает отложить до осени, она «будет гораздо понятнее, когда старый режим будет освещен со всех сторон».
«Я намерен давать тебе ежемесячно по две статьи, — завершает письмо Писарев, — одну в первый отдел, другую в критику. Хочу употребить все силы, чтобы окончательно поднять «Русское слово» на ноги… Я обещал повиноваться и не буду выходить из повиновения. Нам было бы очень полезно повидаться с тобой. Я готов писать, о чем прикажешь. Но во всяком случае, в антрактах между срочными работами, я буду писать дальше тот ряд исторических статей, которые я начал в прошлом году. Жиронду и Гору я не могу начать раньше, чем окончу этот ряд статей, а то выйдет чепуха. Я хочу тебе предложить, чтобы ты передал в мои руки попечение об «Эпохе». Я на нее очень зол. Ты присылай мне ее книжки по мере ее выхода. Я буду их читать и собирать материалы, а потом в летней книжке и царапну полемическую статью о целом полугодии этого журнала. Я изобрел новый полемический прием, от которого они взвоют».
Январские книжки обоих журналов вышли в феврале — сначала «Современник». Посторонний сатирик обвинил сотрудников «Русского слова» в том, что они отлынивают от прямых объяснений с ним. Нет, друзья мои, восклицает он, не на того напали! «Я вас заставлю объясняться со мной!» Подробно разобрав все обвинения, выдвинутые против него сотрудниками «Русского слова», Антонович отвергает их и, в свою очередь, предлагает редакции «Русского слова» и персонально Благосветлову 13 вопросов. Он обвиняет Благосветлова в том, что он надел базаровскую маску, а некогда вел «уморительную» полемику против «одного лица», то есть Чернышевского. Однако самым принципиальным вопросом он считает «Нерешенный вопрос» Писарева. В третий и последний раз он предлагает редакции отказаться от солидарности с этой статьей, и если и теперь его не послушают, то он заставит отказаться от «Нерешенного вопроса» и расхлебать кашу, которую заварила эта статья. В том же номере «Современника» перебежавший из «Русского слова» Минаев объявляет себя несолидарным с Писаревым: он никогда «не доходил до обожания базаровского типа» и в романе Тургенева видит только пролог к эпическим творениям Писемского, Клюшникова и Стебницкого. «Буря в стакане воды, или копеечное великодушие г. Постороннего сатирика» — так озаглавлен ответ Благосветлова, напечатанный за его полной подписью в январской книжке. Он не остается в долгу перед Посторонним сатириком. Угрозы его, замечает Благосветлов, больше смешны, чем серьезны. Размазня, о которой идет речь в статьях Постороннего сатирика, заварена самим «Современником», и пусть он сам ответит, считает ли себя солидарным с известными фельетонами Щедрина о нигилистах и Чернышевском, пусть он объяснит, какими рыцарскими побуждениями руководствовался Щедрин, обратив против «Русского слова» целую батарею своего остроумия. В февральской книжке Антонович отвечает дважды. Под личиной Постороннего сатирика он печатает заметку «Глуповцы в «Русском слове» (посвящается Г. Е. Благосветлову) и на двадцати страницах «уничтожает» своего противника. Заключая свой ответ, Антонович объявляет, что вполне солидарен с фельетонами Щедрина, «поскольку они относятся к г. Благосветлову, а к другим сотрудникам только относительно их мнений, несогласных с «Современником». Он отграничивает Благосветлова от Писарева и Зайцева: «Много чести для вас, — обращается он к издателю «Русского слова», — если вы их называете своими сотрудниками». В другой статье — «Промахи» Антонович впервые выступает в полемике под собственным именем. Подзаголовок обещает разбор двух статей — Зайцева «Последний философ-идеалист» и Писарева «Нерешенный вопрос», но на 38 страницах критик едва управился с первой, вторую же отлагает на следующий раз. Став в позу знатока, Антонович поучает Зайцева за то, что он «болтовню сдуру», достойную московского сумасшедшего Ивана Яковлевича, принял за философию и оценил Шопенгауэра незаслуженно высоко. Он критикует Зайцева за неосновательные, исполненные ошибок и противоречий замечания на статью Сеченова «Рефлексы головного мозга». В очередной книжке «Русского слова» Зайцев поместил две полемические заметки. В одной он отвечал Антоновичу, в другой — Постороннему сатирику. «Несколько слов г. Антоновичу» — спокойное и аргументированное возражение по поводу Шопенгауэра и полное признание своих ошибок в суждениях о Сеченове. Вторая заметка — «Гг. Постороннему и всяким прочим сатирикам» — написана более решительно, но тоже в достойном тоне. Зайцев заявляет, что на брань Постороннего сатирика еще в прошлой книжке все, что следовало, сказал Благосветлов. Зайцев взялся теперь за перо потому, что у Постороннего сатирика нашлись союзники. Из всех вопросов Постороннего сатирика он считает нужным ответить только на один: «нахожу ли я, что полемика его не имела серьезной цели, а была только массою ругательств…?» Грешен, отвечает Зайцев, действительно думал так и еще более в этом утвердился, когда Посторонний сатирик начал полемику против «Русского слова». Совсем в ином — уже резком тоне заметка Благосветлова «Последнее мое объяснение с г. Посторонним сатириком «Современника», в том же февральском номере. Он не стесняется в определении литературных приемов Антоновича. Самолюбие Антоновича, его почти патологическая нетерпимость к чужим мнениям жаждали реванша. В мартовской книжке он напечатал две новые заметки Постороннего сатирика. Собственно, нового в них не было ничего. Заметка, адресованная Зайцеву, выражала неудовольствие его ответом. На этом этапе в полемику наконец вмешивается Писарев. Он не может позволить, чтобы чернили журнал, которому он посвятил всю свою сознательную жизнь. Оскорбления, нанесенные издателю журнала, нельзя оставлять без ответа. В конце концов, они затрагивают и его собственную честь. Движимый благородным товарищеским чувством, Писарев возвышает свой голос в защиту Благосветлова. Как осужденный узник, Писарев не имеет права выступить в печати с заявлением, но это препятствие легко преодолеть. Письмо подпишет мать — столь прозрачная маскировка никого не введет в заблуждение. Опровергать инсинуации надо там, где они появились, и письмо пишется на имя редактора «Современника». Писарев изображает Благосветлова своим «другом, учителем и руководителем, которому он обязан своим развитием и в советах которого он нуждается до настоящей минуты». Здесь кое-что преувеличено, роль Благосветлова выпячена сильнее, чем следует, в ущерб самостоятельности самого Писарева. Но это сейчас несущественно, важна солидарность. И Варвара Дмитриевна относит письмо к Некрасову. Надо полагать, Антонович пережил немало неприятных минут, когда узнал о намерении редактора опубликовать письмо В. Д. Писаревой. Тем не менее письмо было напечатано в той же мартовской книжке «Современника». «Позорить Благосветлова и в то же время выгораживать Писарева — невозможно, или оба — честные люди, или оба негодяи. Таково глубокое убеждение моего сына», — завершала свое письмо Варвара Дмитриевна. Через несколько дней, в конце апреля, вышла мартовская книжка «Русского слова». Заканчивая статью «Прогулка по садам российской словесности», Писарев (уже от своего имени) посвятил несколько страниц полемисту «Современника». Вслед за Зайцевым Писарев делает вид, что Антонович и Посторонний сатирик разные лица. Свой шутливый топ Писарев объясняет тем, что о подвигах Постороннего сатирика «не стоит говорить серьезно». Но чтобы сатирик не принимал этот тон «за неспособность опровергнуть его болтовшо серьезными аргументами», Писарев предлагает ему «небольшой образчик» своего полемического искусства. «Русское слово» ни от чего не отлынивает, ответ насчет «Нерешенного вопроса» был дан еще в октябрьской книжке и подкреплен тем, что статья продолжала печататься в двух следующих номерах. Получив ответ «Русского слова», Постороннему сатирику было незачем заниматься «предварительными объяснениями: надо было приступить к разгромлению статьи, которая не нравилась. Милосердие было неуместно, оно маскировало пустоту. «У вас нет доводов против «Нерешенного вопроса», — обращается Писарев к Антоновичу, уже отождествляя его с Посторонним сатириком, — у вас нет самостоятельного миросозерцания, которое вы могли бы противопоставить нашим идеям… У вас не хватает честности и мужества на то, чтобы откровенно отказаться от «Асмодея нашего времени» как от грубой, но извинительной ошибки…» Посторонний сатирик, продолжает Писарев, совершенно напрасно перекладывает ответственность за «Асмодея» на лицо, которое заведовало тогда редакцией «Современника» (Чернышевского). Чтобы увидеть несостоятельность статьи, требовалось внимательно прочитать роман Тургенева. Заваленный срочной работой редактор не успел этого сделать, но винить его в этом нельзя. «Редактор обязан читать все, что пишут его сотрудники для журнала, но on нисколько не обязан читать все, что читают его сотрудники… Ответственность за основную мысль, за ее направление лежит на авторе и на редакторе. Но ответственность за верность сообщаемых фактов лежит исключительно на одном авторе». Реплика Писарева завершила первый этап борьбы — этап «предварительных объяснений». Устыдился ли Антонович, убоялся ли превращения полемики в монолог? Скорее всего, впрочем, после реплики Писарева и письма его матери Елисеев и другие сотрудники «Современника» одержали верх над своим драчливым коллегой. Как бы то ни было, мартовская книжка «Современника» была последней, где Посторонний сатирик упражнялся в своем беспредметном остроумии но адресу «Русского слова». В разделе «Литературных мелочей» Постороннего сатирика, который еще просуществовал несколько месяцев, нападки на журнал Благосветлова прекратились.
Раиса Гарднер в декабре 1863 года уехала лечиться за границу и провела там почти десять месяцев — сначала в Швейцарии, а затем на железных водах в Швальбахе. Переписка с Писаревыми не прекращалась, Раиса регулярно сообщала Варваре Дмитриевне и Верочке все мелочи своей семейной жизни, рассказывала о многочисленных родственниках мужа, которые постоянно окружали ее. В декабре Гарднер приехала в Петербург и пожелала повидаться со своим кузеном. Вера Ивановна взяла ее с собой на свидание. Дмитрий Иванович ошалел от восторга. Все пережитое и передуманное за три с половиной года разлуки было позабыто. Писарев говорил за десятерых о своих статьях и своих чувствах. Даже присутствие двоюродного дяди — Сергея Григорьевича Писарева — не стесняло его излияний. Раисе было приятно, но серьезного значения этому она не придала: одиночному узнику можно простить многое. Когда же в начале февраля вернулась в Петербург мать и показала ему письмо, где Раиса признавалась, что уже «перестала захлебываться от любви», Писарев вновь возгорелся надеждой. Старая любовь пробудилась с новой силой, и Дмитрий Иванович стал мечтать о сближении с кузиной после освобождения. Об этих его мечтах Варвара Дмитриевна сообщила Раисе.
Раиса Гарднер — Писаревой, 16 февраля 1865 г.: «…Если, даже коснувшись этого предмета, я не свирепею и не лаюсь, — значит же я сегодня в хорошем расположении духа. Нет, в самом деле, трудно не лаяться, когда видишь, что такой умный человек, как Митя, не хочет понять, что есть дела, которые необходимо сдать в архив и покончить с ними навсегда… Хронический жених, ведь это просто ужасно. Сам добивается со мной приятельских отношений и не хочет понять, что я наконец настолько нетерпелива, что если досаждать меня одним и тем же, так я с досады готова всякого ко всем чертям послать, несмотря ни на какой ум; тем более что меня этим не удивишь… Мама, я вас очень попрошу: если вам нетрудно будет доставать отдельные оттиски Митиных статей, так припасайте, пожалуйста, и на мою долю по экземпляру. За этот год мы будем брать все журналы из летучей библиотеки, а его статьи мне хотелось бы иметь у себя. Ну, тут непременно надо оговориться, чтобы сам автор даже этого заявления не принимал за декларацию в любви. Эх, право, досадно, как это такой умный малый и так горазд глупить…» Раиса Гарднер — Писаревой, март 1865 г.: «…Maman, да скажите же ради бога, когда же это Митя-то поумнеет? Надо иметь его объемистую голову, чтобы вмещать в нее рядом с его обширным и всесторонним умом такое… нелепое ребячество, какое высказывается во всех его отношениях ко мне. Те «несбыточные надежды и идеи», о которых Вы пишете, вызвали во мне сначала раздражение и досаду, а потом смех… Ведь если в ругательстве над Катковым и в похвале Брему он мог усмотреть надежды для себя, то глумление над Станицким может показаться ему признанием в любви… Ведь это сумасбродство. Ведь этой манией он напрашивается в субъекты юмористических романов Теккерея и Диккенса. Возможны ли тут какие-нибудь разумные отношения. Ну как я скажу, например, что с особенным удовольствием читала последнюю часть «Нерешенного вопроса», что она заживо затрагивает. Батюшки светы! Что же бы то было! Я стала бы рассматриваться более влюбленной, нежели сама любовь, и более страстной, нежели сама страсть. Мама, вы этим письмом располагайте, как хотите. Если сочтете нелишним дать прочесть его, то давайте; только, пожалуйста, не принимайте этого за просьбу с моей стороны. Мама, да давайте же как-нибудь Митю-то урезонивать; ну что это, право. Ведь он же дорожит дружескими нашими отношениями, так зачем же делать их невозможными…»
Урезонивать Писарева не потребовалось. Он нашел в себе силы, чтобы поставить наконец точку на своей юношеской любви.
Писарев — Раисе Гарднер [апрель] 1865 года: «Mia саrа[6]. В твоем последнем письме ты очень остроумно сражаешься с ветряными мельницами. Никакого хронического жениха тебе не предстоит. Чтобы совершенно успокоить тебя, даю тебе конституционную хартию наших будущих отношений. Когда я буду вполне располагать своими поступками, тогда я предложу тебе письменно вопрос: желаешь ли ты меня видеть? — и если ты не ответишь мне просто и ясно: «желаю», — то и не увидишь меня. Если нам придется увидеться, то, разумеется, о любви с моей стороны не будет ни слова до тех пор, пока ты сама того не пожелаешь, а так как ты уверена в том, что не пожелаешь никогда, то никогда этого и не будет. На безбрачие я себя не обрекаю, но жениться намерен только тогда, когда совершенно ошалею от любви к какому-нибудь субъекту. Но теперь мне этими пустяками заниматься некогда, во-первых, потому что я казенная собственность, а во-вторых, потому что нам дают карательную цензуру, которая наполняет теперь все мои помыслы. Вообще же я думаю, что жизнь велика и что —
Это было последнее письмо, которое написал Писарев подруге своего детства. Ни переписываться, ни встретиться им больше не пришлось. Однако из писем Раисы к Варваре Дмитриевне видно, что она продолжала живо интересоваться делами кузена. «Вообразите, — писала она из Москвы 10 марта 1865 года, — тут пронесся слух, что «Русское слово» опять запрещено; я была просто в отчаянии, так было жалко и вас и Митю; потом сказали, что вздор…» Или спустя два месяца в письме от 28 мая: «Письмо ваше к Некрасову, разумеется, читала. Вы спрашиваете меня, поступил ли Митя благородно. Да, но и только всего; это единственное удовлетворение, которое может вынести из этого. Да скажите, с чего Антонович так беленится? Не нравится ему Благосветлов, ну наплюй да разбирай журнал… Митины статьи все читаю. Ничего — дельно…»
2. РАЗРУШЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
Новый этап журнальной полемики открыла статья Антоновича «Современная эстетическая теория» в мартовской книге «Современника» за 1865 год. Прежде чем выступить с обещанным разбором «Нерешенного вопроса», Антонович счел нужным обеспечить себе теоретическую базу. Считая себя единственным хранителем традиций Чернышевского, он взялся изложить его эстетическую теорию в первоначальном виде, как «она вышла из рук ее основателя или насадителя на русской почве». Однако, приступив к популяризации эстетических взглядов Чернышевского, Антонович защищал их не столько от сторонников «чистого искусства», сколько от «рьяных, но не слишком рациональных» последователей новой теории. В последнее время, пишет Антонович, некоторые, восставая против ложных направлений искусства, в горячности и нерассудительности дошли до того, что стали восставать против искусства и эстетического наслаждения вообще. Антонович обвинил своих противников в отступлении от эстетической теории Чернышевского в искажении его идей. Этим обвинением он надеялся привести их в замешательство и, заставив отречься от своих ошибок, направить на истинный путь. Самоуверенный Антонович ошибался в своих расчетах — его противники оказались не столь слабы, чтобы спешить раскаяться, более того, убежденные в своей правоте, они поспешили перейти в контратаку. В апрельской книжке «Русского слова» с рецензией на книгу Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» выступил Зайцев. Не называя имени Антоновича, он яростно полемизирует с ним, причисляя его к «филистерам» и «либеральным эстетикам». По мнению Зайцева, «искусство не имеет настоящих оснований в природе человека», «оно не более, как болезненное явление в искаженном, ненормально развившемся организме». В майском номере со статьей «Разрушение эстетики» выступил Писарев. Он принимает навязанную Антоновичем тему, но старается прояснить, что главный предмет спора не искусство и не эстетика. Свою статью Писарев начинает с заявления, что написанная десять лет назад книга «Эстетические отношения искусства к действительности» «совершенно устарела». Произошло это, объясняет он, «не потому, что автор был в то время не способен написать что-нибудь более долговечное», а потому, что «надо было вначале опровергать филистеров доводами, заимствованными из филистерских арсеналов». Эстетика, порожденная умственной неподвижностью общества, в свою очередь, поддерживала эту неподвижность. Чтобы пробудить в расслабленной литературе сознание ее высоких и серьезных гражданских обязанностей, надо было совершенно уничтожить эстетику, надо было отправить ее туда, куда отправлены алхимия и астрология». Однако, по мнению Писарева, приниматься за это дело следовало расчетливо и осторожно. Выступать прямо против эстетики — значило перепутать трусливых филистеров, и Чернышевский, как полагает Писарев, прикинулся сам эстетиком, чтобы подорвать эстетику изнутри. Писарев утверждает, что уже из введения «догадливый читатель» узнает результат, к которому стремится автор. Цитируя Чернышевского, критик повторяет его заключительные слова, многозначительно выделяя их курсивом: «Если еще стоит говорить об эстетике». По мнению Писарева, это замечательная оговорка, которая свидетельствует о стремлении автора не создавать новую эстетику, а уничтожить старую и вообще всякую эстетическую теорию. Подчеркнутые критиком слова несли и дополнительную нагрузку, прямо выражая отношение Писарева к самой дискуссии. «Эстетика, или наука о прекрасном, — пишет Писарев, — имеет разумное право существовать только в том случае, если прекрасное имеет какое-нибудь самостоятельное значение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов». Автор «Эстетических отношений» ведет читателей, как полагает Писарев, к выводу о том, что прекрасным называется только то, что нравится нам. В этом случае, замечает критик, у каждого человека образуется собственная эстетика, а общая эстетика рассыпается в прах. Человеку чуждо стремление к абсолютному совершенству, продолжает Писарев комментировать Чернышевского. Для каждого «совершенством» является то, что для него вполне удовлетворительно в своем роде. Таким образом, на свете существует бесконечно много «совершенств», ибо «каждая отдельная личность является единственным и верховным судьею в вопросе о том, что для нее удовлетворительно». Чернышевский, по Писареву, считает излишним развивать взыскательный и разборчивый вкус и не одобряет прихотливую строгость требований; «здоровым» он называет человека, который удовлетворяется легко. Писарев уточняет, что все эти мнения относятся к области прекрасного, к той области, в которой недовольство действительностью не может повести за собой ничего, кроме бессмысленного страдания. Критик предлагает представить читателю, что его воображение настолько воспламенилось рафаэлевскими картинами и древними статуями, что все живые женщины стали казаться некрасивыми. «Недовольство действительностью, совершенно бесплодное и нелепое, когда оно обращено на красоту, — вновь возвращается Писарев к интересующей его проблеме, — становится, напротив того, очень полезным и уважительным чувством, когда оно направлено против житейских неудобств, устроенных руками и умами людей. Тут недовольство ведет за собой преобразовательную деятельность и, следовательно, приносит очень реальные и осязательные результаты». Если каждый здоровый человек признается высшим авторитетом в деле эстетики, развивает Писарев по-своему мысли Чернышевского, то эстетика как наука становится такою же нелепостью, какой была бы, например, наука о любви. «Прекрасное есть жизнь», — говорит Чернышевский. Писарев находит это определение настолько широким, что «в нем совершенно тонет и исчезает то, что называется красотою в обыкновенном разговорном языке». Из этого определения, по его мнению, следует, во-первых, что автор совершенно равнодушно относится «к прекрасному в узком и общепринятом смысле этого слова»; во-вторых, что «всякий вполне здоровый и нормально развившийся человек прекрасен», «все, что не изуродовано в большей или в меньшей степени, то прекрасно». Эстетика, полагает Писарев, при таком определении прекрасного «исчезает в физиологии и гигиене». Если, как утверждает Чернышевский, «прекрасное в объективной деятельности вполне прекрасно и совершенно удовлетворяет человека», то очевидно, что «цель искусства состоит не в том, чтобы создать такое чудо красоты, которого нет и не может быть в природе». В чем же цель искусства? Вопрос этот, заявляет Писарев, понимается превратно не только филистерами, но «даже и теми самолюбивыми посредственностями, которые считают себя учениками автора и преемниками Добролюбова». И Писарев останавливается на анализе различных отраслей искусства, предпринятом автором «Эстетических отношений». Подробнее всего он рассматривает анализ архитектуры. По мнению критика, Чернышевский поставил господам эстетикам убийственную дилемму: или исключить архитектуру из числа искусств, или причислить к искусствам садоводство, мебельное, модное, ювелирное, лепное мастерство и вообще «все отрасли промышленности, все ремесла, имеющие целью удовлетворять вкусу или эстетическому чувству». Соглашаясь с позицией Чернышевского, Писарев полагает, что «если сущность, цель и определение искусства заключается в его стремлении к красоте», то произведениями искусства являются не только портик или палаццо, но и фарфоровый чайник, и дамская шляпка, и клюквенный кисель, вылитый в кухонную форму, и размалеванная старуха. Вслед за Чернышевским он признает архитектуру не искусством, а отраслью практической деятельности. Он категорически возражает против утверждений эстетиков, видящих в памятниках архитектуры проявление народного миросозерцания. По мнению Писарева, «значительное количество бесполезных и великолепных зданий» лишь проявление «пылкой фантазии архитекторов и декораторов, подогреваемых хорошим жалованием или страхом наказания» при наличии громадных масс дешевого человеческого труда. Смену архитектурных стилей он уподобляет переменам моды. Цитируя рассказ Тэна о Рафаэле, Писарев приходит к выводу о том, что «истинное искусство с величайшей готовностью превращало себя в лакея роскоши». Но «может ли мыслитель сказать после этого, что истинное искусство чуждается роскоши? Если же мыслитель решится выгнать из храма истинного искусства Рафаэля Санцио, то спрашивается, кто же останется в этом храме после изгнания главного жреца? И спрашивается еще, не превратится ли тогда этот храм истинного искусства в мастерскую человеческой мысли, в которой исследователи, писатели и рисовальщики, каждый по своему, будут стремиться к одной великой цели — к искоренению бедности и невежества?» Вновь от вопросов искусства критик перекидывает мостик к социальным проблемам. По мнению Писарева, в уме автора «Эстетических отношений» это превращениесовершилось. Ему пришлось лишь «до поры до времени оставлять в неприкосновенности какой-то призрак истинного искусства. В существование которого он, человек, осмелившийся заговорить в эстетическом трактате о 10000 франков, уже нисколько не верит». Вновь поддерживая, что спор следует вести не об искусстве, Писарев обвиняет Антоновича в том, что он «старается потихоньку поворотить «Современник» назад, в тихую область сладких звуков и приятных очертаний», он хочет, «чтобы книга «Эстетические отношения» залегла навсегда поперек той дороги, по которой движется русская мысль… чтобы эта книга образовала собою ту крайнюю границу, дальше которой не было бы ни проходу, ни проезду». Очень похвальное намерение, иронизирует Писарев, «связать таким образом мысль общества, которое только что начинает пробуждаться». Излагая и комментируя по-своему идеи книги Чернышевского, Антонович, по мнению Писарева, стремится доказать, что в настоящее время эти идеи утрируются «слишком рьяными, но не слишком рациональными последователями». И образумить этих рьяных он старается словами самого автора. Он берет из книги то, что «соответствует изящности его чувств, и оставляет без внимания все то, что подходит близко к рьяности и нерациональности таких негодных людей, как, например, автор «Нерешенного вопроса». Так, Антонович замалчивает отрицание Чернышевским искусства для искусства, игнорирует его мнение о том, что искусство чрезвычайно часто бывает пустой забавой, пренебрегает сопоставлением архитектуры с ювелирным мастерством. Это, говорит Писарев, он может проделывать безнаказанно, ибо «книга — не живой человек». Понимая «все выгоды своего положения», Антонович, как ловкий и сообразительный джентльмен, «эксплуатирует их с величайшей развязностью». Писарев намекает на то, что Чернышевский из сибирской каторги не может вмешаться в полемику и возразить Антоновичу против искажения смысла его произведения. О скульптуре, живописи и музыке Писарев упоминает бегло, лишь пересказывая мысли Чернышевского. Он соглашается также с мнением автора «Эстетических отношений» о поэзии, которая «по самой сущности своей может давать только бледные и неопределенные намеки на действительность». Иллюстрируя это положение, Писарев приводит в пример драмы Шекспира («выше шекспировских драм в поэзии ничего нет»), которые достигают «некоторой определенности, приближающей их к действительности, только тогда, когда они играются на сцене». При этом критик замечает, что удовлетворительно исполнять шекспировские роли могут только замечательные актеры и что разные актеры могут трактовать эти роли по-разному. «Стало быть, задача действительно очень трудная, — делает вывод Писарев, — и намеки действительно бледны и неопределенны». В ходе этого рассуждения Писарев трижды повторяет подчеркнутые слова и дважды выделяет их курсивом. Этим приемом критик обращает внимание читателя на скрытый смысл, содержащийся в статье. Писарев не формулирует собственного ответа на поставленный им вопрос: в чем цель искусства. Он цитирует Чернышевского: «Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять и объяснить действительность, потом применить к пользе человека свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения человека, в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, — воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее. Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни». Писарев находит эти слова превосходными и видит в них весь смысл и всю тенденцию «Эстетических отношений». С этой оценкой слов Чернышевского и определением их значения трудно не согласиться. Но как же быть с заявлением Писарева о том, что книга Чернышевского устарела? Как объяснить согласие Писарева с центральным местом «Эстетических отношений», если он, по крайней мере, трижды, дополняя и развивая положения Чернышевского, убеждал читателя в том, что эстетика Чернышевским разрушена?Изложив таким образом содержание «Эстетических отношений», Писарев переходит к практическим выводам и здесь дает решающий бой Антоновичу. Единственная обязанность критика, по мнению Писарева, заключается в том, чтобы «рассматривать каждое художественное произведение непременно в связи с тою жизнью, среди которой и для которой оно возникло». Во всем остальном критик абсолютно свободен. Доктрина «Эстетических отношений», по мысли Писарева, разбивая оковы старых эстетических теорий, отнюдь не заменяет их новыми. Она утверждает только, что «право произносить окончательный приговор над художественными произведениями принадлежит не эстетику, который может судить только о форме, а мыслящему человеку, который судит о содержании, то есть о явлениях жизни». Критик больше не прикладывает к художественному произведению различные статьи готового эстетического кодекса, а «вносит и обязан вносить в свою деятельность все свое личное миросозерцание, весь свой индивидуальный характер, весь свой образ мыслей, всю совокупность своих человеческих и гражданских убеждений, надежд и желаний». Из безличного и бесстрастного блюстителя неподвижного закона он превращается в живого человека. «Искусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни», — цитирует Писарев Чернышевского и спрашивает: — Что же именно интересно и что неинтересно? «Содержание, достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто бы оно — пустая забава», — приводит Писарев второе положение Чернышевского и снова вопрошает: — Что такое мыслящий человек? — Что именно достойно его внимания? «Эстетические отношения», констатирует Писарев, на эти вопросы ответа не дают. Каждый критик должен решать эти вопросы по-своему в зависимости от того, «чего он требует от жизни и каким образом он понимает характер и потребности своего времени». Два критика, оставаясь адептами учения, изложенного в «Эстетических отношениях», могут разойтись в своих мнениях: один из них посмотрит на то или иное произведение искусства с презрением, другой — с восхищением. «Спор между этими двумя критиками, — подчеркивает Писарев, — с самого начала будет происходить совсем не на эстетической почве». Критики будут спорить между собой о том, что такое мыслящий человек, что должен этот человек находить достойным своего внимания, как он должен смотреть на природу и на общественную жизнь, как должен он думать и действовать. В споре, продолжает Писарев, онн развернут все свое мировоззрение: заглянут и в естествознание, и в историю, и в политику, и в социальную науку, и в нравственную философию. Только об искусстве не будет сказано ни одного слова, потому что «смысл всего спора будет заключаться в содержании, а не в форме художественного произведения». Писарев решительно отклоняет намерение Антоновича дать ему бой в области эстетики: ни один из критиков, заявляет он, не будет вправе упрекать другого в отступничестве от «Эстетических отношений», потому что расходятся они между собой «в тех именно вопросах, которые эта доктрина сознательно и систематически предоставляет в полное распоряжение каждой отдельной личности». Писарев обвиняет Антоновича в том, что он усмотрел в «Эстетических отношениях» «какую-то энциклопедию науки и жизни, порешившую на вечные времена все вопросы прошедшего, настоящего и будущего». Стараясь обуздать книгой Чернышевского «рьяных, но нерациональных последователей», Антонович совершенно не понимает, что причина его разногласия с ними «таится не в эстетических понятиях, а в основных взглядах на жизнь общества и задачу современного писателя». Процитировав обвинения, с которыми Антонович обрушился на «некоторых», в горячности и нерассудительности восставших «вообще против искусства и против эстетического наслаждения им», Писарев восклицает: «О г. Антонович! О гениальный г. Антонович! Вы себе даже представить не можете, какую пропасть умственной нищеты и нравственной мелкости вы обнаруживаете в этой самодовольной тираде против горячности и нерассудительности каких-то некоторых. Вы говорите откровенно всем вашим читателям, что вы никогда не способны возвыситься до понимания той нравственной философии, которую два-три года тому назад поддерживал «Современник» и которую в настоящее время должно защищать от вашей жалкой близорукости одно «Русское слово». «Умственная слабость» и «нравственная приземистость» Антоновича, по мнению Писарева, особенно ярко выражаются в его рассуждениях об аскетизме. И Писарев берется ему объяснить «с достаточной вразумительностью, чем обусловливаются наши понятия об искусстве и какая громадная разница существует между этими понятиями, с одной стороны, и «сухим аскетическим взглядом», с другой стороны». Аскет — человек, который борется со своими страстями, переделывая свою природу. Но кто же, спрашивает Писарев, назовет аскетом горького пьяницу или отчаянного игрока, которые предаются своим страстям, забывая о своих обязанностях? Можно ли назвать аскетами Архимеда или Ньютона, которые, забывая о всех человеческих наслаждениях, проводили дни и ночи над математическими вычислениями? «Аскетом ни в каком случае нельзя назвать такого человека, который весь поглощен одной преобладающей страстью и который, нисколько не думая о борьбе с самим собою, посвящает удовлетворению этой страсти все свои силы и всю свою жизнь», — утверждает Писарев. И в Архимеде, и в пьянице, и в игроке одна страсть развилась в ущерб всем остальным страстям и положила свою печать на все поступки, на весь образ мыслей и на всю жизнь данной личности. Только нарушение равновесия в пьянице и игроке ставит их ниже обыкновенных людей, а в Архимеде и Ньютоне — неизмеримо выше. «Величайшие подвиги полезного труда так же свойственны человеческой природе, как свойственны ей самые грязные проявления нравственной распущенности». Если бы великие исследователи приневоливали себя, если бы они действовали по обязанности, а не по страсти, то они никогда бы не сделались великими деятелями. Потратив большую часть своей энергии на борьбу со своими страстями, они сделались бы людьми утомленными и взялись бы за умственную работу слабо и вяло. «Человек становится полезным и великим тогда, когда он, при благоприятных условиях, усиливает и развивает в себе высшие стремления своей личности, которые, усилившись и развившись сами собой, без ломки и борьбы, одерживают победу и упрочивают за собой перевес над низшими и вредными инстинктами нашей природы». Некоторые, убеждает Писарев своих читателей, кого Антонович упрекает в горячности и нерассудительности, принадлежат к той же категории людей, к которой относятся Архимеды, Ньютоны, пьяницы и игроки. И Писарев рисует выразительный и симпатичный облик «горячих и нерассудительных» людей. «У этих некоторых, — пишет он, — которые действительно очень горячи и нерассудительны, вся жизнь наполнена стремлением к одной цели, все действия, слова и мысли окрашены одною преобладающей и безотвязной страстью, перед которой бледнеют и исчезают всякие посторонние соображения и всякие побочные интересы. Этим некоторым хочется непременно возбудить в людях желание серьезно задуматься над своим настоящим положением. Для чего им этого хочется и какой им от этого будет барыш — этого я решительно не знаю; что же касается до вас, г. Антонович, то вы, без сомнения, знаете об этом еще меньше моего». В этих словах совсем недвусмысленно разъясняется смысл деятельности «некоторых», причин, по которым они «горячи и нерассудительны». Эзоповским языком здесь выражены революционные устремления. «Как бы то ни было, — продолжает Писарев, — однако им этого очень хочется. Они думают, читают, пишут, принимают на себя различные хлопоты и неприятности, и все только для того, чтобы как-нибудь расшевелить умственные способности окружающих людей, направить их внимание на вопросы действительной жизни и указать им на те пути, на которых эта жизнь становится легче и лучше. Какие странные субъекты, какие, можно даже сказать, глупые субъекты! Не правда ли, г. Антонович? Во-первых, кого расшевелить? А во-вторых, им-то что за дело? Не правда ли, г. Антонович?» Критик издевается над своим оппонентом, и он имеет на это право. Трудно поверить, что идейный руководитель лучшего в России журнала не понимает азбучных истин. «Предаваясь безраздельно своей глупой страсти, — пишет Писарев, — эти глупые некоторые ищут и находят в ней одной главные источники своих страданий и своих наслаждений, своих сомнений и своих надежд, своих иллюзий и своих разочарований. Они чувствуют себя счастливыми, когда они видят, что сколько-нибудь подвинулись вперед к своей цели; они злятся и волнуются, когда обстоятельства отбрасывают их назад или заставляют топтаться на одном месте. Они не говорят себе, что они, как добродетельные граждане, обязаны чувствовать себя счастливыми в одном случае и страдать разлитием желчи в другом. Нет, они действительно, без всякой команды, чувствуют себя счастливыми, когда их работа подвигается вперед; и желчь их разливается также действительно и также без всякой команды, когда умственная спячка окружающих людей заявляет свое существование посредством какого-нибудь неожиданно-громкого взрыва храпений». Кажется, в подцензурной печати, да еще в статье об эстетике, нельзя высказаться яснее. Но Писарев ставит точки над «и», апеллируя к Добролюбову. Антоновичу, как всякому рассудительному и негорячему человеку, все это может показаться неправдоподобными выдумками, но, говорит Писарев, «некоторым из ваших предшественников, хоть бы, например, Добролюбову, эти самые слова показались бы такими известными истинами, о которых не стоит даже и распространяться». Писарев советует оппоненту обратиться за справками и пояснениями «к кому-нибудь из оставшихся вокруг вас сотрудников добролюбовского «Современника», хотя бы, например, к г. составителю «Внутреннего обозрения», и эти ветераны, наверное, объяснят вам, что, хотя то явление, которое я описываю, очень неправдоподобно, однако оно действительно встречается в жизни». Адресуя Антоновича к Елисееву, Писарев безошибочно указывает на единственного сотрудника «Современника», который продолжает на страницах журнала традиции Чернышевского и Добролюбова. Рассудительный и негорячий Антонович может сколько угодно называть некоторых «людьми помешанными или одержимыми». Но он должен признать, что они последовательны и искренни в своем помешательстве. Это должно оградить их от упреков и в аскетизме, и в бессознательных и необдуманных выходках. Писарев представляет Антоновича школьником, которому надоело учиться, и он хочет «в игрушечки поиграть», рассуждая при этом о том, «в какие именно игрушечки должны играть благовоспитанные деточки». «И этот школьнический взгляд на долг и труд, — пишет Писарев, — вы проводите в том самом журнале, в котором Добролюбов доказывал неутомимо, что для нормального, здорового и развитого человека долг и труд совершенно сливаются с личной выгодой и с личным наслаждением». «…Вы чрезвычайно хорошо поняли идеи ваших учителей и чрезвычайно способны сделаться их преемником, — иронизирует Писарев. — Есть надежда, что вы в скором времени заподозрите в аскетизме того ригориста, которого бурлаки прозвали Никитушкой Ломовым (читай — Рахметова. — Ю. К.). Развивайтесь дальше, и вы пойдете очень далеко…» «Рассудительный и негорячий» Антонович, — продолжает Писарев, — полагает, что «невозможно придумать никакого основания, которое бы могло дать право воспрещать или даже порицать» удовлетворение потребности человека в эстетическом наслаждении. «Не горазды же вы придумывать», — язвительно замечает он. Эстетическому наслаждению Писарев противопоставляет утоление голода. Это, несомненно, нормальная потребность человека, удовлетворяемая питательными предметами, и действительно, невозможно придумать никакого основания, которое бы могло дать право воспрещать или даже порицать удовлетворение этой потребности. Никто этого ни воспрещает и ни порицает, однако у огромного большинства людей потребность эта удовлетворяется чрезвычайно плохо: не все могут есть то, что им хочется, так как питательных предметов производится не столько, сколько следовало бы их производить. Происходит это потому, что «слишком много рабочих рук отвлекается на производство тех изящных предметов, которыми удовлетворяются разные эстетические пожелания, которые вы, критик «Современника», преемник Добролюбова и ученик автора «Эстетических отношений», считаете вашею обязанностью принять под свое просвещенное покровительство». Эта азбучная истина, Писарев не сомневается, превосходно известна Антоновичу, но он оставляет ее под спудом именно тогда, когда был обязан ею воспользоваться. Цитируя положение, в котором Антонович признает искусство полезным, даже «если бы оно было просто искусством для искусства», Писарев возмущается: «Это говорит критик «Современника», и что всего любопытнее, он говорит это, прикрываясь «Эстетическими отношениями»! Значит, Добролюбов «принес русскому обществу много вреда», ибо он всю жизнь боролся против искусства для искусства? Писарев высмеивает утверждение Антоновича о том, что «эстетическое наслаждение полезно и тем, что оно значительно содействует развитию человека, уменьшает его грубость, делает его мягче, впечатлительнее, вообще гуманнее, сдерживает его дикие инстинкты» и т. п. Эту «уморительную импровизацию» Писарев сравнивает с рекламой «тонической воды из хинина», которая уступает по красоте языка и яркости красок рекламе искусства, созданной Антоновичем, но превосходит ее по конкретности. Где же факты, подкрепляющие это положение? — спрашивает Писарев. «Не вздумаете ли вы заглянуть в историю?» И любезно предлагает: «Ах, сделайте одолжение, загляните хоть в историю Нерона, который сам был и музыкантом, и певцом, и актером, и обожателем Гомера». Или полюбуйтесь Италией XV века, продолжает Писарев, когда там наступила великая эпоха процветания для искусства. «Вероятно, в тогдашней Италии воцарилась чистота нравов, поголовная кротость, всеобщее братолюбие? Да, похоже на то! Все эти и многие другие добродетели воплотились, например, в семействе Борджиа. Это имя, как известно, в своем роде так же выразительно, как имя Нерона». Писарев берет в союзники французского эстетика Тэна, «который не прячется в лицемерную мораль», а «радуется процветанию искусства и вовсе не думает скрывать от читателя, что это процветание было вызвано грубостью нравов». У Антоновича же не хватило храбрости сделаться чистокровным эстетиком, и он робко и неловко пробует «составить какую-то невозможную амальгаму искусства с утилитарностью и эстетики с примерным благонравием…». В заключение статьи Писарев указывает, что в той же самой книжке «Современника», где Антонович рекомендует «чистое искусство», автор «Внутреннего обозрения» «осмеивает высокие наслаждения души». Адресуясь к оппоненту, он обращает его внимание на комизм создавшегося положения: «Ваш сотрудник говорит с иронией то же самое, что вы совершенно серьезно выдаете нашему обществу за «современную эстетическую теорию» — «вы с г. составителем «Внутреннего обозрения» взаимно истребляете друг друга». «Разрушение эстетики» традиционно рассматривается как единственная работа Писарева, специально посвященная вопросам эстетики. Между тем главный пафос статьи заключается в социальных вопросах. Основное расхождение оппонентов не в отношении к прекрасному, а в подходе к жизненным явлениям. Писарев указывает Антоновичу, что спорить об эстетике, когда существуют более важные и жизненно необходимые вопросы, по меньшей мере пустое занятие. Именно для того, чтобы убедить Антоновича, Писарев нарочито огрубляет выводы Чернышевского и говорит об уничтожении эстетики. Он стыдит критика «Современника», который считает себя хранителем наследства Чернышевского и Добролюбова, но не следует их традициям на практике. В отличие от своих учителей, главное внимание уделявших социальным вопросам, Антонович не имеет ясной программы в этой области. Таким образом, «Разрушение эстетики» представляет собой не систематизированный свод эстетических взглядов Писарева (которого вообще не существует), а яркую полемическую статью в защиту собственных социально-политических взглядов.
Статья о разрушении эстетики появилась в мае 1865 года, а в апрельской и июньской книжках «Русского слова» Писарев напечатал две статьи под общим названием «Пушкин и Белинский». Это был давно обещанный критиком разбор произведений великого поэта. Еще за год до публикации статей Писарев предварял их таким объяснением: «Предупреждаю только заранее моих будущих оппонентов, что я совершенно устраняю в вопросе о Пушкине историческую точку зрения. Я очень хорошо знаю, что «Евгений Онегин» гораздо лучше «Фелицы» Державина и что «Капитанская дочка» стоит во всех отношениях выше «Бедной Лизы» Карамзина. Я нисколько не обвиняю Пушкина в том, что он не был проникнут теми идеями, которые в его время не существовали или не могли быть ему доступны. Я задам себе и решу только один вопрос: следует ли нам читать Пушкина в настоящую минуту или же мы можем поставить его на полку, подобно тому как мы уже это сделали с Ломоносовым, Державиным, Карамзиным и Жуковским?» Появление этих парадоксальных и несправедливых статей можно объяснить только в свете споров о пушкинском и гоголевском направлениях в русской литературе. Еще с середины 1850-х годов либеральная критика пыталась противопоставить Пушкина Гоголю как основоположнику критического реализма. Она выступала против выводов Белинского и основных положений «Очерков гоголевского периода русской литературы» Чернышевского. А. В. Дружинин, П. В. Анненков, М. Н. Катков и другие изображали Пушкина примиренным с действительностью жрецом «чистой поэзии», далекой от «злобы дня». В противовес этому революционно-демократическая критика допускала недооценку Пушкина. «У нас, например, — писал Чернышевский в 1860 году, — огромное большинство поэтов и публики продолжает считать Пушкина лучшим представителем русской поэзии, между тем как время Пушкина давно прошло». Статьи Писарева заостряли до крайности подобные мнения. «Имя Пушкина, — писал он, — сделалось знаменем неисправимых романтиков и литературных филистеров». Подчеркнуто неисторический подход, мерка Базарова, примененная к Онегину, увлекли своей парадоксальностью и смелостью одних читателей и отшатнули других, расценивших это как глумление над творчеством великого поэта. Статьи против Пушкина только по форме литературная критика, по сути это злободневная публицистика. Ниспровергая Пушкина как «кумира прежних поколений», Писарев наносил сильнейший удар своим литературным и политическим противникам, ослаблял влияние «чистой поэзии» на молодежь и привлекал ее на путь «реализма». Однако критическое чувство на сей раз изменило Писареву. В полемическом азарте он допустил крупную ошибку. Вместо того чтобы вырвать знамя из рук противника и поставить творчество Пушкина на службу «реализму», как сделал он это с «Отцами и детьми» Тургенева, а спустя три года с «Преступлением и наказанием» Достоевского, он «уступил» Пушкина сторонникам «чистого искусства».
Полемика с Антоновичем не отнимает у Писарева всех его сил, не отвлекает его от дальнейшей разработки «теории реализма». Именно в это время он доводит свою теорию до логического завершения. Вслед за Шелгуновым и Соколовым Писарев поднимает вопрос о пролетариате. «В настоящее время, — пишет он, — вся историческая будущность Западной Европы зависит от того, каким образом разрешится рабочий вопрос, т. е. каким образом упрочится и обеспечится материальное существование рабочих населений». Публицист подчеркивает, что если рабочий вопрос может быть разрешен сам по себе, то «он разрешится не какими-нибудь посторонними благодетелями и покровителями, а только самими работниками, когда к их рабочей силе, практической сметливости и трудолюбию присоединится ясное понимание междучеловеческих отношений и уменье возвышаться от единичных наблюдений до общих выводов и широких умозаключений». Другими словами, Писарев приходит к выводу о том, что освобождение рабочего класса должно быть делом рук самого рабочего класса и что путь к этому лежит через соединение движения пролетариата с революционной теорией. Рабочий вопрос для Писарева не только проблема Западной Европы. Он неминуемо встанет и перед Россией. «С нашей стороны, — продолжает Писарев, — было бы очень неосновательно думать, что эта чаша пройдет мимо нас и что наша общественная жизнь в своем дальнейшем развитии никогда не наткнется на эту мудреную задачу. Поэтому, глядя на наших западных соседей и вдумываясь в их поучительные ошибки и страдания, мы должны заранее припасать те материалы, которые требуются для удовлетворительного разрешения этого неизбежного и неотвратимого вопроса». К числу таких необходимых материалов Писарев относит организацию прочной нравственной и умственной связи между лабораторией ученого и мастерской ремесленника. «Сближение образованного общества с черным народом… — замечает Писарев, — конечно, необходимо, но только оно должно состоять не в тупом уважении к народной мудрости, которую совершенно справедливо осмеивает и отвергает положительная наука, а в разумной, полной, искренней и деятельной реабилитации физического труда, которому все мы на словах свидетельствуем наше нижайшее почтение и от которого, однако, на деле все мы тщательно отстраняемся сами и отстраняем наших возлюбленных детей… Простой народ всегда и везде делит все человечество на таких людей, которые работают сами, и на таких, за которых работают другие; первых он считает своими, а вторых — чужими. Кто упускает из виду эту простую истину, тому нечего и мечтать о сближении с народом». Все эти мысли Писарев высказал в статье «Школа и жизнь», опубликованной в июле — августе 1865 года в журнале «Русское слово». Выдвигая свой проект гимназической и университетской программ (усиление преподавания математики и естествознания, сочетание теоретических занятий с физическим воспитанием и производительным трудом), Писарев сознавал его неосуществимость. «Школа, — писал он, — везде и всегда составляет самую крепкую и неприступную цитадель всевозможных традиций и предрассудков, мешающих обществу мыслить и жить сообразно с его действительными потребностями. Все члены общества, питающие искреннюю или притворную нежность к традициям или к предрассудкам, охраняют школу от влияния новых идей так же старательно, как старая нянька охраняет своего питомца от дурного глаза». Коренные школьные реформы возможны только в результате коренных общественных преобразований. «Овладеть школой, — утверждал Писарев, — и перестроить воспитание может только та идея, которая давно перешла в наступательное положение и одержала решительную победу в сознании самого общества, а совсем не та идея, которая, по своей крайней молодости, принуждена еще бороться за свое собственное существование. Когда взята уже школа, тогда борьба кончена, победа упрочена…»
В июльской книжке «Современника» Антонович выступил с новой полемической статьей — «Лжереалисты» (по поводу «Русского слова»), переполненной резкими и оскорбительными выпадами в адрес Писарева и Зайцева. Антонович пытался доказать, что взгляды его оппонентов искажают «реализм». Повторив все свои прежние обвинения, он большую часть статьи посвятил доказательству ошибочности эстетических взглядов Писарева. В его разборе содержались и верные положения. Он правильно указывал на субъективистский подход Писарева к решению эстетических вопросов, справедливо критиковал отношение Писарева к изобразительным искусствам и музыке. Но в целом критика была предвзятой и огульной. Антонович не понял ни характера эстетических взглядов Писарева, ни подцензурного смысла статьи. Более того, в ряде вопросов сам Антонович вульгаризировал ряд основных положений эстетики Чернышевского. В сентябрьском номере «Русского слова» Писарев выступил с ответной статьей — «Посмотрим!». Взяв на себя «долю ответственности за происходившее безобразие», Писарев признает неуместность нескольких резких выражений, которые он позволил себе в «Нерешенном вопросе» с целью возбудить полемику. Однако, по мнению Писарева, не будь даже этих резких выражений, с Посторонним сатириком «добросовестная и дельная полемика, клонящаяся к выяснению и всестороннему рассмотрению идей, вообще совершенно невозможна». Писарев подробно рассматривает все аспекты и мотивы полемики и доказывает несправедливость обвинений в отступлении от революционного демократизма, брошенных Антоновичем в адрес «Русского слова» и лично Писарева. Одновременно Писарев правильно критикует Антоновича за либеральный подход к социальным вопросам. Писарев подчеркивает, что главный вопрос нынешнего века: «каким образом голодных людей кормить и всех вообще обеспечить?» До сих пор не найдено, утверждает он, даже теоретическое решение этой задачи. «Что же должны делать те люди, которые берутся быть руководителями общественного самосознания?» — спрашивает он и разделяет этот вопрос на три вопроса. «Что должны они делать, пока теоретическое решение еще не найдено?» «Всеми силами искать теоретического решения и всеми силами побуждать других людей к тому же самому исканию, то есть изображать яркими красками страдания голодного большинства, вдумываться в причины этих страданий, постоянно обращать внимание общества на экономические и общественные вопросы и систематически отрицать, заплевывать и осмеивать все, что отвлекает умственные силы образованных людей от главной задачи». «Что должны они делать, если теоретическое решение уже найдено?» «Постоянно разъяснять обществу с разных сторон и во всех подробностях основные начала разумной доктрины, знакомить его таким образом с найденным теоретическим решением и при этом всеми возможными средствами усиливать приток новых людей из низших классов в образованное общество; другими словами, надо вербовать агентов найденного разумного учения и надо увеличивать массу мыслящего пролетариата». «Что должны они будут делать, когда теоретическое решение будет осуществлено?» — «Ответ на третий вопрос в наше время невозможен и не имеет для нас ни малейшего интереса, потому что этот третий вопрос получит практическое значение не для нас, а разве только для наших внуков и правнуков». Статья Писарева завершила почти двухлетнюю полемику передовых журналов.
В июне В. Д. Писарева подала прошение «на высочайшее имя». Она писала, что сын ее, приговоренный к заключению на 2 года и 8.месяцев, находится в крепости уже три года и что дальнейшее его пребывание в заключении угрожает ему рецидивом психического расстройства, от которого он лечился шесть лет тому назад. Она просила освободить Писарева и отправить его на житье к ней в деревню. К прошению III отделение приложило справку о статье закона, по которой в срок заключения зачисляется время, проведенное в тюрьме, в арестантских ротах и рабочих домах после объявления приговора. Александр II на справке написал: «Весьма справедливо, что в этой статье речь идет о времени заключения по объявлению приговора, а не до объявления его». Прошение Писаревой царь велел отправить на заключение министру юстиции. Не получив ответа на свое прошение, Варвара Дмитриевна вновь обратилась к Суворову. Светлейший князь принял ее участливо и обещал помочь добиться помилования. В тот же день он написал личное письмо шефу жандармов.
Суворов — Долгорукову, 12 августа: «Известный вашему сиятельству кандидат Санкт-Петербургского университета Дмитрий Писарев, содержавшийся в С.-Петербургской крепости более двух лет во время производства следствия, подвергнут по высочайше утвержденному мнению Государственного совета срочному содержанию на 2 года 8 месяцев, за политическое преступление. Молодой человек этот, неся заслуженное наказание с покорностью, являет из-за стен крепости пример добродетели, содержа литературным своим трудом престарелую мать и малолетних сестер, но здоровье его ослабевает, и несчастное семейство может лишиться единственной опоры в жизни. Ваше сиятельство, вероятно, одинакового со мной мнения, что наказания налагаются законом не в виду возмездия за преступление, но в видах исправления, а потому, если есть убеждение, что виновный исправится, то всякая оказываемая ему милость может только укрепить его на пути добродетели, а потому я имею честь обратиться к вам, милостивый государь, с покорнейшей просьбой, не изволите ли вы признать возможным в настоящее время по прошествии почти 3-х лет со дня заключения Писарева предстать с ходатайством к государю императору о всемилостивейшем помиловании».
На следующий день шеф жандармов сообщил генерал-губернатору о неблагоприятной резолюции императора. А еще через два дня поступило и долгожданное заключение министра юстиции: прошение Писаревой было признано «не заслуживающим уважения». Надежды матери на милосердие царя вновь оказались напрасны. На сей раз оказался бессилен и сам князь Суворов.
3. ДАМОКЛОВ МЕЧ
С 1 сентября 1865 года вступал в силу новый закон о печати. Освобождая издания от предварительной цензуры и заменяя ее цензурой карательной, он только создавал видимость свободы печати. Угрожая издателям и редакторам денежными штрафами и судебными преследованиями, закон не устанавливал точных границ разрешенного и открывал широкие возможности для произвола цензоров всех рангов. Над радикальной журналистикой навис дамоклов меч. Однако отмена предварительной цензуры позволяла издателям рисковать. И Благосветлов рискнул. «Мысли о русских романах», почти два года пролежавшие в редакции, теперь были пущены в ход. Под названием «Новый тип» статья печаталась в десятом (первом бесцензурном) номере «Русского слова». На узких полосках бумаги, свернутых в комочки, Писарев переправил в редакцию несколько дополнений, вызванных течением времени. Писарев счел нужным отметить практические результаты «Что делать?». Несмотря на умственную вялость российского общества и силу обстоятельств, задерживающую его развитие, мысль Чернышевского о создании артельных мастерских («самое замечательное место в романе!») получила свой отклик, «не одно честное сердце отозвалось на нее, не один свежий голос откликнулся на этот призыв к деятельности». Чернышевский «оказался единственным нашим беллетристом, художественное произведение которого имело непосредственное влияние на наше общество, правда на небольшую часть его, но зато на лучшую». В конце статьи, сравнивая Инсарова с Рахметовым, Писарев добавил несколько строк, которых он не мог написать два года назад. Сейчас, когда и ему и Чернышевскому приговор был вынесен и эти строки не должны фигурировать в сенате, он написал, что в отличие от Тургенева, который не видал в нашей жизни ни одного живого явления, соответствовавшего тем идеям, из которых построена фигура Инсарова, Чернышевский, напротив того, видел много таких явлений, которые вразумительно говорят о существовании нового типа и о деятельности особенных людей, подобных Рахметову. «Если бы этих явлений не было, то фигура Рахметова была бы очень бледна, как фигура Инсарова. А если эти явления действительно существуют, то, может быть, светлое будущее совсем не так неизмеримо далеко от нас, как мы привыкли думать. Где являются Рахметовы, там они разливают вокруг себя светлые идеи и пробуждают живые надежды». Это было открытым признанием революционного пути. В редакции «Русского слова» новый закон вызвал настоящую революцию. Благосветлов, как собственник журнала, стремился взять более осторожный курс. Зайцев и Соколов, литературные пролетарии, которым нечего было терять, напротив, считали необходимым перейти к более радикальной пропаганде. В начале сентября они потребовали от Благосветлова реформировать журнал на артельных началах. Инициатива принадлежала Соколову, который, побывав за границей, теперь носился с идеей перестройки всего журнального дела в духе прудонистских проектов. Благосветлов сопротивлялся. Зайцев писал Шелгунову, отбывавшему ссылку в Великом Устюге, что «потерял надежду склонить на них нашего почтенного издателя, который при всех своих достоинствах не одарен тою добродетелью, которою в такой степени отличаемся все мы, т. е. быть пролетарием». Шелгунов превосходно знал, что Благосветлов «далеко не пролетарий», но все же из письма Зайцева не мог понять, что именно происходит в редакции «Русского слова». Еще больше озадачило Шелгунова следующее письмо Зайцева: «Я, Соколов и Писарев, — писал Зайцев, — подали нынче в отставку от «Русского слова» и всей журналистики. На днях об удалении нашем будет напечатано или в книжке «Русского слова», или в «Петербургских ведомостях»… В тот же день Николай Васильевич получил письмо от Благосветлова. «По правде сказать, — писал издатель, — только вы и Писарев связываете меня нравственными отношениями к «Русскому слову»; я люблю его именно настолько, насколько могу любить и уважать вас… вчера я подал просьбу об утверждении меня редактором серьезного отдела. Кроме того, предполагается предложить Зайцеву особый отдел для редакции. Но знаю, как все это устроится… прошу вас убедительнейше высылать поскорее статьи…» Сбитый о толку Шелгунов не знал, что и подумать. Письмо Благосветлова отражало более позднюю фазу конфликта. Заручившись предварительно поддержкой Писарева, Соколов и Зайцев предъявили издателю ультиматум: или он соглашается на реформу, или они втроем оставляют журнал. Благосветлов уступил. В газете «Голос» от 8 октября появилось подписанное Благосветловым, Благовещенским, Зайцевым и Соколовым извещение о том, что издатель «Русского слова» не считает подписную сумму своей собственностью и будет регулярно печатать отчеты о расходах по журналу. С торжеством сообщая Шелгунову о своей победе, Зайцев добавлял: «Нынче я, Соколов и Дмитрий Иванович заключили между собой тайный оборонительный союз, условия которого состоят в том, что управляющий конторою не может исключить или удалить против воли никого из постоянных сотрудников, какими мы считаем себя, вас и Благовещенского. Удаление одного влечет за собой немедленный выход остальных (т. е. из нас троих пока)». Соглашение, однако, было непрочным. Благосветлов пошел на него скрепя сердце и был готов при первом удобном случае от него отказаться. Уже извещая об этом соглашении в сентябрьской книжке «Русского слова», Благосветлов высказал свои «издательские убеждения», с которыми ни Зайцев, ни Соколов согласны не были. Он, например, единолично установил для себя максимум доходов от журнала в пять тысяч рублей, обещая все сверх этой суммы употребить на увеличение гонорара основным сотрудникам журнала. В это время произошел очередной конфликт. Соколов написал статью «Журнальное дело», в которой доказывал, что издатель обязан снижать подписную плату по мере увеличения числа подписчиков. Благосветлов заявил, что «ответственность перед здравым смыслом» не позволяет ему печатать «такую нелепость». Благовещенский, считавшийся официальным редактором, 20 октября подал в Главное управление по делам печати прошение, в котором высказывал желание «разделить редакторскую ответственность по журналу «Русское слово» с гг. Григорием Благосветловым и Варфоломеем Зайцевым». Одновременно Благосветлов и Зайцев подали особые прошения, в которых просили утвердить их редакторами отделов. 5 ноября в их просьбе было отказано. Тогда Зайцев потребовал, чтобы Благосветлов представил в качестве редактора критического отдела Соколова. «Мне будет очень приятно, — писал и Писарев Благосветлову, — если Соколов будет утвержден, и я надеюсь, что ты, со своей стороны, не будешь противиться его редакторству». Но издатель твердо стоял на своем. Тогда «бунтари» объявили 1 декабря в газете «Голос» о своем выходе из журнала, а через несколько дней в «С.-петербургских ведомостях» подробно объяснили причины своего разрыва с Благосветловым. В обоих случаях Соколов и Зайцев сообщали, что Писарев к ним присоединился. Раскол в редакции «Русского слова» вслед за подобным же разладом внутри «Современника» оживленно комментировался в печати и частной переписке. «Еще чуднее шутка разыгралась с «Рус. словом», — сообщал Анненков Тургеневу за границу. — От него отказались публично Писарев, Зайцев, Соколов и проч., потому что редактор, по их словам, в нравственном безобразии и надувательстве превосходит меру терпения и всякое вероятие. Что будет делать Благосветлов — неизвестно». На место ушедших сотрудников Благосветлов пригласил молодого литератора Петра Никитича Ткачева и поручил ему вести «Библиографический листок». Редактор-издатель, по словам Ткачева, «с прежней энергией продолжал вести свой журнал по прежнему тернистому пути». Но дни «Русского слова» были уже сочтены.Условия пребывания Писарева в крепости между тем становились все более льготными. С одной стороны, при содействии Суворова следовали официальные послабления, с другой — сочувствие крепостных офицеров обеспечивало полулегальные поблажки. 1865 год был в жизни Писарева самым плодотворным. В этот год он написал для «Русского слова» полтора десятка статей объемом свыше 100 печатных листов. 28 ноября Суворов сообщал коменданту, что «штабс-капитан Писарев просит разрешить жене его посещать заключенного в крепости литератора Писарева 3 раза в неделю, так как благотворное влияние матери действует на нравственное исправление сына», и что он, Суворов, «не встречает препятствий к удовлетворению этого ходатайства». В секретномархиве III отделения сохранилось донесение генерала Сорокина: «Чиновник Саранчов Дмитрий, служащий в канцелярии военного министерства бухгалтером, находившийся в тесной дружбе с Сераковским, ныне обращает внимание тем, что, не отказавшись от своего крайнего либерализма и питая ненависть к правительству, имеет частые свидания с заключенным в крепости г. Писаревым. Свидания эти происходят у одного из плац-адъютантов крепости». Из дальнейшего изложения видно, что речь идет об И. Ф. Пинкорнелли. О чем беседовал Писарев с Саранчовым, к сожалению, из дела III отделения неясно. К этому же времени относятся, очевидно, встречи с Писаревым помощника смотрителя Алексеевского равелина Ив. Борисова. «Писарева, — вспоминает Борисов, — тогда еще совсем молодого человека, с едва пробивавшимися светло-рыжеватыми усами и бородкой, — видел я во время привода его в комендантский дом для свидания с матерью… Внешне скромный, в общем добродушный вид Писарева вовсе не напоминал того горячего, беспощадного отрицателя, каким являлся он в своих публицистических статьях». Борисов сообщает, что «читал в рукописи вес критические статьи Писарева, проходившие через канцелярию крепостного коменданта». Почерк Писарева, вспоминает он, был «мелок, четок и красив. В рукописях… почти не было помарок, и они писались сразу, без переделки, как видно, под сильным влиянием горячей мысли и высокого вдохновения. Статьи Писарева на меня, юного тогда, страшно повлияли в том отношении, что я сжег все, чему поклонялся».
В конце 1865 года в жизнь Писарева входит новое лицо, сыгравшее исключительную роль в пропаганде его сочинений. В конце ноября или начале декабря в доме Зуев «на Малой Дворянской, где жили Варвара Дмитриевна и Вера Ивановна Писаревы, впервые появляется двадцатишестилетний артиллерийский поручик Флорентий Павленков. Он только что приехал из Киева, чтобы поступить на педагогические курсы при военной гимназии и ускорить печатание второго выпуска «Физики» Гано, переведенной им на русский язык. Павленков происходил из дворян Тамбовской губернии. Рано лишившийся родителей, он еще ребенком был отдан на воспитание в Александровский кадетский корпус для малолетних, а затем переведен в 1-й Петербургский кадетский корпус. Окончив в августе 1861 года Михайловскую артиллерийскую академию в чине прапорщика, Павленков был назначен на службу в Киевский арсенал, где заведовал водоснабжением арсенальских мастерских. Здесь он обнаружил злоупотребления по службе командира арсенала и вместе с двумя другими молодыми офицерами подал об этом формальное заявление инспектировавшему арсенал генералу. Молодые люди не знали, что инспектирование сводилось в то время к получению ежегодной дани с инспектируемых учреждений, и были удивлены, когда генерал принялся их уговаривать взять свое заявление обратно. Видя упорство Павленкова, генерал распорядился перевести его в Брянск. Следствие производилось крайне медленно, в действиях генерала явственно было видно намерение выгородить командира арсенала и обвинить молодого офицера в клевете. Через год Павленкова возвратили в Киев якобы для ускорения следствия, но его не допрашивали и к исполнению служебных обязанностей не допускали. Летом 1865 года он вторично заявил претензию инспектору. Результатом был новый перевод в Брянск и двухнедельный арест. Убедившись в невозможности продолжать службу в артиллерии, Павленков вышел в отставку. Еще в Михайловской академии Павленков заинтересовался естественными науками, писал статьи по артиллерийской технике, занимался только что распространившейся фотографией. Вместе со своим другом, тоже артиллерийским офицером В. Д. Черкасовым, Павленков перевел на русский язык курс физики Гано, пользовавшийся большой популярностью. Заручившись согласием на небольшой кредит, Павленков и Черкасов открыли при типографии М. Куколь-Яснопольского подписку и начали издавать свой перевод выпусками. На доход от издания молодой издатель надеялся осуществить свою давнюю мечту. Еще в Киеве Флорентий Федорович зачитывался статьями Писарева в «Русском слове» и сожалел, что не имеет возможности собрать их все вместе и выпустить отдельным изданием. Теперь это стало реальным.
Павленков — Писареву, 14 декабря 1865 г… «Милостивый государь Дмитрий Иванович! Я желал бы приобрести право на издание полного собрания Ваших сочинении. Что касается до расплаты с Вами, то я могу в начале января вручить Вам 600 руб. Остальные надеюсь выдать через небольшие промежутки времени таким образом, чтоб вся сумма была погашена не позже конца апреля или (самый последний срок) середины мая… В пробном выпуске я бы желал поместить «Базарова», «Нерешенный вопрос», «Новый тип», «Разрушение эстетики». Впрочем, я всегда буду согласен на Ваш выбор. За издание всех Ваших сочинений я могу предложить Вам 2500 рублей. Начнется оно не ранее февраля… скорое его окончание будет зависеть от материальных средств, но во всяком случае не думаю, чтобы оно заняло более года». Писарев — Писаревой: «Ну вот, мама, ты все не верила, что твой непокорный сын может сделать кое-что и хорошего, такого по крайней мере, чтобы люди очень ценили и чем бы они очень дорожили. Ан вышло, что ты ошибалась, да еще как! Где это видано, чтобы издавалось полное (заметь, шатай, полное, а не «избранное» и пр.) собрание сочинений живого, а не мертвого русского критика и публициста, которому всего 26 лет и которого г. Антонович считает неумным, Катков — вредным, Николай Соловьев — антихристом и пр. Признаюсь, мне это приятно, что меня издают, да еще деньги за это платят, которые нам теперь совсем нелишние. Заживем, мамаша, заживем, да еще как. Предчувствую, что еще несколько лет работы, и я так высоко заберусь на литературный Парнас, что ты и Верочка, и Катя станете звать меня не Митей уже, а Дмитрием Ивановичем, а я благосклонно разрешу всем вам сохранять прежнее мое наименование. Итак — успех. Повторяю, я рад и вот еще почему. Вообще я человек очень самоуверенный и себе цену знаю, но, несмотря на всю мою самоуверенность, я все же чувствую потребность проверить свои заслуги оценкой других. Слава — это признание в тебе обществом силы, дарования, полезности. И потому я рад вдвойне».
Без колебаний Писарев принял предложение Павленкова. Условия, предложенные издателем в первом письме, в дальнейшем, по ряду объективных причин, изменились. Издание растянулось на три года, вместо предложенных восьми томов вышло десять. Пробный выпуск не состоялся, а намеченные в него статьи попали в разные тома. План издания, несомненно, составлялся самим Писаревым (по крайней мере, восемь первых частей, вышедших при его жизни). Выплаты автору производились постепенно, по мере выпуска томов. Павленков взял на себя нелегкую задачу, но не отступал, какие бы трудности ни встречались на его пути. Пропаганду писаревских идей он считал своей жизненной целью.
Первая бесцензурная книжка «Русского слова» вызвала пристальное внимание цензуры. Цензор Скуратов в своем докладе цензурному комитету отмечал, что «Русское слово» в сей книжке не изменило своему слишком известному направлению в статьях «Новый тип» г. Писарева, «О капитале» г. Соколова и «Библиографический листок» г. П. Я. и г. Зайцева. Они поражают крайними социалистическими или материалистическими явлениями». По мнению цензора, статья Писарева «заключает в себе длинный панегирик роману Чернышевского «Что делать?», произведению, не имеющему, как известно, никакого художественного достоинства, но проникнутого социалистическими стремлениями». Цензурный комитет не согласился с цензором, увидевшим в статьях октябрьской книжки «Русского слова» нарушение законов о печати и на заседании 15 декабря нашел, что эти статьи «по изложению своему… не представляют вполне достаточного повода к судебному преследованию». Мнение Петербургского цензурного комитета было рассмотрено членом совета Главного управления по делам печати И. А. Гончаровым. Гончаров нашел, что в трех указанных статьях (а также и в некоторых других) октябрьской книжки «Русского слова» повторяются те же нарушения правил печати, за которые были объявлены предостережения «Современнику». Уже этим определяется необходимость применить и к «Русскому слову» ту же меру строгости. «Наиболее обращающая на себя внимание цензуры в рассматриваемой книге статья — «Новый тип» г. Писарева, — пишет Гончаров, — представляет поразительный образец крайнего злоупотребления ума и дарования». 20 декабря министр внутренних дел П. А. Валуев распорядился объявить первое предостережение журналу «Русское слово», в основе которого лежал гончаровский проект: «Принимая во внимание, что в журнале «Русское слово» (№ 10), в статье «Новый тип» (стр. 4, 8, 10, 13, 26) отвергается понятие о браке и проводятся теории социализма и коммунизма, статья же «О капитале» (стр. 50–62) враждебно сопоставляет класс собственников с неимущими и рабочими классами, а в повестях «Три семьи» (стр. 113–115) и «Год жизни» (224–227) высказываются проникнутые крайним цинизмом отзывы об основных понятиях о чести и о нравственности вообще…»
В тот же день, 20 декабря, Писарев сдал в комендатуру очередную статью «Рука (физиологические очерки)» на пяти листах, а еще через три дня — статью «Подрастающая гуманность. Сельские картины» на семи листах. Затем в работе наступил вынужденный перерыв — над Писаревым разразилась гроз». Узнав о предостережении «Русскому слову», генерал Сорокин вознамерился взять реванш над непокорным узником, пользовавшимся покровительством генерал-губернатора. Лишить Писарева права писать было не во власти коменданта, но он добился желаемого результата, не превышая своих полномочий. По его приказанию у заключенного отобрали книги и письменные принадлежности. Свидания с матерью были сокращены до двух часов в неделю, за камерой установлен строгий надзор. Поставленный в безвыходное положение Писарев впервые за три с половиной года вознамерился подать официальную жалобу и попросил коменданта предоставить ему необходимые материалы, чтобы написать письмо военному генерал-губернатору. Конечно, коменданту совсем не улыбалась жалоба узника, но службу он знал, а по инструкции заключенный имел право жаловаться. Бумага и письменные принадлежности были выданы в тот же день. Письмо Писарева Сорокин сопроводил своим объяснением, где перечислял все нарушения режима, совершенные Писаревым и его матерью. А в заключение указывал, что по своей вине Писарев должен был бы содержаться в Шлиссельбургской крепости, где свидания с родными и литературные занятия были бы не так возможны, как здесь. Не ожидая ответа князя Суворова, генерал Сорокин предложил Писареву указать необходимые для работы книги и потребовал назвать лиц, которые устраивали узнику четырехчасовые свидания с матерью (об этом он узнал из письма Писарева к Суворову). В архиве сохранился листок с ответами Писарева. Он перечислил нужные ему книги, а насчет свиданий написал: «По чьему позволению это делалось, — этого я не знаю, знаю только, что меня обыкновенно уводили на свидание в 10 часов или в начале 11-го, а приводили в каземат в 2 часа или в начале 3-го». Надо полагать, Писареву не было известно, что продолжительность свиданий с матерью зависела не от официальных распоряжений начальства, а от доброй воли офицеров крепости, сочувствовавших заключенным. Своим неосторожным упоминанием в письме Суворову он поставил этих людей под удар. Его уклончивый ответ на вопрос коменданта не менял положения: при желании комендант мог без труда отыскать виновных. Впрочем, почему-то генерал Сорокин этого не сделал. Следов расследования не сохранилось, никто из персонала наказан не был. Письмо Писарева достигло своей цели, он вновь получил возможность писать. Тем временем цензурный комитет познакомился с ноябрьским номером «Русского слова», который вышел в свет 25 декабря. На заседании 5 января 1866 года цензор Скуратов доложил, что эта книга «немногим отличается по духу и направлению от октябрьской», и обратил особое внимание комитета на статьи «Исторические идеи Огюста Конта» Писарева и «Рабочие ассоциации» Шелгунова. «В первой из них, — писал цензор, — под именем средневековой доктрины отрицается божественное происхождение христианской религии, и она представляется лишь результатом борьбы воображения с рассудком». Цензор указывал, что автор статьи старается доказать «бессилие христианского учения, проповедующего сильным и богатым милосердие и щедрость к слабым и неимущим, считая единственным надежным основанием благоустроенного общества развитие всеобщего эгоизма в личностях». По мнению автора, утверждал цензор, «сильных может удержать от посягательства на личность и собственность слабых единственно страх встретить опасный отпор, а для этого нужно, чтобы слабые умели защищать себя коллективною силою масс». Цензор полагал, что эта статья, «как имеющая мыслью развращение нравов и явно противная нравственности», подлежит судебному преследованию. Цензурный комитет согласился с мнением цензора и представил свое заключение на усмотрение Главного управления по делам печати, обращая его внимание также на другие статьи ноябрьской книжки «Русского слова» — «Рабочие ассоциации» и «Библиографический листок», характеризующие направление журнала. Одновременно с ноябрьской книжкой познакомился член совета Гончаров. В своем донесении он отметил как «самое замечательное место в цензурном отношении» три страницы из статьи «Исторические идеи Огюста Конта». «Если, — писал Гончаров, — несмотря на замаскированную диалектику автора, вывод будет ясен и для всех гг. членов Совета, то само собою разумеется, что такое явное отрицание святости происхождения и значения христианской религии подвергает автора и редакторов журнала прямо ответственности по суду на основании I ч. тома XV Свода законов». Гончаров обращал внимание совета и на другие статьи ноябрьского номера: «Рабочие ассоциации» Шелгунова, «Развитие органического мира во время образования земной коры», «Библиографический листок» и комедию Федорова «Удочка». «Все вышеизложенные вместе взятые уклонения от правил печати, — писал Гончаров, — образуют вредное направление, почему, на основании высочайшего указа 6 апреля, редакции «Русского слова» следовало бы объявить второе предостережение». Однако административную меру в данном случае Гончаров считал менее удобной, чем судебное преследование. Во-первых, потому, что, мотивируя предостережение, пришлось бы смягчить степень проступка. Во-вторых, предостережение не было бы наказанием для главного преступника, Писарева, который, как известно из печати, отделился от журнала, тогда как по суду он первый был бы подвергнут ответственности. Наконец, в-третьих, упомянутое капитальное нарушение правил печати явилось бы достаточным поводом для суда «положить предел вредной пропаганде» «Русского слова». Познакомившись с решением Петербургского цензурного комитета, Гончаров дополнил свой доклад предложением сообщить суду также о статьях, по которым было дано первое предостережение. На сей раз совет не согласился с Гончаровым. 8 января «Русскому слову» было объявлено второе предостережение за опубликование в ноябрьской книжке статей «Исторические идеи Огюста Конта» и «Рабочие ассоциации».
Свидание Писарева с Благосветловым и Благовещенским, состоявшееся 2 января 1866 года по инициативе редактора-издателя «Русского слова», наметило пути к соглашению. Практически сотрудничество Писарева в журнале не прекращалось, ибо в ноябрьской книжке, где уже не было статей Зайцева и Соколова, печаталось продолжение писаревской статьи о Конте, а в редакции лежали еще две его статьи. Благосветлов сумел удержать своего главного сотрудника. Решающую роль здесь, конечно, сыграла привязанность Дмитрия Ивановича к журналу, сознание того, что это его орган, где он может проводить свои идеи. По поручению Суворова его адъютант посетил заключенного. Писарев попросил полковника Спасского исходатайствовать у генерал-губернатора позволение читать «Московские ведомости» за текущий год. Разрешение было дано. Через несколько дней журнал привез в крепость Благосветлов, выхлопотавший у Суворова для себя еженедельные свидания с Дмитрием Ивановичем. 20 января Писарев направил обычным порядком окончание статьи о Конте под заголовком «Времена метафизической аргументации» и был готов приняться за новую работу. Но… крепостное начальство продолжало чинить препятствия. О книгах, привезенных Благосветловым в комендатуру, был сделан запрос генерал-губернатору. Суворов дал разрешение без промедления. Однако ни книг, ни «Московских ведомостей» Писарев не получал. Новый плац-майор ссылался на отсутствие разрешения коменданта крепости. И только в феврале, после письменного обращения к генералу Сорокину, Писареву все это вручили. В первых числах февраля вышла декабрьская книжка «Русского слова». Она открывалась объявлением о подписке: «Русское слово» в 1866 году будет издаваться по прежней программе, в том же объеме и при постоянном участии Д. И. Писарева, Н. Ф. Бажина (Холодова), Г. И. Успенского, Жака Лефреня, П. Н. Ткачева и др…Направление, которому «Русское слово» следует в продолжение нескольких лет, достаточно выяснилось для наших читателей и потому не требует никаких реклам». В специальном примечании говорилось: «Недоразумения, случайно возникшие между редакциею и г. Писаревым, устранены, и он по-прежнему остается постоянным сотрудником «Русского слова». 7 февраля И. А. Гончаров написал очередной разбор: «Декабрьская книжка этого журнала, — писал он, — почти всеми статьями, в ней помещенными, представляет замечательный образец журнальной ловкости — остаться верною принятому направлению, не подавая поводов к административному и еще менее к судебному преследованию… Только в подборе, в соединении в одну книгу целого ряда статей тождественного содержания можно угадывать намерение редакции выразить свои тенденции». Гончаров указывает на роман Эркмана и Шатриана «Воспоминания пролетария», статьи «Производительные силы Европы», «Честные мошенники», «Эпизоды из истории Франции» и разбор романа Герцена «Кто виноват?». (Статья Писарева «Сельские картины» осталась незамеченной.) Гончаров отмечает, что предварительная цензура вовсе не пропустила бы некоторых статей. Не находя удобным подвергать журнал карательной мере за декабрьский номер, Гончаров полагает необходимым отсрочить наказание до первейшего повода. «Относительно всякого другого журнала, — заключает Иван Александрович, — можно было бы допустить некоторое снисхождение, т. е. предупредить редакцию о предстоящей мере, но журнал «Русское слово», по известным причинам, этого снисхождения не заслуживает». Прошло менее двух недель, и совет воспользовался мнением Гончарова. 18 февраля «Русскому слову» было объявлено третье предостережение, мотивированное неблагонамеренностью указанных Гончаровым статей декабрьской книжки и некоторых статей № 1 за 1866 год. Дамоклов меч опустился: журнал был приостановлен на пять месяцев, и возобновиться ему было не суждено.
4. БЕЛЫЙ ТЕРРОР
4 апреля в четвертом часу пополудни император совершал свою ежедневную прогулку с собакой по Летнему саду. Толпа зевак с Дворцовой набережной глазела на царя. Никто не обращал внимания на долговязого блондина, державшего руку за бортом пальто. Когда Александр II подошел к ожидавшей его коляске, блондин протиснулся сквозь толпу и, вынув из-под пальто руку с пистолетом, прицелился. Сторож Летнего сада громко вскрикнул, но в тот же момент грянул выстрел, и молодой человек побежал вдоль набережной. Толпа бросилась за ним, через минуту его схватили и начали избивать. Вырываясь, неизвестный кричал: «Дурачье! Я за вас стрелял!..» Подоспевшая полиция спасла его от самосуда. В пять часов вся столица знала о чудесном спасении царя. Петербург ошалел от радости. В Зимнем дворце собрался Государственный совет, чтобы принести свои поздравления. С выражением верноподданнических чувств во дворец спешили министры и генералы, высшие придворные, военные и гражданские чины. Густая толпа заливала Дворцовую площадь. «Он не русский! — кричали в толпе. — Он не может быть русским! Русские обожают царя!» До поздней ночи громкие крики «ура!» оглашали площадь. Царь несколько раз выходил на балкон. Во всех церквах столицы служили молебствия. Среди арестованных у ворот Летнего сада был костромской картузник Осип Комиссаров. Доставленный в Ill отделение, он дрожал от страха, полагая, что окончательно погиб. Но вдруг через два-три часа начальство решило, что именно он спас царя. Генерал Тотлебен якобы сам видел, что костромской мещанин ударил стрелявшего под руку и тем отвратил пулю от царской груди. Одуревшего от неожиданности мещанина сажают в карету и везут в Зимний дворец. Здесь перед огромной толпой вельмож и сановников царь обнимает его, благодарит за самоотверженный подвиг и возводит в дворянское звание. С несчастного льет пот, его безбородое лицо выражает смертельный испуг, великие князья, министры, генералы жмут ему руки и оказывают почти царские почести. Костромской картузник Осип Иванов Комиссаров превратился в потомственного дворянина Иосифа Иоанновича Комиссарова-Костромского. Его облачили в сюртук, ему наняли кучера и лакеев, ему подарили многоэтажный дом, его портрет красовался рядом с портретом царя. Священники с церковных амвонов именовали его ангелом-хранителем, газетчики называли «смиренным орудием промысла», стихотворцы сулили ему вечную славу, художники брались за сходную цену изготовить в любом количестве его портреты. В газетах сообщали, что будто бы Наполеон III наградил его орденом Почетного легиона. Костромские помещики дарили ему поместья, монетный двор отчеканил ему золотую шпагу, тульские рабочие изготовили ружье. Петербургский сапожник Ситнов объявил в газетах, что отныне будет шить ему бесплатно сапоги. Публика валила в театры, чтобы посмотреть на сидящего рядом с царской ложей маленького тщедушного человечка. Напомаженный, завитой, веснушчатый, с серьгой в ухе и в странном сюртуке, он был бледен, испуган. Рядом с ним — жена, в шелках, брильянтах и аляповатом кокошнике.Преступник на другой день после покушения был передан в распоряжение следственной комиссии, созданной еще во время майских пожаров 1862 года. Его допрашивали непрерывно, день и ночь, не давая ни сна, ни отдыха. Он упорно скрывал свое имя и упрямо твердил, что не имел никаких сообщников. Найденные при нем пули, порох, яд, рукописное воззвание «Друзьям-рабочим» и письмо без адреса к какому-то «Николаю Андреевичу» нитей следствию не давали. Применили «самые деятельные и энергичные меры» и довели допрашиваемого до полного изнеможения. Он просил отдыха, обещая дать нужные показания. На другой день он назвался Алексеем Петровым, но по-прежнему утверждал, что действовал один. По полицейским участкам была разослана «фотография «Петрова». Один из дворников узнал человека, который жил у него в марте под фамилией Владимиров. Он вспомнил, что видел у него на столе письмо, адресованное некоему Ермолову в Москву, а однажды ходил по его поручению к какому-то «домашнему учителю». Домашнего учителя, которым оказался И. А. Худяков, арестовали, в Москву послали телеграмму с предписанием отыскать и арестовать Ермолова. «Петров» («Владимиров») упорствовал по-прежнему, и неизвестно, как долго бы это продолжалось, если бы не случайность, которая помогла установить его личность. 7 апреля содержатель Знаменской гостиницы сообщил в полицию, что один из его постояльцев с 3 апреля домой не возвращался. По предъявленной ему фотографии он опознал исчезнувшего. При обыске в комнате был найден разорванный конверт, на котором удалось прочитать адрес и фамилию «Николая Андреевича». Арестованный в Москве Н. А. Ишутин был доставлен в следственную комиссию и признал в Алексее Петрове своего двоюродного брата Дмитрия Владимировича Каракозова.
8 апреля во главе следственной комиссии был поставлен генерал Муравьев, облеченный чрезвычайными полномочиями. «Я стар, — сказал он, приняв назначение, — но или лягу костьми моими, или дойду до корня зла». Правительственные сферы ждали от Муравьева, всего два года тому назад залившего кровью Литву, каких-то чудодейственных мер, которые сокрушат крамолу и всякий либерализм. «Московские ведомости» приветствовали назначение Муравьева. Он стал популярен не менее Комиссарова — в его честь устраивались обеды и банкеты. Петербургские враги Муравьева должны были пасть. Князя Долгорукова на посту шефа жандармов заменил граф Шувалов. Министром народного просвещения вместо Головнина назначили графа Д. А. Толстого. Должность петербургского военного генерал-губернатора была упразднена, светлейший князь Суворов назначен генерал-инспектором пехоты, а ставший вместо Анненкова обер-полицеймейстером генерал Ф. Ф. Трепов подчинен непосредственно шефу жандармов. «Ночью с восьмого на девятое апреля, — вспоминал современник, — начинается период поголовного хватания… Брали всех и каждого, кто только был оговорен, чье имя было произнесено на допросе кем-нибудь из взятых или находилось в захваченной переписке. Брали чиновников и офицеров, учителей и учеников, студентов и юнкеров; брали женщин и девочек, нянюшек и мамушек, мировых посредников и мужиков, князей и мещан; допрашивали детей и дворников, прислугу и хозяев; брали в Москве, брали в Петербурге, брали в уездных городах, в отдаленных губерниях; брали в селах и деревнях, брали по такой обширной программе, что никто и нигде не чувствовал себя безопасным, кроме членов комиссии и сотрудников «Московских ведомостей». Муравьев ставил своей целью «обнаружить зло в самом корне». Он везде видел революционные организации и почти поголовно арестовывал участников разрешенных и полулегальных обществ: издательской артели, общества для распространения полезных книг, школ для взрослых, переплетных и швейных мастерских, основанных на кооперативных началах. Особенно решительные меры были приняты «к остановлению необузданного и зловредного направления журналистики». 13 апреля был арестован Благосветлов, 14-го — Василий Курочкин, 15-го — Евгений Печаткин, 16-го — братья Европеус с женами, 25-го — полковник Лавров, 28-го — Зайцев и Соколов, 29-го — Елисеев, 30-го — Василий Слепцов. В крепости томились Николай Курочкин, Минаев, Владимир Ковалевский и многие другие, менее известные литераторы. 3 июня в «Северной почте» появилось извещение: «По высочайшему повелению, объявленному министру внутренних дел председателем комитета министров 28 минувшего мая, журналы «Современник» и «Русское слово» вследствие доказанного с давнего времени вредного их направления прекращены». После 4 апреля Писарев был полностью изолирован от внешнего мира: свидания с матерью запрещены, книги и письменные принадлежности отобраны, ограничена переписка. Белый террор, начавшийся после выстрела Каракозова, осложнил деятельность Павленкова. Во-первых, в крепости оказался Евгений Печаткин, с книжным магазином которого Флорентий Федорович вел дела. Во-вторых, прервалась связь с Писаревым, с которым не были улажены некоторые разногласия. Еще в апреле 1866 года благополучно вышла первая часть сочинений Писарева. Однако Павленков не без оснований полагал, что в новой осложнившейся обстановке вторая часть, хоть и содержавшая статьи, разрешенные в свое время цензурой, не пройдет так легко, как прошла первая. Писарев упорно и» хотел поступиться ни одной строкой, тогда как Павленков считал необходимым для пользы дела внести ряд изменений и сокращений. Надеясь на скорое возобновление связей с Писаревым, Павленков задержал вторую часть и в мае представил в цензурный комитет сразу третью. В книгу входили четыре критические статьи: «Сердитое бессилие», «Промахи незрелой мысли», «Роман кисейной девушки» и «Пушкин и Белинский». В совете по делам печати книгу рассматривал И. А. Гончаров, всегда враждебно настроенный к «Русскому слову», искренне убежденный в зловредности его направления. Высказав свое неодобрение разрушительным тенденциям писаревской критики, направленным на близкую сердцу Гончарова область художественной литературы и эстетики, он не усмотрел в статьях ничего особо опасного. Третья часть вышла в свет беспрепятственно. Отчаявшись установить в скором времени контакт с Писаревым, Павленков приступил к печатанию второй части, которую и представил 2 июня в Петербургский цензурный комитет. Через два дня член совета по печати при министерстве внутренних дел Варадинов дал свой отзыв. «Вторая часть сочинений г. Писарева, заключающая в себе четыре статьи: 1. «Русский Дон-Кихот», 2. «Бедная русская мысль», 3. «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» и 4. «Реалисты», — писал Варадинов, — есть книга положительно вредная». Цензор обнаружил в статьях тонкий угар атеизма, глумление над всеми науками, за исключением естественных, открытую проповедь реализма, глубокое уважение к «Современнику», задушевное сочувствие к нигилисту Базарову. Совет по делам печати, рассмотрев заключение Варадинова, согласился с ним, что книга не может быть допущена к обращению в публике, и распорядился об арестовании отпечатанного тиража. Усиленные хлопоты Павленкова, его хождения в цензурный комитет и Главное управление по делам печати оказались безрезультатными. 7 июля Петербургский цензурный комитет обратился к прокурору окружного суда с предложением начать судебное преследование издателя сочинений Писарева Ф. Ф. Павленкова.
Благосветлов — Шелгунову, из Петербурга в Вологду, 7 июня 1866 года: «Николай Васильевич, вчера меня выпустили из крепости на свободу, Я часто вспоминал Вас, потому что сидел в той же яме, в которой сидели и Вы. Говорят, что всех арестованных 240 человек, из них почти все будут освобождены, но кто с аневризмом, кто с дрожанием рук, а некоторые и совершенными калеками. Только самые здоровые организмы уцелевают от влияния одиночного застенка. «Русское слово» запрещено безусловно. Это Вы, конечно, уже знаете из газет. Литература еле дышит, благодаря тому обстоятельству, что у нас во всем оказывается виноватой она — бедная и беззащитная Магдалина. Грустно, тяжело, и я хотел бы быть все это время вместе с Вами. Через неделю извещу Вас подробно, как устроится наше общее положение. Работать надо, потому что жить надо, а жить и работать почти не дают возможности. Но человек изобретателен, когда его очень притесняют, а потому я и думаю, что «Русское слово» воскреснет в другой форме».
Спустя неделю после выхода из крепости Благосветлов напечатал объявление о выдаче подписчикам запрещенного «Русского слова» шести книжек нового журнала — «Дело». Реализовал план, намеченный еще в начале года, после второго предостережения. «Вот что надо делать, — писал в январе Благосветлов, — выбрать другое заглавие для такого же журнала, как и «Русское слово», и продолжать его издание при тех же сотрудниках и подписчиках». А на другой день после третьего предостережения и приостановки «Русского слова» на пять месяцев некий штабс-капитан Шульгин подал прошение об издании нового учено-литературного журнала под названием «Дело». В мае, за десять дней до окончательного запрещения «Русского слова», издание нового журнала было разрешено. Н. И. Шульгин, малообразованный человек и совсем не литератор, был подставным лицом Благосветлова. В объявлениях говорилось, что «бывшая редакция «Русского слова» вступила в соглашение с редакцией журнала «Дело»… Но делалось это лишь для обмана цензуры. Хозяином «Дела» был все тот же Благосветлов, а сотрудниками все те же сотрудники «Русского слова», оставшиеся в журнале после ухода Зайцева и Соколова. Выйдя из крепости, Благосветлов при ближайшем участии Ткачева стал готовить первый номер журнала к выпуску в августе. К началу июля Писареву вновь разрешили продолжать литературную работу. Он принялся за «Очерки из истории европейских народов», задуманные еще в прошлом году. Работа двигалась медленно, туго. Впрочем, особенно спешить было некуда. Писарев не представлял, где он будет печатать эту работу: о журнале «Дело» ему ничего еще не было известно. Отсутствие напряженной работы толкнуло его к чтению книг из крепостной библиотеки. Он вдруг открыл в себе склонность к беллетристике, впрочем объясняя эту склонность бедностью впечатлений своей уединенной жизни. Мать продолжала хлопоты, добиваясь возобновления свиданий. Это было труднее, чем раньше, — Суворов, всегда готовый пойти навстречу, был больше не властен над Петропавловской крепостью.
Писарев — матери, 13 июля 1866 года: «Друг мой мамаша! Здоровье мое по-прежнему хорошо, и даже погода, при всей своей отвратительности, мало действует на мое обыкновенное, ровное и довольно светлое настроение. Время проходит у меня довольно скоро, работаю понемногу своих итальянцев, хотя и сомневаюсь, чтобы из них вышло что-нибудь путное, читаю книги из нашей казенной библиотеки… Третьего дня и вчера я читал в «Библиотеке для чтения» за 1856 год — четвертую и пятую часть романа Теккерея «Ньюкомы». Первые три части мне неизвестны, продолжение и окончание также; несмотря на все это, я читал эти две части с величайшим удовольствием, читал так, как меломан может слушать хорошую музыку, нисколько не заботясь о том, что он не слыхал начала пьесы, и не услышит ее конца. Неправда ли, друг мой мамаша, что подобные занятия совершенно непривычны для свирепого критика, писавшего о разрушении эстетики? А между тем «Ньюкомы» все-таки прелестнейший роман, и я теперь умею ценить Теккерея так, как не умел бы ценить его несколько лет тому назад. Очень молодым людям Теккерей не может нравиться, надо пожить, надо иметь за собой достаточный запас воспоминаний, тогда мягкий осенний колорит, лежащий на его произведениях, получает такую прелесть, с которою ничто не может сравниться. Однако пора и честь знать. Не в эстетики же я, в самом деле, записался! Отвечу тебе лучше, друг мой мамаша, на твой вопрос: ехать ли тебе к Львовой? Мне кажется, что на дачу к ней ехать тебе незачем. Очень это хлопотливо, да, кажется, и надобности особенной нет. А съездить на городскую квартиру не мешало бы. Заискивания никакого тут быть не может, потому что она сделала тебе первый визит. Мне кажется, ответить на этот визит — значит только показать, что ты считаешь случившуюся размолвку оконченною. Впрочем, я думаю вообще, что никогда ни к чему не надо себя приневоливать. Стало быть, если не хочется ехать, то и не следует. Однако, бог знает, о чем я распространяюсь в этом письме: то об осеннем колорите Теккерея, то об Львовой, до которой мне нет никакого дела До свидания! Прижимаю Вас вместе с Вашими детьми к моему пылающему сердцу».
На письме рукой В. Д. Писаревой пометка: «Львова — вымышленное имя». Кто она? Не связана ли предполагаемая поездка Варвары Дмитриевны к ней с хлопотами о возобновлении свиданий? Как бы то ни было, но мать добилась своего: через три дня, 16 июля в десять часов утра, впервые после каракозовского выстрела, она смогла обнять сына. 21 июля 1866 года в цензурный комитет поступила пятая часть сочинений Писарева, содержащая статьи по воспитанию и образованию: «Наша университетская наука», «Школа и жизнь», «Мысли Вирхова о воспитании женщин», «Погибшие и погибающие». Павленков опасался, что ее ожидает судьба второй части, но он ошибся. По истечении трехдневного срока книга беспрепятственно поступила в продажу. Неожиданно возникли осложнения с шестой частью. Представленная в цензурный комитет 16 сентября, она возбудила сильнейшую тревогу в цензурных инстанциях. В книге были напечатаны четыре статьи по естествознанию — «Процесс жизни (по Фохту)», «Физиологические эскизы Молешотта», «Физиологические картины Бюхнера», «Прогресс в мире животных и растений». Внимание цензора А. А. де Роберти привлекли две первые статьи. В них, по его мнению, «ясно видно материалистическое направление автора… стремления его разрушить общепринятое понятие о духовной природе человека». 21 сентября цензурный комитет постановил: возбудить судебное преследование против издателя книги. 30 сентября шестая часть была арестована. Итоги первого года издания сочинений Писарева были для Павленкова неутешительны. Из шести частей только три попали в руки читателей, две лежали под арестом, и по ним против издателя было возбуждено судебное преследование. Четвертую часть Павленков задерживал сам, ожидая исхода процесса. Молодой издатель духом не падал и не собирался останавливаться на полдороге. «Я всегда возмущался, — говорил он, — невыдержанностью окружающих меня людей. Начинать мы все большие Мастера, а как доходит до развязки — так сейчас и на попятный. Раз навсегда мною положено, если начал, то и кончай, а то не к чему было и приниматься».
К концу июля следственная комиссия Муравьева закончила свою работу. Ее результаты были незначительны. Вместо обширного заговора обнаружены лишь небольшие кружки студентов. Суду предавалось 36 человек, из которых только 11 можно было обвинить в знании о готовящемся покушении. 31 августа Верховный уголовный суд приговорил Каракозова к смертной казни; в этот же день в своем имении скончался генерал Муравьев. 24 сентября состоялся приговор по делу остальных подсудимых. Шесть человек судом были оправданы, 29 приговорены к разным срокам каторжных работ и заключения.
В крепости Писарев несколько раз болел. Его лечил крепостной врач Гаврила Иванович Вильямс. Уже немолодой и в генеральском чине (действительный статский советник), он был грубоват, но к больным относился внимательно. Его жена, Анна Тимофеевна, приходилась дальней родственницей писателю В. В. Вересаеву, который в 1885 году, семнадцатилетним юношей, бывал у Вильямсов на первом этаже белого двухэтажного комендантского дома против Петропавловского собора и даже спорил с Гаврилой Ивановичем о Писареве. В «Воспоминаниях» писателя об этом есть несколько страничек. «Очень глубокий старик, — пишет Вересаев о Вильямсе, — всегда в сером халате с голубыми отворотами, с открытой волосатой грудью; длинная рыжевато-седая борода, на выцветших глазах большие очки с огромной силой преломления, так что глаза за ними всегда казались смещенными. Быстрый, живой, умный, очень образованный. С давящимся хохотом, — как будто его душат, а он в это время хохочет». Вильямс был славянофил, глубоко верующий, монархист. Он обожал Тютчева и Пушкина, а Некрасова не считал за поэта, Белинского называл пошляком. «— Нет, деточка, — говорил он Вересаеву, — искренний мой вам совет — бросьте читать Белинского. В нем — зерно всей писаревщины. Вы Писаревым, конечно, упиваетесь? Ну, что же? Великий мыслитель? Гений? А? Что? Кх-х-ха-ха-ха!.. Мне стыдно было не заступиться за Писарева, — продолжает Вересаев. — Сказал, что я с ним, конечно, во многом не согласен, например, во взглядах его на искусство, но что очень полезна его неподкупная жажда правды, сила и смелость искания… Гаврила Иванович совсем подавился хохотом. Потом, со слезами от смеха на глазах, стал серьезным и начал ругать Писарева, — что это негодяй, шулер, развратитель молодежи, что его следовало бы повесить. Когда Гаврила Иванович ушел к себе в кабинет, Анна Тимофеевна сказала улыбаясь: — Вот он как Писарева ругает. А когда Писарева выпустили из нашей крепости, он первым делом зашел к нам поблагодарить Гаврилу Ивановича за внимательное к нему отношение. Какое он на меня впечатление произвел! Я ждала увидеть косматого нигилиста с грязными ногтями, а увидела скромного, чрезвычайно воспитанного мальчика. И такой он был белый, белый…» В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится узкая полоска бумаги, на которой написано карандашом: «Дмитрий Писарев свидетельствует Гавриле Ивановичу свою глубочайшую благодарность и вечное уважение». Это последние строчки, написанные Писаревым в стенах крепости. Царским манифестом от 28 октября 1866 года, изданным в честь бракосочетания наследника престола, цесаревича Александра Александровича, срок заключения для всех, отбывающих наказание по приговору, уменьшался на одну треть. В силу этого манифеста Писарев был освобожден 18 ноября под поручительство матери без права отлучаться из Петербурга. В Петропавловской крепости он провел 4 года 4 месяца и 18 дней.
VIII ПРОРОК МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Счастье, доступное для всех, должно быть, по крайней мере на первых порах, гораздо проще и скромнее того счастья, которое в настоящее время доступно немногим. Величайшая прелесть общедоступного счастья состоит не в разнообразии и яркости наслаждений, а преимущественно в том, что у этих наслаждений нет обратной стороны, то есть что эти наслаждения не покупаются ценою чужих страданий.Д. Писарев
1. ОБРАЗОВАННАЯ ТОЛПА
С радостью и облегчением встретили весть об освобождении Писарева его друзья и единомышленники — те, кто знал о постигшей его участи. Этой радости не могли разделить с ними читатели «Русского слова». Постоянно встречая статьи Писарева в журнале, они в большинстве своем и не подозревали, что автор, уже ставший к этому времени властителем дум молодого поколения, томится в крепости. Трудно передать чувства матери и сестер, обнявших наконец своего ненаглядного Митю в маленькой квартирке на Малой Дворянской. За четыре с половиной года сестры выросли и изменились. Верочка стала вполне самостоятельной и своими переводами для петербургских газет и журналов полностью себя обеспечивала. Тринадцатилетняя Катя училась в гимназии. Держалась она совершенно независимо, была коротко острижена и называла себя нигилисткой. В квартире Писаревых собиралась молодежь, главным образом старые знакомые Веры и, конечно, — Павленков. Появлялись и новые люди — среди них художник Крамской. На освобождение Писарева откликнулась Раиса Гарднер. «Мама, милая, дорогая, — писала она 25 ноября из Москвы, — вы должны быть так счастливы, что я не знаю, что и сказать вам. Великая радость, как и великое горе, заставляют молчать окружающих. Роднушка моя, небось и дышится-то легко как?.. Мите скажите, что я за него очень рада и душевно желаю, чтоб ему жилось возможно лучше…» В том жеписьме Раиса сообщала, что на днях из Москвы в Петербург едет Мария Александровна Маркович. Мария Александровна провела в Петербурге всего несколько дней, она спешила в Париж, чтобы ликвидировать там свои дела. Этих нескольких дней оказалось вполне достаточно, чтобы между троюродными братом и сестрой возникла глубокая симпатия. Писарев и Маркович виделись в последний раз в апреле 1859 года, когда Митя был еще восемнадцатилетним студентом, только еще вступающим на путь журналистики, а Маша двадцатипятилетней счастливой в замужестве женщиной и восходящей звездой. За семь с половиной лет много воды утекло. Писарев превратился в зрелого мужчину, за спиной которого было почти пятилетнее крепостное заключение, а литературная слава его затмила перевалившую уже за свою вершину славу Марко Вовчка. Мария Александровна давно рассталась с мужем. Месяц назад она возвратилась из-за границы, привезя в Москву в оцинкованном гробу тело Александра Пассека, своего возлюбленного. Узнав об освобождении Писарева, прислал ему свой привет из вологодской ссылки Шелгунов. Старое знакомство возобновилось.Писарев — Шелгунову, начало 1867 года: «Николай Васильевич! Мне было в высшей степени приятно получить ваше милое, дружеское письмо. Я часто думал о том, как бы нам хорошо было жить в одном городе, часто видаться, много говорить о тех вещах, которые нас обоих интересуют, и вообще по возможности помогать друг другу в размышлениях и работах. Виделись мы с вами, если я не ошибаюсь, счетом три раза, но я читал вас постоянно года три или четыре при такой обстановке, когда читается особенно хорошо и когда книга составляет единственный доступный источник наслаждения. Поэтому я вас хорошо знаю и давно люблю как старого друга и драгоценного собрата. Я предложил Людмиле Петровне[7] служить вам по части выбора книг, но, право, не знаю, сумею ли я в скором времени быть вам полезным. Скажу вам откровенно, Николай Васильевич, что я теперь сам не свой и что голова у меня преглупая. Я все-таки живой человек, и на меня нахлынули такие впечатления, которых я был лишен в продолжение четырех лет, когда был вашим близким соседом. Вы видите, что в письме моем нет ничего дельного, и пишу я его к вам собственно для того, чтобы показать вам, что я очень дорожу перепискою с вами, что я вас уважаю и люблю. Надеюсь, что когда-нибудь я поумнею снова и буду иметь возможность быть вам полезным».
Жестокая реакция, наступившая в России после выстрела Каракозова, не слабела. Откровенные крепостники, заняв министерские посты, стремились урезать и без того куцые буржуазные реформы. Фактическим главой правительства стал главноуправляющий III отделением граф П. А. Шувалов («Петр, по прозвищу четвертый, Аракчеев же второй», — охарактеризовал его Ф. И. Тютчев). Тайная полиция царила повсюду, под ее наблюдением находились даже члены царской семьи. Верноподданнический угар резко сдвинул образованное общество вправо. Журналистика задыхалась под цензурным прессом. Немногочисленные революционеры, уцелевшие от репрессий, ушли в глубокое подполье. Демократическая молодежь — «нигилисты» и «нигилистки» (а в них зачисляли даже за одну только прическу) осмеивались «образованной толпой», преследовались полицией. Писарев был озабочен положением, в котором оказался демократический лагерь, судьбой революционной молодежи, раздумывал над методами борьбы в новой обстановке. Его статьи конца 1866-го и всего 1867 годов посвящены урокам недавнего прошлого, вопросам революционной тактики и этики революционера.
В первой же статье, написанной на свободе (декабрь 1866 года), он выступил в защиту «мыслящих героев», «борцов за идею». «Бывают такие времена, — писал он, — когда общество относится к этим людям несправедливо; оно придирается с близоруким злорадством ко всем внешним, мелким и безвредным шероховатостям их характера; оно осмеивает и порицает их костюм, их прическу, их манеры, их резкий тон; в каждой безразличной мелочи оно видит или подозревает преступные и разрушительные тенденции». Используя сочинения второстепенного беллетриста Ф. М. Толстого, изданные в двух томах, Писарев «мыслящим людям» противопоставляет «праздных и неподвижных коптителей неба», составляющих «так называемое образованное общество». Стремления и поступки «бессознательного большинства», анализируемые критиком, обнажают его цинизм, пошлость и ничтожество. Значительная часть статьи, названной Писаревым «Образованная толпа», посвящена роману «Болезни воли». Герой этого романа, князь Пронский, всем и по всякому поводу говорит правду в лицо. Эта правдомания причиняет ему множество неприятностей и приводит в конце концов к полному разорению и заключению в психиатрическую лечебницу, где врач признает его здоровым и оставляет своим помощником. Сюжет романа служит для критика поводом для ряда соображений о воспитании, нравственности, поведении в обществе. Наиболее существенны мысли Писарева о форме целесообразного протеста. Он осуждает князя Пронского за растрату умственных и нравственных сил «на бессвязные подвиги мелкой борьбы»; все его несчастье критик видит «в неумении найти себе в жизни определенную общеполезную задачу». По мнению Писарева, следует действовать не против частных проявлений зла, а против общих его причин, уничтожение которых повлечет за собой исчезновение и всех следствий этих причин. «Протестующая личность, — утверждает Писарев, — должна соединять в себе голубиную кротость с змеиной мудростью». «Безнадежный… протест против какого бы то ни было нравственного или общественного зла приносит обществу всегда больше вреда, чем пользы». В этих мыслях Писарева нетрудно увидеть его оценку покушения Каракозова.
Писарев — Маркович. Из Петербурга в Варшаву, 21 февраля 1867 года: «Друг мой Маша! Сегодня я мог уже ждать от тебя письма, но до сих пор его еще нет. Я еще не начинал тревожиться насчет тебя и, вероятно, начну не скоро, но нахожу своевременным написать к тебе и затем спокойно и терпеливо ожидать твоего ответа. Мне в настоящее время не то чтобы грустно, а как-то вяло живется, и я такого положения и настроения терпеть не могу; хотелось бы сесть за работу и наработать как можно больше, отчасти для того, чтобы очистить себе несколько свободных дней ко времени твоего возвращения; но до сих пор разные мелкие и посторонние заботы постоянно отвлекали меня от дела, заставляли меня ездить по городу, и время тратилось глупейшим образом, без работы и без удовольствия… Мне очень хочется Вас видеть, так хочется, что даже плохо верится в Ваше возвращение. Тебе странным покажется, что я вдруг написал тебе Вы. Это у меня такая привычка. Когда я начинаю нежничать с людьми, которым я обыкновенно говорю ты, тогда у меня непременно является Вы. Это Вы заменяет множество ласкательных эпитетов, на которые я вообще не мастер».
Через несколько дней Мария Александровна была в Петербурге. Писарев встретил ее на вокзале.
В конце февраля приехал из Баден-Бадена Тургенев. Он вез только что оконченный роман «Дым» в Москву, в «Русский вестник», и по дороге на несколько дней задержался в Петербурге. Остановился он у В. П. Боткина на Караванной. Писарев посетил Тургенева дважды. В первый вечер они беседовали наедине. Через два года в «Воспоминаниях о Белинском» Тургенев посвятил этой беседе одну страничку. «Весной 1867 года, во время моего проезда через Петербург, — вспоминал Тургенев, — он сделал мне честь — посетил меня. Я до тех пор с ним не встречался, но читал его статьи с интересом, хотя со многими положениями в них, вообще с их направлением, согласиться не мог. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкине. В течение разговора я откровенно высказался перед ним. Писарев с первого взгляда производил впечатление человека честного и умного, которому не только можно, но и должно говорить правду». К сожалению, Тургенев излагает только часть беседы, касающуюся Пушкина, и только то, что говорил он сам. «Вы — начал я — втоптали в грязь, между прочим, одно из самых трогательных стихотворений Пушкина (обращение его к последнему лицейскому товарищу, долженствующему остаться в живых: «Несчастный друг» и т. д.). Вы уверяете, что поэт советует приятелю просто взять да с горя нализаться. Эстетическое чувство в вас слишком живо: вы не могли сказать это серьезно — вы это сказали нарочно, с целью. Посмотрим, оправдывает ли вас эта цель. Я понимаю преувеличение, я допускаю карикатуру в дальнем смысле, в настоящем направлении. Если б у нас молодые люди теперь только и делали, что стихи писали, как в блаженную эпоху альманахов, я бы понял, я бы, пожалуй, даже оправдал ваш злобный укор, вашу насмешку, я бы подумал: несправедливо, но полезно! А то, помилуйте, в кого вы стреляете? уж, точно, по воробьям из пушки! Всего-то у нас осталось три-четыре человека, старички пятидесяти лет и свыше, которые еще упражняются в сочинении стихов; стоит ли яриться против них? Как будто нет тысячи других, животрепещущих вопросов, на которые вы, как журналист, обязанный прежде всех ощущать, чуять насущное, нужное, безотлагательное, — должны обратить внимание публики? Поход на стихотворцев в 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизм! Белинский — тот никогда бы не впал в такой просак!» Изложив свой монолог, Тургенев заключает: «Не знаю, что подумал Писарев, но он ничего не отвечал мне. Вероятно, он не согласился со мною». О другой встрече Тургенева с Писаревым вспоминала Н. А. Островская. «Когда Писарев пришел навестить меня, — рассказывал ей Тургенев в 1873 году, — он меня удивил своею внешностью. Он произвел на меня впечатление юноши из чисто дворянской семьи: нежного, холеного, — руки прекрасные, белые, пальчики тонкие, длинные, манеры деликатные». Боткин, у которого жил Тургенев, узнав о приходе Писарева, взволновался: — Зачем этот еще пришел? Неужели ты его примешь? — Конечно, приму. Если тебе неприятно, ты бы лучше ушел. — Нет, останусь. Боткин часто бывал грубоват, и Тургенев опасался, как бы и сейчас он не сорвался. Но что было делать — не выгонять же хозяина из собственного дома. Тургенев познакомил гостя с хозяином. Боткин едва кивнул и уселся в угол. «Быть беде», — подумал Тургенев. Так и случилось. Когда Писарев что-то сказал, Боткин вскочил и начал кричать: — Вы — мальчишки, молокососы, неучи!.. Да как вы смеете?.. Писарев отвечал учтиво и сдержанно: — Едва ли господин Боткин настолько знает современную молодежь, чтоб всю ее огулом называть неучами. Что же касается самого укора в молодости, то это еще не вина: придет время — и эта молодежь созреет. Тургенев, проводив Писарева, стыдил Боткина: «Поклонник всего прекрасного, изящного и утонченного — оказался совершенно грубым задирой, а предполагаемый «нигилист», «циник» и т. п. — истым джентльменом». — Не могу, — оправдывался Боткин. — Не могу переносить их. Знакомство с Писаревым было приятно Тургеневу. 23 марта он писал М. А. Авдееву: «Писарев, великий Писарев, бывший критик «Русского слова» зашел ко мне — и оказался человеком весьма не глупым и который еще может выработаться: а главное — il a l’air d’un enfant de bonne maison[8], как говорится, ручки имеет прекрасные, и ногти следующей длины: [Тургенев рисует, какой именно] — что для нигилиста несколько странно». В иронии чувствуется не только удивление неожиданной внешностью, но и уважение к новому знакомому. Впрочем, как бы опасаясь обвинений в симпатии к Писареву, Тургенев добавляет: «Журнал, в котором он участвует — «Дело» — находится под цензурой… Можете себе представить, как это успокоительно». Эта неловкость перед друзьями заметна и в письме Тургенева к П. В. Анненкову от 6 мая (24 апреля) из Баден-Бадена. «Радует меня то, что вы говорите о моем романе, — пишет Тургенев, — и благодарю заранее за обещание сообщать толки; что-то скажет Писарев? Не смейтесь! Для меня это довольно важно — как симптом». Впрочем, в следующем письме Анненкову от 21 (9) мая, посылая свою новую повесть «Бригадир» и предоставляя другу право поместить ее в любом журнале, Тургенев прямо советует ему вступить в контакт с Писаревым: «Я только для сведения сообщу вам, что когда Писарев приходил ко мне, он от имени редакторов «Дела» просил меня: нет ли у меня чего-нибудь для них? Писарев Дмитрий Иванович живет на Петербургской стороне, на Малой Дворянской в доме Зуева. Если вздумаете, пошлите за ним: он придет наверное, а человек он любопытный — помимо всяких соображений на помещение моего «детища». Интерес к мнению Писарева был настолько велик, что уже на следующий день Тургенев написал ему сам. Еще в первые недели после освобождения из крепости Писарев читал новый роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Роман произвел на него сильное впечатление. «Преимущественно он восхищался, — писала В. Д. Писарева Ф. М. Достоевскому спустя двенадцать лет, — описанием чиновника и его дочери в тот момент, когда жена чиновника вышла с детьми, чтобы собрать несколько копеек. Он не мог продолжать, слезы мешали ему, он передал мне книгу. Вообще его приводил в восторг Ваш талант в практическом анализе прочувствованного честным (sic!) преступником, его борьба». Весной 1867 года Писарев написал статью «Борьба за жизнь», посвященную этому роману. Писарев понимал полемическую направленность романа, знал обвинения, брошенные Достоевскому «Современником» и «Искрой», в том, что он будто бы присоединился к травле революционного студенчества. Кроме того, в журналистике Достоевский принадлежал к противоположному лагерю. Однако глубокое уважение к личности и таланту писателя, которое Писарев испытывал неизменно, побудили его не вступать в открытую полемику, тем более что он оспаривал не замысел Достоевского, а «теорию» Раскольникова. Начиная статью, критик заявляет, что ему «нет никакого дела ни до личных убеждений автора… ни до общего направления его деятельности», что он будет рассматривать только «явления общественной жизни, которые изображены в его романе». Основную причину преступления Раскольникова Писарев видит в его безысходной бедности. Анализируя путь Раскольникова к преступлению, критик подчеркивает, что все события его жизни только подталкивали его к этому преступлению. Объясняя таким образом причины преступления, коренящиеся в самой основе существующего социального и политического строя, Писарев не оправдывает Раскольникова. Он порицает его за недостаток мужества, за неумение прийти к мысли о том, что «бесчестные средства» не достигают «той цели, к которой стремится Раскольников». Писарев объявляет «теорию» Раскольникова «сделанной на заказ», «для того, чтобы оправдать в собственных глазах мысль о быстрой и легкой наживе». «Деление людей на гениев, освобожденных от действия общественных законов, — утверждает Писарев, — и на тупую чернь, обязанную раболепствовать, благоговеть и добродушно покоряться всяким экспериментам, оказывается совершенною нелепостью, которая опровергается всею совокупностью исторических фактов». Опровергая «теорию» Раскольникова, Писарев высказывается против индивидуального террора, доказывает, что кровопролития (т. е. войны и революции) обыкновенно вызываются реакционными силами. «Необыкновенные люди» (цензура отметила, что здесь имеются в виду «политические агитаторы», т. е. революционеры) стремятся избежать кровопролития, а когда борьба началась — скорее покончить его (при условии решения вопроса, породившего борьбу). В своих воспоминаниях Н. К. Михайловский рассказывает о своей единственной встрече с Писаревым. Михайловский, тогда еще начинающий литератор, вел переговоры с Благосветловым о своем сотрудничестве в «Деле». Однажды, входя в кабинет редактора, он услышал обрывок жаркого спора: — А ты погоди, что ты ультиматумы-то ставишь, — запальчиво говорил Благосветлов. — Ты знаешь, что я всегда так, — резко отвечал ему молодой человек с огромным лбом и живыми глазами. При появлении нового лица разговор прекратился. Благосветлов представил молодых людей друг другу. — Переводчик Шекспира? — спросил Писарев, пожимая руку новому знакомому. Он принял его за известного поэта Д. Л. Михайловского. — Нет, — отвечал собеседник. — Так кто же вы? — Никто. — Как Одиссей? — пошутил Писарев. Вмешался Благосветлов. Он принялся восхвалять начинающего, совершенно неизвестного писателя, пророча ему блестящую будущность. Узнав позднее об острых недоразумениях, происходивших в это время между Благосветловым и Писаревым, закончившихся уходом последнего из «Дела», Михайловский объяснял непомерные похвалы ему стремлением Благосветлова повлиять на решение Писарева: «дескать, и без тебя найдутся талантливые сотрудники». На Писарева слова Благосветлова не произвели желаемого впечатления. Он с любопытством посмотрел на Михайловского и добродушно, без особенной горячности пожелал ему успеха. Затем, заявив Благосветлову, что будет ждать его ответа в такой-то срок, ушел. Разговор, обрывок которого случайно подслушал Михайловский, касался Марко Вовчка. Писарев требовал извинений перед Марией Александровной за то, что Благосветлов, не спросив согласия, напечатал ее имя в числе сотрудников «Дела».
Писарев — Шелгунову, из Петербурга в Вологду, 15 июня 1867 г.: «Николай Васильевич! Я перед вами виноват без оправдания. Вызвавшись в разговоре с Людмилой Петровной заботиться об интересах вашей умственной жизни, я до сих пор не только не указал вам ни одной книги и не сказал вам ни одного дельного слова, но и вообще не ответил толком ни на одно из ваших писем. Теперь я пишу к вам, чтобы сообщить известие, которое, по всей вероятности, будет вам очень неприятно и, может быть, значительно уронит меня в ваших глазах. Я разошелся с тем журналом, в котором мы с вамп работали, и должен вам признаться, что разошелся не из принципа и даже не из-за денег, а просто из-за личных неудовольствий с Григорием Евлампиевичем. Он поступил невежливо с очною из моих родственниц, отказался извиниться, когда я этого потребовал от него, и тут же заметил мне, что если отношения мои к журналу могут поколебаться от каждой мелочи, то этими отношениями нечего и дорожить. У меня уже заранее было решено, что если Гр. Евл. не извинится, я покончу с ним всякие отношения. Когда я увидел из его слов, что он считает себя за олицетворение журнала и смотрит на своих главных сотрудников как на наемных работников, которых в одну минуту можно заменить новым комплектом поденщиков, то я немедленно раскланялся с ним, принявши меры к обеспечению того долга, который остался на мне. Эта история произошла в последних числах мая. Так как я не имею возможности содержать в Петербурге целое семейство, то моя мать и младшая сестра в начале июня уехали в деревню, а я остался, ищу себе переводной работы и веду студенческую жизнь. Теперешний адрес мой: на Малой Таврической, д. 23, кв. 2. Вы, может быть, скажете, Николай Васильевич, что из любви к идее мне следовало бы уступить и уклониться от разрыва. Может быть, это действительно было бы более достойно серьезного общественного деятеля. Но признаюсь вам, что я на это пе способен. Я решительно не могу, да и не хочу, сделаться настолько рабом какой бы то ни было идеи, чтобы отказаться для нее от своих личных интересов, желаний и страстей. Я глубокий эгоист не только по убеждению, но и по природе».
Свой разрыв с Благосветловым Писарев объясняет личным неудовольствием. Конечно, это не так. Разрыв назревал давно, и эпизод с Марией Александровной был для Писарева лишь последней каплей. Не будь его, поводом мог стать и другой какой-нибудь случай. Благосветлов, богатея, все больше превращался в литературного предпринимателя. Оказавшись не у дел, Писарев берется за переводы. Отличное знание языков и репутация первоклассного стилиста обеспечивали ему заказы. В. О. Ковалевский, будущий крупный ученый, а в ту пору прогрессивный петербургский издатель, первым предложил ему работу. Об этом Писарев сообщает матери 14 июня: «Был у Ковалевского, желая узнать подробности о тех работах, которые он намерен мне предложить. Встретил он меня очень дружелюбно. В результате свидания оказалось, что он поручит мне переводить с немецкого книгу Шерра «История цивилизации в Германии». Разрыв Писарева с «Делом» скоро стал известен в литературных кругах Петербурга. Некрасов поспешил встретиться с талантливым публицистом. «Ко мне, — рассказывал Писарев матери в письме 3 июля, — неожиданно явился утром книгопродавец Звонарев и сообщил мне, что Некрасов желал бы повидаться со мною для переговоров о сборнике, который он намерен издать осенью. Если, дескать, Вы желаете, Николай Алексеевич сами приедут к вам, а если можно, то они просят пожаловать к ним сегодня утром. Я ответил, что пожалую — и поехал. Прием был, разумеется, самый любезный. С первого взгляда Некрасов мне ужасно не понравился; мне показалось у него в лице что-то до крайности фальшивое. Но уже минут через пять свидания прелесть очень большого и деятельного ума выступила передо мною на первый план и совершенно изгладила собою первое неприятное впечатление. Было говорено достаточно — и о сборнике, и о предполагаемом журнале, и о литературе, и о современном положении дел. Практический результат свидания получился следующий. Некрасов просил меня написать для сборника статьи 2–3, всего листов 10, о чем я сам пожелаю. Я решил, что о «Дыме», потом о романах Андре Лео и еще о Дидеро. Все это Некрасов совершенно одобрил. Я сказал, что мне платили в «Русск. слове» и в «Деле» по 50 рублей за лист и что меньше этого я взять не могу. На это Некрасов отвечал, что он никогда не решится предложить мне такую плату, и что в его сборнике норма будет 75 руб. за лист. Я согласился и на это. Затем я сказал, что в настоящее время я живу переводами и что мне, для того чтобы работать для сборника, надо будет на несколько недель отказаться от переводов. Чтобы существовать во время этих нескольких недель — потребуются деньги, а у меня их нет. Некрасов предложил мне немедленно вперед, сколько потребуется. Я отказался от наличных, но попросил записку, по которой, в случае надобности, могу немедленно получить 200 р. Записка была немедленно написана и лежит у меня в шкатулке». Писарев снова работал, не разгибая спины. «Ты, право, не знаешь, — пишет он матери 16 июля, — что это значит, когда три типографии с трех разных сторон требуют материала для работы и когда кроме того имеется в виду необходимость приготовить через два месяца 15 листов оригинального писания. Я перечислю все, что лежит у меня теперь на руках: 1) я редактирую перевод физиологии Дрепера для Луканина; 2) редактирую перевод Брема для Ковалевского; 3) к октябрю я должен перевести 5 листов Дрепера и 4) 15 листов Шерра; 5) к октябрю я должен приготовить для некрасовского сборника 15 листов оригинальной работы». Казалось, у Писарева снова есть все для полного счастья, но начинались новые огорчения. Прежде всего Некрасов отказался от одной из заказанных им статей — о «Дыме». Зная по прежним статьям Писарева его в целом положительное отношение к творчеству Тургенева, Некрасов опасался, что критик не даст резкой отрицательной оценки новому роману (и в этом Некрасов был прав). Забегая вперед, заметим, что в 1868 году «Отечественные записки» напечатали о «Дыме» статью Скабичевского «Новое время и старые боги», в которой Тургенев осуждался за незнание русской жизни, узость кругозора, западничество, «карание либерализма». Конечно, такой статьи Писарев не написал бы… Лето проходило в напряженной работе: Писарев много переводит, работает над статьями. Однако годы, проведенные в крепости, дают себя знать. Пишется ему теперь не так легко, как раньше. Отказ Некрасова ст статьи о «Дыме» оказал влияние на душевное состояние Писарева. Совсем недавно он считал себя вполне окрепшим и способным свернуть горы, как вдруг он стал опасаться, что утратил талант. «Я совершенно здоров, — пишет он матери, — т. е. хорошо ем, хорошо сплю и т. д. Но неумение думать, читать и писать продолжается. Вернется ли?!!» Мучительно для обоих развивается роман Писарева и Маркович. «У меня большие неприятности и огорчения, — писала Мария Александровна весной 1867 года своему другу, парижскому издателю Этцелю. — Было бы долго посвящать вас во все подробности, и рассказ был бы не очень приятен, и я не люблю жаловаться» Мария Александровна не может разобраться в своих чувствах, она сомневается и колеблется. Она высоко ставит талант своего кузена, уважает его ум и влияние на читателя, но разница лет, близкое родство и множество других не менее важных причин… Писарев все более привязывается к Маше, ему кажется, что он ее любит, но не пользуется взаимностью. «Нужно трезво смотреть на вещи, — отечески наставляет Марию Александровну Эт-цель в сентябре 1867 года, — ибо если вы будете считать кого-то совершенством и в один прекрасный день убедитесь, что это не так, то от этого будет тяжелее. Я говорю это в пользу того, кого вы называете Магометом. Любите его меньше, чтобы любить всегда». Варвара Дмитриевна, обеспокоенная здоровьем сына, обращается к племяннице с мольбой:
В. Д. Писарева — Маркович, 14 августа 1867 года: «Тебе одной. В эту минуту я очень несчастна, более несчастна даже, нежели люди, не имеющие куска хлеба. Я получила от Мити письмо — он пишет, что ему и не работается и не думается, и недоволен он и своими работами и собой. О, Маша… Я знаю, что это безумие, что это письмо не приведет ни к чему, но все же ты ведь добра, умоляю тебя, сделай Мите жизнь легкой и счастливой… У Мити не так, как у других; если он страдает — этими страданиями уничтожаются его умственные способности… И отчего бы тебе не полюбить его? Он так сильно тебя любит…»
В сентябре Писарев переезжает на Невский, в дом Лопатина. Он снимает каморку в том же подъезде, где расположена квартира Маркович. Так удобнее вместе работать над переводами, почти не расставаясь целый день. Писарев поглощен своим чувством к Маше. Все другие люди теряют для него всякий интерес. Он ни с кем не встречается и почти не выходит из дому. Родные и прежние друзья во всем обвиняют Маркович, даже в том, в чем она не могла быть виновата. Писарев между тем болезненно переживал свое отлучение от журналистики. «Я все лето собирался написать к вам, — писал он в ноябре Шелгунову, — а осенью уже перестал собираться и подумал, что, должно быть, не напишу никогда. Вчера я получил ваше письмо и сегодня отвечаю на него. Вы желаете знать подробности о положении нашей журналистики. Я сам стою теперь в стороне от нее. С «Делом» я разошелся в конце мая вследствие личных неудовольствий и с тех пор не сходился с ним. Получая книжки «Дела» и видя мое имя в каждой из них, вы могли думать, что мы помирились. Но этого нет и, вероятно, не будет. В «Деле» печаталась и печатается до сих пор моя большая историческая работа, которая была отдана туда задолго до нашего разрыва и которую я не считал себя вправе брать назад, тем более, что начало ее было уже отпечатано. Я не участвую ни в «Деле», ни в каком бы то ни- было другом журнале. Что же у нас теперь, кроме «Дела», есть в журналистике? «Отечественные записки» — известный вам разлагающийся труп, в котором скоро и червям нечего будет есть. «Всемирный труд», в котором роль первого критика играет Николай Соловьев; «Литературная библиотека», или, вернее, собрание литературных инсинуаций и абсурда; «Женский вестник», которого издательница ведет постоянно до сорока процессов по поводу отжиливания денег.
2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
Почти два года, с июня 1866-го, лежали под арестом 3 тысячи экземпляров второй части сочинений Писарева. В середине апреля 1868 года Павленкову был вручен обвинительный акт. Издатель предавался суду Петербургской судебной палаты за напечатание статей «Русский Дон-Кихот» и «Бедная русская мысль». «В статье «Русский Дон-Кихот», — гласил документ, — автор, говоря о литературной деятельности Киреевского, осмеивает православно-христианские верования этого писателя, составлявшие, как известно, основание всех его философских рассуждений, и проводит мысль, что верования эти были плодом предрассудков и наивно-ребяческих понятий, навеянных маменьками и нянюшками, называет их московской сентиментальностью, непогрешимыми убеждениями убогих старушек Белокаменной, мистическими инстинктами, зародышем того разложения, которое погубило и извратило умственные силы Киреевского…» Еще более серьезные претензии цензурный комитет имел к статье «Бедная русская мысль». В ней, говорилось в обвинительном акте, автор «перетолковывает и извращает по-своему ту мысль, что личная воля народных властителей и других политических деятелей всегда оказывается, в своих результатах, слабее естественного хода народной жизни и окончательно побеждается сей последней… Автор, как заключает комитет, делает эту мысль только предлогом и прикрытием для пропаганды крайних политических мнений, враждебных не только существующей у нас форме правления, но и вообще спокойному и нормальному состоянию общества. По изложению автора, политические властители представляются только как сила реакционная, угнетательная и стесняющая естественное развитие народной жизни, или, по крайней мере, как начало, несмысленно мудрящее над народною жизнью, вертящее ее по-своему и навязывающее народу свою непрошеную опеку; народ же или общество выставляется как элемент гонимый, протестующий, борющийся с гонителями и, наконец, поборающий их личную волю… Автор самыми черными красками, хотя и иносказательно, рисует характер неограниченного правления и многознаменательным тоном напоминает читателю примеры Карла I и Иакова II английских и Карла X и Людовика-Филиппа французских; не видит в России ни прежде, ни после Петра Великого никакого исторического движения жизни (исключая реформы 19 февраля 1861 г.); о личности же и деяниях Петра Великого относится в самом презрительном тоне; издевается над патриотизмом и консервативными чувствами прежних наших писателей, восхваляет насмешку, презрение и желчь, которыми проникнута нынешняя литература наша, и только в этих ее качествах видит надежду будущего. Умалив, насколько мог, значение властителей в жизни государств, даже таких властителей, как Петр Великий, автор прибавляет: «Жизнь тех 70 миллионов, которые называются общим именем русского народа, вовсе не изменилась бы в своих отправлениях, если бы, например, Шакловитому удалось убить молодого Петра…» Кроме вредного содержания статей, цензурный комитет учитывал еще три обстоятельства. Во-первых, обе статьи впервые напечатаны в тех номерах «Русского слова» 1862 года, «за которыми непосредственно последовало приостановление издания этого журнала на восемь месяцев», и были в тех номерах «наиболее вредными по направлению». Во-вторых, законом 6 апреля 1865-го точнее прежнего определены преступления по делам печати и степень ответственности за них. И в-третьих, издание журнала «Русское слово», где Писарев был главным сотрудником, «за доказанное издавна вредное направление» высочайшим повелением 28 мая 1866 года прекращено вовсе. Исходя из этого, комитет полагал, что «дозволить вторичный выпуск в свет упомянутых двух статей — значило бы допустить, в явное нарушение Высочайшей воли, распространять в публике наиболее вредные и возбудительные статьи из запрещенного журнала».Ф. Ф. Павленков — Д. И. Писареву, 17 апреля 1868 года: «Я уезжаю в Москву. Пока же до приезда оттуда отдаю Вам обвинительный акт: он мне пока не нужен — я его прочел, а в Москве придется более ездить, чем сидеть. Да, наконец, я оттуда вернусь очень скоро. Посмотрите, пожалуйста, в это время акт со вниманием, подобающим делу, и изложите (лучше на бумаге) те основания, доводы и факты, которые, с вашей точки зрения, было бы полезно привести в опровержение… Мне кажется, что вы сами желаете снабдить меня некоторыми инструкциями, но только удерживаетесь от этого в силу каких-нибудь ложных недоразумений… По приезде из Москвы я тотчас же дам вам знать о результате моего путешествия». Д. И. Писарев — Ф. Ф. Павленкову, 20 апреля 1868 года: «Я не могу исполнить вашу просьбу, не могу дать вам никаких соображений и доводов для борьбы с прокурором. Читая обвинительный акт, я убедился в том, что в нем нет клеветы и что Цензурный комитет и прокурор действительно увидели в моих статьях только то, что я хотел в них выразить. Признаваться в этом публично, конечно, нет надобности; по читать и перечитывать свои старые статьи с тем, чтобы как-нибудь поискуснее извратить их основную мысль, — это труд настолько утомительный и неблагоразумный, что я не решаюсь за него взяться. Я не адвокат, мой ум совершенно не приноровлен к той работе, которая тут требуется, и поэтому я совершенно уверен, что. убив на чтение и перечитывание двух старых статей несколько дней, оторвавшись на это время от тех работ, которые теперь имеют для меня живой интерес, я не принесу вам никакой существенной пользы, т. е. не дам вам в руки ни одного нового и убедительного аргумента. Поэтому я отказываюсь тратить время на бесплодные письменные упражнения. Я уверен, во-первых, в том, что вы достаточно ясно понимаете смысл тех статей, которые вам придется защищать, во-вторых, в том, что вы не сделаете никаких неуместных уступок. Я уверен, что судьба этих двух статей интересует вас гораздо сильнее, чем меня. Поэтому я полагаю, что всего лучше будет предоставить вам в деле защиты самое безграничное полномочие. Защищайте, как хотите, а я заранее все одобряю».
Писарев всецело поглощен своим чувством к Маркович. Другого общества ему не нужно, даже в редакции «Отечественных записок» он бывает лишь по крайней необходимости. С Марией Александровной он необыкновенно мягок и уступчив, предупреждает все ее желания, ее дела для него на первом плане. Целые дни проводят они вместе в напряженном труде. Они работают за общим столом. Мария Александровна заканчивает новый роман, который печатается с продолжением в «Отечественных записках». Роман о новых людях. Материалом служат воспоминания о годах ранней юности, проведенных в Орле, а идеи — писаревские. Образ героини Маши — автобиографичен. Главному герою Загайному, увлекшему Машу на путь борьбы, приданы черты Писарева. В романе даже есть его портрет, писанный с натуры: «Вот он сам сидит за столом, заваленным бумагами и книгами. Она видела наклоненную голову, блестящую массу темных волос, широкий лоб и черные брови… Все обаятельные образы счастья навсегда затмило это побледневшее, утомленное лицо работника, всем существом своим отдавшегося работе…» Писарев сидел напротив и читал главу за главой. Его влияние на содержание романа вне всякого сомнения. Отдельному изданию «Живой души» Марко Вовчок предпослала посвящение: «Дмитрию Ивановичу Писареву. В знак глубокого уважения. 29 апреля 1868». Сам Писарев пишет для «Отечественных записок» статью «Мистическая любовь» о книге американца Диксона «Духовные жены», а в виде отдыха переводит с французского «Принца-собачку», сказку Лабулэ и «Золотые годы молодой француженки», роман Дроза. Он печатается пока без подписи. Свое имя он хочет поставить позднее под самостоятельными критическими статьями, в которых выразит зрелые результаты своей постоянно развивающейся мысли. Летом Писарев собирается ехать за границу, на воды. Так рекомендуют врачи, а главное, этого хочет Маша. Они будут путешествовать вместе, не разлучаясь ни на один день, и Маша ему покажет Париж и Гейдельберг, Флоренцию и Лондон. На воды они поедут в Швальбах или в Наугейм, а на морские купания — в Трувиль или на остров Уайт. Радужные планы не знают границ. Еще в феврале Писарев подал петербургскому обер-полицеймейстеру прошение о выдаче заграничного паспорта. К прошению он приложил медицинское свидетельство о необходимости лечения за границей. На запрос генерала Трепова управляющий III отделением генерал Мезенцев отвечал: «Писарев за границу не может быть уволен». Старинный знакомый Марии Александровны А. К. Пфёль, действительный статский советник, чиновник особых поручений при IV отделении царской канцелярии, согласился похлопотать. В апреле он встретился частным образом с Мезенцевым и заручился его обещанием пересмотреть решение. Прошло три недели, Пфёль напомнил об этом письмом. 15 мая Мезенцев ему ответил, что главный начальник III отделения граф Шувалов «не изъявил согласия на выезд Писарева за границу». Планы рухнули. В конце мая Писарев вновь обращается к Трепову о просьбой разрешить ему «по расстроенному здоровью и совету врачей» пользоваться купаниями в Лифляндской и Курляндской губерниях и выехать для этого в Аренсбург, Виндаву и Либаву. На эту поездку III отделение соглашается.
По понедельникам, от двух до четырех, сотрудники «Отечественных записок» собирались в редакции. На одном из таких собраний в середине июня Скабичевский в последний раз встретил Писарева. Веселый и оживленный (таким давно его не видели), Дмитрий Иванович буквально влетел в кабинет Некрасова и объявил, что уезжает на все лето в Дуббельн на морские купания. В комнату вошла незнакомая девушка, в руках у нее был большой фотографический портрет. Узнав Писарева, она подошла к нему и робко попросила подписаться под портретом. Дмитрий Иванович охотно исполнил эту просьбу, и лицо его просияло.
Писарев покидал Петербург, переполненный литературными планами. До конца года он намеревался написать еще семь статей для «Отечественных записок»: материалы к ним были собраны. Он надеялся, что приморский климат окажет на него благотворное влияние, поможет ему окончательно восстановить душевное равновесие. Летом Писарев мечтал хорошо поработать. Об этом он рассказывал Кутейникову за два дня до отъезда в Ригу.
В июньском номере «Отечественных записок» печаталась статья Писарева «Французский крестьянин в 1789 году». В ней критик вновь возвращается к теме Великой французской революции. На материале исторического романа Эркмана-Шатриана он анализирует процесс идейного созревания революционных сил. Значение романа Писарев видит в том, что он ставит проблему большой социально-психологической важности: «Как и почему разоренный и забитый народ мог в решительную минуту развернуть и несокрушимую энергию, и глубокое понимание своих потребностей и стремлений, и такую силу политического воодушевления, перед которой оказались ничтожными все происки и попытки внешних и внутренних, явных и тайных врагов, как и почему заморенный и невежественный народ сумел и смог подняться на ноги и обновиться радикальным уничтожением всего средневекового беззакония». С большой симпатией рассказывая о французской революции, Писарев подчеркивает решающую роль народных масс в истории человечества. «Великий глас народа» он называет «гласом божиим», потому что он «определяет своим громко произнесенным приговором течение исторических событий». Народное благо — единственный критерий исторического прогресса. «Всякое крупное историческое событие, — пишет Писарев, — совершается или потому, что народ его хочет, или потому, что народ не может и не умеет ему помешать». Для того чтобы масса могла играть ту великую роль, которая принадлежит ей по праву, к ее стихийному протесту должна присоединиться широкая и ясная политическая сознательность. Статья «Французский крестьянин в 1789 году» оказалась последней статьей Писарева, так сказать, его политическим завещанием. Она показывает, что социально-политические взгляды публициста становились все более зрелыми и последовательно развивались в том направлении, которое он избрал в 1861 году.
15 июня в Петербургской судебной палате слушалось дело по обвинению Павленкова в нарушении постановлений о печати при издании им второй части «Сочинений Д. И. Писарева». Флорентий Федорович блестяще защищался. Он доказывал, что в статьях Писарева нет ничего предосудительного, что они были одобрены предварительной цензурой в 1862 году и поэтому преследовать их посуду невозможно. Он высказал уверенность в том, что дело заключается не в идеях, а в имени автора. И рассказал, что, заменив имя Писарева инициалами его псевдонима и изменив названия статей, напечатал их небольшим тиражом в Москве с разрешения цензуры. В доказательство на судейский стол легли четыре экземпляра брошюры Н. Р. «Две статьи». Процесс окончился победой. Павленков был оправдан, арест с книги снят.
Читая приговор Судебной палаты, М. П. Погодин негодовал: «Киреевский — мрачный обскурант! Человек, глубоко павший, патологическое явление! Его идеи допотопные, его ребяческие убеждения, натолкованные нянюшкой и маменькой, разделяются всеми старухами московскими! Где это говорится? Кто это говорит? Какие это судьи, обвинители, защитники? Знают ли все эти господа, о ком они судят и рядят?» Он тотчас же написал записки к лицам, знавшим Киреевского, и позвал их «в крестовый поход на неверных». Затем он вытребовал у книгопродавца сочинения Писарева и принялся их читать. По двум прочтенным статьям Погодин увидел в Писареве человека искреннего, ревностного, талантливого, но неопытного, беспокойного и заносчивого. Он решил написать к нему письмо. Все утро ходил Михаил Петрович по саду, по своей любимой липовой аллее, перелистывал свои старые тетради «о предметах духовных» и обдумывал послание. Вечером он приехал к князю В. Ф. Одоевскому и, едва поздоровавшись с хозяевами, был ошеломлен новостью.
3. СВИНЦОВЫЙ ГРОБ
«С.-петербургские ведомости», 5 июля: «Дуббельн, четверг, 4 июля. Известный русский писатель, Писарев, сегодня утром утонул во время купанья при здешнем купальном месте Карлсбаде».Поздно вечером, когда в редакцию «Петербургских ведомостей» принесли телеграмму о смерти брата, Вера Ивановна переводила иностранные известия для очередного номера. Тотчас же она послала запрос Маркович.
«С.-петербургские ведомости», 7 июля: «Телеграфическое известие о смерти Д. И. Писарева, к сожалению, подтвердилось. Мы не знаем еще подробностей этого печального события, но верно то, что Д. И., посланный докторами для поправления своего здоровья в Дуббельн, утонул там». Подробностей гибели Писарева никто не знал, а слухи и сплетни уже ползли по Петербургу. Говорили о самоубийстве, винили во всем Марко Вовчок.
В Риге Писарев и Маркович поселились в гостинице «Франкфурт-на-Майне». Прежде всего Писарев, как поднадзорный, должен был зарегистрироваться у рижского полицеймейстера. Затем — консультации с врачами по поводу предстоящих морских купаний, встречи с местными литераторами, прогулки по древнему городу. 26 июня кандидат Петербургского университета Писарев и госпожа Маркович отправились в Дуббельн. На взморье было ветрено и прохладно: купальный сезон начинался с запозданием. Первый теплый и погожий день выдался 4 июля. В это яркое солнечное утро Дмитрий Иванович был особенно доволен собой и всем его окружавшим. Оживленно болтая с четырнадцатилетним Богданом, сыном Марии Александровны от первого брака, Писарев пошел купаться. Веселыми шутками провожала их Мария Александровна. Спустя немного времени на дачу прибежал Богдан и крикнул матери: «Митя утонул!» Маркович кинулась на берег. Там уже собрался народ. Только через час рыбаки нашли утопленника. Три врача пытались вернуть его к жизни, но было поздно. Скабичевский рассказывает, что Писарев тонул в своей жизни трижды. В детстве захлебнулся в реке, и его, уже полумертвого, вытащил крестьянин. Студентом-первокурсником провалился сквозь весенний невский лед, и лишь случайный прохожий спас ему жизнь. В Дуббельне спасителя не оказалось. Писарев был хорошим пловцом. Обычно он заплывал очень далеко в море, отдыхая на отмелях. И на этот раз он благополучно переплыл два глубоких места, а в третьем утонул — то ли ногу свело судорогой, то ли с ним случился удар. Это произошло так далеко от берега, что Богдан не заметил, когда Писарев погрузился в воду. В тот же день Мария Александровна телеграфировала Василию Слепцову, секретарю редакции «Отечественных записок». Уведомляя о трагической гибели Писарева, она просила срочно выслать денег в счет ее гонорара. Через несколько дней, получив разрешение рижского полицеймейстера, Маркович послала прошение министру внутренних дел о перевозке тела в Петербург. Двое суток не выходила Мария Александровна из часовни, где лежал мертвый Писарев. А потом сидела на пороге, охраняя его на рижском кладбище. Узнав имя погибшего, студенты-латыши помогали ей чем могли.
Спустя неделю в Грунце еще ничего не знают о катастрофе. Но слух, привезенный из Риги соседом-помещиком, о каких-то медицинских консультациях, бывших у Писарева, обеспокоил родных. Им чудится серьезная болезнь. На телеграфные запросы ни Маркович, ни рижский полицеймейстер не отвечают. Наконец 12 июля решается сообщить родителям печальную весть Вера Ивановна. «Милые мои, дорогие друзья мои, как я скажу вам, как вы примете ту страшную вещь, которую я до сих пор не решалась высказать вам… Я еще не знаю никаких подробностей, но телеграмма дуббельнского полицеймейстера сообщила мне, что три врача не могли спасти его… Думаю, что вы захотите приехать на похороны Мити. Это, вероятно, будет нескоро — пока еще министр разрешит… Бога ради привезите или пришлите все Митины письма, для биографии это необходимо. Раиза, не возьмешь ли ты на себя труд записать все, что ты о нем помнишь? Это весьма важно. Мама, привези все, все его черновые тетради, письма, его дневники, книжку в сафьяновом переплете с переводными стихами из Гейне, словом, все, все; всякая мелочь важна и дорога».
16 июля в Ригу приехал посланный Некрасовым Слепцов. Он привез деньги и разрешение министра на перевозку тела. Через неделю с небольшим, когда был отлит на заводе свинцовый гроб, Слепцов возвратился в Петербург, забрав с собой Богдана. В это время в Риге был уже Павленков. На рассвете 26 июля свинцовый гроб, упакованный в деревянный ящик, с большими предосторожностями был опущен в трюм парохода «Ревель». Финский залив встретил штормом. Яшик бился о переборки трюма. При сильной качке сдвинулась крышка гроба. Больших усилий стоило убедить суеверных матросов не выбрасывать мертвеца за борт. Сохранилась записка М. А. Маркович на клочке бумаги: «На палубе волнение — узнали, что находится в ящике, и пристают ко мне. Публика очень недовольна тем, что ночевала с покойником. Притом и ящик течет. Говорят, что и буря потому, что мы едем с покойником». Весть о гибели Писарева разнеслась по всей России. В редакции «Петербургских ведомостей» и «Голоса», в книжную лавку Павленкова посыпались письма из провинции с вопросами и просьбами подтверждения печальных вестей, появившихся в газетах. С трогательной наивностью выражались сомнения в справедливости сообщений; поклонники упорно не хотели верить, что эта столь дорогая для них деятельность могла так случайно, неожиданно прекратиться навсегда…
Стояло на редкость сухое и жаркое лето. Засуха охватила весь север Российской империи. Земля потрескалась, гибли посевы, падал скот. В городах и селах вспыхивали опустошительные пожары. Вокруг Петербурга горели леса и торфяники. По улицам столицы стелился густой, едкий дым. По утрам и к вечеру он становился настолько плотен, что с середины Литейного моста не было видно невских берегов. Ежедневно в самом городе, в противоположных частях его, возникало три-четыре новых пожара. Ползли слухи о намеренных поджогах, жители волновались. Так продолжалось весь июль.
Агентурные сведения III отделения: «В субботу, 27 июля, около 7 часов в С.-Петербург было привезено на пароходе «Ревель» тело литератора Д. И. Писарева… По снятии ящика с телом с парохода предположено было вынуть из него гроб, но так как была замечена течь, то полиция не допустила этого сделать и тело, в гробу и ящике, перевезено с пароходной пристани в Мариинскую больницу, что на Литейной, и поставлено в часовню, так как ни в тот день, ни в следующий, по случаю праздников, хоронить было нельзя. Дня за два до прибытия тела, на пароходную пристань начали являться разные лица за справками о времени прибытия парохода с телом, но так как этого никто положительным образом не знал, то во время прибытия парохода на пристани не было почти никого посторонних, и тело Писарева встретили только отец его, состоящий председателем Земской Управы в одном из уездов Тульской губернии, сестра покойного Вера… Слепцов, какие-то три дамы из знакомых Писарева. В Мариинской больнице тело поставлено было в часовне и там переложено в новый, здесь уже сделанный гроб, обитый черною материей. 28 июля, в 5 часов вечера, тело Писарева перенесено было в церковь Мариинской больницы».
Ранним утром, когда дымовая завеса еще не позволяла разглядеть из больничных ворот церковь, к ограде Мариинской больницы стекались люди. Литургия и панихида продолжались до 11 часов. «В церковь собралось около 300 человек, — доносил агент III отделения, — по преимуществу литераторов и студентов, как Университета, так и Медико-хирургической академии, были также стриженые женщины, сохранившие еще тип так называемых «нигилисток». Из литераторов были Некрасов, Благосветлов, Елисеев, Глеб Успенский, Минаев, Афанасьев-Чужбинский, Суворин, Буренин (псевдоним В. Монументов), Шишкин, Соколовский, Шульгин, доктор Конради, жена его Евгения Конради, Кроль-Золотницкий, Гире, Гайдебуров, Стопановский, из женщин нигилисток, кроме Писаревой, замечены еще две сестры Плисовы, Иностранцева… и Линева, остальную часть публики составляли: несколько офицеров разных ведомств, один лицеист, несколько молодых женщин, занимающихся стенографией и переводами при редакциях газет, и несколько знакомых семейству Писаревых…» Гроб сняли с катафалка и поставили на дроги. Молодежь запротестовала и вызвалась нести до могилы гроб на руках. «За гробом шествовал здешний нигилистический синклит, — комментировал другой тайный агент, — можно сказать, что гроб изменил даже свою физиономию и походил скорее на пирамиду, усыпанную цветами». К полудню дым от пожаров поредел, но солнце парило невыносимо. Раскаленным густым воздухом было почти невозможно дышать. Похоронная процессия двигалась по Невскому: впереди факельщики, за ними мальчик с иконой, священник, потом гроб, за гробом большая толпа, а позади пустые дроги. Двигались медленно, часто останавливались, чтобы сменить несших сорокапудовый свинцовый гроб…
Агентурные сведения III отделения: «В третьем часу дня погребальная процессия прибыла на Волкове кладбище, но уже без священника, который незадолго перед этим вернулся. Могила приготовлена была как раз против того места, где погребены Белинский и Добролюбов, в нескольких шагах от могилы известного нигилиста Ножина, умершего во время производства следствия по поводу покушения 4 апреля. При опускании гроба в могилу, с него сорвали все гирлянды и цветы, которые и разошлись по рукам присутствовавших. Гроб был опущен в могилу без священника, и в нее посыпались цветы; первый венок было предложено бросить отцу покойного. Зарывание было уже кончено, и могила убрана цветами, а публика все не расходилась — как бы ожидая чего-то: первый обратил на это внимание Павленков и с соседней высокой могилы произнес краткое слово, в котором выразил, что всякие надгробные речи излишни и что лучшим почтением памяти покойного служит то, что на могиле собрались люди самых разнообразных убеждений, что свидетельствует о честной и благородной деятельности покойного. В заключение он прибавил, что хотя ему известно, что двое литераторов сочинили стихотворения на смерть Писарева, но что оба стихотворения, без сомнения, будут напечатаны, чтение же их на свежей могиле Писарева он считал неуместным. Затем он приглашал присутствующих разойтись. В том же роде сказал несколько слов Гайдебуров; им обоим возразил Гире, доказавший, что именно на свежей могиле и приличнее всего почтить память усопшего, и затем прочел оба стихотворения… После того Минаев и еще несколько человек выдвинули из толпы Благосветлова и просили его сказать что-нибудь. Благосветлов казался очень взволнованным и сначала отказывался говорить, но потом, приблизившись к могиле и указав на нее, сказал: «Здесь лежит замечательнейший из современных русских писателей; это был человек с твердым сердцем, развившийся под влиянием государственных реформ последнего времени, ни перед чем не отступавший и никогда не падавший духом. Будучи заключен в крепость, он в сыром и душном каземате, окруженный солдатами, под звуками оружия, продолжал заниматься литературою, и надо заметить, что то были лучшие его произведения. — Тут Благосветлов прослезился и с воодушевлением произнес: — Человек этот будет нам примером. Станем же, как он, твердо идти по пути чести и добра, невзирая ни на какие препятствия». Он кончил потому, что слезы и волнение пересилили его. Со всех сторон раздались крики «Браво!». Многие из женщин рыдали. Благосветлов пошел от могилы шатаясь, молодые литераторы пожимали ему руки… Между тем, по предложению Гирса, составилась подписка на учреждение стипендии в память Писарева, и по ней тут же на кладбище собрано 300 рублей. Кроме того, по желанию некоторых, предложена подписка на сооружение памятника. Деньги будут собираться у Павленкова. С кладбища разъехались около 4 часов пополудни.
Мария Александровна на похоронах не была. Доставленная с парохода домой в полуобморочном состоянии, она все еще лежала в бреду. Болезнь затянулась. Некрасов выразил ей свое сочувствие и прислал стихи:
На смерть Писарева откликнулись не только Некрасов и Герцен. В «Деле» Благосветлов, в «Отечественных записках» Н. С. Курочкин почтили память сотрудника прочувствованными некрологами. М. М. Стасюлевич в «Вестнике Европы» помянул добрым словом своего бывшего студента. В своей газетке «Русский» М. П. Погодин сетовал, что не успел при жизни вразумить талантливого, но заблудшего юношу. И еще несколько либеральных органов посвятили покойному критику краткие статьи. Воздавали должное таланту, упрекали в заблуждениях, сожалели о преждевременной гибели. С воспоминаниями выступили П. Н. Полевой, Н. С. Кутейников, А. Д. Данилов. Непонимание идей Писарева, случайность и мелочность их памяти порой граничили с клеветой. На страницах «Дела» Д. Д. Минаев дал достойную отповедь этим «батюшкиным братьям» (так он назвал их ввиду не слишком большой близости к покойному). Но «батюшкины братья» проникли и в собственный лагерь. А. М. Скабичевский, ставший видным народническим критиком, на страницах «Отечественных записок», а впоследствии и в воспоминаниях, представил искаженный облик друга своей юности. Конфликт Писарева с кружком филологов в 1859–1860 годах оставил в памяти Скабичевского превратные представления, а народническое мировоззрение, которое разделял Скабичевский с конца 1860-х годов, не позволило ему правильно понять сущность ненароднического социализма Писарева. И Скабичевский упорно утверждал представления о Писареве как об индивидуалисте и сенсуалисте, эпикурейце. Ему вторили другие критики-народники. Молодежь же продолжала зачитываться статьями Писарева. Несмотря на запрещение его сочинений вплоть до начала 1890-х годов, свое политическое образование революционная молодежь начинала с его статей. Его проповедь естественных наук оказала большое влияние на судьбу И. П. Павлова, К. Э. Циолковского, А. Н. Баха и других крупных естествоиспытателей России, выбравших свой путь под влиянием Писарева. Только марксисты смогли оцепить творчество Писарева по достоинству. В конце 1890-х годов В. И. Засулич в статье «Н. А. Добролюбов и Д. И. Писарев» впервые показала, что оба критика делали одно и то же дело, что различные акценты их творчества вызваны изменением социально-политической обстановки. «Учиться и учить, будить мысль все дальше, шире, пока опа не проникнет в «самые темные подвалы общественного здания», которые уже сами разрешат вопрос о голодных и раздетых людях, — в этом весь пафос произведений Писарева, этим одним ограничивается все т > нужное и важное, что он сказал своим читателям». Так определила вклад Писарева в будущее В. Засулич. Статью Засулич Ленин назвал превосходной. По свидетельству Н. К. Крупской, Ленин в молодости много читал Писарева, а в ссылке среди немногих фотографий у него была и фотография Писарева. В своей работе «Что делать?» Ленин сочувственно цитировал слова Писарева о значении деятельной мечты. «Величайшее счастье, доступное человеку, — писал Писарев, — состоит в том, чтобы влюбиться в такую идею, которой можно посвятить безраздельно все свои силы и всю свою жизнь. Если такой мечтатель, или, вернее, теоретик, действительно открыл великую и новую истину, тогда уже само собой разумеется, что разлад между его мечтою и нашею практикою не может принести нам, то есть людям вообще, ничего, кроме существенной пользы. Если же мечтатель ошибался, то даже и в таком случае он принес пользу своею деятельностью. Его мечта была одностороннею и незрелою попыткою исправить такое неудобство, которое чувствуется более или менее ясно всеми остальными людьми, значит, во-первых, мечтатель заговорил о таком предмете, о котором полезно Говорить и думать. Во-вторых, он собрал кое-какие наблюдения, которые могут пригодиться другим мыслителям, более образованным, более осмотрительным и более даровитым. В-третьих, он вывел из своих наблюдений ошибочные заключения. Если эти заключения своею внешнею логичностью поразили слушателей и читателей, то эти же самые заключения побудили, наверное, более основательных мыслителей заняться серьезно разработкою данного вопроса для того, чтобы опровергнуть в умах читающего общества соблазнительные заблуждения нашего мечтателя». Писарев был именно таким мечтателем. Он мечтал о социалистическом обществе и научном социализме, который стал бы орудием его достижения. Он пытался и сам внести свою лепту в это великое дело, но у него не хватило ни знаний, ни времени. Писарев вплотную подошел к историческому материализму, он правильно понимал роль экономики, соотношение роли личности и народа в историческом развитии, определяющую роль труда. Но порой он делал уступки идеализму. Его теория реализма была утопична потому, что ставила вопрос о выработке революционного сознания и внесения его в народные массы тогда, когда в России не было еще ни революционной теории, ни революционного класса. Русская интеллигенция, находившаяся во власти народнических идей, не поняла и не могла понять смысла писаревской теории реализма. Гениальный юноша предвидел путь, которым пойдет его родина, но, противореча собственным взглядам, возлагал надежды на утилитарный принцип «экономии умственных сил», который, по его мнению, мог ускорить осуществление задачи. Критикуя увлечения и ошибки, идеалистические отклонения и заблуждения Писарева, мы высоко ценим его как одного из крупных революционных мыслителей прошлого, одного из наших предшественников.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Д. И. ПИСАРЕВА
1840, 2(14) октября — родился в имении Знаменском Елецкого уезда Орловской губернии. 1850, октябрь — вместе с родителями переселился в имение Грунец Новосильского уезда Тульской губернии. 1852, октябрь—1856, июнь — учится в 3-й петербургской гимназии. Поступив по экзамену в третий класс, оканчивает ее с серебряной медалью. 1856, сентябрь—1861, май — студент историко-филологического факультета Петербургского университета. 1858, октябрь—1859, ноябрь — ведет библиографический отдел в журнале «Рассвет» (в 12 номерах журнала за 1859 год опубликовано 114 его рецензий). 1859, октябрь — пишет сатирическую «Оду на памятник Николаю I» (впервые опубликована в 1928-м). 1859, декабрь—1860, апрель — заболев нервным расстройством, находится на излечении в частной психиатрической лечебнице доктора Штейна в Петербурге, откуда бежит. 1860, лето — в имении родителей пишет статью «Мысли по поводу сочинений Марко Вовчка» (опубликована в 1913 году), переводит лирические стихотворения Гейне и его поэму «Атта Тролль». В Петербурге выходит в свет «Сборник, издаваемый студентами Петербургского университета», выпуск 2-й, в котором напечатана работа Писарева «Вильгельм Гумбольдт». Октябрь — через поэта Я. П. Полонского знакомится с Г. Е. Благосветловым. Октябрь — декабрь — пишет кандидатскую диссертацию на тему «Аполлоний Тианский и его время». 1860, декабрь —1866, январь — Сотрудничает в журнале «Русское слово». 1861 — в «Русском слове» напечатаны статьи Писарева: «Уличные типы», «Народные книжки», «Идеализм Платона», «Схоластика XIX века», «Аполлоний Тианский», «Физиологические эскизы Молейютта», «Процесс жизни», «Стоячая вода», «Меттерних», «Писемский, Тургенев и Гончаров», «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова». «Победа над самодурами и страдальческий крест», «Посмертные стихотворения Гейне», «Тайны желтого дома», а также его переводы из Гейне: «Отживший мир» и «Берлин. Осенняя сказка». Февраль — Совет Петербургского университета присудил Писареву серебряную медаль за кандидатскую диссертацию. Ноябрь — вместе с Благосветловым посещает Чернышевского и отклоняет предложение сотрудничать в «Современнике». Декабрь — становится помощником редактора «Русского слова». 1862 — в «Русском слове» напечатаны статьи Писарева: «Московские мыслители», «Физиологические картины», «Русский Дон-Кихот». «Базаров», «Очерки из истории печати во Франции», «Бедная русская мысль», «Поэты всех времен и народов». Июнь — журнал «Русское слово» приостановлен на 8 месяцев, главным образом за статьи Писарева. 2(14) июля — арестован как автор памфлета-прокламации «Глупая книжонка Шедо-Ферроти…», обнаруженной в «карманной типографии» П. Д. Баллода. Июль — август — допросы Писарева в следственной комиссии. 1863, январь—1864, июнь — под судом особого присутствия сената. 1863, февраль — возобновление «Русского слова». 30 апреля — первое свидание с матерью в Петропавловской крепости. 24 июня — Писареву разрешено «продолжать литературные занятия» в крепости. Июль — декабрь — в «Русском слове» опубликованы статьи Писарева: «Наша университетская наука» и «Очерки из истории труда». Статья «Мысли о русских романах» запрещена цензурой. 1864 — в «Русском слове» напечатаны: «Исторические эскизы», «Цветы невинного юмора», «Мотивы русской драмы», «Прогресс в мире животных и растений», «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби», «Нерешенный вопрос», «Историческое развитие европейской мысли», «Промахи незрелой мысли». Статья «Картонные герои» запрещена сенатом. Ноябрь — Писареву объявлен приговор сената. Комендант крепости предлагает переместить Писарева в Шлиссельбург. 1865 — в «Русском слове» напечатаны: «Перелом в умственной жизни средневековой Европы», «Мыслящий пролетариат», «Сердитое бессилие», «Прогулка по садам российской словесности», «Мысли Вирхова о воспитании женщин», «Пушкин и Белинский», «Педагогические софизмы», «Разрушение эстетики», «Подвиги европейских авторитетов», «Школа и жизнь», «Посмотрим!», «Исторические идеи Огюста Конта», «Новый тип», «Сельские картины». Декабрь — первое предупреждение «Русскому слову» на основании отзыва Гончарова об октябрьской книжке журнала и особенно о статье Писарева «Новый тип». 1866 — в «Русском слове» напечатана статья «Времена метафизической аргументации». В сборнике «Луч» — «Погибшие и погибающие», «Популяризаторы отрицательных доктрин». Апрель — запрещены свидания и литературная работа. Июнь — по высочайшему повелению от 28 мая «Современник» и «Русское слово» прекращены. 18 ноября — освобожден из крепости под поручительство матери, без права отлучаться из Петербурга. 1866–1869 — Ф. Ф. Павленков выпускает первое Собрание сочинений Д. И. Писарева в 10 частях. 1867 — в «Деле» напечатаны статьи Писарева: «Образованная толпа», «Взгляды английских мыслителей на умственные потребности современного общества», «Будничные стороны жизни», «Очерки из истории европейских народов. Итальянцы». Март — личное знакомство с Тургеневым. Май — окончательный разрыв с Благосветловым. Июль — поселился вместе с М. А. Маркович в доме Лопатина на Невском. Декабрь — на литературном вечере читал свою статью «Генрих Гейне». 1868 — в «Отечественных записках» напечатаны статьи Писарева: «Старое барство», «Романы Андре Лео», «Мистическая любовь», «Французский крестьянин 1789 года» и переводы с франц.: «Принц-собачка» Лабуле и «Золотые годы молодой француженки» Дроза. В «Деле» — «Борьба за существование», 15 июня — Литературный процесс по 2-й части «Сочинений Д. И. Писарева» в уголовном департаменте Петербургской судебной палаты. 21 июня — вместе с М. А. Маркович выехал из Петербурга в Ригу. 4(16) июля — утонул во время купания в Рижском заливе. 29 июля — похоронен на Волковой кладбище в Петербурге.ИЛЛЮСТРАЦИИ

Иван Иванович Писарев.

Варвара Дмитриевна и Вера Ивановна Писаревы.

Митя Писарев.
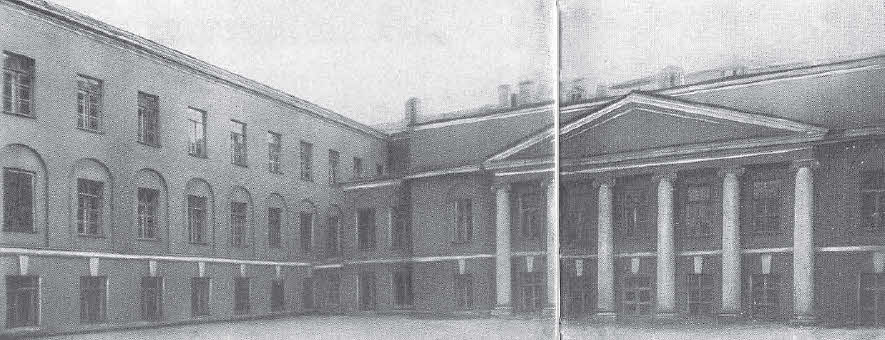
Третья Петербургская гимназия.

Раиса Коренева.

Николай Алексеевич Трескин.

Петербургский университет.

Александр Михайлович Скабичевский.

Леонид Александрович Майков.

Обложка журнала «Рассвет».

Автографы Д. И. Писарева.

Яков Петрович Полонский.

Григорий Александрович Кушелев-Безбородко.

Михаил Ларионович Михайлов.


Григорий Евлампиевич Благосветлов

Николай Гаврилович Чернышевский.

Николай Алексеевич Некрасов.

Раиса Александровна Гарднер.

Иван Петрович Хрущов.

Катя Писарева.

Вера Ивановна Писарева.

Николай Васильевич Соколов

Петр Давыдович Баллод.

Автограф Д. И. Писарева.



Николай Васильевич Шелгунов.

Варфоломей Александрович Зайцев.

Дмитрий Дмитриевич Минаев.

Максим Алексеевич Антонович.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

Варвара Дмитриевна Писарева.

Мария Александровна Маркович (Марко Вовчок)




Александр Иванович Герцен.

Иван Сергеевич Тургенев.

Памятник Д. И. Писареву на Волновом кладбище.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
I. Сочинения Д. И. Писарева
Сочинения. Части 1—10. Изд. Ф. Павленкова. Спб., 1866–1869. Полное собрание сочинений. В 6-ти томах. С портретом автора и статьей Евг. Соловьева. Изд. Ф. Павленкова. Спб., 1893; изд. 5-е. Спб., 1909–1913. Сочинения. Дополнительный к 6-ти томам выпуск. Изд. Ф. Павленкова. Спб., 1907; изд. 3-е. Спб., 1913. Избранные сочинения. В 2-х томах. Общ. ред. и вступит. стат. В. Я. Кирпотина. Комм. В. Я. Кирпотина и Н. Ф. Бельчикова. М., 1934–1935. Литературно-критические статьи. Вступит, стат., комм., примеч. и ред. Н. Ф. Бельчикова. М., 1940. Избранные философские и общественно-политические статьи. Под ред. и с предисл. В. С. Кружкова. М»1949. Избранные педагогические сочинения. Сост. и вступит. стат. Н. Ф. Познанского. М., 1951. Сочинения. В 4-х томах. Подгот. текста, вступит, стат, и примеч. Ю. С. Сорокина. М., 1955–1956. Избранные произведения. Сост., подгот. текста и примеч. Ю. С. Сорокина. Л., 1968.II. Литература о Д. И. Писареве
а) В. И. Ленин о Писареве Ленин В. И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. — Полн. собр. соч., т. 6, с. 172. Ленин В. И. Конспект книги Аристотеля «Метафизика». — Полн. собр. соч., т. 29, с. 330. Ленин В. И. Письма к родным. 1893–1922. — Поли. собр. соч., т. 55, с. 183. Крупская Н. К. Руководство к действию. — Детство и ранняя юность Ильича. — Своевременные цитаты. — В кн.: Избр. педагогии, произведения. М., 1957, с. 80, 114, 538–540. Ее же. Что Ильичу нравилось из художественной литературы. — В кн.: Ленин о культуре и искусстве. М., 1956. Ее же. Воспоминания о Ленине.б) Воспоминания Баллод П. Д. Заметка о деле Д. И. Писарева. Вступит. стат. А. В. Прибылева. «Каторга и ссылка», 1924, № 3, с. 41–55. Гарднер Р. А. В. Д. Писарева, «Русская старина», 1880, № 12, с. 1007–1014. Данилов А. Д. Несколько отрывочных воспоминаний о Д. И. Писареве. Комм. К. Н. Григорьяна. — В кн.: «Литературный архив», т. 3. М. — Л., 1951, с. 47–67. Кутейников Н. С. Несколько слов в память Д. И. Писарева. «Неделя», 1868, № 33 и 38. Полевой П. Н. Воспоминания о Д. И. Писареве (1857–1861). «С.-петербургские ведомости», 1868, № 193–194. Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М,—Л., 1928. Сорокин Вл. М. Воспоминания старого студента (1858–1862). «Русская старина», 1888, № 12; 1906, № 11. Стахевич С. Г., Среди политических преступников. «Былое», 1923, № 21, с. 74–78. Суворов П. П. Записки о прошлом. Ч. 1. М., 1898. Фирсов Н. Н. (Л. Рускин). В редакции журнала «Русское слово». «Исторический вестник», 1914, № 6, 7. Шелгунов Н. В. Воспоминания. — В кн.: Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания, т. 1. М., 1967.
в) Литература о Писареве Барро М. Забытое. Первые произведения Д. И. Писарева. Спб., 1893. Бельчиков Н. Ф. Д. И. Писарев — критик и его эстетические взгляды. «Известия АН СССР. ОЛЯ», 1941, № 1. Борщевский С. Раскол в нигилистах. — В его кн.: Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. М., 1956. Брандис Е. П. Марко Вовчок. М., 1968. Валескалн П. И. Революционный демократ П. Д. Баллод. Материалы к биографии. Рига, 1957. Варустин Л. Э. Журнал «Русское слово», 1859–1866. Л., 1966. Водовозов В. Писарев как экономист. — В его кн.: Экономические этюды, изд. 2-е, Спб., 1901. Водолазов Г. Г. От Чернышевского к Плеханову (об особенностях развития социалистической мысли в России). М., 1969. Володин А. И. Раскольников и Карамазов. — «Новый мир», 1969, № И. Волынский А. Русские критики. Спб., 1896. Воровский В. В. Д. И. Писарев. — Базаров и Санин. Два нигилизма — В его кн.: Литературно-критические статьи. М., 1956. Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 2, М., 1951. Демидова Н. В. Писарев. М., 1969. Засулич В. И. Д. И. Писарев и Н. А. Добролюбов. — В ее кн.: Избр. лит. — критич. статьи. М., 1960. Иванов И. И. История русской критики. Спб., 1900. Казанович Е. П. Д. И. Писарев (1840—56). Пг., 1922. Кирпотин В. Я. Радикальный разночинец Д. И. Писарев. М., 1934. Козьмин Б. П. Г. Е. Благосветлов и «Русское слово». «Современник», 1922, № 1. Его же, Раскол в нигилистах (Эпизод из истории рус. общественной мысли 60-х годов). — В его кн.: Из истории революционной мысли в России. Избранные труды. М., 1961. Его же. Д. И. Писарев и социализм. — В его кн.: Литература и история. М., 1969. Конкин С. С. Философско-эстетическая позиция журнала «Русское слово» в 1863–1866 годы. Стерлитамак, 1961. Кружков В. С. Дмитрий Иванович Писарев. Философские и социально-политические взгляды. М., 1952. Кузнецов Ф. Ф. Журнал «Русское слово». М., 1965. Его же. Публицисты 1860-х годов. Круг «Русского слова». Г. Благосветлов, В. Зайцев, Н. Соколов. М., 1969. Лемке М. К. Политические процессы в России 1860-х гг. (по архивным документам). М. — Пг., 1923. Маслин А. Н. Д. И. Писарев в борьбе за материализм и социальный прогресс. М., 1968. Пантин И. К. Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. М., 1973. Переверзев В. Ф. Нигилизм Писарева в социологическом освещении. «Красная новь», 1926, № 6. Плеханов Г. В. И. Г. Чернышевский. — В его кн.: Собр. соч., т. V. М. 1923, с. 326–363. Его же. Литература и эстетика. Тт. 1–2. М., 1958 (по указателю). Плоткин Л. А. Д. И. Писарев и литературно-общественное движение шестидесятых годов. Л.—М., 1945. Его же. Д. И. Писарев. Жизнь и деятельность. М. — Л., 1962. Розенберг Э. Атеизм Писарева. — В кн.: Русская литература в борьбе с религией. М., 1963, с. 137–168. Симкин Я. Р. Жизнь Дмитрия Ивановича Писарева. Ростов-на-Дону, 1969. Соловьев Е. А. Д. И. Писарев, его жизнь и литературная деятельность. Спб., 1893; изд. 2-е, Спб., 1894; изд. 3-е, Спб., 1899. Цыбенко В. А. Мировоззрение Д. И. Писарева. М., 1969. Четунова Н. Что разрушал «нигилист» Писарев? — Добролюбов и Писарев — критики Тургенева. — В ее кн.: В спорах о прекрасном. М., 1960. Ярославский Ем. Просветитель и революционный демократ. «Правда», 1940, 13 октября.
г) Библиография Бухшаб Б. Я. Д. И. Писарев. Указатель основной литературы. Л., 1940. История русской литературы XIX века. Библиографический указатель. Под ред. К. Д. Муратовой. М.—Л., 1962, с. 539–544.
•
В книге использованы материалы Государственных архивов: ЦГАОР, ЦГИА, ЦГАЛИ, ГИАМ, ГИАЛО, а также отделов рукописей Государственной публичной библиотеки, имени В. И. Ленина, Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и Пушкинского дома АН СССР.INFO
К68 Коротков Ю. Н. Писарев. М., «Молодая гвардия», 1976. 368 с. с ил., портр. (Жизнь замечал, людей. Серия биографий. Вып. 13 (565).
К 70302-302/078(02) —76 Без объявл 1ФС
Юрий Николаевич Коротков ПИСАРЕВ
Редактор Г. Померанцева Серийная обложка Ю. Арндта Художественный редактор А. Степанова Технический редактор Н. Носова Корректоры: Г. Василёва, З. Харитонова
Сдано в набор 25/III 1976 г. Подписано к печати 27/Х 1976 г. А07466. Формат 84Х108 1/32, Бумага № 1. Печ. л. 11,5 (усл. 19,32) + 17 вкл. Уч. — изд. л. 22,5. Тираж 100 000 экз. Цена 99 коп. Заказ 465.
Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

Последние комментарии
12 часов 37 минут назад
12 часов 53 минут назад
13 часов 6 минут назад
13 часов 11 минут назад
15 часов 43 минут назад
15 часов 47 минут назад