Нейлоновая шубка [Самуил Михайлович Шатров] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Нейлоновая шубка
Новелла о нейрохирурге МОТОВИЛИНЕ
Глава первая
КОРОЛЕВА ШИРПОТРЕБА. ОШИБКА ПРОФЕССОРА. КОМИССИОНКА ПАЛЕОЛИТА И ПОСТУПЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ВЕНЯ МУЗЫКАНТ И ЕГО ПОМОЩНИЦА
Накануне отъезда в Москву профессор Мотовилин купил жене шубку. Нейлоновую шубку цвета лунного серебра. Продавец зарубежного универмага сказал профессору, заворачивая покупку: — Мосье! Ваша дама получит дивный подарок. Это поистине синтетическая вещь! Элегантные формы и линии манто сочетаются с нежнейшим цветом. Шубка легка, как пушинка, и горяча, словно доменная печь. Она согреет вашей даме не только душу, но и сердце. — Шубы не согревают, — возразил профессор, любивший точность. — Они лишь сохраняют тепло человеческого тела. Так, по крайней мере, утверждает физика. — О да! Вы правы, мосье! — поспешил согласиться продавец. Он был хорошо воспитан. Он знал, что никогда не следует возражать покупателю, тем более когда товар продан. Спустя шесть часов профессор был уже в Москве. Он вручил подарок жене. Увы! Первая примерка не принесла радости. Лунное серебро висело на миниатюрной Нине Михайловне, словно маскировочный балахон на огородном чучеле. — Какой просчет! — искренне огорчился профессор. Мотовилин славился среди коллег-хирургов непревзойденной точностью руки и глаза. Его хирургический нож не ошибался и на десятые доли сантиметра. А тут профессор дал маху минимум на два размера. — Как же меня угораздило! — сказал Мотовилин. — Мне казалось, что ты значительно выше. Жена Мотовилина легко перенесла удар. Вещи не составляли единственного смысла ее жизни. Она сказала: — Стоит ли огорчаться, Егорушка? Право, это пустяки. У моего драпового пальто вполне приличный вид. К тому же я привыкаю к старым вещам. Мне трудно с ними расставаться. — Запамятовать рост, размер талии и объем грудной клетки собственной жены! Нет, в этом есть что-то склеротическое. — Ты и в дни молодости этого не знал, — мягко напомнила супруга. — И поверь, я не сетую. Мужчине не пристало возиться с тряпками. Я не люблю тряпичников. — Моя жена — святая и достойная женщина! — воскликнул профессор. То было любимое изречение Леонара Менетрие, владельца харчевни «Королева гусиные лапы». Профессор почитал Анатоля Франса и часто повторял вслух мысли и афоризмы его героев. В ближайшее воскресенье чета Мотовилиных отнесла нейлоновую шубку в комиссионный магазин. В тот день за фанерной перегородкой с табличкой:Прием на комиссию вещейдежурили двое: низкорослый молодой человек лет тридцати в пушистом вязаном жилете и пышнотелая брюнетка, чьи роскошные формы с трудом вмещались в черное муаровое платье строгого покроя. Платье угрожающе потрескивало, когда его хозяйка протягивала руку за вещью, которая, кстати, согласно правил, не должна быть слишком старой, поношенной, грязной, заплатанной, лицованной или побывавшей в чистке. Молодой человек, известный в широких деловых кругах «Скупторга» под кличкой «Веня-музыкант», небрежно принял шубку и бросил ее на широкий дубовый прилавок, до блеска отполированный вещами. На лице оценщика появилось брезгливо-скучающее выражение. Оно как бы говорило: «Вот опять люди заставили меня возиться с каким-то тряпьем. Тошно!» Беглый осмотр искусственного меха не принес оценщику морального облегчения. Он вздохнул и подбросил шубку. Описав в воздухе мертвую петлю, она плавно опустилась на прилавок подкладкой кверху. Вениамин Павлович взял хирургический скальпель, подпорол подкладку и заглянул вовнутрь. — Что ж, можно принять, — вяло сказал он, свернул рулоном шубку и затолкал под прилавок, словно это был кусок мешковины. — Пишите, Матильда Семеновна. Брюнетка потянулась за квитанционной книжкой, и ее платье затрещало, будто материю испытывали на разрыв. Веня-музыкант закурил «Казбек» и начал диктовать: — Шубка из нейлона. Размер — пятьдесят. Импорт. Десять процентов износа. Она еще совсем новая, — несмело вставила жена профессора. — Ненадеванная? — иронически улыбнулся Веня, обнажая зубы. У него были прекрасные, ровные мелкие зубы, много зубов, казалось даже больше, чем полагается для нормальной челюсти. — Разве вы сами не видите? — удивился профессор. — А вы что думаете на этот счет, Матильда Семеновна? — Что мне думать! Я еще не встречала ни одного сдатчика, который бы честно признался, что он принес надеванную вещь! — Вы, надеюсь, не подозреваете меня в сознательной лжи, — покраснел профессор. — Упаси бог! — спохватился Веня, боясь, что игра может зайти слишком далеко. — Слово клиента для нас закон. Матильда Семеновна, будьте настолько любезны, зачеркните слово «износ» и напишите «новая». Оценка две тысячи! — Всего? — удивилась Нина Михайловна. — За вычетом семи процентов комиссионных, вы получите на руки одну тысячу восемьсот шестьдесят… — Не слишком ли это дешево, Егорушка? — спросила жена профессора. — У нас, граждане, государственная организация, — с достоинством сказал Веня. — Возможно, на Тишинском рынке тунеядцы-маклаки дадут вам дороже, но я не могу. — Я вас понимаю, — быстро согласился профессор. — Если хотите знать, вещь больше не стоит. Передо мной не каракуль, не песец и даже, извините, не задрипанный кролик. Передо мной всего-навсего нейлон. Разве это мех? — А что это? — полюбопытствовала жена профессора. — Ничего. Если мех делают из нефти, из древесных опилок, из дыма, это уже не мех, а черт знает что! — Однако вы консерватор, — улыбнулся профессор. — Называйте меня как хотите, но я уважаю тот мех, на который затрачен труд. Возьмите манто из белки. Это вещь. Белку надо добыть. Попробуйте походить за ней по тундре!.. — По тайге, — поправил профессор. — Это одно и то же. Тундра не сахар, и тайга не мед. Походите по тайге в пятидесятиградусный мороз. Найдите белку. Выстрелите ей в глаз. Потом найдите еще одну. И еще, и еще… Подсчитайте, сколько надо настрелять белок для приличного манто?! Сколько нужно времени и сил! — Ваше сравнение белки с нейлоном неправомерно, — возразил профессор. — В средние века на производство телеги затрачивалось больше времени и усилий, чем нынче на выпуск мотоцикла. Из этого не следует делать вывод, что телега лучше… — А вы знаете, что ваш нейлон при пятнадцати градусах мороза можно выбросить на помойку? — В первый раз слышу, — сознался профессор. — К тому же нейлон не оформлен под натуральный мех, а является его произвольной модификацией. Веня-музыкант любил щегольнуть специальными терминами, почерпнутыми на курсах повышения квалификации. Он интуитивно понимал, что научная терминология способна не только кратчайшим путем доносить чужие знания до чужой головы, но и отлично камуфлировать собственные мысли, если их надобно скрыть. — Произвольная модификация имеет большое значение, — пояснил Веня. — Вероятно, поэтому вы и расцениваете шубку дешевле, — догадался профессор. — Я ничего не расцениваю. За меня это сделали умные люди. — И Вениамин Павлович извлек из-под прилавка толстенную книгу, напечатанную петитом. Профессор с уважением посмотрел на объемистый том, в котором с трудом умещался перечень вещей, носимых человеком. — В комиссионном магазине палеолита, — задумчиво молвил он, — книга расценок занимала бы совсем мало места. В ней была бы записана всего одна вещь: шкура пещерного медведя. Теперь же, чтобы описать и оценить носильные вещи современного человека, требуется том, вмещающий тысячи наименований. Как по-вашему, о чем говорит этот факт? — О том, что мы не хотим обманывать наших клиентов, — отозвалась Матильда Семеновна. — Вы мельчите вопрос, — улыбнулся профессор. — Этот факт свидетельствует о поступательном движении человеческой цивилизации, сопровождающемся изумительным ростом материальной культуры. — Не без того, — поспешил согласиться Веня. — Цивилизация действительно двигается вперед. За ней не угонишься… Так как вы решили? Отдаете за две? — Можно мы еще подумаем? — сказала жена профессора. — Боже мой! — вскричала Матильда Семеновна, и ее пухлое лицо изобразило страдание. — Чего еще людям надо? Дают же хорошую цену. Так нет, обязательно нужно нажиться! Продать втридорога, из-под полы… — Вы не слушайте ее, — сказал Веня, — она нервная женщина, общественница, редактор нашей стенгазеты «Голос скупщика». Она остро переживает всякую несправедливость. Я бы дал вам больше, но, поверьте, не могу переступить через расценок. — Переступи, переступи, — сказала Матильда Семеновна, — тебя на скамейку посадят… — Вы не думайте о нас дурно, — попросила профессорша. — Просто нам хотелось посоветоваться… — И почему люди так любят наживаться? — с надрывом спросила Матильда Семеновна. — Ну, я понимаю, спекулирует какая-нибудь уборщица. Большая семья, маленькая зарплата. Но обеспеченные люди? В нашей квартире живет один эстрадник. Чуть ли не каждый месяц он едет за границу, привозит оттуда барахло и торгует направо и налево… — Совести у него нет, — сказал Веня. — И как он только не боится общественности? — Жадность, — сказал Веня. — Ваш муж — интеллигентный человек. Неужели вы пошлете его на рынок? — с нескрываемым осуждением спросила Матильда Семеновна. — Как вы могли подумать! — оскорбилась Нина Михайловна. — Эх, на свой страх и риск даю две двести! — в порыве великодушия воскликнул Веня-музыкант. — Смотри, схлопочешь выговор, — предупредила Матильда Семеновна. — Пусть! Я пойду и на это! — самоотверженно заявил Веня. Профессор смутился. — Нет, зачем же, — сказал он. — Мне вовсе не хочется, чтобы из-за меня были неприятности. Выписывайте квитанцию на две тысячи. Супруги Мотовилины оформили свои деловые отношения со «Скупторгом» и покинули магазин.. — Я где-то читал о трагедии одной официантки, — сказал профессор уже на улице. — Изо дня в день она видела жующих людей. Восемь часов в сутки — одни жующие челюсти! Они перемалывали на ее глазах сотни килограммов пищи. И она возненавидела пищу и свою клиентуру. Я вспомнил об официантке, когда заговорила эта женщина из «Скупки». Сколько неподдельной горечи было в ее словах! Она, видимо, возненавидела людей, торгующих вещами! — Ужасная работа! — сказала жена профессора. — Еще бы! Ежедневный поединок с человеческой жадностью должен выматывать нервы! — Когда продадут шубку, напиши им, пожалуйста, благодарность, — сказала жена. — Обязательно напишу! — пообещал профессор. — Им нужна моральная поддержка! Тем временем в фанерном закутке тоже шел непосредственный обмен впечатлениями. — Вы видели что-нибудь подобное? — спросила, давясь от смеха, Матильда Семеновна. — Отдать за две тысячи такую бесценную вещь! — Он ненормальный, — сказал Веня. — У него не все дома. — Он слишком интеллигентный, — сказала Матильда Семеновна. — Он совестливый, ненормальный интеллигент, — уточнил Веня. — Ну и комик вы! — вдруг прыснула приемщица. Матильду Семеновну начало трясти от смеха. — Что вы там корчитесь? — спросил Веня. — Когда вы сказали про стенгазету, у меня чуть выкидыш не сделался! — А почему вы не можете быть редактором? Что у вас интеллекта не хватает? — Ай, идите вы! — простонала Матильда Семеновна. Она долго тряслась на своем табурете. — Матильдочка, — сказал Веня, — смех признак морального здоровья. Но одним смехом не проживешь, если ты не эстрадный сатирик. Принимайтесь за дело! Обзвоните клиентов! В комиссионном магазине, где директорствовал Вениамин Павлович Гурьянов, существовала особая система сбыта вещей. Наименее ходовые товары продавали в установленном порядке. Веня и Матильда Семеновна сбывали модные вещи, минуя продавцов. Разница между комиссионной и продажной ценой оседала в их бездонных карманах. Веня-музыкант и его верная помощница имели обширную клиентуру. Для переговоров по телефону они пользовались хитроумным кодом. Вот и сейчас Матильда Семеновна набрала номер и страстно зашептала в мембрану: — Мила Аркадьевна? Прибыла чудесная книга. Переплет невиданной красоты. Какого цвета обложка? Я даже не знаю, как вам описать. Вы когда-нибудь гуляли лунной ночью? Видели, как блестит река при луне?.. Вот именно, цвета лунного серебра!.. Что? Вам не идет этот цвет?! Не смешите меня! Он идет всем… — Не теряйте на нее время, — сказал Веня. — Позвоните лучше Исидору Андриановичу. Он прибежит сюда без шляпы! Матильда Семеновна набрала новый номер. — Если мы не продадим шубку за четыре куска, считайте меня идиотом! — не без торжественности сказал Веня.
Новелла о преуспевающем СТОМАТОЛОГЕ
Глава вторая
СТОМАТОЛОГ-НАДОМНИК. ЖЕРТВА ШТАПЕЛЯ. НИКЕЛИРОВАННОЕ БОЖЕСТВО. КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ДЫМ. МАНЕВРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Глаша, домработница Исидора Андриановича, сорокалетняя женщина с лицом плоским и жирным, как блин, никак не могла привыкнуть к звонкам. Они отравляли ей жизнь. С утра дребезжал будильник. Затем наступала очередь электрифицированного колокольчика у входной двери. Потом начинал названивать истерик телефон. Вечером, когда приходила молодежь коммунальной квартиры, он звонил не переставая. Это приводило в ярость Глашу. К 12 часам ночи она накалялась добела. Впрочем, и днем она дымилась от негодования. Никто, кроме нее, не подходил к телефону. Добрую половину своего рабочего времени она проводила в беготне от телефона к входной двери. К Исидору Андриановичу Бадееву, зубному врачу-надомнику, густо шли пациенты. Они валили косяком. Порой Глаше казалось, что весь город терзается от зубной боли. На пути к двери Глаша осыпала будущего пациента проклятиями, из которых самыми безобидными были: «Чтоб у тебя скулы повылазили!», «Чтоб ты зубами землю грыз!», «Чтоб тебе в десну инфекция попала!» У Исидора Андриановича лечились командировочные. Забегут, начнут молить: — Доктор, помогите! Мне завтра на коллегии отчитываться! — М-да, коллегия вам в зубы смотреть не станет, — острил доктор. Он не спеша извлекал из стеклянного шкафчика свой пыточный инструментарий, закатывал рукав халата, обнажая волосатую ширококостную руку молотобойца. Еще лечились у Бадеева обеспеченные старухи в траурных мантильях времен «Торгсина» и таких же прюнелевых туфлях. Старухи даже на врачебном кресле не снимали соломенных шляпок с пришпиленными к ним пыльными букетиками искусственных цветов. Пыльные старухи не доверяли поликлинике. Ведь у тамошних врачей не было такой холеной остроконечной мушкетерской бородки, перстня на левом мизинце и величественных манер. Со старухами Исидор Андрианович был отменно любезен. Лишь иногда он говорил с легкой укоризной в голосе: — Так, голубушка, у нас дело не пойдет. Вы сомкнули челюсти. Вы закрыли их, как сейф. Будьте благоразумны, дорогая. Клиентка трусливо разжимала зубы, и вскоре раздавались ее стоны, тонкий старушечий плач, прерываемый ласковым голосом Бадеева: — Мужайтесь, дорогая. Не цепляйтесь за свои корни! Вечерами Глаша выносила на помойку отходы стоматологического производства: удаленные зубы, отслужившие свой век коронки, кусочки гипса, окровавленные тампоны. — Живодер! — возмущалась дворничиха Хабибулина. — Такой тип с человека шкуру соскребет и папиросу закурит. — Живодер и есть! — охотно соглашалась Глаша. — Плюну я на ихнее жалованье и ворочусь назад в Тимофеевку. — Ворочайся, — говорила дворничиха. — Что ты у этого костолома не видела? — Не нравится мне ихняя квартира. Цельный день он людям скулы наизнанку выворачивает. — Эсэсовец, — говорила дворничиха. — Эсэсовец и есть, — подтверждала Глаша. — Весь день в квартире мужики стонут, бабы ревмя ревут. Сердце обрывается. Поверишь, за десять лет никак привыкнуть не могу! — А ты не привыкай. Зачем на них здоровье кладешь? Пусть его мадам тряпкой помахает. — Она помахает. Дождись! Нет, не буду я больше жить у них. Не нужно мне ихних подарков. Пойду на фабрику имени Бабурина. Дадут мне белый халат, буду конфеты в цеху заворачивать. — Уйди! — говорила дворничиха. — Понапрасну ты у них жизнь губишь. — Дождутся они, что уйду. В молочный бар приглашают, подавальщицей. Обратно же в кафетерий. А то и на вертикальную стенку. — Это что за стенка? — В парке. В павильон «Гонки по вертикальной стене» сторож требуется… Каждое утро по дороге в магазин Глаша внимательно прочитывала многочисленные объявления о найме рабочей силы. Они распаляли ее мстительное воображение. Сколько раз она мысленно рисовала себе полную сладостного драматизма сцену ухода от Бадеевых. Вот она появляется в столовой в момент утреннего чаепития: — До свидания, дорогие хозяева, говорит она. — Уезжаю я, стало быть, в Тимофеевку. (Иногда, в зависимости от объявлений «Горсправки», менялось место работы, и коронная фраза Глаши звучала так: «Ухожу я от вас, дорогие хозяева, в трамвайдепо, в магазин «Плодоовощ»…) Тут поднимаются вопли, хозяйка падает в обморок. Исидор Андрианович униженно трясет холеной бородкой и молит во имя всех святых не покидать их. Глаша же, бросив на стол договор, быстро выходит из комнаты. Но это были только видения, зыбкие как мираж. К ненавистному месту Глашу накрепко привязывали вещи. Она копила их, как нумизмат редкие монеты. В трех деревянных чемоданах хранились отрезы: ситцевые, штапельные, суконные, вискозные. Под нафталиновой прослойкой лежали шерстяные кофточки, юбки, белье. Подобно некоторым коллекционерам, она не пользовалась своими сокровищами. Вещи грели ее душу и тело заочно. Исидор Андрианович умело разжигал Глашину страсть. Каждый праздник она получала подарок. И эти будто свалившиеся с неба дешевые штапельные отрезы пришвартовывали Глашу к дому Бадеевых крепче, чем манильские канаты. То было сладкое рабство. Надежный тряпичный плен! Исидор Андрианович тоже был пленником. Его душу полонила прекрасная бежевая «Волга». С тех пор, как она появилась под окнами бадеевской квартиры, стоматолог потерял покой и сон. Исидор Андрианович никого не подпускал к своему никелированному божеству. Он молился ему в одиночестве. Он приносил ему жертвы. Он мог часами лежать меж колесами, подвинчивая гайки и подтягивая рессоры. Стоматолог не уставал мыть, чистить, протирать, смазывать бежевую красавицу. Он готов был слизывать грязь с баллонов. Больше всего Исидор Андрианович боялся потерять свое божество. Всюду ему мерещились похитители автомобилей. С нездоровым любопытством он выслушивал страшные байки из беспокойной жизни владельцев машин. То был леденящий душу уголовно-автомобильный фольклор. Чего только не случается на белом свете! У одного несчастного угнали новенькую «Волгу», пока он менял деньги, чтобы выпить стакан газированной воды с клюквенным сиропом. Другой припрятал «Москвича» в самодельном железном гараже под семью секретными замками. Как-то утром он пришел проведать своего любимца. И — о ужас! Замки — на месте, машины нет! Оказывается, ночью подъехал кран, поднял в воздух гараж, и наглые злоумышленники преспокойно вывели «Москвича». Третий хранил всю зиму свою «Победу» под брезентом. Весной он открыл брезент… и что бы вы думали? Вместо вишневой стояла синяя «Победа» с шашечным орнаментом по бортам! — Зачем же ворам было менять машину? — лязгая зубами от страха, спросил стоматолог. — Наивный вы человек. Уголовный розыск искал украденное такси, а в это время злоумышленники спокойно продали вишневую «Победу»! Исидор Андрианович слыл человеком действия. Он заблаговременно принял меры. На руль были навешаны два хитроумных замка, сработанных одним перековавшимся медвежатником, ныне продавцом елочных игрушек. Механик-левак разработал для него сложную систему блокировки. Стоило вору проникнуть в машину, как начинал гудеть клаксон. Он ревел безостановочно во всю мощь своей механической глотки. Не мог злоумышленник и завести машину, не зная секрета. Даже если бы похитителю удалось сдвинуть ее с места, радоваться было преждевременно. Вора ждал новый сюрприз. Машина шла рывками, останавливаясь через каждые два метра, как стреноженная лошадь. Был и еще один секрет… Словом, чтобы отключить систему блокировки, рассекретить машину и выехать со двора, самому хозяину требовалось не меньше двух часов. Но и это показалось Исидору Андриановичу мало. Однажды бессонной ночью, когда, лежа в постели, он тревожно прислушивался к шорохам, доносившимся со двора, у него возникла оригинальная мысль. Он установит в кабине капкан! Утром, чуть свет, стоматолог поехал в охотничье хозяйство. Здесь в обмен на три пломбы он раздобыл «капкан ущемляющий» для отлова волка, росомахи и рыси. Исидор Андрианович, повизгивая от счастья, замаскировал охотничий прибор в кабине. Стоматологу не пришлось долго ждать. Как-то впопыхах он забыл о коварной ловушке и сам сунул в нее ногу. Капкан исправно сработал. Исидор Андрианович взвыл не своим голосом. Сбежались родичи и соседи. Они с трудом освободили стоматолога из железного плена. Оправившись от травмы, Исидор Андрианович продолжал изыскивать контрмеры. Возникла идея дымовой шашки. Что, если коробку с дымообразующей смесью пристроить в кабине. Шашка начнет действовать, как только злоумышленник заведет мотор. Черный дым, бьющий из кабины, должен насторожить пешеходов и орудовцев. Идея была принята на семейном совете. Стоматолог начал искать пиротехника, чтобы наладить производство консервированного дыма… Для проверки уже действующей системы блокировки, стоматолог время от времени проводил маневры местного значения. Роль условного противника играла Глаша. Перед ней ставилась задача в наикратчайший срок проникнуть в машину. Бадеев стоял в сторонке с хронометром в руках. Двусторонние учения, равно как и защитные меры, не приносили Исидору Андриановичу желанного спокойствия. Он продолжал терзаться страхом. Он плохо спал по ночам, то и дело соскакивал с постели, чтобы проверить, на месте ли машина. Да и днем, в часы приема больных, он ежеминутно подбегал к окну. Вот и сейчас Исидор Андрианович глядел на свою бежевую красавицу, держа в руке стоматологическую иглу. А в это время очередная нафталинная старушка корчилась в кресле с открытым ртом, не понимая, почему мешкает врач. Телефонный звонок из комиссионного магазина не вывел его из созерцательного состояния. Не отреагировала на звонок и Глаша. Она сидела на кухне, сложив под передником руки, и беззвучно шевелила губами, предаваясь мстительным мечтаниям. «Так ухожу я от вас, дорогие хозяева», — мысленно произносила она свою сакраментальную фразу. Два повторных звонка тоже не подействовали на Глашу. «На вертикальную стенку ухожу», — продолжала она бубнить про себя. Лишь после того, как аппарат начал истерически захлебываться, Глаша не спеша поднялась с табурета и проследовала в коридор. — Ах, чтоб вам повылазило! — сказала она вслух, не обращая внимания на дожидавшихся приема больных. — М-да, — протянула она в трубку противным бюрократическим голосом. — Мне бы Исидора Андриановича, — пророкотала трубка. — А кто его спрашивают?. М-дэ… Сейчас погляжу, дома ли они. Глаша просунула голову в кабинет. — Вас Матильда Семеновна требуют. Говорит срочное дело. Вы дома или как? Исидор Андрианович начал снимать халат. Старушка заохала. — Простите, голубушка, — сказал он. — Форс-мажор! Меня вызывают на консультацию в одну, так сказать, номерную поликлинику… Закройте рот, до завтра… Исидор Андрианович принес извинения и другим больным. Он поспешил в комиссионный магазин. Веня-музыкант встретил его как старого, доброго знакомого. — Вы счастливчик, доктор, — сказал он. — Вам безумно везет! — Еще бы! Я сегодня опять увидел нашу дорогую Матильду Семеновну! — Ай, идите вы! — заколыхалась на своем табурете приемщица. — Комплиментщик! — Вы читали сегодня в газетах про одного шофера? — продолжил свою мысль Веня. — Он купил всего четыре билета денежно-вещевой лотереи и выиграл: наручные часы «Заря», патефон, мотоцикл и холодильник «Север». — Если бы мне так повезло, я бы немедленно застрелился, — сказал стоматолог. — Вам повезло больше, чем шоферу! Получайте сказочную шубку — королеву зарубежного ширпотреба! — с этими словами Веня метнул на прилавок серебристый нейлон. — Вы хотите подарить ее мне? Отдать бесплатно? — Если не бесплатно, то почти даром! Исидор Андрианович внимательно осмотрел шубку. Ощупал и даже понюхал мех. Изучил торговую марку, на которой был изображен королевский пингвин, держащий в клюве кусок нейлона. Стоматолог заставил Матильду Семеновну накинуть шубку на плечи и продефилировать перед ним. Затем начался торг. Обе стороны проявили незаурядное красноречие и эрудицию. Веня-музыкант превозносил до небес красоту, ветрозащитные и теплоизоляционные свойства нейлона. Исидор Андрианович более лестно отзывался о выделанных шкурках овцы, песца, куницы и даже белки. — В современных условиях носить белку — то же, что ездить в гости на телеге, — с нескрываемым презрением сказал Веня, очевидно, запамятовав, что час назад он восторженно рекламировал этот мех. После длительного, некрасивого и несколько сумбурного торга Веня-музыкант и стоматолог ударили по рукам. Посещение комиссионного магазина обошлось Исидору Андриановичу в четыре тысячи рублей. Стоматолог не без сожаления расставался с деньгами. Он был немного расстроен. Прохвост Веня несомненно содрал с него лишнюю тысячу. Уж очень легко достаются деньги этому типу! Стоматологу приходится труднее. Попробуй-ка выбить из старушечьей челюсти тысячу рублей! А этот молодой аферист склевывает золотые зерна и еще ухмыляется. Веня протянул манто, аккуратно увернутое в бумагу. Он улыбался, обнажив ровные, хорошо подогнанные зубы. «Вот ферт! — подумал Исидор Андрианович. — Ни одного изъяна! Ну, попадись ко мне в руки. Повертишься в моем кресле!»Глава третья
ЖЕНИХ ИЗ ЛЕНИНГРАДА. ОТДАЙТЕ МОЮ ДОЧЬ! МИКРОИНФАРКТ
Исидор Андрианович не любил жену, родственников, Глашу, соседей, коллег, сокурсников, земляков — словом, всех окружающих его людей. Любви стоматолога не мог удостоиться ни один из двух миллиардов девятисот миллионов жителей нашей планеты, если не считать дочери. Дочь он обожал. Он питал к ней самые трогательные, самые нежные отцовские чувства. Ей он и купил нейлоновую шубку. Исидор Андрианович с трепетом ждал приезда своей Настеньки. Кажется, совсем недавно она поступала в институт. Только вчера уехала в Ленинград на учебу. И вот — нате вам! Дочь геолог, дочь невеста. Какое счастье, что она возвращается в Москву! Вернуть родное чадо в столицу было не так-то просто. Исидору Андриановичу безумно повезло. Судьба сослепу бросила в его зубоврачебное кресло корчившегося от боли председателя комиссии по распределению студентов. Командированный в Москву председатель света белого не видел. И тут стоматолог превзошел самого себя. Он удачно удалил больной зуб, запломбировал два других и снял камень. Он привел челюсти председателя в такое идеальное состояние, что тот мог бы сжевать брусок легированной стали, будь на то желание. Вместе с зубом Исидор Андрианович вырвал у своего пациента обещание направить дочь на работу в Москву. Настенька приехала под вечер. Несмотря на поздний час, в мрачной, затемненной квартире Бадеевых заиграли солнечные зайчики. После традиционных объятий, поцелуев, беспорядочных расспросов стоматологу был нанесен первый удар. — Папа, я должна сообщить тебе одну важную новость, — сказал Настенька. Глядя на откровенно счастливое лицо дочери, Исидор Андрианович почувствовал, что у него сжалось сердце. — Только не пугайся, папочка, — заспешила Настенька. — Он хороший парень. Я люблю Владика уже давно, целых полгода! — Какой парень? Что за Владик? — еще больше испугался стоматолог. — Владик — это мой жених! Наступила нехорошая пауза. Исидор Андрианович оперся волосатой рукой о край стола. Железная его длань постыдно дрожала. — Хорошо, — сказал он. — Спасибо! Жена стоматолога Раиса Федоровна на всякий случай заплакала. — Ты что, не могла обождать? — линялым голосом спросил Исидор Андрианович. — Тебе было невтерпеж? — Но если я его полюбила… — Полюбила! Десять тысяч раз ты еще могла полюбить! — Погуляй, дочка, на воле! Не суй голову в ярмо! — запричитала Раиса Федоровна. — Поживи в свое удовольствие. — Такие молоденькие! — поддакнула Глаша. — Что за спешка?! Тебе негде было жить? Нечего было есть?! Ты старая дева?! — закричал Исидор Андрианович. — Он богатый, — догадалась Глаша. — Как вам не стыдно, Глаша! — покраснела Настенька. — Он такой же студент, как и я! — Студент? Понятно! Одна пара брюк, дырявый макинтош и полуботинки на все случаи жизни, — с нескрываемым сарказмом сказал стоматолог. — Лучшего и желать не надо! Исидору Андриановичу не пришлось размусоливать свои переживания. Раздался звонок, и Глаша, чертыхаясь, пошла открывать дверь. В комнату вошел высокий нескладный парень в стареньком, хорошо промытом ленинградскими дождями плаще. — Это мой Владик! — сказала Настенька, исторгая из глубин своего существа волны любви и света. Парень вытер запотевшие очки, и его милое и некрасивое лицо изобразило крайнюю степень смущения. Стоматолог тяжело поднялся со стула. Небрежно кивнув в сторону парня, он сказал Глаше: — Вечерний прием сегодня отменяется. — А с острой болью? — спросила поднаторевшая в зубоврачебных делах Глаша. — С болью? — переспросил Исидор Андрианович с трагической усмешкой. — А как быть с моей болью? Какой врач ее снимет? Не знаешь, Глаша? Он пошел в кабинет, тяжело волоча ноги. — Я подумаю, Настенька, — сказал он в дверях. Стоматолог думал неделю. Внешне жизнь семьи Бадеевых шла своим чередом. Стонали пыльные старушки, Исидор Андрианович пересчитывал захватанные десятки. Чертыхалась Глаша. Как-то вечером опять пришел Владик. Стоматолог демонстративно удалился в свой кабинет. Он вышел оттуда лишь час спустя. Исидора Андриановича шатало. — Украли! — сказал он Владику. — Увели! Владик страшно смутился. — Поверьте, Исидор Андрианович, — начал было он. — Я… — Единственное счастье, единственную радость украли! — Папочка, меня никто не крал! — воскликнула Настенька. — Машину украли! — рявкнул стоматолог и, схватившись за сердце, повалился па диван. Через две недели Глаша сделала для дворничихи обстоятельный доклад о событиях в доме зубного врача. — Как он, значит, на диван повалился, так и не встал! — Придуривается, — поставила диагноз дворничиха. — Понаехали врачи. Небольшой, говорят, инфархт. — Неужто помрет? — Нет, уже вставать начал. — Я же говорю, придуривается. А Настенька как? — Уезжает. «Не хотим, говорит, папа жить в Москве. Не нужна нам ваша квартира…» — Не с руки, значит… — Ага, неподходяще. В Сибирь уезжают. Дескать, для ейного Владика работа там самая наилучшая. Дескать, там он развернется у полную силу, а здесь ему развороту не будет. — Молодой, молодой, а деньгу, видать, любит! — А как же иначе! И, дескать, ей надобно в Сибири жить — в тундре каменья искать… «Там, говорит, папа, работа меня внутренне удовлетворяет, а тут не удовлетворяет…» — Стало быть, тоже свой рубль ищет! А как он, живодер? — Не спрашивай! Как про каменья услышал, так у него язык отнялся. Сидит, ушами двигает… — Переживает, значит! — Страсть как переживает. Он ей и так и этак: здесь вам и комната, и отопление, и освещение, и родители, и богатство, а она головой мотает… — Отделиться хотят… — Я ей и то говорю: как же ты, Настенька, у тундре жить будешь, может, там манафактуры и вовсе нет? Не слухает! — Свое доказывает… — Напоследок Исидор Андрианович вынул шубку красоты неописуемой! Настенька не берет! — Отказывается, значит? — «Спасибо, говорит, папа, только такая шубка в тундре будто ни к чему. Не носильная она в тундре вещь!» — Ну раз такую вещь не берет — значит, все! — заключила Хабибулина. Прошла еще неделя. Настенька и Владик уехали в Сибирь. Исидор Андрианович встал с постели. Машину так и не нашли. Он понес шубку в комиссионный магазин. Веня-музыкант встретил стоматолога без особых почестей. Он не высказал и большого удивления. С деланным равнодушием он распластал нейлоновое диво на прилавке. — Не трудитесь. Можете не изучать ее. Она ненадеванная, — сказал Исидор Андрианович. — Я не столько изучаю, сколько думаю, — ответил Веня. — Вы, оказывается, по совместительству еще мыслитель, — заметил стоматолог. Веня пропустил мимо ушей бестактную остроту. — Я думаю о том, — сказал он, — во сколько оценить этот заграничный ширпотреб. — Выпадение памяти — первый признак склероза, — сказал стоматолог. — Неужели вы запамятовали, что я заплатил вам четыре тысячи! — Я никогда ничего не забываю, — сказал Веня. — Просто жизнь идет вперед. Ситуация, к сожалению, изменилась. Матильда Семеновна, сколько нам принесли вчера на комиссию нейлоновых шуб? — Шестнадцать! — не моргнув глазом, соврала приемщица. — Вот видите! Из-за рубежа приехал какой-то ансамбль песни и пляски. Актрисы начали распродавать шубы. Они узнали, что импортный нейлон не выдерживает наших морозов! — Это ужасно! — сказал стоматолог. — И что вы предлагаете? — Мы можем теперь оценить эту вещь только в три с половиной тысячи рублей. — Побойтесь бога, Веня! Вы расцениваете свою байку про ансамбль в пятьсот рублей? Не слишком ли это дорого? — Какая байка! Это же факт… — начал было Веня. — Слушайте, дорогой! — сказал серьезно стоматолог. — Жизнь больно ударила меня. У меня увели машину. У меня украли дочь. У меня большая душевная травма. Но я еще не стал сумасшедшим. Я не созрел для палаты номер шесть. Я нормальный. — Я не понимаю, как можно переживать из-за каких-нибудь пятисот рублей? — Я всегда переживаю, когда у меня хотят отнять деньги. Такой уж у меня характер. Заверните шубку — и закончим этот глупый разговор! — Боже мой, какой вы принципиальный! — сказала Матильда Семеновна, посылая стоматологу одну из лучших своих улыбок. — Ладно, — сказал Веня. — Не будем терять дружбу из-за денег. Я на вас не в обиде. Как говорит восточная пословица: лучше пощечину от друга, чем хлеб от врага! Матильда Семеновна, выпишите квитанцию на четыре тысячи! — Вы рискуете, Вениамин Павлович, — на всякий случай сказала Матильда Семеновна. — У вас из-за этой шубки могут быть неприятности. — О да! Он рискует, — рассмеялся Исидор Андрианович. — Он рискует заработать еще несколько сот рублей! — Ай, идите вы! — заколыхалась на своем табурете приемщица. — У нас же государственная организация! Когда стоматолог ушел, Веня быстро затолкал шубку под прилавок. Матильда Семеновна начала обзванивать клиентуру, сообщая о новой книге в изящном переплете цвета лунного серебра.Новелла о красавице-тунеядке ИНГЕ ФЕДОРОВНЕ
Глава четвертая
ЦИВИЛИСТ СУГОНЯЕВ. ЦЕНА ГАЛАКТИКИ. НАЧАЛО ТРАГЕДИИ. «АРИВЕДЕРЧИ»
Василий Петрович Сугоняев был своего рода известностью в юридической консультации. Он слыл великим докой по части жилищного права. Он на память знал все законы, касающиеся этого в высшей степени тонкого предмета. К тому же он был дьявольски красноречив. Даже самые черствые судьи и народные заседатели не могли устоять перед железной логикой и гражданским пафосом его речей. Василий Петрович мог запросто отсудить жилплощадь. Он мог разделить квартиру и изъять внутрикомнатные излишки. Превратить жилое помещение в нежилое и наоборот. Поставить на место наймодателя, осадить зарвавшегося съемщика. Он все мог! Сугоняев был мастером перегородочных дел. Так на профессиональном языке некоторых адвокатов назывались дела, рожденные перегородкой, жилищной теснотой, перенаселенностью. Василий Петрович поднаторел в разборе коридорных баталий и кухонных свар. Он преуспевал. Его жена Инга Федоровна слыла одной из самых элегантных адвокатских жен. Это была яркая губастая блондинка, выглядевшая значительно моложе своих лет. Она считала себя неотразимой. Василий Петрович побаивался жены. Ему было за пятьдесят. Как говорят поэты: «Холодные ветры старости коснулись его своим крылом». Побаливало сердце, хрустели суставы, и по утрам во рту было так погано, словно всю ночь он жевал паклю, вымоченную в солидоле. На фоне этих неприятных симптомов жена казалась ему вдвойне молодой, обаятельной и желанной для посторонних мужчин. Инга Федоровна и ее старшая сестра Милица разжигали в адвокате страстную недоверчивость и мучительные сомнения. Они недвусмысленно намекали, что акции Василия Петровича падают с каждым днем. Василий Петрович страдал и озлоблялся. Положение осложнилось еще и тем, что в последнее время заработки Сугоняева резко снизились. Деловая конъюнктура складывалась явно не в его пользу. Время работало не на адвоката. Ежедневно с большого строительного конвейера сходили огромные жилые корпуса. К новым домам стягивались рычащие грузовики. Шумное племя новоселов с сервантами на плечах врывалось в светлые квартиры с окнами в полстены. Солнце беспрепятственно входило в дома. Новоселы были откровенно счастливы. Они не хотели судиться. Один из лучших умов консультации, адвокат Тарабрин, сказал как-то Василию Петровичу: — Сейчас москвичей можно разделить на три категории: на тех, кто: а) получил квартиры, б) дожидается, в) не надеется получить сам, но знает, что ее получат соседи. Эти люди навеки потеряны для перегородочных дел. Это необратимый процесс, Сугоняев. Мой совет: переквалифицируйтесь, пока не поздно. Перекуйте адвокатский меч на орало. — На забрало! — глупо сострил Сугоняев и добавил: — На мой век клиентов хватит. — Наивный вы человек, — сказал Тарабрин. — Я намного старше вас. На моих глазах погрузились в пучину небытия прекрасные адвокатские специальности. Какие, скажем, были мастера по бракоразводным делам! Короли! Вы уже не застали их. А богатейшие тяжбы со страховыми обществами? Золотые возможности! Клиенты вчиняют иск «Саламандре». «Саламандра» не хочет платить. «Саламандра» считает, что клиент сам поджег свой дом. Сколько было таких поджигателей, и всем им требовались адвокаты. А процессы о наследствах? Боже мой, это же был адвокатский Клондайк! Алмазные россыпи Гвианы! И это все кануло в Лету! — Но тогда произошла революция! — А что сейчас происходит в стране? Жилищная революция! В нынешней семилетке страна получит столько новых домов, что из них можно воздвигнуть больше десятка таких городов, как Москва! А ведь наша столица строилась свыше восьмисот лет! Попомните мои слова, Сугоняев: «Очень скоро адвокат-перегородочник станет такой же музейной редкостью, как извозчик-лихач!» Такие речи все чаще раздавались в юридической консультации. Заработки упали не только у Сугоняева, но и у других адвокатов. С народными судами все больше конкурировали суды общественные. Даже за бесплатными советами приходило все меньше клиентов. Этой новой ситуации не учитывала Инга Федоровна. Она вынашивала далеко идущие планы мебельной реконструкции семейного гнезда, а также выработала широкую программу повседневного обновления своего гардероба. Сугоняев отчаянно сопротивлялся. В этой борьбе численный перевес был не на стороне адвоката. Ингу Федоровну поддерживала Милица. Милица Федоровна целыми днями просиживала у окна. Она со скрупулезной точностью вела учет всему, что приобретали жильцы пятиэтажного дома. Фиксировались все покупки, начиная от эмалированной миски и кончая мебельным гарнитуром, чтобы впоследствии оповестить о них дворовую общественность. Вечерами, когда Василий Петрович мечтал об отдыхе, начинался ненавистный разговор об удачливых добытчиках и чужом процветании. Милица Федоровна, пощелкивая отстающим, плохо подогнанным зубным протезом, сообщала младшей сестре о новых приобретениях соседей. Свою информацию она сопровождала сентенциями вроде: «Живут же люди!», «Мы так жить не будем», «Достают же люди!», «Мы не достанем», «Есть же мужья!» и т. д. и т. п. Адвокат вскипал. — Мне дадут покой в этом доме?! — кричал он. — А кто тебя трогает? Разве нельзя поговорить с родной сестрой? После незначительной паузы снова доносилось щелканье прыгающего протеза. Милица Федоровна изготавливалась для очередного удара. — Еще одна новость! — говорила она. — Самородовы стали кинолюбителями. Они купили немецкий узкопленочный аппарат и уже накрутили чудесный фильм из своей личной жизни. Они засняли на пленку свою поездку в Крым и на Кавказ. Они засняли буквально все: и как они садятся в машину, и как Сергей Федорович держит руль, и как они завтракают на автостанции, и как жарят шашлык в ущелье под Гагрой, и как моют в Черном море виноград «изабелла», и как обедают в Ялте, Сухуми и Алуште, и как ужинают на озере Рица… Очень содержательная картина, я смотрела ее с захватывающим интересом! — Люди бесятся с жиру, — вздохнула Инга Федоровна. — Нам так не придется… — Поставь точку, Инга! — попросил адвокат. — Поставь запятую, — возразила Милица. — Так в жизни всегда бывает, — продолжала Инга Федоровна. — Одни швыряют деньги на ветер, в то время, как другим нечегонадеть, нечем прикрыть тело… — Кому это нечем прикрыть тело? — дрожа, словно заведенный мотор, спросил адвокат. — Тебя это очень интересует? — Да, очень! — Не разговаривай с ним, Инга. Он еще нагрубит тебе. — Нет, я хочу знать: кому нечем прикрыть тело?! — Как это унизительно! — сказала Инга Федоровна голосом Виолетты, умирающей от чахотки. — Что унизительно? — Умоляю тебя, не отвечай. Потерпи! — воскликнула старшая, и по ее лицу покатилась слеза. — Ты плачешь? Милая, хорошая моя, — простонала Инга Федоровна и смахнула пальчиком слезу с морщинистой, загрунтованной кремами щеки старшей сестры. — Комедиантки! — вскричал адвокат. В два прыжка он очутился у платяного шкафа. — Комедиантки! Кто здесь гол как сокол?! — завопил Сугоняев на всю квартиру. Справедливости ради следует отметить, что длинный и вместительный, как товарный вагон, шкаф был до отказа набит туалетами Инги Федоровны. Лишь в самом углу висел прижатый к стенке один-единственный парадный костюм Сугоняева. Сестры даже не взглянули в сторону Василия Петровича. Милица Федоровна взяла из аптечки скляночку с валидолом. Она капнула на сахар лекарство и подала сестре. Валидол вернул младшую к жизни. — У меня нет даже зимнего пальто, — чуть слышно сказала она. — А в чем ты будешь ходить? — участливо спросила старшая. — Не знаю… — Возьми мое! — великодушно предложила Милица. Адвоката затрясло. — А это что? — заголосил он, срывая с вешалки пальто. — Тряпка? Хламида? Рубище?! Я заплатил за него три тысячи в прошлом году! Сестры не удостоили адвоката ответом. — Если бы ты знала, как мне порой бывает здесь душно, — сказала младшая. — Тошно, — подсказала старшая. — И тошно, и душно, и совсем нет воздуха… — Атмосферы нет, — уточнила старшая. — Каждый день втаптывают в грязь твое я, твой интеллект… — Ай, ай, держите меня! — сказал адвокат. — Наш интеллект! Опомнись! Какой интеллект! Ты же пустая! Внутри у тебя ничего нет! Ты пустая, как брошенная консервная банка! — И так каждый день! — сказала младшая. — Каждый час, — добавила старшая. — Еще немного — и я потеряю здесь свою индивидуальность, свое мировоззрение… — Мировоззрение! Господи! Да какое у тебя мировоззрение? Шкаф с тряпками — вот твое мировоззрение. За такой шкаф ты продашь меня, семью, любовь! За два шкафа я куплю у тебя солнечную систему, нашу Галактику, Млечный Путь!.. За три шкафа… Адвокат не успел закончить тираду. Инга Федоровна величественно поднялась с тахты. Она молча подошла к шкафу и начала раздеваться. Она стащила с себя платье и осталась в одной комбинации. Ее стройная, не по годам сохранившаяся фигурка с отлично сформированной грудью была еще очень хороша. Невольный вздох вырвался у адвоката. Инга Федоровна стыдливо прикрыла декольте ладошкой. Правой рукой она сняла чулки и надела туфли на босу ногу. Сугоняев, недоумевая, ждал дальнейшего разворота событий. Скандалы в их доме кончались по-разному. В этом отношении Инга Федоровна проявляла недюжинную изобретательность. Но сегодняшний финал не был похож ни на один из предыдущих. Между тем Инга Федоровна выбрала в шкафу из четырех летних и демисезонных пальто самое плохонькое и надела его на комбинацию. Она застегнула пуговицы до самого горла и, чуть покачивая бедрами, пошла к выходу. — Идем! — приказала она старшей сестре, не оборачиваясь. — Ты спятила! — крикнул адвокат. — Идем! — повторила Инга Федоровна. — Оставим этому мещанину его шкаф, его тряпки и его попреки! Сестры вышли. Василий Петрович помешкал немного. Когда он выбежал на лестничную площадку, сестры были уже на первом этаже. Адвокат перегнулся через перила и крикнул вдогонку: — Ариведерчи! Счастливого пути!Глава пятая
НЕОЖИДАННАЯ СВОБОДА. «АЛЛО, АЛЛО, МОЯ ЗВЕЗДА…» ПРОКЛЯТОЕ СЕРДЦЕ. СНОВА НЕЙЛОНОВАЯ ШУБКА
Василий Петрович вернулся в свою комнату. «Ушла… Главное не паниковать, — думал он. — Не подавать виду, держать себя в руках. Не подавать голоса, признаков жизни. Ты умер. Умер для нее и для ее фокусов. Туфли на босу ногу — пошлый трюк. Пальто на комбинацию — дешевка. Цена три копейки в базарный день. Главное — не поддаваться, не сгибаться. Она придет. Как миленькая. Придет, никуда не денется!» Адвокат убрал в шкаф платье и чулки. Он успокоился. Ему захотелось есть. Он запер квартиру и, как в далекие, беззаботные времена молодости, пошел в шашлычную. Он выпил задиристую рюмку водки, съел огнедышащее харчо и цыпленка-«табака». Ему стало весело. От нечего делать он сел в речной трамвай и поехал в Парк культуры и отдыха. В парке он катался на «чертовом колесе», бил молотом по наковальне, чтобы испытать силу своих рук, и ел вафельные трубочки с заварным кремом. Он пришел домой поздно вечером. В комнате было тихо. В комнате было необычно уютно. Чувство свободы с новой силой овладело всем его существом. Пренебрегая былыми запретами, он съел кусок жирной ветчины без хлеба и лег в постель, не вымыв ног. Он поставил на полированный финский табурет настольную лампу и начал читать. Вскоре он заснул, не потушив света. Ему приснился дивный сон. Ему привиделось, будто он уже не адвокат-перегородочник. Он ученый. За работу «Имена-отчества в эпоху матриархата» ему дали докторскую степень. Он обнаружил, что в те далекие времена наименования давали не по отцу, а по матери. Мужчин тогда величали Степан Марусевич, Иван Катевич, Илья Наташевич. Это открытие принесло адвокату мировую славу. Шестнадцать академий выбрали его своим почетным членом. Английские коллеги вручили ему горностаевую мантию. Ее немедленно отобрала жена, чтобы сшить из нее шубку. Но это даже не огорчило Сугоняева. Он улыбался во сне. Утром он встал свежий, словно младенец, вынутый из купели. Он походил в кальсонах по комнате, насвистывая марш из кинофильма «Цирк». «Черт возьми, получается не так уж плохо, — подумал он. — Жить можно!» Завтракал он в комсомольском кафе. Ему подавала милая официантка, с виду совсем подросток. Она обслуживала его с трогательной заботливостью и отказалась от чаевых. Он опять вспомнил жену. Заспанная и злая, она вставала утром с постели, чтобы в сердцах швырнуть завтрак на стол. Она подавала еду с полузакрытыми глазами, словно боялась разогнать сон. Потом валилась на кровать, и, когда адвокат уходил на работу, вдогонку ему доносился извозчичий храп. В консультацию Василий Петрович явился раньше обычного. Он дал несколько бесплатных советов и принял любопытное дело о самовольной постройке мезонина. Обедал адвокат в шашлычной «Эльбрус». На этот раз он съел грандиозный фирменный шашлык и выпил три большие рюмки коньяку. Из «Эльбруса» он, не раздумывая, пошел в кино. Показывали картину из жизни одного заграничного тенора. Красавец тенор менял костюмы, влюблялся заочно в девушек и временами морально переживал. Все герои, несмотря на разные там неудачи и душевные травмы, безудержно веселились. Они пели и плясали в роскошном особняке, где полы были выложены черно-белыми плитами, такими чистыми и блестящими, что в них можно было смотреться, как в зеркало. И одеты были герои по самой что ни на есть последней моде, и ужинали они при свечах, хотя и была электрическая проводка. И все они были красивые, сытые и вежливые; только один раз некий красавец джентльмен дал красавцу тенору по скуле так, что певец отлетел в другой конец зала. Но тенор тут же поднялся, такой же красивый, как и был: волосы гладко причесаны, галстук на месте и белый платочек в боковом кармане. Он поднялся с пола, подошел к красавцу джентльмену, смахнул мизинцем пушинку с лацкана его пиджака и вдруг дал ему по зубам так, что того перенесло через стол… Нет, что бы там ни говорили, просто замечательная картина, весело смотреть… «Алло, алло, я вас люблю, алло, алло, я вам пою…» И песня замечательная… «Алло, алло, со мной всегда, алло, алло, моя звезда…» В зале зажегся свет. Адвокат поднялся с места. От музыки и выпитого коньяка его сильно пошатывало. «…Алло, алло, моя звезда…» Он приехал домой на такси и лег на тахту… «…Алло, алло, со мной всегда…» Василий Петрович проснулся поздно вечером. Коньяк и фирменный шашлык сделали свое черное дело. Страшная изжога раскалила его внутренности. «Не надо было есть чесночного соуса, — сказал он себе. — Ты же знаешь, тебе нельзя. И коньяк не надо было пить! — Он начал искать соду. — И шашлыка не надо было жрать, идиот паршивый!» Соды нигде не было. Он опять лег на тахту. И тут его так схватило, так сжало сердце, что он со всех ног кинулся за валидолом. Он запихал таблетку под язык, сел на стул и нашел пульс. «С пульсом хреново», — констатировал адвокат. В эту ночь Василий Петрович спал плохо. Утром он едва собрал себя по частям. Он не пошел в кафе. Он пожевал сухарик и запил его плохо заваренным чаем. На работе Сугоняев чувствовал себя вялым и разбитым, словно его измочалил в драке красавец джентльмен. Вечером ему стало еще хуже. Болело сердце. Боль отдавалась под лопаткой. Ныла рука. «Так можно угодить в урну», — с тоской подумал адвокат. Он вспомнил о жене, заботливой и нежной в дни его болезней. — Инга! Ингушонок! — прошептал Сугоняев, отвернулся к стене и заплакал. В эту ночь адвокат натерпелся страха. Утром из зеркала на него глянуло испуганное лицо. Под глазами висели большие мешки. Старческая тара! Лицо было бело-серое с желтыми разводами у глаз. «Нет, с таким рельефом долго не протянешь!» — сказал себе адвокат и снял трубку. Василий Петрович позвонил жене. — Инга. Ингушонок! — жалобно позвал он. Жена не ответила. Она передала трубку Милице. — Что там еще у вас случилось? — спросила старшая. — Мне очень худо. — Ему худо, — передала старшая младшей. — Вам морально нехорошо? — спросила у адвоката Милица. — И морально и физически. — Так вам и надо, бабник несчастный, — мстительно сказала старшая. «Почему бабник?» — подумал Сугоняев, но не стал возражать. Все его существо жаждало покоя. Инга Федоровна приехала через полчаса. Ни одного упрека не слетело с ее подрисованных губ. Она только сказала: — Видишь, тебе без меня плохо. — Очень плохо! — согласился адвокат. — Тебе без меня нельзя! — Никак нельзя! — Без меня ты умрешь. — Обязательно загнусь! Инга Федоровна проветрила комнату. Она положила на тахту туго накрахмаленную, негнущуюся простыню. Она заставила Василия Петровича побриться, напоила душистым чаем. Когда он лег, посвежевший, благоухающий шипром, свершилось чудо. Безжалостная лапа убралась восвояси, и сердце забилось ровно и ритмично. — Присядь, крошка, — попросил адвокат. Инга Федоровна опустилась на тахту. Он погладил ей руку. — Ингушенция, родная моя, — сказал Сугоняев. — Ты мне никогда не будешь больше хамить? — спросила Инга Федоровна. Адвокат склонил голову на гордую грудь жены. Зазвонил телефон. Инга Федоровна сняла трубку. Послышался голос Матильды Семеновны. Рассказ о нейлоновом диве потряс жену адвоката. Эмоциональная буря, разыгравшаяся в душе Инги Федоровны, с необычайной пластической силой отражалась на ее лице. Оно изображало то восхищение, то восторг, то сожаление, то надежду, то скорбь. — Нет, не могу, — наконец сказала Инга Федоровна. — Безумно хочется, но не могу. Нет денег. Спасибо. Изнемогая, она повесила трубку. — С кем это ты? — спросил Василий Петрович. — Да так, ничего… звонила Матильдочка из комиссионного. Предлагает шубку из нейлона. Редкий случай. Но у нас нет денег. — Сколько? — Всего за пять тысяч. Буквально даром… — А размер твой? — Мой, — вздохнула Инга Федоровна. — Но я не хочу тебя разорять! — Бери шубку! — сказал разомлевший адвокат. Инга Федоровна влепила мужу головокружительный кинопоцелуй. — Нет, не могу, — сказала она. — Надо жить скромно. — Пес с ними, с деньгами, — сказал адвокат. — В могилу их все равно не утащишь! Инга Федоровна наградила мужа еще одним затяжным поцелуем и отбыла в сберкассу.Новелла о знатном свиноводе АФАНАСИИ КОРЖЕ
Глава шестая
КАРЬЕРА МАЙОРА. ВСТРЕЧА С ГЛАШЕЙ. ДЕБАТЫ О МАНУФАКТУРЕ
Перечень владельцев нейлоновой шубки был бы не полным, если бы мы не упомянули имени Афанасия Коржа. Офицеру Коржу пророчили блестящую карьеру, хотя, как впоследствии выяснилось, судьба не вложила в его вещевой мешок ни маршальской звезды, ни генеральских погон. Корж демобилизовался из армии в чине майора и поехал в родную Тимофеевку. Месяц он отдыхал, приглядывался к колхозным делам. Затем объявил о своем желании стать свинарем. Такое решение никого не удивило в Тимофеевке. Зато оно поразило господина Хольмана, специального корреспондента иллюстрированного еженедельника. Хольман недоумевал. Он прикидывал на свой лад, мерил своей меркой. «Например, — думал он, — разве в нашей стране офицер бундесвера мог стать добровольно свиноводом? Конечно, нет! Такой кульбит в биографии свидетельствовал бы о гибели надежд, репутации, о крушении карьеры! Между тем в стране большевиков утверждают, что взлет Афанасия Коржа начался именно с той минуты, когда он сообщил о рекордных привесах на ферме». Ганса Хольмана не мистифицировали. Афанасий Корж, став мастером свинооткорма, действительно получил всесоюзное признание. О нем писали в газетах, ему посвящались специальные радиопередачи, за ним азартно гонялись кинодокументалисты. В Москву Корж приехал на Выставку достижений народного хозяйства. Вместе с другими экспонатами ферма тимофеевского колхоза прислала могучего Яхонта — одного из четвероногих питомцев знатного животновода. Яхонт, кстати, тоже поразил воображение журналиста из ФРГ. Покончив с выставочными делами, Афанасий Корж решил погостить несколько дней в столице, побывать в театрах, в Третьяковке, сделать необходимые покупки. Итак, отбившись от всеведущих репортеров, прославленный свиновод вышел из гостиницы «Москва», спустился в подземный переход и, выйдя на поверхность, проследовал по улице Горького. У Малого Гнездниковского он столкнулся лицом к лицу с тетей Глашей. — Господи, твоя воля! — воскликнула домработница стоматолога. — Никак Афанасий, тетки Коржихи сын! — Он самый! — Вырос-то как! — Есть немного, — подтвердил свиновод. Тетя Глаша пустила слезу и не преминула, как полагается в таких случаях, вспомнить, что однажды Афонька, будучи на ее, Глашиных, руках, испортил ей по причине малолетства новое платье из маркизета. — А ведь платье можно откупить! — смеясь сказал Корж. — Откупишь, жди! — ответила Глаша. — Небось сам за манафактурой приехал! — Не совсем за мануфактурой. — Толкуй! В Тимофеевке манафактуры нет. Это уж я точно знаю! — Кто вам сказал? — Люди говорили. — Да мануфактуры у нас завались! — Так и завались. — Ей-богу! — Врешь все! — Зачем же мне врать? — Партейный ты, вот и агитируешь. В колхоз заманываешь! — Как это заманываю? — Завлекаешь, значит. Палочки отрабатывать. — Вы когда, тетя Глаша, из колхоза драпанули? — Почитай, лет десять будет. — Отстали вы, тетя. К нам теперь сами в колхоз просятся. Возвращенца берем с разбором. — Так уж и с разбором? — Вы знаете, сколько нынче колхозник зарабатывает? В Тимофеевке все же перевернулось. — Так и перевернулось? — Не узнаете Тимофеевки! — Так и не узнаю? — Вы где здесь работаете? — У одного живодера, чтоб ему корни повылазили! — Сколько же он платит вам? — Триста рублей, чтоб ему челюсти своротило. На праздники хозяйка манафактуру дарит, — сказала Глаша, маниакально блестя глазами, — мадаполам, сжатый ситец по одиннадцать рублей метр, а бывает и эпонж… — Ну и чудачка вы, Глаша! Что вам за выгода? Наши доярки меньше полутора тысяч не получают. — Так я тебе и поверила! — Вы дочку вдовы Солодкой знаете? Она себе «Москвича» купила с заработков на ферме. — А самолет она не купила? — Как говорил один мой друг-украинец: «Щоб мене грим убив и блискавка спалила!» — А Федя Акундин машину не купил ? — тихо спросила Глаша. Глаза у нее затуманились. Федор Акундин был старой любовью тети Глаши. В свое время он коварно пренебрег ею. С тех пор любовная заноза навек осталась в верном Глашином сердце. — Сбился с пути Федя, — сказал Корж. — Горб на животе отращивает. Одним словом, дармоед! — Так и дармоед? — Лодырь! Ему бы в колхозе работать, а он шабашничает. — Партейный ты! — повторила Глаша. — Всех в колхоз вербуешь! — Да я беспартийный, — сказал Корж. — Все равно в колхоз я не пойду! Мне и у хозяина хорошо, — сказала Глаша и с редкой непоследовательностью добавила: — Чтоб у него в каждом зубе дупло образовалось! Чтоб ему все зубы без наркоза повыдергивали! Так и не разубедив землячку, Афанасий Корж начал прощаться, предварительно осведомившись, в каком из московских магазинов лучше подыскать подарок жене. Этот невинный вопрос окончательно убедил Глашу, что на селе мануфактуры нет, что Афанасий прибыл в столицу за штапелем и что она хорошо сделала, не поддавшись агитации. — Не выгорело, не завербовал! — сказала она. — Ладно, я на тебя злобы не имею. Зайди в комиссионный магазин. Там мой хозяин, чтоб ему на том свете черти коронки пообломали, самые лучшие вещи покупает. И Афанасий Корж направился в комиссионный магазин.Глава седьмая
ОТ А И ДО КОНЦА АЛФАВИТА. ЖИЛИ ЛИ НА ЗЕМЛЕ BЕРОНЕЗЫ? НОСЯТ ЛИ В ДЕРЕВНЕ УШКУЙНИКИ? ШУБКА МЕНЯЕТ ХОЗЯИНА
Поэт-переводчик Александр Себастьянов слыл среди родных и знакомых удачливым человеком. Он никогда ни в чем не нуждался. Он жил как хрестоматийная птичка, без особых забот и труда. Его имя неправомерно часто появлялось на страницах периодической печати. Он переводил с аварского, болгарского, венгерского, греческого, дунганского и так далее до конца алфавита. Ни на одном из этих языков Себастьянов не говорил, не читал и не писал. Он о них понятия не имел. Впрочем, и русский он знал в объеме неполной средней школы. Переводчика-полиглота спасали подстрочники, версификаторские способности и непобедимое нахальство. В редакциях его любили литературные консультанты. Несмотря на свои пятьдесят лет, Себастьянов разыгрывал этакого милого, добродушного, свойского рубаху-парня. Он был неизменно весел, всегда имел в запасе свежий анекдот, непритязательную шутку, литературную сплетню. Рассказывал он с неподражаемым мастерством. Рассказывал намного лучше, чем писал. Его охотно слушали уставшие от графоманов консультанты. Собратья по перу утверждали, что Себастьянов, подобно танку, обладает повышенной проходимостью. Он легко преодолевает все редакционные рвы, ежи и надолбы, выставленные против литературных дельцов. Только один раз, из-за опечатки в подстрочнике, поэт влип в поганую историю. Он сдал в редакцию одного ведомственного журнала стихи с пометкой: «Перевод с веронезского». Секретарь редакции поинтересовался, народ какой страны говорит на веронезском языке. — А разве вы не знаете? — уклончиво ответил Себастьянов. — Веронезы испокон веков говорят на веронезском! — В первый раз слышу! Возможно, здесь имеются в виду ирокезы? — сказал секретарь, припоминая, что в детстве он читал у Фенимора Купера про этих воинственных индейцев. — Ирокезы совсем другое, — с апломбом сказал Себастьянов. — Ирокезы даже не этническая ветвь веронезов. — А кто они? — Как «кто»? — Ну где живут ваши веронезы? — Почему мои, — пытался отшутиться Себастьянов. — Они такие же мои, как и ваши. — Не будем пререкаться, — сухо сказал секретарь. «Подлецы переводчики, — тревожно подумал Себастьянов, — дали слепой подстрочник, и я, видно, сильно поднапутал». — Так где же живут веронезы? — повторил свой вопрос дотошный секретарь, учуяв неладное! — Известно где, — сказал Себастьянов, бросаясь со стометровой вышки в ледяную воду. — В Гондурасе живут. — И с отчаянием добавил: — И еще на островах Пасхи. Но там их осталось совсем мало. Испанские завоеватели их перебили. Вот сволочи! Секретарь редакции не поверил в трагическую судьбу веронезов. Вопрос о них перешел в группу проверки. Группа связалась с географическим обществом, которое сообщило, что на земном шаре в последние тридцать миллионов лет веронезы не проживали. Дело запахло скандалом. Прижатый к стене полиглот быстро превратил все в шутку и попросил редакцию извинить его за беззлобную мистификацию. История с веронезами умерла в стенах журнала. Переводчик продолжал процветать, снабжая свою Киру Степановну необходимыми денежными знаками. Они тратились на поддержание семейного декорума и тряпичное оборудование поэтовой супруги. Отправляясь в очередной рейд по магазинам, Кира Степановна брала с собой мужа. Он выполнял роль торгового советника и консультанта по модам, в которых разбирался лучше, чем в стихах. Себастьянов и Кира Степановна были своими людьми в комиссионном магазине. На этот раз они пришли по телефонному звонку Матильды Семеновны. — Какую мы вам штуку припасли — пальчики оближете! — сказал Веня-музыкант, извлекая из-под прилавка нейлоновую шубку. — Боже, что за прелесть! — воскликнула супруга полиглота, не в силах сдержать красивых эмоций. — Шик-модерн! — подбросила из своего угла Матильда Семеновна. — Эпохальная шуба! — подтвердил Веня. — В ней что-то есть, — согласился Себастьянов. Вся ширококостная, приземистая фигура Киры Степановны с чуть кривыми массивными ногами дрожала от нетерпения. Ее и без того бегающие глазки шныряли по нейлону с таким вожделением, что психолог Веня тут же решил накинуть пару сотен. Афанасий Корж остановился в дверях фанерного закутка как раз в тот момент, когда поэтова жена натягивала на свои могучие плечи серебристое чудо. Сверхпрочный нейлон затрещал по всем швам. — Снимай! — сказал Себастьянов. — Она тебе явно мала. — А может быть, сойдется? — с надеждой спросила Кира Степановна, пытаясь запахнуть полу. — Нет, уж лучше сними! — сказал муж, боясь как бы им не пришлось заплатить за испорченную вещь. — А если расставить спинку? — чуть ли не со слезами сказала Кира Степановна. Поэт опустился на одно колено, отвернул полу и авторитетно заявил: — Нет запаса! — Просто как с кожей сдираешь, — сказала вконец опечаленная Кира Степановна, снимая шубку. — Подумайте только, Матильдочка, как мне не везет. У нас есть свободные деньги. Муж получил гонорар за переводы с кара-калпакского, тувинского и языка хинди. — Видно, не судьба! — сказал Веня и хотел было спрятать шубку под прилавок, как раздался голос Коржа: — А ну-ка, друг, покажи эту вещь! Веня-музыкант удивленно поднял голову. Занятый Кирой Степановной, он не заметил появление Коржа. — Шубка вам не подойдет, — сказал Веня. — Подойдет или не подойдет, это мне знать! — ответил Корж. Веня оглядел фигуру Афанасия Коржа и по его чуть обуженному синему шевиотовому пиджаку, по широким брюкам, по затейливо вышитой гуцулке и, наконец, по буро-кирпичному загару, покрывавшему лицо, шею и руки, безошибочно определил в пришельце сельского жителя. — Вы никак с периферии? — с мнимой дружелюбностью осведомился Веня. — Из колхоза, — подтвердил Корж, все еще любуясь шубкой. — Зачем же вам такое манто? — ехидно спросила Матильда Семеновна, подмигивая Себастьянову. — Как зачем? Чтоб носить! — Таких элегантных вещей деревня не носит! — А что, по-вашему, она носит? — Зипуны, поддевки, ватники. — Полушалки, — вспомнил поэт. — Ушкуйники, — добавила образованная Кира Степановна. — А подойников там не носят? — спросил Корж. — Не острите, — сказала Матильда Семеновна. — Подойники — это такое корыто, куда сливают молоко. Мы знаем. А вот короткие плюшевые жакеты там в большой моде. — Приятно встретить людей, которые так хорошо знают колхозную жизнь, — сказал Корж, начиная злиться. — Вы хотите сказать, что я оторвался от действительности? — сварливо спросил Себастьянов. — Не будем пререкаться, — примирительно сказал Веня. — Я думаю, что представителю сельской интеллигенции манто не подойдет по цене. — А сколько оно потянет карбованцев? — Пять тысяч! — Крепко! — сказал Корж. — А вы думали отхватить шубку за сотню? — заколыхалась на своем табурете Матильда Семеновна. — Крепкая цена, ничего не скажешь! — повторил Корж. — Послушайте моего совета, товарищ колхозник, — сказала Матильда Семеновна. — Пойдите на Тишинский рынок и там в палатке купите жене хорошее грубошерстное пальто за какие-нибудь триста рублей. Дешево и сердито! — Спасибо, — сказал Корж, — а я было начала думать, что моей жене можно и манто надеть. Веня пригляделся к профилю Коржа, и ему почудилось, что где-то он видел этого человека. «Только где?» — мучительно начал припоминать завмаг. — Вы все хорошо объяснили, но на Тишинский я не пойду, — сказал Корж. — Это уж ваше дело! — ответила Матильда Семеновна. — Хотите, я продам вашей жене модное пальто? — вмешалась Кира Степановна. — Я носила его всего один сезон. — Эффектный фасончик, — сказал поэт. — Снизу чуть расклешено, рукава японкой… — Японкой — это уже интересно, — сказал Корж. — На нем ни единого пятнышка, оно почти новое… — Жена прекрасно носит вещи, — поспешил заверить поэт. — Приятно встретить отзывчивых людей, — сказал Корж. — Мы всегда рады помочь, — засуетилась поэтова жена, предвкушая выгодную сделку. — Мы рады помочь представителю колхозного крестьянства, — уточнил поэт… — За помощь спасибо! — поклонился Корж и неожиданно заключил: — Заверните манто! — Завернуть недолго, — зло сказала приемщица. — Хватит ли у вас денег? — Где касса? — спросил Корж, кладя на прилавок тугой, видавший виды планшет. — Поглядите только, что делается на свете! — закричала Матильда Семеновна. — Сначала дорогие колхознички дерут с нас три шкуры за молоко, а потом набивают свои сундуки нейлоном! — Хорошее высказывание! — кивнул головой Корж. — Оно способствует дружбе города с деревней. Приятно видеть за прилавком такую политически образованную даму. — Это я необразованная?! Как вам нравится этот лектор научных и политических знаний! — возмутилась Матильда Семеновна, хлопая себя по ляжкам. — Вениамин Павлович, товарищ Гурьянов, что это все значит? Здесь же только приемный пункт. Если ему приспичило купить своей жене манто, пусть дождется, пока мы передадим вещь на прилавок! — Товарищ Гурьянов, — тихо и зло сказал Корж, — объясните вашей дамочке, что за языком надо присматривать. Его нельзя оставлять без призору. И еще объясните, что я не люблю крика, фиглей-миглей, нахальства и базарной коммерции. Объясните — и быстро! — Да, да! — засуетился вдруг Веня. — Извините нас! Вы правы. Есть недоработка в смысле ее воспитания. Большой, знаете, перегруз, давят на план, к тому же она ярая общественница — не хватает времени для шлифовки мировоззрения… Платите, пожалуйста, касса — налево!.. Корж вышел из фанерного закутка. — У меня что — галлюцинация слуха на оба уха? — заверещала Матильда Семеновна. — Тсс! — приложил палец к губам Веня. — Не кричите, вы не в автобусе! Когда Корж вернулся в фанерный загончик, его ждала завернутая в бумагу шуба. — Пусть ваша жена носит ее на здоровье, — сказал Веня. — Надеюсь, ваши свиньи в полном порядке? Жиреют на кукурузе! Как скоро вы порадуете страну новым рекордом? Корж взял покупку и вышел из магазина. — Нет, какой нахал! — продолжала бурлить Матильда Семеновна. — Ему не нравится мой моральный облик! А вы тоже хороши, Вениамин Павлович! Продали какому-то вахлаку замечательную вещь! Вы так испугались, будто он полковник из ОБХСС! Веня снисходительно улыбнулся. — Ваше счастье, Матильдочка, — сказал он, — что у меня хорошая зрительная память. Вам известен этот человек? Это же прославленный свиновод! Недавно его портрет был помещен в «Правде». Вы знаете, чьи портреты печатает «Правда» на первой странице? Если бы Афанасий Корж пожаловался, мы бы живо вылетели отсюда… — Подумаешь! На меня однажды жаловался руководитель джаза — и то ничего! — Милая Матильдочка, я давно говорил, что вам нужно повышать свой идейный уровень. Посещайте хотя бы кружок текущей политики! — Не приставайте ко мне! Учеба не лезет в мою голову. Как только лектор начинает читать что-нибудь научное, меня ударяет в сон… — И с такими кадрами я должен работать! — сказал Веня. — Вы же совсем темная женщина. Каптар, снежный человек! — Ай, идите вы! — сказала Матильдочка. — Какая я снежная. Я же брюнетка! — Каптары тоже не блондины! — сердито ответил Веня. В эту минуту в загончик ворвалась Инга Федоровна. — Успела?! — прокричала она с порога. В фанерном закутке стало тихо. — Что же вы молчите? Матильдочка?! Вениамин Павлович! — Бедная Ингочка, — вздохнула Матильда Семеновна. — Приди она на десять минут раньше… — Шубки уже нет? Ну, скажите, не тяните! По глазам вижу, что ее уже нет! — Мы сделали все, что могли! — сдержанно сказал Веня. — Продали? — в крайней ажиотации воскликнула Инга Федоровна. — От вас я не ожидала такого предательства! — Обстоятельства были сильнее нас, — глубокомысленно сказал Веня. — Порядочные люди так не поступают! Не могли обождать десять минут! Это бесчестно! Некрасиво! Я вам никогда не прощу! — Ингушка, вы знаете, как я вас люблю, — сказала Матильда Семеновна. — Для вас я готова сделать больше, чем для родной матери. Но я и пикнуть не успела, как этот свиновод заграбастал манто!.. — Какой свиновод? — удивилась Инга Федоровна. — Самый знаменитый! — Подумайте только, что делается в сфере товарного обращения. Инга Федоровна ходит в букле, а жена какого-то Коржа в Белой Кринице или Черной Балке будет щеголять в импортном нейлоне! — сказал Веня. — Где же справедливость? — спросила Матильда Семеновна. — Это шубка нужна ей как корове полупроводники, — поддержал компанию переводчик-полиглот. — Ничего не поделаешь, таковы гримасы товарооборота! — сказал Веня. Наступила траурная пауза. — Если бы вы знали, сколько у меня в этом месяце неприятностей! — пожаловалась Инга Федоровна. — У мужа тяжелый сердечный приступ, красильщица испортила демисезонный костюм, а тут еще шуба. Никаких нервов не хватит! — Возьмите себя в руки, — посоветовала Матильда Семеновна. — В конечном счете здоровье дороже всего! Кира Степановна, молчавшая до сих пор, сказала с трогательной доброжелательностью: — Я не знаю вас, дорогая. Но я вполне разделяю ваше горе. Хотите, дам дружеский совет? Вы молодая, предельно обворожительная женщина… — В последнее время я очень плохо выгляжу, — сказала жена адвоката, глянув на Себастьянова. Переводчик-полиглот бросил ответный взгляд на гордую грудь Инги Федоровны и, приподнимая шляпу, сказал: — Вы выглядите, как Сильвана Пампанини! — Вы слышите, что говорит мужчина, — уже без особого энтузиазма продолжала Кира Степановна. — Так вот, неужели периферийный свиновод устоит перед вашими чарами? Попросите его как следует, и он уступит вам манто. — Где его искать? — спросила жена адвоката. — Ясно где — в гостинице «Москва», — сказал Себастьянов. Инга Федоровна выбросила вверх руку и сказала с очаровательной решимостью: — Я иду! — Иду на вы! — подхватил переводчик-полиглот. — Берегитесь, свинопасы!Глава восьмая
РЕЕСТР МИМОЛЕТНЫХ ОБОЛЬЩЕНИЙ. ИНГА ФЕДОРОВНА МЕНЯЕТ ТАКТИКУ. ПОБЕДА! РАЗМЫШЛЕНИЯ АФАНАСИЯ КОРЖА
В тот же день Инга Федоровна разыскала в гостинице Коржа. На ней было умопомрачительное платье цвета недозрелого абрикоса, с таким вырезом, что Корж, не робкого десятка человек, деликатно отвел глаза и подумал: «Густа баба, як патока!» — Афанасий Тарасович, я по личному делу, — сказала Инга Федоровна, — и прошу не сердиться на меня и не быть злым. — Она одарила Коржа улыбкой, которая в ее Реестре мимолетных обольщений числилась под номером один. — Я человек не сердитый, — заверил свиновод. — А вы милый, — ответила Инга Федоровна, простреливая Коржа взглядом, который означал примерно следующее: «Откуда вы приехали, симпатичный, обворожительный человечище!» — Я вас слушаю, садитесь. Будьте ласкави, как говорят украинцы. — Ласкави! Что за красивое слово. Скажите что-нибудь еще по-украински! — Як гарна молодиця, то гарно и подивиться, — галантно отозвался свиновод. — Я поняла! Вы, оказывается, опасный комплиментщик, — Инга Федоровна погрозила Коржу пальчиком и выдала улыбку номер два из того же Реестра. — Так с чего же мы начнем? — спросил Корж. — С совсем маленькой просьбы. Вы в комиссионном магазине были? Не отпирайтесь! — Грешен, был. — И что вы там делали? — Купил шубку. — Вы можете быть до конца галантным? — спросила Инга Федоровна, доверительно притрагиваясь ноготками, крытыми серебристым лаком, к тяжелой, буро-коричневой руке свиновода. — Постараюсь, — уклончиво ответил свиновод, недоумевая, куда клонит дамочка. — Уступите мне шубку! — За этим вы и пришли? — А вы недовольны? — спросила Инга Федоровна, пуская в ход улыбку номер три. — Разве вы не уступите? — Думаю, что нет. — Вы нехороший, — сказала Инга Федоровна, сопровождая слова осуждения сверхнежным взглядом. В скобках заметим, что даже после пятнадцатилетнего супружества этот взгляд приводил адвоката Сугоняева в трепет. Но на Коржа он не произвел желанного действия. — Вы непрактичный человек, — сказала Инга Федоровна. — Все мужчины ужасно непрактичны. Кто же в деревне носит нейлон! Жена изругает вас и будет права! — А почему в деревне нельзя носить нейлон? — Вы смешной, — сказала Инга Федоровна. — Не спорьте со мной. — Я не спорю. — С женщинами нельзя спорить! Улыбка номер четыре в сочетании с призывным взглядом, который заставил нашего праотца Адама потянуться за запретным плодом, а короля Людовика XV беспрекословно выполнять самые взбалмошные желания и прихоти маркизы Жанны Антуанетты де Помпадур, не поколебала Афанасия Коржа. Свиновод не дрогнул. Хотя Инга Федоровна была убеждена в своей неотразимости, она интуитивно поняла, что ей не пробить защитной брони. Жанна Антуанетта здесь не пройдет. Лолита Торес тоже. Придется изменить тактику. И она сказала: — Ну уступите мне по-дружески. Это для меня так важно! — Что важно? — сухо спросил Корж. — Манто важно. Вы можете смеяться надо мной, но такая шубка — моя давнишняя мечта. Мне очень хочется ее иметь. — Не могу, — сказал Корж. — Рад бы услужить, да не могу… — Прошу вас, Афанасий Тарасович! Вы же не злой, по глазам вижу. Вы добрый! — Поймите, это же подарок жене! — Разве мало хороших подарков? Купите ей другой. Я помогу. — Просто не знаю, что еще сказать… — развел руками свиновод. — Афанасий Тарасович, не отказывайте мне! Вы умный, простой, цельный. — Губы Инги Федоровны задрожали. — Да успокойтесь, — растерялся Корж, боясь, что гостья заплачет. — Вы большой, сильный, вы не откажете женщине. Я знаю: вы справедливый, добрый Корж! — прекрасные глаза Инги Федоровны наполнились слезами. Гордая грудь Сугоняевой заколыхалась от толчков, исходивших от сердечного эпицентра. Свиновод растерялся. — Ну что вам стоит уступить! Зачем вам шубка? У вас есть все: слава, почет, признание! Жизнь так щедро одарила вас! Не отказывайте мне, Корж! — Поймите, неудобно как-то перед женой… — Милый, добрый Корж, вы не пожалеете о своем поступке. Прошу, умоляю, хотите я стану перед вами на колени? Боже, что я говорю, какое унижение, вы не захотите, чтобы я так унижалась… «Откуда на мою голову свалилась эта дамочка!» — с отчаянием подумал Корж. — В последний раз умоляю вас, бесчувственный вы человек! Что вы делаете со мной!.. Инга Федоровна начала опускаться на колени. Корж подхватил ее. — Пустите, пустите меня, — прошептала Инга Федоровна. — Вы хотели этого… — Разве можно из-за вещи, тряпки так убиваться! Хай би це манто муха взбрикнула! Тьфу! Берите его за ради бога, только не рвите себе сердце на шматки!.. …Спустя час Инга Федоровна стояла в своей комнате перед трельяжем и демонстрировала мужу покупку. Шубка сидела великолепно. Такой шикарной, такой элегантной Инга Федоровна еще никогда не выглядела. Это была вершина, зенит, апогей! На минуту адвокатша даже с грустью подумала, что выше ей уже не подняться. — Как тебе удалось выдрать это сокровище? — спросил адвокат, любуясь красавицей женой. — Это было не так трудно, — небрежно ответила она. — Знаменитый Корж оплыл, как свеча, после первого же моего взгляда. Все вы, мужики, одинаковы. Все вы хороши! — Надеюсь, он… не позволил себе ничего такого, что идет вразрез с моими понятиями о нравственности, — сказал адвокат, заглядывая в глаза супруге. — А если и позволил… Ты вызовешь его на дуэль? Напишешь на него заявление в сельсовет? — Ингушонок! — Не волнуйся, глупый! Со мной никто и ничего себе позволить не может. Я воспитана в старых правилах. Домашний очаг для меня святыня, — и она прошлась перед мужем, покачивая бедрами, — ни дать ни взять звезда экрана первой величины! В это же самое время Корж сидел в своем номере и думал, на каких дрожжах всходят у нас такие дамочки, что готовы из-за тряпки бежать по пыли и грязи не разбирая дороги, как собака за возом. То ли их чужим ветром занесло, то ли они поросль от старого, трухлявого корня. Так и не решив вопроса, свиновод чертыхнулся и пошел в ресторан съесть тарелку борща и выпить добрую рюмку горилки, чтобы смыть неприятный осадок, оставленный посещением странной гостьи.Глава девятая
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. НА ДЫМЯЩИХСЯ РАЗВАЛИНАХ. СРЕДИ ТВОРЕНИЙ ЖАКОБА, ФИШЕРА И ШМИДТА. МОРАЛЬНАЯ ДЕПРЕССИЯ
Читатель, вероятно, заметил, что нейлоновую шубку пока еще никто не носил. Ее только покупали. Не обновила покупку и Инга Федоровна. На то были свои веские причины: семью адвоката Сугоняева постигла катастрофа. Василий Петрович не рассчитал своих сил. Он наивно полагал, что нейлоновая шубка на некоторое время умерит аппетиты жены. Адвокат жаждал передышки. Его бюджет был сильно подорван и нуждался в срочном оздоровлении. Он напоминал бюджеты тех малых государств, которые тащатся за воинственной колесницей НАТО. На последние шиши они закупают многотонные танки, дорогостоящие самолеты и ракеты, чтобы оснастить ими свои армии. Короче говоря, с бюджетом было худо. Сугоняев не получил желанной передышки. Покупка шубки повлекла за собой другие расходы. Ингушонку потребовалась новая шляпка. Но шляпка является лишь частью ансамбля, одним из его компонентов. Ансамбль же, как свидетельствуют журналы мод и бесплатные советы портних на страницах вечерних газет, состоит обычно из туфель, перчаток, не считая соответствующего гарнитура украшений. Но новые туфли предполагали и новое платье. А платье… Словом, этому не было конца. Началась неотвратимая цепная реакция. Бюджет несчастного Сугоняева взорвался. Сидя на дымящихся развалинах, адвокат мучительно размышлял над тем, как бы восстановить былое благополучие. Будущее не сулило процветания. Атмосфера в доме Сугоняевых донельзя накалилась. Ингушонок открыто бунтовал. Адвокат не без основания подозревал, что в один прекрасный день она обменяет дымящиеся развалины на более комфортабельное жилище. После изнурительного боя с собственной совестью адвокат решился на некрасивую махинацию. Он начал получать гонорар от своих клиентов, минуя кассу юридической консультации. Это дало возможность Сугоняеву продержаться еще несколько месяцев, а ненасытной Ингушке купить оригинальное платье из шерсти с двухдюймовым начесом. Развязка наступила неожиданно. Секретарю юридической консультации попало письмо, адресованное адвокату. В нем клиент сообщал, что выслал гонорар на почтамт до востребования. Коллеги-юристы потянули Сугоняева к ответу. Дело разбиралось на общем собрании. Ораторский дым стоял коромыслом. В роли обвинителей адвокаты показали себя даже лучше, чем в роли защитников. Сугоняев был подвергнут остракизму. Адвокаты изгнали его из юридической консультации. Сугоняев пришел домой измочаленный и жалкий. — Со мной все покончено, — сказал он. — Приливная волна цунами подняла меня на свой гребень и шваркнула о дебаркадер. У меня сломан хребет! И в трагические минуты Сугоняев не забывал щегольнуть образной фразой. — Я больше не существую! — продолжал он. — Отныне я ничто. — Зачем ты это сделал? — с великолепной наивностью спросила Инга Федоровна. — И ты, Брут! — укоризненно молвил адвокат. — Я не Брут, — сказала Ингушка. — Я всего-навсего молодая женщина. Я хочу жить. Мне надоело мытариться, нищенствовать… — Ты нищая духом! — сказал адвокат. — Ты бросишь меня на обломках. Адвокат почувствовал, что теперь ее не удержишь никакими, пусть даже самыми красивыми, чувствами и словами. — Подлая ты баба, вот кто ты! — сказал адвокат и лег на тахту лицом вниз. Ровно через месяц Инга Федоровна ушла от Сугоняева. Ею увлекся старик Палашов, известный среди адвокатов бабник и цивилист. Все началось с посещения его квартиры. Палашов вознамерился познакомить Ингу Федоровну со старинной мебелью, с творениями Жакоба, Фишера и Шмидта. Грузный, начавший уже сдавать адвокат показывал Ингушке свои сокровища. В столовой стоял типичный ренессанс: затейливые стулья, буфет с карнизом, полуколоннами и объемной резьбой, изображавшей фантастических животных. Врезьбе было на два пальца пыли. — Нет хозяйки, — вздыхал Палашов, и его большие вислые, как у таксы, уши, поросшие седым мохом, раскачивались в разные стороны. Старик Палашов намекал, что, помимо творений фабрикантов Жакоба, Фишера и Шмидта, у него еще кое-что припасено для любимого существа. Инга Федоровна осталась у Палашова. Она подарила ему три месяца столь жаркой любви, что старик отправился путешествовать в те отдаленные края, где мебель человеку не нужна. Жакоб и прочие ценности перешли к старой жене, так как Палашов из-за любовной горячки не успел оформить свои матримониальные дела. Инге Федоровне пришлось съехать с квартиры. Она сняла угол. Наступили тяжелые времена. Несмотря на редкую красоту, на удивительное обаяние, на умение давать счастье близкому человеку, несмотря на природные данные и благоприобретенные качества, почему-то не находились охотники взять ее на свое иждивение. — Что стало с мужчинами? — спрашивала она у Клаши, хозяйки угла. — После войны они какие-то ненормальные, — отвечала Клаша, чтобы как-нибудь успокоить жилицу. — Они живут только для себя. — Может быть, я подурнела? — Вы писаная красавица! С таких только картины и пишут! Прошло еще несколько месяцев. Инга Федоровна начала продавать содержимое своего гардероба. Каждый поход в комиссионный магазин сопровождался великим плачем, словно она расставалась не с жакетом и юбкой, а с бесконечно любимым и дорогим существом. — Вы бы работать пошли, Инга Федоровна! — посоветовала как-то Клаша. — Да, да, работать. Обязательно начну с нового года, — отвечала Инга Федоровна, втайне надеясь, что в ближайшее же время она найдет достойного спутника. В эту тяжелую пору моральной депрессии она встретила пророчицу Таисию Барабанову, верную сподвижницу Серафима, главы секты пятидесятников.Новелла о святом СЕРАФИМЕ-ПЯТИДЕСЯТНИКЕ
Глава десятая
ЖИТИЕ СВЯТОГО СЕРАФИМА. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПАПАХ. СПИРТ В БАЛЛОНЕ. КАЗЕННОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
Прежде чем познакомить читателя с житием святого Серафима-пятидесятника, автор прочел добрую сотню жизнеописаний святых, канонизированных католической и православной церковью. Он познакомился также с биографиями мусульманских праведников, иудейских цадиков и прочих мужей, угодных богу. К своему величайшему удивлению, он установил, что значительная часть святых начинала свою карьеру с разных некрасивых, малопривлекательных дел, как-то: грабеж, воровство, изнасилование и проч. Если у господа бога существует отдел кадров, то его картотека мало чем отличается от картотеки большого полицейского участка. Особенно богатая картотека, вероятно, заведена на римских пап — «заместителей бога на земле», или, как их принято называть, «вице-доминус». Среди них было много лихого уголовного люда. Папа Сергий III известен как убийца. На заре своей святой карьеры наместник Христа удушил своих предшественников. Папа Сикст IV в свободное от проповедей время растлевал мальчиков. Папа Иоанн XII уморил в тюрьме свою любимую матушку. Папа Урбан VI был злодеем с фантазией. Он зашил в мешки полдесятка кардиналов и велел их живьем отправить на дно морское. Брат Серафим не мог, разумеется, похвастать такой пышной уголовной биографией, как у Борджиа — папы Александра VI. Но мы на него не в претензии, поскольку Серафим все же не папа. Брат Серафим, он же Санька Бухвостов, родился в 1935 году в той же Тимофеевке. В отроческие годы Санька не проявлял религиозного рвения. Чудесные видения не являлись перед ним в ночной тиши. Не слышались ему и ангельские голоса, которыми, как известно, широко пользуется святой дух, чтобы объявить избранным об очередном божественном мероприятии. Не наблюдал Санька и никаких чудес и профилактических знамений. На его глазах не зацветало засохшее дерево, с неба не сыпалась манная или другие крупяные изделия, море не расступалось перед ним, когда, покинув горячий пляжный песок, он шел окунать свое бренное тело в голубую волну. Камни не вопияли, иконы не кровоточили и не обновлялись. Словом, не было ничего такого, что указывало бы на желание святого духа обратить на себя Санькино внимание. Надо отдать справедливость и дьяволу; тот тоже не докучал Саньке своими пошлыми кознями. Таким образом, Санька рос нормальным парнем, если не считать одного крупного недостатка. Молодой Бухвостов не любил трудиться. Газетные репортеры, которые пишут заметки под рубрикой «Семья и школа», «Вопросы воспитания», «На моральные темы», обычно приходят к заключению, что в этом пороке виноваты все вместе взятые: семья, школа и товарищи, вовремя не подавшие лодырю руку помощи. Нам остается только присоединиться к этому, пусть не слишком оригинальному выводу. В двадцать пять лет Санька выглядел значительно старше своих лет. Это был плотный блондин, с длинным вислым носом и светло-голубыми, чуть выпученными глазами. На груди у Саньки была вытатуирована скала с орлом, который держал в клюве надпись: «Нет счастья на земле!» Санька работал шофером на спиртозаводе. Он возил огнедышащую жидкость в товаропроводящую сеть. Молодой Бухвостов искал левых заработков, не связанных с затратой физического и умственного труда. В поиски включился уже известный нам Федя Акундин, здоровенный парнюга, начинающий тунеядец. Он-то и свел Саньку с кладовщиком спиртозавода Какорякиным. Встреча состоялась в ресторане областного центра. Они сели в уголок, задрапированный тяжелой плюшевой портьерой ядовито-зеленого цвета, и заказали водку, барабульку и по две порции котлет. — Вот такая она наша глупая жизня, — сказал кладовщик, в пятый раз берясь за графин. — В забегаловке ты эту проклятую водку меряешь на граммы, а у нас такого добра — море-океан. Для меня триста граммов — тьфу! Сам пойми, что для меня такая цифра означает, ежели я состою при емкостях, где чистого спирта тысяча гектолитров. — Видит око, да зуб неймет, — сказал Санька, перемалывая барабульку. — Как сказать, — загадочно отозвался Федя Акундин, мотнув своей кудлатой головой, посаженной на короткую бычью шею. — Спирту у нас завались, — продолжал кладовщик. — Сколько его у емкостях — ке перемеряешь! Бери хоть литру, хоть пятьдесят — ни один ревизор недоглядит! — Это почему же? — спросил Санька. — А потому, как спирт в емкостях! — Заладил ты одно: «емкости, емкости»! Ты толком объясни. — Так я же поясняю. Емкости у нас калиброваны чуть ли не при царе Горохе. Так что отцедить, скажем, пять-десять литров нет никакого риска. — Отцедишь! — сказал Санька. — Потом тебе так нацедят из уголовного кодекса, что костей не соберешь! — А что — я дурнее тебя, — сказал кладовщик. — Мне тоже неохота в тюряху идти баланду хлебать. — Отчего же ты не отцеживаешь? — спросил Санька. — Отцедить не хитро. Увесь вопрос у том, как его проклятого вывезти, — пояснил кладовщик. — Поставил бидончик под сиденье — и точка! — предложил Федя Акундин. — Было. Ставили. Два года дали. — Тогда замаскировать промеж бочек. — Маскировали. Шофер на скамейку угодил. — А под кузов, где инструмент лежит? — Тоже было… — Чего же не было? — Все было, — сказал кладовщик, погружаясь в невеселые воспоминания. — Зачем же ты людям зря душу растравляешь, — обиделся захмелевший Санька. — А что, если эту самую жидкость накачать в …баллон? — неожиданно сказал Федя Акундин. — Ах ты ёшь твою клёшь! — восхитился кладовщик. — Вот это удумал! Конференция была закрыта. На следующий день Саня с помощью кладовщика накачал в баллон спирт и двинулся к проходной. В эту смену дежурил вахтер Неделя, инвалид Отечественной войны, строгий, дотошный старик. Саньке не повезло. То ли от прокола, то ли по другой причине спирт начал просачиваться наружу. — Никак спиртом пахнет, — сказал Неделя, подозрительно обходя машину. — Вчера у тещи на блинах был. Хлебнул лишнее, — пытался отшутиться Санька. — Добрая у тебя теща, дай бог каждому хорошему человеку, — сказал Неделя, внюхиваясь, как гончая в след. — Не жалеет для зятя горилки. — Теща у меня на все сто, сам выбирал, — ответил Санька и с ужасом увидел, что Неделя присаживается на корточки у баллона. Затем дотошный старик поднялся и молча запер ворота. Санька попытался было откупиться, сунул четвертной, но это еще больше возмутило Неделю, который гордился своей беспорочной жизнью. Далее все пошло как по нотам. Саньку и кладовщика взяли на казенное довольствие. Одному Феде Акундину удалось выйти сухим из воды.Глава одиннадцатая
ПРЕСВИТЕР КАРАВАНОВ. «ЛАНДЫШИ» ДАВАЙ, «ЛАНДЫШИ»!». ФИНАЛ ПРОПОВЕДИ. ОПЯТЬ НА ВОЛЕ. ПРОРОЧИЦА ТАИСИЯ
В тюрьме Санька сидел в одной камере с двумя уголовниками средней руки и пресвитером общины пятидесятников Ефимом Карабановым. Пресвитер, семидесятилетний, но еще крепкий старик, угодил в тюрьму не за проповеди. Будучи на руководящей евангельской работе, он оказывал далеко не пастырское внимание девушкам своей общины, что и вызвало конфликт с известной статьей уголовного кодекса. С первых же дней пребывания в камере пресвитер начал докучать ее обитателям проповедями и поучениями. — Наказаны мы, братья по плоти, за тяжкие прегрешения перед всевышним, — нудил Карабанов. — Помолимся же по этому поводу, братья мои ненаглядные. — Ладно, папаша, рвани молитву за нас! — шутили уголовники. — Не будем сетовать на господа бога за наши испытания. Кто мы есть такие? — Да, кто? — интересовались уголовники. — Истинно говорю вам, как благовестник божий, человек есмь червь, тля… — Силен, ничего не скажешь, — перемигивались уголовники. — Безмерной печалью окружена земля, и жизнь наша скомкана и бесцельна! Карабанов стал на колени и дребезжащим козьим голосом затянул псалом:Глава двенадцатая
БОРЬБА С ДЬЯВОЛОМ. АПОГЕЙ КАРЬЕРЫ. ПОЛТОРА МЕТРА КУРОПАТОК. НЕВЕСЕЛЫЕ МЫСЛИ. СОКРУШИТЕЛЬНАЯ ПРОПОВЕДЬ
Несмотря на атеистические вспышки, Санька не менял образа жизни. Он продолжал посещать молельню. Он даже отрастил себе бороду. Он много спал, много ел, его пиджак заметно оттопыривался спереди — отрастало брюхо. От скуки Санька все чаще напивался. Тогда он выкладывал пророчице все, что думал о ней и ее святой братии. Таисия помалкивала. Она лишь запирала двери, чтобы случайно забредший трясун не услышал богохульств, которые изрыгал ее возлюбленный. После обличений Санька отсыпался. И только утром Таисия укоризненно говорила: — Дьявол в тебе бушевал вчера, Саня! — Возможно, — охотно соглашался шофер. — Видать, я потерял бдительность, а он, собака, проник в мой организм! — Ты бы, Саня поаккуратнее, — просила пророчица. — А что с ним, окаянным, сделаешь? Он регулярно поджидает меня у ресторана «Балчуг». Я же борюсь с ним изо всех сил. Он говорит: «Зайди!» Я: «Нет!» Он опять: «Зашиби дрозда!» — «Нет, — отвечаю, — я трясун и состою персонально при пророчице!»… Хоть ты бы помогла мне. — А как тебе помочь, Саня? — Стегани его молитвой! Таисия поджимала губы. Она не понимала очистительной силы сатиры. Впрочем, на этом кончалась Санина фронда. По существу, он был примерным сектантом. Братьям и сестрам он даже нравился. Спокойный, ко всему равнодушный, он не вмешивался в склоки и свары, которые раздирали тело общины. Пророчица окружила своего сожителя ореолом святости и мученичества. «Ночи напролет молится, — конфиденциально сообщала она. — В тюрьме сидел за дела веры!» Когда внезапно умер пресвитер, заменявший старика Карабанова, Таисия выдвинула кандидатуру брата Серафима. После сложной борьбы одержала верх партия пророчицы. Санька неожиданно для себя стал пресвитером. Сперва это даже польстило его самолюбию. «Трясуны, а понимают!» — тщеславно подумал он. Сан пресвитера принес ему устойчивый доход. Теперь Санька уже не зависел от Таисии. Жирный кусок, добытый им без особых забот и трудов, ежедневно лежал перед ним на столе. Стоило только протянуть руку и открыть рот. Открыть рот и рвануть зубами. Санькина мечта обернулась явью. С ролью пресвитера за обеденным столом Санька освоился довольно быстро. На кафедре он чувствовал себя не так уверенно. Не хватало опыта и проповеднического нахальства. Скудные сведения, почерпнутые им во время бесед с тюрьме со стариком Карабановым, составляли весь его религиозный багаж. Таисия купила шоферу полупудовую библию, от которой пахло старушечьими немощами, мышами и какой-то старозаветной дрянью. Санька пытался читать Библию, но не мог. Одолевал сон, сомнения и богохульные мысли. — Сроду не читал таких баек, — пожаловался он пророчице. — Где это видано, чтобы с неба падали перепелки? — Ты путаешь, Саня, — мягко отозвалась Таисия. — Господь насыпал на землю манну крупу. Когда ночью на землю сходила роса, с неба падала и манна… — Какая там манна! Здесь ясно написано: «И поднялся ветер от господа и принес с моря перепелов, и набросал их от стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону стана, на два локтя от земли!» Два локтя! Соображаешь? Это почти метр! Ну и брехня! — Святая книга врать не будет! — Пишут для вас, дур, а вы и уши развесили! Что-то теперь не слышно, чтобы с неба жареные перепелки падали, и бифштексов не видно. Завалящей котлеты и той не кинет! — Бога гневишь, Саня! Пошлет он тебе наказание. — Уже послал. Тебя, дуру! Подготовка к проповеди вызывала у шофера раздражение. Просто тошно было садиться за эту толстенную книгу и запоминать разные байки про перепелов, и про сражение с амаликитянами, и про терновый куст, что горел огнем и не сгорал, и про многое другое. Санька чувствовал, что единоборство с Библией для него хорошим не кончится. И он нашел выход, несколько необычный для божьего благовестника. Втихомолку от Таисии он накупил антирелигиозных брошюр. Их было легко и интересно читать. Из них он и черпал нужные цитаты и примеры, опуская, разумеется, авторскую критику. Если бы трясуны знали, из какого источника извлекает их пресвитер материал для проповедей, они бы взашей выгнали Саньку. Но шофер умел хранить свою маленькую тайну. Он злорадствовал. Это была его месть за многочасовые бдения в тесной молельне, за скуку, за сонную одурь своей бессмысленной жизни, которой Санька уже начинал тяготиться. Жирный кусок все чаще не лез в рот, становился поперек горла. Как-то Санька встретил своего дружка Митьку Парамонова. Когда-то они вместе учились на шоферских курсах. Дружок затащил Саньку к себе. В уютной двухкомнатной квартирке собрались Митькины сослуживцы. Пообедали, выпили немного, потанцевали, потом чаевничали. Парамонов со смаком рассказывал об автомобильном ралли Москва — Прага, гордился именным призом, полученным за многоборье. Саньку потянуло за баранку, на свежий воздух. «Везет людям!» — с завистью подумал он, прощаясь. Он должен был еще поспеть в молельню. Злой как черт, он заехал домой, переоделся и поспешил к своим братьям. В молельне, как всегда, было душно и пахло кислым стариковским потом. «У-у-у, морды!» — со злобой подумал Санька, глядя на сбившихся в кучу трясунов. Ему стало жаль потерянного вечера. Ему было жаль себя. «Пропадаю я с этой братией, — подумал он. — Из-за чего? Из-за куска хлеба», — ответил он себе. Довод был явно неубедителен. Час назад Парамонов предлагал ему идти работать на базу, полагая что Санька приехал из Тимофеевки устраиваться на работу. Устроиться можно! Так из-за чего все-таки он, Санька, губит свою жизнь? Трудно было ответить на этот вопрос. «Гады», — мысленно обругал Санька трясунов. В крайнем раздражении он оглядел зал. Сектанты толпились у кафедры. «Очередь к господу богу! — саркастически подумал Санька. — Дожидаются, стервецы, благодати!» Несмотря на горящие глаза, на постные лица, на поднятые к небу бороды, трясуны не походили на людей, охваченных молитвенным экстазом. Скорее их можно было принять за спекулянтов, что поутру собрались у дверей универмага в надежде первыми заскочить в здание и схватить прибыльный отрез или дефицитную кофточку. Трясуны топтались на месте, вымаливая у всевышнего разные блага. Кто хлопотал у господа насчет квартиры, кто просил левых заработков, кто отпущения грехов, а кто здоровья себе и болячек соседям. В молельне было довольно шумно. — Братья! — рявкнул Саня, перекрывая молитвенный галдеж. — Худо вам, братья! Господь бог видит вашу корысть, вашу лжу и ваш блуд! Санька мстительно оглядел насторожившихся трясунов. — Он этого так не оставит. Скоро, очень скоро придет день, и он воздаст каждому по заслугам. Каждому за грехи, каждому по блуду! Санька развернул перед слушателями такую картину божьего возмездия, что у трясунов в зобу дыханье сперло. Битый час он расписывал мучения, уготованные грешникам. Самой безобидной пыткой, по авторитетному свидетельству Сани, будет вытапливание подкожного жира из грешников на специально оборудованной для этой цели дьявольской салотопне. Чем больше наворачивал ужасов вошедший во вкус пресвитер, тем больше вытягивались и бледнели лица его паствы. «Что, не нравится», — злорадно подумал Санька и выдал перепуганной аудитории еще пару таких примеров дьявольской жестокости, что Таисия заголосила, как на похоронах. «И тебя проняло, дура!» — с удовольствием констатировал он. Следом за Таисией заголосили и другие сестры. Трясуны опустились на колени. Санька, наслаждаясь общим смятением, продолжал проповедь. Под занавес он сообщил о приближающейся гибели мира. Сначала начнется извержение подземных вулканов, потом великое землетрясение и на десерт всемирный потоп. В кромешной тьме с ревом, на манер реактивных истребителей будут носиться в пустом небе дьяволы, высматривая, не бродит ли по развалинам, среди дыма и огня чудом уцелевший ловчила грешник. Картина гибели мира окончательно доконала паству. Саня покинул молельню сопровождаемый воплями и стенаниями.Глава тринадцатая
АДВОКАТША ИЩЕТ БОГА. ПРОРОЧИЦА И НЕЙЛОН. ИЗГНАНИЕ ПРЕСВИТЕРА
В эти, так сказать переломные для Саньки дни пророчица привела Ингу Федоровну. Прекрасная адвокатша похудела, сиреневые тени легли под ее глазами, две скорбные морщинки появились в уголках ее рта. И все же она была еще очень хороша. — Святой брат, — сказала Инга Федоровна с обескураживающей простотой. — Мне очень плохо. Помогите мне. — Бог поможет, — скромно ответил Саня. Обращение Инги Федоровны к богу не было случайностью. История изобилует многочисленными примерами, когда после социальных бурь и катаклизмов, после сокрушительных личных неудач люди слабые, безвольные, изверившиеся в своих силах начинали искать бога. Инга Федоровна тоже пыталась сделать своим союзником какого-нибудь представителя неба, чтобы спасти свои вещи. — Научите меня жить, — повторила Инга Федоровна где-то вычитанную фразу. — Бог научит, — с апостольской непосредственностью ответил Саня. — Он знает, он и научит. — Научит, научит, — зачастила Таисия, нестерпимо сверкая глазами. — Приходи в молельню, голубка сизая моя. Услышат тебя ангелочки. Донесут молитву до бога. — Я и молиться толком не умею, — созналась адвокатша. — Брат Серафим поможет. И я помолюсь за тебя, сизокрылая! Не теряя драгоценного времени, Таисия бухнулась ка колени. «С чего это Таисия распсиховалась?» — неприязненно подумал Саня и сказал гостье: — Вы не беспокойтесь, пройдут ваши неприятности! Инга Федоровна была тронута ласковым словом брата Серафима. «Какой он чуткий, — подумала адвокатша. — Обязательно приду в молельню. К тому же он недурен собой и, вероятно, не слишком нуждается в деньгах». Инга Федоровна ушла. Таисия поднялась с колен и деловито сказала: — Богатая она. Вещей много. А шубка — красоты неописуемой. Не носить мне, грешной, такую шубку! Санька хорошо изучил пророчицу, но все же не всегда до конца понимал ее. Когда Таисия минуту назад рыла лбом землю, вознося страстные молитвы о спасении заблудшей души, он не подозревал, что она просто зарится на гардероб гостьи. — Жадная ты женщина, Таисия! Разинешь рот — так до самого неба! — сказал шофер, хотя и сам был не прочь поживиться за счет ближнего. Инга Федоровна начала посещать молельный дом. Таисия все больше входила в ее доверие. Пророчице даже удалось получить в подарок несколько старых платьев. Она продолжала грезить о нейлоновой шубке. Только бы уговорить сестру Ингу второй раз креститься. Только бы довести ее до ангельских слов! Сане претила эта мысль. Ему все больше нравилась эта опрятная, красивая женщина. То ли из-за все возрастающей неприязни к Таисии, то ли оттого, что у Саньки еще сохранились крупицы честности, он не хотел подвергать адвокатшу столь сильному испытанию. И когда Инга Федоровна пришла за советом, он поспешил убедить ее, что не следует торопиться со вторым крещением. Бог не любит спешки. Господу не нужна такая оперативность. Когда наступит час, Санька скажет. — И еще об одном я хотела спросить у вас, святой брат. — доверчиво сказала Инга Федоровна. — Пророчица заклинает меня отказаться от мирских благ. Она советует передать общине одну вещь. — Какую вещь? — мрачно спросил Саня. — Нейлоновую шубку. — Господь бог не носит нейлона, — строго заметил Саня. — Не нужен ему и перлон. Носите сами! Бескорыстие святого брата потрясло Ингу Федоровну. «Какой он благородный, в нем есть что-то возвышенное!» — подумала она. — Спасибо, брат Серафим, — прошептала Инга Федоровна и в порыве благодарности потянулась к Саниной руке. Саня отдернул руку и, неожиданно для себя, наклонившись к страждущей гостье, поцеловал ее в губы. Шоферу показалось, что адвокатша ответила на поцелуй. Ему захотелось повторить дерзкий опыт. Он обнял гостью. В дверях показалась Таисия. Сане пришлось дотянуться губами лишь до лба Инги Федороны и запечатлеть постный пастырский поцелуй. — Благословляю тебя, сестра, — на всякий случай молвил он. Инга Федоровна поспешила попрощаться. — Дьявола тешишь! — сказала пророчица, сверкнув глазами. — Себя! — отпарировал Санька. Пророчица ничего не ответила. Санька хлопнул дверью и выбежал на улицу. Остаток дня он провел в «Балчуге». Пресвитер страшно напился и был препровожден в вытрезвитель, где его встретили как старого знакомого. — Опять наш безбожник пожаловал! — сказал дежурный санитар, помогая Саньке освободиться от одежд. — Сволочи вы! — сказал Санька. — Развалили антирелигиозную работу. Бить вас за это мало! Между тем Инга Федоровна зачастила в молельню. Впоследствии значительная часть паствы высказала мнение, что прекрасная адвокатша была эмиссаром дьявола. Ведь завпреисподней никогда не упускает случая подобрать ключи к малоустойчивой христианской душе. В борьбе за такую душу он проявляет удивительное коварство, недюжинные организаторские способности и лютое нечеловеческое упорство. Посредством адвокатши колеблющийся пресвитер и был уловлен в поганые сети… И впрямь, Саня мечтал о прекрасной адвокатше. Хорошо бы заиметь такую жену. Хорошо бы зажить по-человечески. Хорошо бы плюнуть на паству. Он возненавидел Таисию. От ревности пророчица осатанела. Чуть ли не ежедневно она закатывала скандалы, которые дышали поистине библейской яростью. Развязка наступила в день крещения очередного новичка. Четвертый час шло моление. Новобранец-сектант никак не мог дойти до ангельских слов. Паства сильно притомилась. Таисия ползала на коленях по молельне, выкрикивала разные мелкие пророчества. Вдруг она остановилась перед Ингой Федоровной. — Вижу! — возопила она. Инга Федоровна испуганно отшатнулась. — Дьяволицу вижу! — уже шепотом произнесла пророчица, указывая перстом на адвокатшу. — Опомнитесь, дорогая! — залепетала не на шутку испуганная Инга Федоровна. Вторжение дьявола в пределы молельни насторожило паству. Братья и сестры прекратили возносить молитвы. Наступила нехорошая тишина. — Уймись, сестра Таисия! — строго сказал Саня, стараясь предупредить надвигающийся скандал. — Ирод! Сатаны заступник! — закричала Таисия. «Начинается представление, — со страхом подумал Санька. — Сейчас она развернется на всю катушку!» Пророчица оправдала самые худшие предположения шофера-пресвитера. Она заметалась по молельне, умоляя сестер изгнать дьяволицу. Она закатила добротный истерический припадок с плачем, судорогами, выкриками и до того накалила сестер, что те чуть не бросились на адвокатшу. В разгар своих пророческих обличений Таисия вцепилась в волосы сопернице. Сектанты угрожающе загудели. Новобранец начал выкрикивать ангельские слова. Но на него уже никто не обращал внимания. Саня с трудом вырвал из цепких рук пророчицы Ингу Федоровну. Прекрасная адвокатша рыдала. Таисия в два прыжка очутилась на кафедре. Простирая руки к небу, она прокляла пресвитера. Саня вместе с Ингой Федоровной, не дожидаясь возможных разоблачений, поспешил покинуть молитвенный дом. Неделю спустя на Рязанском шоссе катил грузовик с огромным серебристым прицепом. Вдоль бортов шла четкая надпись: «Междугородние централизованные перевозки». За рулем сидел свежевыбритый, помолодевший Саня. Теплый воздух, настоянный на сосне, врывался в кабину. Из придорожного леса доносилось задорное пение птах. В кабине плясали солнечные лучи. Саня насвистывал песенку, вовсе не похожую на псалом. А в это время Инга Федоровна приняла решение окончательно порвать с интересным пресвитером, решившим почему-то стать обыкновенным шофером. После многих бессонных ночей, небрежно одетая, поникшая адвокатша явилась в комиссионный магазин. Крупные алмазные слезы безостановочно катились из ее глаз. Инга Федоровна покорно положила шубку на отполированный прилавок. Она была так расстроена, что даже не отреагировала на уценку, произведенную Веней-музыкантом. — Бедняжка, — прошептала Матильда Семеновна. Инга Федоровна ничего не ответила. Она, как сомнамбула, вышла из магазина.Новелла о неистовом СПЕКУЛЯНТЕ
Глава четырнадцатая
«НОМЕРКИ СНИМАЮТ ДУРАКИ». ОПЕРАЦИЯ «МИМОЗА». РЕБЕНОК ГЕНРИЕТТА И МЕТАТЕЛЬ МОЛОТА. ПОМИДОРНЫЙ ПОЕЗД
Шалва Константинович Гогоберашвили был высоким и стройным, как пирамидальный тополь. Его талии могла бы позавидовать профессиональная балерина, а голубоватой седине — благородный опереточный отец. Помимо талии и седины, Гогоберашвили обладал еще и многими другими достоинствами. Несмотря на свои шестьдесят шесть лет, он мог лихо сплясать лезгинку, выпить одним духом литровый рог вина и не вставать из-за пиршественного стола восемь часов кряду — полный рабочий день. Если он прихватывал и ночь, что тоже случалось довольно часто, то утром опохмелялся доброй миской мацони, принесенной из погреба, и стаканом сухого вина, после чего становился свежим, как цветок, омытый на заре росой. Многочисленный род Гогоберашвили гордился своими чаеводами, энергетиками, сталеварами, летчиками, был у них и знаменитый математик. Все Гогоберашвили трудились в поте лица, один лишь Шалва Константинович не снимал номерка с табельной доски. — Пусть его снимают дураки, я проживу и так! — говорил он. — За всю жизнь ты толком не проработал ни одного дня! — возмущались родичи. — Э-э-э, к чему эти упреки? — удивлялся Шалва Константинович. — Разве я не работал с цитрусовыми, с шерстяным трикотажем? С лавровым листом и швейными машинами? Со скобяным товаром и мимозой? — Какая же это работа? — Нет, как это вам нравится?! Вы думаете легко, скажем, в наше суровое время зафрахтовать самолет «Гражвоздухофлота», чтобы отвезти в Москву мимозу к празднику трудящихся женщин — 8 Марта? Во всяком случае это значительно труднее, чем пиликать на скрипке или сидеть у электронной счетной машины, как дядюшка Шота, и ждать, пока она решит за тебя математическую задачу! У меня нет электронных машин и полупроводников. Когда Шалва решает задачи, сохнет его собственный мозг. Операция «Мимоза»! Что вы знаете о ней? Я боролся за эти цветы, как витязь, только с той разницей, что на мне не было тигровой шкуры. Сначала надо было достать мимозу. Потом скупить все места на «ИЛ-14». Когда оставшиеся без билета командированные увидели, что вместо людей на самолет грузят цветы, поднялся невероятный скандал. Мне чудом удалось оторваться от земли. Но это не все. В Москве надо было подготовить группу нетрудящихся женщин, чтобы выбросить на улицы праздничный товар. И все это сделал я один, без секретаря-машинистки, без главбуха, без инкассатора и без месткома! А вы говорите, я не работаю! — Ты плохо кончишь, Шалва! — предсказывали родичи. — Все мы плохо кончим. Все мы в положенный срок будем удобрять землю. И когда нашу плоть станут есть черви, смею вас уверить, они так и не узнают, кто из нас был математиком, а кто спекулянтом! Таково было житейское и философское кредо Шалвы Константиновича. В последние годы наблюдался спад деловой активности фирмы Гогоберашвили. Фирма сворачивала операции. Шалва стал осторожнее. — Я не хочу рисковать, — признавался он своему другу. — Не так уж мне много осталось ходить по земле, чтобы поступать безрассудно. Мне как-то не хочется провести остаток своих дней на выборной должности старосты тюремной камеры. — А как ты будешь жить? На какие шиши? Или ты надеешься, что скоро качнут давать пенсию за многолетнюю безупречную торговлю из-под полы. — Я надеюсь на неприкосновенность вкладов. Она гарантирована государством! — безмятежно отвечал Гогоберашвили. Уйдя в личную жизнь, старый спекулянт занялся вплотную своим ребенком — дочкой Генриеттой. Ребенок внешне не походил на отца. Генриетта весила 80 килограммов, и обхват ее талии равнялся без малого метру 10 сантиметрам. Если к этому добавить, что она унаследовала от покойницы матери заячью губу, сварливый характер и непобедимую уверенность в своей неотразимости, то можно легко себе представить всю тяжесть отцовской миссии. После многолетних поисков, сопровождавшихся нездоровой рекламой приданого, Шалва Константинович нашел жениха. Будущий зять официально числился бухгалтером на ремонтно-механическом заводе, хотя никогда не держал в руках гроссбуха. Лжебухгалтер защищал спортивную честь завода на зеленом поле стадиона. Он имел лишь одну специальность — спортивную. Жених умел хорошо метать молот. Сначала это несколько обескуражило Шалву Константиновича. — Метатель молота! Что это значит? Зачем его нужно метать? И почему именно молот, а не наковальню? Жених снисходительно улыбнулся. — Никогда не произносите таких слов вслух, Шалва Константинович! Не показывайте людям свою, извините, спортивную безграмотность. В вашем представлении молот — это железная кувалда. Между тем это снаряд, состоящий из ядра, тяги и ручки. — Такое объяснение меня сильно успокоило, — не остался в долгу Гогоберашвили. — Предположим, что человечеству этот вид спорта крайне необходим. Если человечество не будет метать молот, погибнет цивилизация. Но у меня возник другой вопрос: разве можно строить семейную жизнь, свой бюджет в зависимости от того, как далеко вы закинете молот? — Я надеюсь, вы будете помогать нам, — без обиняков сказал жених. — И сильно помогать! — Ясно! — помрачнел Гогоберашвили. — Дочь Шалвы Константиновича никогда ни в чем не нуждалась. Будем надеяться, что и в будущем она не узнает нужды. Но я не бессмертен. Что вы станете делать, когда меня погрузят на катафалк? — К тому времени я стану тренером, — бестактно успокоил метатель своего будущего тестя. В отличие от отца, Генриетте жених понравился с первого взгляда и по всем статьям. — Метатель — редкая спортивная специальность, — авторитетно заявила Генриетта. — И молот это не менее важно, чем бег через барьеры или стрельба по тарелочкам. Шалва Константинович махнул рукой и дал окончательное согласие на брак. Он начал готовиться к свадьбе. Он замыслил ее как некое грандиозное семейное торжество, одну из самых величайших частных пирушек современности. Свадьба должна была унизить и посрамить всех остальных Гогоберашвили, третировавших старого спекулянта. — Посмотрим, что скажут паши прославленные чаеводы и профессора, когда узнают, что стол был сервирован на двести человек? Что запоют эти честные труженики, когда два оркестра, сменяя друг друга, начнут исполнять бальные и другие танцы, а тамада провозглашать тосты через микрофон, потому что свадебный стол будет радиофицирован. Программа матримониальных торжеств влекла за собой опустошительные расходы. Шалва Константинович почувствовал, что без серьезной торговой операции ему не обойтись. — Я еду в Москву, — сказал он другу. — Весь вопрос в том, что везти и что продавать? В последние годы я оторвался от Центрального рынка. — В данное время должны хорошо пойти помидоры, — посоветовал Ираклий. — Как сейчас помню, в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году Володя Ломинадзе за три ездки заработал на томатах тридцать тысяч! — Эта сумма меня устроит. Только где взять вагоны? На министра Бещева я не надеюсь. Большегрузных платформ он не даст. Холодильников тоже. — Пусть хозяйственники вымаливают вагоны. Ты же можешь нанять грузовое такси. В прошлом году такси от Тбилиси до Москвы стоило десять тысяч. Грузишь три тонны томатов и продаешь в Москве по пятнадцать рублей за килограмм. Чистую прибыль подсчитай сам! Шалва Константинович быстро подсчитал. Он остался доволен. В душе его забили барабаны. Труба звала в торговый поход. Недолго раздумывая он выбил летку усвоей сберкнижки. Хлынул металл. Опорожнив выигрышный вклад, он нанял три такси. Пока машины загружались товаром, Шалва Константинович бражничал на квартире у хозяина томатов. Провозглашались тосты за успех операции, сверхприбыли, дочь Генриетту, метателя молота, счастливую жизнь будущих молодоженов, потенциальных внуков, правнуков и даже за то, чтобы гвозди не попадались на трассе пробега и баллоны без проколов дошли до Москвы. После пирушки, несмотря на изрядное количество термоядерной чачи, принятой вовнутрь, Шалва Константинович нашел в себе силы осмотреть содержимое грузовиков. В кузовах трех машин лежали томаты — упругие, налитые соком, без единого пятнышка, вмятины, изъяна, плоды-близнецы, будто их отштамповала на своем чудесном конвейере солнечная машина. — Дойдут? — спросил на всякий случай Гогоберашвили. — Товар прима! — поцеловал свои пальцы сын хозяина, грузивший помидоры. — Дойдут до Северного полюса и даже дальше. — Дальше не надо! — весело ответил Шалва Константинович. Помидорный поезд двинулся в Москву. Он шел на предельной скорости, редко останавливаясь в населенных пунктах. Шалва Константинович торопил водителей. Дорога была каждая минута. Летом цены на овощи непрерывно снижались. Гогоберашвили не хотел состязаться в этой области с государственными магазинами. Под Москвой у командорской машины спустил баллон. Автопоезд стал. Затормозил и шедший навстречу грузовик с серебристым прицепом и надписью вдоль бортов: «Междугородние централизованные перевозки». Из кабины высунулся блондин с вислым носом: — Помочь надо? — спросил блондин. — Справимся! Скажи лучше, дорогой, как в Москве с помидорами? — спросил Шалва Константинович. — С руками оторвут! — заверил блондин. — Давай, генацвале, жми! — Хороший ты человек, — обрадовался доброй вести Гогоберашвили. — Выпей со мной стаканчик «Твиши» за здоровье твоей жены и деток, чтобы они горя не знали сто двадцать лет! — Спасибо, в рейсе не пьем! — ответил блондин и включил скорость. Шалва Константинович прибыл в Москву ночью. Автопоезд беспрепятственно пересек столицу и остановился в одном из переулков, погруженном в сиреневую мглу. — Шебалинский тупик — конечная остановка, — возвестил начальник томатной экспедиции. Через минуту Шалва Константинович уже стоял перед дверью квартиры доктора математических наук Шота Читашвили. После нескольких продолжительных звонков ему открыл сам дядюшка Шота. — Ах, это ты, Шалва! — без особого энтузиазма сказал математик. — Какой поезд из Тбилиси приходит так поздно? — Я на такси, — ответил Шалва. — Разреши поставить во дворе три машины. — Ты опять взялся за старое? — недружелюбно спросил профессор. — Упаси бог! — соврал Шалва. — Я ведь на службе. В «Кахетинминснабсбыте». Тебе не рассказывали? — «Кахетинснабсбытмин» — спутал математик. — Что это за организация? — О, это трест с большим будущим. В Кахетии нашли минеральный источник типа нарзана. Огромный дебет воды. Ученые подсчитали, что ее запасов хватит на триста лет, если ежедневно сто тысяч человек будут выпивать по три бутылки! — А ты не врешь? — Чтоб мне не сойти с этого места! Чтобы мне не видеть внуков, если мы не снабжаем кахетинским нарзаном весь Дальний Восток, включая Южный Сахалин и Курилы! — Что же ты делаешь в Москве? — Видишь ли, наша организация шефствует над подмосковным детским домом сто шестьдесят семь дробь восемнадцать. Я и привез им в подарок ранние помидоры, которые мы вырастили в своем коллективном саду. Трогательная забота о подшефных малютках умилила старого ученого, и он оставил у себя неприятного гостя.Глава пятнадцатая
АНТИКОМИТЕНТ. ШУБКА ПЕРЕХОДИТ В НОВЫЕ РУКИ. ЕВФРОСИНЬЯ АРХИПОВНА И ФЕДЯ АКУНДИН. КРАСА КАХЕТИИ. НАЧАЛО КОНЦА
Шалва Константинович хорошо поспал остаток ночи. Он проснулся в одиннадцать часов. Он вышел во двор. Шоферы, не выключив счетчиков, ушли завтракать. Гогоберашвили проследовал на улицу. У магазинов толпились люди. Завмаги срывали пломбы, открывали замки, из магазинов выходили заспанные сторожа с охотничьими ружьями за плечами. И тут Шалва Константинович вспомнил о подарке дочери. Он зашел в первую попавшуюся на глаза комиссионку. Потолкавшись у прилавков, он заглянул за фанерную перегородку. В закутке было тихо. Веня-музыкант в ожидании сдатчиков читал в «Вечерней Москве» заметки орнитолога. Матильда Семеновна дремала на стуле, сложив под бюстом руки, окантованные браслетами. — Скажите, пожалуйста, можно ли купить в этом доме подарок? — спросил Шалва Константинович. — Здесь нет продажи, — сухо ответил Веня-музыкант. — Мы принимаем только комитентов. — Комитент, абитуриент, экспонент — на свете много красивых слов. Мне это известно из уроков преподавателя литературы в реальном училище. Кстати, что такое комитент? — Лицо, сдающее нам вещи, — пояснил Веня. — А как по-иностранному называется лицо, дающее вам деньги? Ведь в данную минуту я ничего не сдаю. Я только покупаю. Поэтому прошу считать меня антикомитентом, который желает купить за хорошие деньги хорошую вещь! — Люблю остроумных людей, — смягчился Веня-музыкант. — Какой вас интересует подарок? — Для кого? — уточнила Матильда Семеновна. — Для невесты, конкретнее — для моей единственной дочери. — Имеется чудесный фасонный панбархат, — сказала Матильда Семеновна, вынимая из-под прилавка отрез. — Такую мануфактуру можно купить в Очамчире. Не стоило из-за этого ездить в столицу. — Я вижу вы человек понимающий, — сказал Веня. — У меня есть одна экстра-вещь. Тряпка, достойная царицы Тамары. — Так в чем же дело? Зачем мы устраиваем говорильню, как в десятом комитете Генеральной ассамблеи? — Как вам объяснить? Создалась щепетильная ситуация, — конфиденциально сообщил Веня. — Эта нейлоновая шубка обещана одному знаменитому тенору. Я не буду называть его фамилию, только скажу, что за один концерт он получает четыре ставки! Пожилой тенор хочет сделать подарок молодой жене. — Я не знаменитый пожилой тенор. Но я и не студент, который живет на стипендию. Если вещь мне понравится, мы постараемся сообща забыть вашего Карузо. К тому же, как я могу обидеть женщину с такой королевской фигурой? — сказал Шалва Константинович, с удовольствием разглядывая пышные формы Матильды Семеновны. — Ай, идите вы! — рассмеялась Матильда Семеновна. — Я ужасно боюсь пожилых мужчин! В Гагре они мне проходу не давали. — Это вы не давали им проходу! Как можно спокойно пройти мимо такой женщины? Тем временем Веня-музыкант выложил на прилавок нейлоновую шубку. После беглого осмотра Шалва Константинович бросил: — Беру! — А тенор? — Споемся с вами и без тенора. Гогоберашвили уплатил пять с половиной тысяч и унес шубку к профессору Читашвили. Затем он назначил свидание Евфросинье Архиповне, даме, посвятившей свою жизнь торговле дефицитными товарами. Она стояла во главе сбытовой артели, укомплектованной горластыми, нахальными бабами и двумя лжеинвалидами. Евфросинья Архиповна пришла не одна, а с Федей Акундиным, прибывшим на торговые гастроли в столицу. Федя, бывший кавалер Глаши, стал здоровенным мужиком с плешиво-кудлатой головой, посаженной на бычью шею. Он исподлобья и несколько презрительно оглядел тонкую фигуру Гогоберашвили и застыл в позе зубра, что красуется на радиаторе мазовского грузовика. Гогоберашвили радостно встретил старую знакомую. — Евфросинья Архиповна! Вы выглядите как кинозвезда, выигравшая по лотерейному билету автомобиль! — восторженно начал Шалва Константинович. — Откройте мне секрет вашей нетленной молодости. Вы пьете по утрам женьшень или сделали себе подсадку кожи молодого оленя? — Вечно вы со своими глупостями, Шалва Константинович! В ваши годы можно уже не заглядываться на дам! — А на кого мне смотреть? На портрет Ли Сын Мана? На бывшего турецкого премьера Мендереса? Нет уж, пусть на него смотрят реакционные турки. Я лучше полюбуюсь на такую в высшей степени интересную женщину, как вы! Кстати, сколько вы сейчас весите, Евфросинья Архиповна? — Без малого шесть пудов. — В переводе на метрическую систему — девяносто шесть килограммов. Неплохо! Любопытно знать: как же этот тонкий гипюр сдерживает такой вес? — Шалва Константинович деликатно притронулся к налитому жиром плечу гостьи. — Уберите руки! — коротко приказала Евфросинья Архиповна. Акундин открыл пасть и загоготал. — Вы остались такой же недотрогой, какой были в первой пятилетке. Хм! Такая же красивая, такая же недоступная и такая же деловая женщина. Вашему мужу можно только позавидовать! — с неподдельным восхищением произнес Гогоберашвили. — Что ж, перейдем к нашим делам. Нужно, уважаемая Евфросинья Архиповна, быстро реализовать один товар. — Это можно, — сказал Федя Акундин. — Что вы приволокли? Груши? — Помидоры. — Я не ослышалась? Какие помидоры? — спросила Евфросинья Архиповна. — Обыкновенные. Те самые, которые кладут в салат, и в борщ, и в суп-пюре. Их едят жареными, ими фаршируют дичь, их сушат, маринуют, солят — мало ли что делают из отборного помидора! — А деньгу на них подшибить можно? — спросил Акундин. Они вышли во двор. Евфросинья Архиповна заглянула в кузов грузовика. Федя Акундин продегустировал плод. На его лице появилось брезгливое выражение. — Несортовой товар, — сказал он. — А вы еще попробуйте! — предложил Шалва Константинович. — Чего пробовать! Я и так вижу, что это не «бизон», не «грунтовый грибовский» и даже не «алпатьев», — сказал Федя. — Совершенно верно! «Алпатьевым» здесь не пахнет. Это новый сорт, — не моргнув глазом, соврал Шалва Константинович. — Он называется «краса Кахетии». По количеству каротина в плодах он занимает первое место в Европе, включая княжество Люксембург. — Про княжество ничего не знаю, — сказал Федя. — А каротин держите при себе! Акундин разгреб верхний слой томатов и взял несколько плодов снизу. У Шалвы Константиновича потемнело в глазах. Плоды были перезрелые, готовые вот-вот брызнуть соком. Они были тронуты бактериальным раком. «Обманули! Погрузили не тот товар, пока я лакал чачу! — с ужасом подумал Гогоберашвили. — Обвели, подонки, вокруг пальца!» — Видали, Евфросинья Архиповна, что нам добрые люди подсунуть хотели?! — сказал Федя, передавая ей плоды. — Аферист! Каторжник! Постеснялся бы своих сивых волос! — закричала Евфросинья Архиповна и бросила помидоры в ноги Гогоберашвили. Высокие договаривающиеся стороны холодно расстались. Гогоберашвили начал поспешно искать более покладистых покупателей. Несколько деловых встреч не принесли ему желанного успокоения. Базарные перекупщики гордо отворачивались от томатов. Тревога все больше закрадывалась в душу неистового спекулянта. Скрепя сердце Шалва Константинович поехал к бывшему компаньону Ефиму Гавриловичу Шилобрееву, с которым когда-то разругался из-за дележа прибылей. Бывшего компаньона он нашел на складе, заваленном мясными тушами, сырами, колбасами и фруктами. — Ты никак служишь, номерки снимаешь? — несказанно удивился Гогоберашвили. — Захомутали меня. — пожаловался Шилобреев. — Работать заставили. Это хорошо, — насмешливо сказал Гогоберашвили. — Кто не работает, тот не ест! — Что ж тут хорошего? — с надрывом спросил Шилобреев. — Продукция была бы стоящая. А то ведь — тьфу, плюнуть и растереть. Ее не укусишь и на сторону не продашь. Мышь и та ее стороной обходит! Мясные туши, окорока, колбасы и фрукты, которые отпускал по накладным Шилобреев, были ненастоящие. Мастера витринной бутафории сработали их из гипса, воска и парафина. То были точные слепки, холодные, мертвые копии подлинных продуктов. — М-да, такой товар вроде и красть незачем, — посочувствовал Гогоберашвили. — Только душу растравляет, — чуть ли не рыдая, признался Шилобреев. — Так и тянет, так и тянет взять… а не беру. Потому как это не продукт, а — язви его душу! — муляж! Слово «муляж» было у Ефима Гавриловича синонимом всего дешевого, никчемного, поддельного. Ефим Гаврилович запер склад и повесил на дверях записку, что отлучился на базу за товаром. Он повез Гогоберашвили к себе на квартиру. Дома никого не было, если не считать сына Шилобреева. Здесь они спокойно продолжили беседу. — Говоришь, прихомутали тебя к делу? — игриво стукнул по затылку компаньона Гогоберашвили. — Пристроили дурака! — Живешь — горя не знаешь, — продолжал издеваться Шалва Константинович. — Какая это жизнь? Муляж! — Папа, не ной! — сказал, отрываясь от чертежного стола, худой парнишка в спартаковской майке. — Сынок мой, Генка, — представил Шилобреев. — Высокосознательный! — Идейный, — уточнил Гогоберашвили. — Отца поправляет. Генка повернул к ним свое лицо с глубоко посаженными глазами и подбородком решительного человека и сказал с оттенком презрения: — Охота тебе, папа… Шилобреев промолчал. Он втайне гордился сыном. Яростные дискуссии на политические и морально-бытовые темы не поколебали отцовской любви. — Учится парень, — сказал он. — На кого? — спросил Гогоберашвили. — Кончит, по атому работать будет. — Специальность — ничего. За атом платить будут, — одобрил Шалва Константинович. — Упаси бог говорить у нас про деньги! — сказал Шилобреев с комическим ужасом. — Мы за деньги не работаем! — А за что? — За идею! — Папа, неужели тебе самому не надоели эти плоские остроты? — Вот видишь, уже схлопотал. Все! Молчу! — сказал Шилобреев. — Так вот, дело у меня есть, — начал Гогоберашвили. — Ты со своими ребятами связь держишь? Помидоры надо продать, и быстро! — Папа этим заниматься не будет! — решительно сказал Генка. — У вас так принято: куколка учит бабочку, икринка — взрослую рыбу? — спросил Гогоберашвили. — Никто никого не учит. Только папа не пойдет на рынок! Он на службе! И со старым все покончено! — Не паникуйте, молодой человек, — сказал Гогоберашвили. — Помидоры законные. Их предлагает кахетинский садовый кооператив «Персональный пенсионер». Заслуженные люди в свободное от работы над мемуарами время растили на лоне природы томаты. Что в этом плохого? — Растили ли? — Хотите, покажу справку? — Знаем мы эти справки! — Он все знает, — вздохнул Шилобреев. — Он же начальник штаба добровольной дружины. — Общественность на страже порядка? Слыхали! — помрачнел Гогоберашвили. — Он дружинник! Ему больше всех надо! — опять начал жаловаться Шилобреев. — Он таскает на своем горбу пьяных, отбирает от хулиганов кастеты, ловит бандитов… — Интеллигентное занятие, — подлил масла в огонь Гогоберашвили. — Кончится все это тем, что его пырнут ножом… — Очень даже просто… — Так оно и будет. Милиция нашла себе помощников. И, главное, бесплатно! — Папа, ты опять о деньгах! — Прислушайтесь к словам отца. Он вам добра желает, — сказал Гогоберашвили. — А что касается томатов… — То отец их продавать не будет! — повторил Генка. — И вам не советую. Сейчас наши дружинники проводят на рынках Москвы рейды против спекулянтов. — По-вашему, я спекулянт? — Несомненно! — без обиняков сказал Генка. — Предположим. Что же вы советуете мне делать с томатами? Съесть самому три машины помидоров? — Передайте их по твердой цене в торговую сеть. Шалва Константинович вышел на улицу не в лучшем настроении. «Надо же было угодить в столицу в период массового рейда добровольных дружин. Мне сейчас не хватает знакомства с прокурором». От этой мысли его даже пошатнуло. Он прислонился к фонарному столбу, закрыл глаза и прошептал: — Спокойствие, Шалва Константинович, спокойствие, дорогой! Не все еще потеряно.Глава шестнадцатая
ТЯЖЕЛОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ. ПРОБОДЕНИЕ СОВЕСТИ. ФИНАЛ ЭКСПЕДИЦИИ
В Шебалинском тупике Шалву Константиновича поджидали водители. Показания трех счетчиков перевалили за тридцать тысяч. Представители вольного племени таксистов глухо роптали. Они рвались к домашним очагам. — Не размахивайте руками, — сказал Гогоберашвили. — Я отпущу вас, когда придет время. Мне нужно осмыслить ситуацию! В доме дядюшки Шота предводителя томатной экспедиции ждали дополнительные неприятности. Математика одолевали сомнения. Он пытался окольными путями узнать, не предназначены ли помидоры для спекуляции. Читашвили неделикатно намекнул, что, если его догадка подтвердится, он вышвырнет своего дорогого родственничка на улицу! Два последующих дня Шалва Константинович лихорадочно искал оптового покупателя. Он не мечтал о сверхприбылях. Он лишь пытался уйти от финансового разгрома. Ночами Гогоберашвили мучили кошмары. На третью ночь он совсем лишился сна. Под утро он вышел к машинам. Шоферы спали в кабинах. Трехтактный храп разносился по двору. Счетчики дружно отсчитывали рубли, «Утро на Москве-реке, — горестно ухмыльнулся Шалва Константинович. — Симфония банкрота». Вдруг какие-то посторонние звуки заставили его насторожиться. Гогоберашвили вздрогнул. В его воспаленном мозгу, как пишут авторы детективных романов, мелькнула страшная догадка. Он присел на корточки и заглянул под машину. Догадка подтвердилась: помидор потек! Багровые капли падали на пыльный асфальт. Под грузовиками стояли лужицы. Они были окантованы крупнокалиберными мухами. Двукрылые нагло пировали. Гогоберашвили скорбно наблюдал за падающей капелью. Из флигеля вышла Хабибулина. Дворничиха была плохо настроена. Только вчера на межуличном совещании дворников участковый сделал ей серьезное предупреждение насчет санитарного состояния двора. — Это еще что за безобразие! — сразу с высокой ноты начала Хабибулина. Мало мне своих жильцов, вроде живодера Бадеева, так еще со стороны наезжают. Весь двор загадили! — Молодая пикантная женщина и так расстраивается! — льстиво сказал Гогоберашвили. — Кто пикантная! — возмутилась Хабибулина. — Ты что, со мной гулял? — Ей-богу, мадам, при вашей красоте такие вопли вам не к лицу! — Ты мне зубы не заговаривай! Думаешь, если я с метлой, то меня и обзывать можно! — Уверяю вас, вы меня не так поняли, дорогая… — Тут и понимать нечего. И я тебе не дорогая. Я женщина честная. Хабибулин! — закричала она. — Хабибулин! Дрыхнешь, черт проклятый! Из того же флигеля вышел заспанный Хабибулин, огромный мужчина в защитной рубахе навыпуск и в обрезанных валенках на босу ногу. Он молча уставился на Шалву Константиновича. — Ты только погляди, что у нас делается! — бушевала супруга. — Наезжают тут всякие и еще обзывают. За ними ходишь, убираешь, а они обзывают. Весь двор загадили. Да я тебя, спекулянт паршивый! — дворничиха подняла метлу. — Бросьте размахивать своим культинвентарем, — сказал Гогоберашвили. — Я уполномоченный «Кахетинминснабсбыта». Вы будете отвечать за насилие! — Вот позову участкового, тогда узнаем, какой ты есть уполномоченный! Встреча с участковым не входила в планы Гогоберашвили. — У вас очень нервная подруга жизни, товарищ Хабибулин, — сказал Шалва Константинович. — Зачем поднимать на заре такой шум. Если человек на меня работает, я заплачу! Я же не колониалист! — И он положил в широкую, как лопата, ладонь Хабибулина десятку. Супруг воинственной дворничихи небрежно сунул деньги в карман и, не поблагодарив Гогоберашвили, лениво поплелся домой. Скандал во дворе подстегнул Шалву Константиновича. Он поспешил на Центральный телеграф. Ему не терпелось выяснить по телефону, нет ли томатного голода в Калуге, помидорного кризиса в Тамбове или овощного бума в Костроме. В комнате ожидания переговорного пункта стоял вокзальный шум, перекрываемый голосами радиодикторш, рассортировывавших клиентов по кабинам. Дикторша выкликнула: — Гогоберашвили, третья кабина! Шалва Константинович закрыл за собой дверь. Он поднял трубку, но тут же положил ее. Только сейчас он отчетливо понял, что ему не удастся довезти помидоры до областного центра, что по дороге они превратятся в несъедобное месиво. Он вышел на улицу. В Шебалинском тупике его поджидал разъяренный математик. — Ты обманул меня, родственничек! — накинулся на него профессор. — Это помидоры не для детского дома! — Чтобы я внуков не видел, если не для детского… — А почему ты не сдаешь их?! — Разве я виноват? Заболел кладовщик, — устало соврал Гогоберашвили. — У него прободение слепой кишки. Он лежит в палате номер сорок шесть! — У тебя прободение совести! — взвизгнул профессор. — Я навел справки. Такого детского дома не существует. Я не позволю превращать мое жилище в перевалочную базу для спекулянтов! — И это называется гостеприимством, — сказал Шалва Константинович. — Мы затаптываем в грязь наши обычаи и наши традиции! — Спекуляция не наша традиция! — отрезал профессор. — Убирайся вон! Шалва Константинович вышел во двор. Таксисты играли в домино. — Поехали! — сказал Гогоберашвили. Помидорный поезд покинул Шебалинский тупик. Машины пересекли Никитские ворота и проследовали к Красной Пресне, оставляя на асфальте мокрый, липкий след. По дороге Шалва Константинович сделал еще несколько отчаянных попыток продать товар. Ему не удалось сбыть ни одного килограмма. Помидоры не покупали. От них отшатывались. Они приняли, как говорят товароведы, нетоварный вид. Целый день таксисты колесили по столице. Под вечер обессилевший Гогоберашвили приказал сворачивать. — Куда? — спросил шофер головной машины. — На свалку! Свалка была далеко за городом. Они приехали под вечер. Солнце уже садилось. Сложа руки на груди, озаряемый лучами уходящего светила, глава экспедиции наблюдал, как низвергаются на землю раскисшие томаты. Вместе с ними низвергались в грязь его мечты о помпезной свадьбе, о столе на двести кувертов и радиофицированном тамаде. — Полный разгром! — прошептал Гогоберашвили. — Я покойник. Мне впору лежать в белых тапочках в цинковом гробу.Глава семнадцатая
ВИНОВАТ БУДИЛЬНИК. ОДЕССКИЙ ВАЛЮТЧИК. ДИАЛОГ ЗА ФАНЕРНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ
Гогоберашвили прибыл в город поздно вечером. Ему не захотелось искать гостиницу. Он вспомнил о Потапенко. Жив ли еще старик? Или смерть унесла в небытие бывшего скорняка и валютчика? На всякий случай Шалва Константинович позвонил. К телефону подошел сам Потапенко. — Вы можете дать приют одному вашему знакомому из Тбилиси? — спросил Гогоберашвили. — Вы ли это? — обрадовался Потапенко. — Приходите, дорогой, гостем будете! Немного погодя Гогоберашвили сидел перед сухоньким старичком, одетым в чесучовый пиджак с пупырышками, и рассказывал о трагических происшествиях последних дней. — Голову мне оторвать мало, — бил себя в грудь Гогоберашвили. — Как я поверил этим аферистам! — Семь раз проверь, один раз поверь, — сказал Евсей Миронович. — Вот именно! А я нанял машины и сломя голову помчался в столицу… Видели ли вы такого дегенерата? Шалва Константинович горестно закачался на стуле. — Что слышно дома? Как ребенок? — спросил Евсей Миронович, чтобы хоть на минуту извлечь гостя из темной бездны отчаяния. — Ребенок ждет свадьбы. Он уверен, что я привезу чемодан денег… — А кто будущий зять? — Одним словом: метатель! — Простите, что это значит на современном языке? Чем он занимается? — Кидает молот. — Насколько я понимаю, от этого занятия разбогатеть невозможно, — покачал головой Потапенко. Шалва Константинович сжал ладонями лоб. — Не надо убиваться, — неуверенно посоветовал Евсей Миронович. — Не все еще потеряно. У вас впереди вся жизнь! — Какая жизнь! Помидоры сгубили мою старость. — Дело не в помидорах, — мягко сказал экс-валютчик. — А в чем? — Если хотите знать мое мнение, помидоры — это частность. Вы могли бы с таким же успехом погореть на цитрусовых, мануфактуре и лавровом листе. Когда-то на чем-то вы должны были сгореть! Виноват будильник. — Какой будильник? — Тот самый, который прозвонил ваше время. Экс-валютчик не спеша открыл коробку «Золотого руна», набил машинкой две гильзы и, протянув папиросу Шалве Константиновичу, продолжал: — Возьмите меня. Я имел дело в родной Одессе с солидным товаром, не чета вашим помидорам. Я торговал долларами, фунтами, итальянскими лирами — словом, всеми деньгами, участвующими в международном платежном обороте. Меня можно было разбудить ночью и сказать: «Евсей Миронович, нужны швейцарские франки». На утро вы получали франки, как в английском банке. Такая была постановка дела. И что же? В один прекрасный день все кончилось. Раздался продолжительный звонок. Это будильник отзвонил мое время. Пришла советская власть! Как сейчас помню первые годы новой власти у нас в Одессе. Я спорил со своим сыном. Ежедневно в доме разыгрывались страшные скандалы. Мой Сеня стал идейным человеком. За Карла Маркса, даже без Фридриха Энгельса, он готов был отдать родную мать и отца в придачу. Он решил уйти из дома, чтобы не жить на мои нетрудовые доходы. Он решил вступить в комсомол. Я говорил ему: «Куда ты пошел? Ваши голодранцы не продержатся и года. Придет другая власть, и нас расстреляют вместе с тобой». «Наша власть, — отвечал он, — самая устойчивая в мире, поимейте это, папаша, в виду». «Откуда ты взял, что она такая устойчивая?» «Это власть рабочих и крестьян!» «Хорошо. Я многого не требую от вашей устойчивой власти. Вот тебе рубль, сбегай в лавочку и купи мне бутылку подсолнечного масла». «У нас нет масла». «Прекрасно. Тогда купи себе пару штиблет, взамен деревяшек. Их стукотня действует мне на нервы». «У нас еще нет штиблет». «Отлично. Тогда раздобудь себе пару штанов, потому что ты разгуливаешь по улицам, извини за выражение, с голым задом. Насколько я помню, представители власти всегда ходили в штанах!» «У нас нет и штанов». «А, вот как! Тогда иди! Беги к ним! Строй свой новый мир без масла, без штанов, беги к своим голодранцам!» И он ушел. Я его жалел. А кто оказался прав? Мой Сеня. У них теперь есть и штаны, и блюминги, и ракеты, и атомные станции, и даже космические корабли. И вот с этой властью, Шалва Константинович, вы вступаете в затяжной конфликт. Вам кажется, что ее легко обмануть. Остин Чемберлен не мог ее обмануть, Ллойд Джордж — не мог, Вудро Вильсон — тоже, этот злодей Гитлер, чтобы ему не было ни минуты покоя на том свете, — не мог, а вы можете. — Я ошибся, — заупрямился Гогоберашвили. — Не нужно было везти помидоры. Вы помните, какую удачную операцию я проделал с мимозой? — Вы младенец, Гогоберашвили. Наденьте слюнявчик. Неужели вы не понимаете, что и тогда вы никого не обманули. Просто в то время у них не дотянулись руки до мимоз. Придет время, и большевики займутся мимозами. Я даже знаю, как это произойдет. Сначала в газете появится маленькая заметка под заголовком: «Где купить мимозу?» В ней автор будет ругать Управление торговли за то, что он вынужден покупать цветы у частников. Он, видите ли, не хочет дарить жене в день 8 Марта спекулянтскую мимозу. Дальше события будут разворачиваться так: директора треста, скажем, «Мосцветы» вызовут в райком и накрутят ему хвост. Директор в свою очередь устроит баню своим подчиненным. В борьбу за мимозу включаются партком, местком и комсомол. И вот уже со всех концов Кавказа уполномоченные гонят самолетами в столицу ранние цветы. И вы горите. Вы банкрот. Почему? Потому что они взялись за это дело. Они умеют работать. Поверьте мне. У них золотые руки и золотые головы! — Что я слышу! — воскликнул Гогоберашвили. — Евсей Миронович, вы ли это? Вы стали крупным общественником! — Представьте, нет! — Быть может, вас куда-нибудь выдвинули? — И не думали. — Вы вступили в профсоюз? — Я не вступил в профсоюз. — Последний вопрос: вы пишете в стенной газете под псевдонимом «Обозреватель?» — Я не «Обозреватель», — сказал Евсей Миронович и стыдливо добавил: — Я только член комиссии содействия домоуправлению. — Теперь мне все понятно. Вы сделали блестящую карьеру. Отсюда рукой подать до Верховного Совета! — Не смейтесь, — сказал Потапенко. — У меня много свободного времени. Я ведь даже не пенсионер. Я — иждивенец. Чем-то надо заниматься. Сын взял меня с одним условием: я не должен дублировать работу валютного отдела Государственного банка. И я не дублирую. Я цацкаюсь с внуками и помогаю домоуправлению. Мы озеленили двор и организовали детскую площадку. Я помогаю домоуправлению и много читаю. Я прочитываю в день вагон периодики. Я много читаю и много думаю… — Еще бы, вам как государственному деятелю приходится осмысливать пути построения коммунизма, — с нескрываемым сарказмом сказал Гогоберашвили. — Коммунизм они построят без меня, — сказал Евсей Миронович. — И капитализм умрет тоже без моей помощи. — Вы в этом уверены? — Абсолютно. Недавно со мной произошел смешной случай. Я сидел и сквере и читал газету. На последней странице был помещен рисунок. В постели лежит больной Капитал, обложенный кислородными подушками. На них надпись: «Военный бюджет». Ко мне подсел господин Хольман, корреспондент из ФРГ. Он сказал: «Вы старый, видавший жизнь человек. Меня интересует, что вы думаете о некоторых кардинальных проблемах современности. Ответьте мне на один вопрос!» «Если сумею — отвечу». «Вот вы держите в руках газету. В ней карикатура. Как вы относитесь к таким карикатурам?» «Я думаю, что это не шедевр». «Нельзя ли поподробнее? Я не записываю вашей фамилии, можете говорить не оглядываясь». «Я не оглядываюсь. И я никого не боюсь. Моя фамилия Потапенко. Что же касается картинки, то это не ахти какое остроумное произведение». «Сразу видно приличного человека, — обрадовался корреспондент. — Нельзя ли еще поподробнее». «Что еще можно сказать?.. Одно в ней правильно: старый мир дышит на ладан. Он держится на камфаре. Он уже не поднимется. Может быть, еще подробнее?» «Данке», — ответил господин Хольман и смылся со скамейки. — Кто бы мог подумать, что Потапенко, старый валютчик, будет так разговаривать с иностранными корреспондентами! — сказал Гогоберашвили. — А как бы вы разговаривали? Неужели вы еще думаете, что в нашей стране возможен капитализм? — Откровенно говоря, я так не думаю, — уже серьезно ответил Гогоберашвили. — А вот в капиталистических странах думают наоборот. В чем же дело? Вы же не скажете, что их министерства укомплектованы одними дураками. Покопайтесь, и вы найдете среди министров умных, интеллигентных и высокообразованных людей. Они кончали Оксфорд, Кембридж, Гарвард или Сорбонну. Им преподавали не водовозы. Спрашивается: почему, когда дело доходит до нашей страны, мозги им отказывают? — Да, почему? — спросил Гогоберашвили. — Мой сын говорит, что это дефект классового зрения и классового мышления. Я не марксист. Я не могу этого точно объяснить. — Судя по всему, вам нравится ваша жизнь. Скажите по совести, Евсей Миронович: вам никогда не хотелось опять заняться английским фунтом и греческой драхмой? — Не буду скрывать. Приятно вспомнить молодость. Но я не фантазер. Я человек реальной мысли. Прошлого не вернуть. Я умру иждивенцем! — Я не хочу быть иждивенцем! — сказал Гогоберашвили. — А кто вас спрашивает? Вы же не десятиклассник. Это их спрашивают: кем ты хочешь быть? А вас уже никто не спросит! — Что же делать, Евсей Миронович? Снимать номерки? — Если хотите, снимать! — А как же быть с ребенком? — Ребенок пойдет работать. Генриетта получит специальность. Пусть начнет учиться. — Поздно. — Набираться ума никогда не поздно. Ребенок это поймет. Дети сплошь и рядом умнее своих родителей. Пример тому — мой сын. Сейчас он видный инженер. Сеня выстроил не одну домну. У него светлая голова. Я тоже мог бы стать строителем, если бы думал о металле, а не о том, как подзаработать на греческой драхме. — Каждому свое, — вздохнул Гогоберашвили. Утром он покинул экс-валютчика с тяжелым сердцем. Он заехал к профессору Читашвили. Математика не было дома. Шалва Константинович взял нейлоновую шубку. «Придется с ней расстаться», — с сожалением подумал Гогоберашвили. У начальника томатной экспедиции не было денег на обратный проезд. Он повез шубку в комиссионный магазин. Веня-музыкант принял клиента со свойственным ему профессиональным хладнокровием. Завмаг поелозил музыкальными пальцами по нейлоновому диву и как бы невзначай бросил: — Оценим в четыре. — Извиняюсь, я не ослышался? — сказал Гогоберашвили. — Почему в четыре? У вас произошло снижение цен? Несколько дней назад я заплатил пять с половиной! — Он ничего не знает, — заняла свое место в нападении Матильда Семеновна. — Что я должен знать? — Вчера у нас была комиссия «Скупторга», — сказал Веня. — Нам крепко указали на то, что мы произвольно завысили цены на нейлон. — А вам не указали, что вы арап! — рассердился Гогоберашвили. — Это оскорбление! — Нет. Цитата из не написанной еще на вас характеристики! — Мерси, — сказал Веня. — Только больше я не дам. — Совести у вас нет! — Совесть? В анкете этого вопроса не значится. Во всяком случае, такую графу я не заполнял. — Пять с половиной! Веня-музыкант улыбнулся, обнажив ровные мелкие зубы, много зубов, больше, чем их полагалось для нормальной челюсти. — Пять двести пятьдесят! — сказал Гогоберашвили. И только потому, что у меня нет времени бегать по комиссионным магазинам. — Четыре пятьсот и ни копейки больше! — Пользуетесь моим положением? Кусаете комитента? Я видел картину «В глубинах моря». Там акулы нападают на смертельно раненного кита. Они рвут его живьем! — Матильда Семеновна, как вам нравится этот могучий оратор? — озлился Веня. — Слушайте, вы, не стройте из себя интеллигента. Я догадываюсь примерно, кто вы такой. От вас за версту несет рынком. На кистях ваших рук следы завязок от белого халата. Приберегите ваши речи для фининспектора. Короче, хотите пять кусков, — пожалуйста. Нет, — будьте здоровы.. Передайте мой братский привет «Гагрипши», Сухумскому ботаническому саду и озеру Рица. — Гниль ты спекулянтская! — не выдержал Гогоберашвили. — Креста на тебе нет! Веня-музыкант начал выписывать квитанцию. — Деньги на кон! — покраснел Гогоберашвили. Веня не хотел больше накалять обстановку. — После всех оскорблений я еще должен выкладывать наличные, — сказал он. — Что ж, получите, такой уж у меня чудный характер. — С таким характером только в одиночке сидеть, — сказал Шалва Константинович, пряча деньги. Он вышел не попрощавшись. Веня-музыкант любовно огладил синтетический мех и сказал: — Вы знаете, Матильдочка, почему появилась на свет эта шубка? Бог создал ее, чтобы ежемесячно увеличивать нашу реальную зарплату. — Не сглазьте, — попросила суеверная Матильда Семеновна. Она сняла телефонную трубку, чтобы известить очередного покупателя из актива комиссионного магазина о появлении нейлонового дива.Новелла о фокуснике СОЛЬДИ и администраторе ЛОШАТНИКОВЕ
Глава восемнадцатая
СОЛЬДИ — СЫН СОЛЬДИ. БОРЬБА ЗА ЧАЛМУ. ПРОБЛЕМЫ ИЛЛЮЗИИ. АССИСТЕНТКА С ПОСАДОЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ. ИННОКЕНТИЙ ЛОШАТНИКОВ
Среди отечественных магов и иллюзионистов акции Гавриила Лукьяновича Сольди котировались не слишком высоко. Сольди слыл консерватором. Он выходил на эстраду в старомодном сюртуке, черных в полоску дипломатических брюках и лакированных башмаках с серым замшевым верхом, на пуговичках. Голову его венчала чалма со страусовым пером и нестерпимо сверкающим брильянтом мощностью в пятьдесят каратов. Чалма была одним из самых важных элементов экипировки старого мага. О ней речь пойдет ниже. Высокий, чуть сутулый, с зализанными волосами, Сольди был похож на элегантного господина, сошедшего с дореволюционного рекламного объявления. Такими господами были полны иллюстрированные журналы. Они рекламировали быстродействующие свечи «Пилигрим», безопасные бритвы и лодзинские бутылочные алмазы. Старомодный костюм Сольди вполне гармонировал с волшебными аксессуарами, оставленными ему в наследство отцом. В период массового отказа от иностранных псевдонимов Сольди сохранил верность своей фамилии. Несмотря на нажим профсоюзной общественности, он не согласился выступать под фамилией своей матери. — Почему матери? — отбивался маг. — Фамилия моего отца тоже была Сольди. Стало быть, я Сольди — сын Сольди. — Все же вам лучше выступать под фамилией Недорезков. — Как же так?! Маг и чародей — и вдруг Недорезков! Публика не поверит! — По-вашему выходит, что магами могут быть только иностранцы, — возражал председатель месткома Говорухин. — Одним росчерком пера вы списываете со счетов всех отечественных волшебников? Беспартийный председатель месткома был большим ортодоксом. Всюду ему мерещились отклонения от нормы, искривления профсоюзной линии, идеологические изъяны, прорехи и вывихи. Разумеется, он считал себя непримиримым борцом с низкопоклонством. Однажды Говорухин написал в редакцию вечерней газеты письмо, в котором обвинял парфюмерные и кондитерские фабрики в чрезмерном пристрастии к иностранным названиям. К жалобе в качестве вещественного доказательства он приклеил этикетки, содранные с одеколонов, питательных кремов, бисквитных и мармеладных коробок. Редакция впопыхах напечатала письмо, а через два дня была вынуждена извиниться перед читателями, так как названия на этикетках оказались латышскими и армянскими, чего не разобрал наш ортодокс. — Вы хорошо подумайте, — продолжал Говорухин. — Соглашайтесь, пока не поздно. Мы закажем для вас другую афишу. — А как же чалма? Ежели я Недорезков, придется работать без чалмы?! — Наплюйте! Переоформим номер. Сошьем вам шелковые шаровары, сафьяновые сапожки… — Без чалмы я не согласен, — замотал головой Сольди. — Послушать, как вы цепляетесь за чалму, можно подумать, что ваш отец был муфтием… — Мой прапрадед приехал в Россию с Пинетти! А Пинетти работал вместе с Катерфельто, Комусом первым и Комусом вторым! — А на Комусе втором тоже была чалма? — А как же. Без чалмы нельзя. Вот я, например, вынимаю из нее золотую рыбку. — Будете вынимать рыбку из шапки-ушанки. — Из ушанки не выйдет, — грустно сказал маг. — Из ушанки не то. Не волшебно. — Значит, вы хотите доставать своего карпа только из зарубежного головного убора! Ох, смотрите, Сольди, как бы это не завело вас в творческий тупик. Сольди оставался непреклонным. Предместкома дважды прорабатывал мага на производственном совещании. Мастер манипуляции дрался за чалму с неистовством и ожесточением фанатика-магометанина. Вместе с чалмой старик Сольди отстоял сюртук, лакированные башмаки на пуговицах и все свои старомодные аксессуары. Между тем время подстегивало магов. Знаменитый эстрадный теоретик писал в статье «Проблемы эстрады и последние иллюзии»:«В эпоху атома, космических кораблей и кибернетики все труднее эмоционально воспламенять нашего зрителя наивными карточными фокусами, всеми этими пассировками, шанжировками, пальмированием монет и коробками с двойным дном. Пора нашим передовым иллюзионистам обратить свои взоры к электронике, полупроводникам, к высотам подлинной пауки».Старик упорно цеплялся за старые иллюзии. Он терял одну позицию за другой. Не без помощи Говорухина его оттеснили от центральных площадок. Он шел, как говорят кинематографисты, вторым экраном. Маг не роптал. Он добросовестно показывал старые фокусы: «Монеты в цилиндре, или Золотой дождь», «Сеанс с тамбурином», «Рисовая ваза индусов». И самое удивительное, что публике они даже нравились. Возможно, потому, что иллюзия должна быть немного наивной. Жена Сольди, Викторина Аркадьевна, острее переживала его опалу. Викторина Сольди не любила райцентры, живность, пасущуюся в придорожной бузине, гостиницы с дровяным отоплением и шум электрического движка по вечерам. Все это напоминало ей недавнее прошлое: далекую железнодорожную станцию, где она работала кассиршей. Станция была до того маленькой, что не имела собственного названия и числилась в железнодорожных расписаниях как «посадочная платформа тридцать пятого километра». Именно с посадочной платформы увез Гавриил Лукьянович будущую жену. Она стала его ассистенткой. Викторина Аркадьевна по-своему любила старого Сольди. Она не пилила его, не изменяла и даже отвергла откровенные ухаживания одного дивно сложенного гладиатора с циркового конвейера. Гладиатор выходил на манеж в одних плавках, выкрашенный с ног до головы в золотую краску и со щитом из поддельной леопардовой шкуры. После демонстрации красоты человеческого тела потомок бойцов древнего Колизея таскал на леопардовом щите униформистов и всех желающих из публики, но не больше шести человек за раз, что было оговорено в афише. Гладиатор предлагал Викторине Аркадьевне свое сердце и даже посулил ежевечерне носить ее на щите, а это дано не каждой женщине. Викторина Аркадьевна отказалась. Она полюбила искусство иллюзии. Кроме иллюзий она любила также домашнее тепло, дешевый мармелад и платья из панбархата. Викторина Аркадьевна дрогнула, когда встретилась с Иннокентием Лошатниковым, новым администратором их труппы. Лошатников не мог похвастать гладиаторской фигурой. То был толстый, почти квадратный человек с грудями профессиональной кормилицы. Несмотря на свои габариты, он не страдал одышкой, не жаловался на сердечную мышцу и преждевременное ожирение. Подвижной, наполненный до краев бизнесменскими идеями, он считался талантливым организатором, хотя начальство, ведающее гастролями, слегка побаивалось его комбинаций. Лошатникова подчас заносило. Все его идеиграничили с недозволенным. От них было рукой подать до уголовного кодекса. Иннокентий Лошатников рано начал жизнь в искусстве. В двадцать два года его выгнали из театральной школы за неспособность. Он выехал с диким эстрадным коллективом в большое гастрольное турне по Казахстану. Бригада выступала в отдаленных районах, на жайляу — горных выпасах, среди чабанов, стерегущих отары курдючных овец. В свободное от концертов время Лошатников спекулировал коричневым вельветом и плиточным чаем. С чаем ему не повезло. С чаем произошла большая неприятность…
Глава девятнадцатая
ЧАБАН ЖАНДАРБЕКОВ. ПОПЛАВОК ФЕЛЬЕТОНИСТА. СРЕДИ ДЕДОВ-МОРОЗОВ. ЕЩЕ УДАР
На жайляу жил фельетонист республиканской газеты Таир Жандарбеков. Фельетонист ничем не отличался от овцеводов. На нем были ватные брюки, заправленные в рыжие сапоги с пайпаками, и сбитый на ухо лисий малахай. Он ходил в перевалочку, как все чабаны-конники, пил кумыс, жевал насвай, который хранил в скляночке, и умел набрасывать на бегущего жеребца аркан. На попечении Жандарбекова была отара из пятисот овец. Он проделал с ней стокилометровый путь от аула до пастбища, чтобы побыть в чабанской шкуре и лично убедиться, хорошо ли обслуживают овцеводов во время перегона скота. Лошатников напоролся именно на этого чабана. — Эй, жолдас! — небрежно окликнул он. — Иди сюда! Шкурка бар? — Шкурка? — не понял Жандарбеков. — Что за шкурка? — Овечий шкурка, красивый шкурка, — сказал Лошатников с акцентом, видимо полагая, что так его лучше поймут. — Хороший такой каракулевый шкурка! — И много тебе надо каракулевый шкурка? — спросил Жандарбеков, которому шестое чувство фельетониста подсказало, что предстоит пикантный разговор. — Много шкурка, с много овец! — Зачем тебе много шкурка? — полюбопытствовал Жандарбеков, покусывая травинку. — Пальто шить, зимой носить. — Бесплатна шкурка? — с крайней наивностью спросил Жандарбеков, сдвигая малахай на левое ухо. — Зачем бесплатно? Платить будем. Менять будем. Чай любишь? Чай плитка. Пить с женой будешь. — Ага, с женой и с бабушкой, — подтвердил Жандарбеков. — А еще вельвет любишь? Штаны носить любишь? — Любишь, — подтвердил, поблескивая глазами, фельетонист. — Без штанов нам нельзя! Лошатников потащил Жандарбекова в юрту. Он открыл чемоданы. Один был доверху набит плиточным чаем, другой — вельветом. — Торгуешь? — спросил фельетонист. Лошатников мгновенно заглотнул крючок. Поплавок фельетониста весело затанцевал в воде. — Ясно, торгую, — сказал Лошатников. — Не для себя же вез. Тащи мала мала шкурки, сделаем бизнес. Знаешь, что такое бизнес? — Баран — знаем, бизнес — не знаем! — Бизнес — это я продавал, ты покупал, ты продавал, я покупал, — объяснил эстрадник. — Значит, ты большой торговый человек, — догадался лжечабан. — Зачем же у нас поешь, танцуешь? — Это я по совместительству, — резвясь, ответил Лошатников. — По совместительству, — повторил Жандарбеков и подумал, что это не плохой заголовок для будущего фельетона. Они еще долго беседовали. Лошатников хвастался своими торговыми операциями, предлагал наладить посылочный обмен «ты шлешь шкурка, я — мотоциклетка» и т. д. Он так распалил воображение фельетониста, что тому не терпелось сесть за пишущую машинку. Наконец Лошатникову надоело хвастаться, и он сказал: — Вот что, мыслитель, будем закругляться. В последний раз спрашиваю: шкурки бар? — Джок! — ответил Жандарбеков и пошел прочь. Лошатников учуял что-то неладное. Вечером приехал из райцентра председатель колхоза. Он пригласил к себе артистов. После сочного бешбармака, приготовленного из молодого барашка, забитого тут же за юртой, подали в пиалах сурпу. Отхлебывая крепкую, как коньяк, бульонную настойку, Лошатников спросил: — Хороший чабан этот Жандарбеков? — Шибко хороший, — ответил председатель. — Я бы его принял в колхоз. — Он разве не колхозник? — Чабан… по совместительству, — улыбнулся председатель. — Он где работает, в районе? — Бери выше! — В области? — Еще выше! Фельетоны читаешь? Так вот, он пишет! В «Социалистик Казахстан». Понимаешь? Посудинка задрожала в мужественной руке куплетиста. Расплескивая сурпу, он поставил пиалу. Ни слова не говоря, Лошатников вышел из юрты. На горы уже опустилась ночь. Большая луна огибала островерхий пик, закованный в ледяную броню. У юрт, разбросанных по всему плато, лежали отары. Овцы, покашливая, отходили ко сну. Рослые, хитрющие сторожевые псы, положив массивные головы на лапы, делали вид, будто они дремлют. Великая свежесть от близких снегов, от альпийского разнотравья, от вековых елей, стоявших сплошной стеной чуть повыше плоскогорья, не взбодрила Лошатникова. «Двуногий идиот! — обругал он себя. Былинный кретин! Кто тебя дергал за язык!» До него донесся сухой, дробный звук. Будто защелкал, затаившись в траве, большой металлический кузнечик. Лошатников тревожно прислушался. Да, сомнений быть не могло: стрекотание доносилось из юрты Жандарбекова. Лошатников заглянул внутрь. Фельетонист, поджав под себя ноги, сидел на белой кошме. Перед ним на чемодане стояла портативная «Москва». Жандарбеков быстро печатал, шепотом диктуя себе. — Фельетон? — скучным голосом спросил Лошатников. — Он самый, — сказал Жандарбеков. — Про меня? — Про совместителя. — Выходит, вы тоже совместитель. Жандарбеков кивнул головой и с жаром ударил по клавишам. — Весь мир полон совместителей, — меланхолично заметил Лошатников. — Всем мало одной профессии. — Что нас еще интересует? — грубовато спросил фельетонист. — Как он будет называться? — На заголовок не обидитесь. Подберем что-нибудь подходящее. — И у вас не дрогнет рука? Я же работник искусства! — Не дрогнет! — заверил Жандарбеков. На заре Лошатников покинул жайляу. Вскоре появился фельетон Жандарбекова. Куплетист сел на мель. Полгода он не дарил публике своих реприз. Он начал подумывать, что жизнь в искусстве ему не удалась. Незаметно подошла зима с ее каникулярной страдой. Как и всегда, в высших эстрадных сферах началась паника. Выяснилось, что не хватает дедов-морозов. Эта история повторялась из года в год. Елочных площадок оказывалось больше, чем рождественских стариков. Об этой пугающей диспропорции много говорили, принимали развернутые резолюции, издавали многолистные приказы, а дедов все равно не хватало. Со Снегурочками обстояло несколько проще. Детский сектор горэстрады был укомплектован пожилыми травести, которые легко оборачивались Снегурочками. Наличие баб-яг тоже обеспечивало план. Но вот со сказочными бородачами дело не выправлялось. Когда началась очередная паника, Лошатникову предложили стать дедом-морозом. Он согласился, не раздумывая. Ему вручили парадную униформу: парчовый армяк, турецкие сапоги с загнутыми носами, обшитый бисером кушак, боярскую шапку и полуметровую бороду. Лошатников без труда выучил приветственную речь, пару детских реприз и загадок. Он легко освоил рождественскую прозодежду. Лошатников оказался одним из самых мобильных дедов-морозов. Он умудрялся ежедневно выступать на восьми площадках. Такси поджидало его на улице. Невыключенный счетчик разогревал его артистический темперамент. Ворвавшись в зал, он хриплой скороговоркой отбарабанивал приветствие. Затем в темпе бросал несколько реприз, загадок, шарад, после чего, пожелав всем учиться только на пятерки, рысью покидал зал. Перепрыгивая через три ступеньки, Лошатников с неприличной для деда-мороза поспешностью бежал к такси. Шофер, знавший назубок маршрут, молча включал скорость. На оперативных совещаниях в горэстраде Лошатникова ставили в пример как передового деда-мороза, болеющего за план. — Учитесь у него экономить время, — призывал Говорухин. — Он даже обедает и ужинает не снимая сказочной бороды! В разгар елочной страды эстрадник сильно притомился. Пару раз он переврал текст приветственной речи, напутал с загадками. Сказывалась перегрузка. Чтобы не свалиться с ног, он начал взбадривать себя коньяком. В последний день каникул дед-мороз несколько переоценил свои силы и недооценил качество продукции треста «Арарат». Он хлебнул лишнее. Лошатников вбежал на сцену веселый, жизнерадостный, со сбитой набок бородой! — Привет, ребята! — прокричал он. — Здравствуйте, дедушка Мороз! — дружно донеслось из зала. — Как жизнь молодая течет? — развязно продолжал он. — Вы уж меня извините, опоздал. Задержала, понимаете, эта старая склочница баба-яга с мерзавцем серым волком. Пришлось им дать по лапам! — Что вы говорите? — возмущенно прошептала Снегурочка, молодящаяся пятидесятилетняя дама в коротеньком сарафанчике и белой пуховой шапочке, из-под которой выбивалась фальшивая коса толщиной в корабельный канат. — Помалкивай в тряпочку! — огрызнулся Лошатников. — Вы пьяны! — ужаснулась Снегурочка. — Брось звонить, старая! — отбрил Лошатников. — Иди нянчить внуков! Елочная фея отпрянула от своего партнера. — Так вот что, ребята, — сказал дед-мороз, в чьей крови уже во всю силу заиграли звезды «Арарата». — Отгадайте загадку: сверху лукошко, снизу картошка, сбоку плошка! Зал загудел. — Не знаете? Я тоже не знаю! — беззаботно сообщил Лошатников. — А теперь решим задачку! Лошатников порылся в своей памяти. Как назло там не нашлось ни одной задачки. — Давай, бабуля, выручай, — шепнул он Снегурочке. — Чего молчишь?! Снегурочка со слезами на глазах покинула сцену. — Ладно, обойдемся, — решил дед-мороз. — Тоже строит из себя дошкольницу… Я дам вам, ребята, задачку из жизни. Вот я, дед-мороз, получаю за каждое выступление пятьдесят рублей. Сколько я получу в день за восемь выступлений? Родители, сидевшие в зале, возмущенно зашумели. Дали занавес. Разыгрался большой скандал. Лошатников снова попал в печать. Ему запретили показываться на эстраде. Всю зиму проштрафившийся дед-мороз безбедно жил на деньги, заработанные в каникулярную страду. Весной дружки устроили его администратором в цирковую кавалькаду. А через год все прегрешения Лошатникова были забыты и он перевелся в горэстраду. На этот раз он стал руководителем коллектива, где работал старый иллюзионист Сольди — сын Сольди.Глава двадцатая
КОВАРНЫЙ ОБОЛЬСТИТЕЛЬ. НА ЧАШЕ ВЕСОВ — НЕЙЛОНОВАЯ ШУБКА. КОСМИЧЕСКИЙ ПЛАНКТОН. «ДАМА ИЗ ЧУЖОЙ ГАЛАКТИКИ». СОЛЬДИ УХОДИТ В НОЧЬ
Викторина Аркадьевна была далеко не первым увлечением Иннокентия Лошатникова. Сильные чувства несколько раз приводили его в загс. Несмотря на это, он утверждал, что женщины для него, как и для Наполеона, не играют решающей роли. Викториной Аркадьевной он увлекся неожиданно. Его вдруг потянуло к этой спокойной, уютной молодой женщине. Со свойственным ему пылом Лошатников бросился в новую любовную авантюру. Жена старого иллюзиониста оказала стойкое сопротивление. Лошатников не отступил. При каждом удобном случае он начинал лобовую атаку. — Ну что вы нашли в Сольди? — С легким надрывом спрашивал Лошатников. — Вы молодая, обаятельная, полная внутреннего артистизма женщина. Что у вас общего с этим эстрадным Мафусаилом? — Не смейте так говорить! Я люблю его! — Любить старцев ваше призвание? — Я обожаю его! — упрямо повторяла ассистентка. — Так я и поверил, — нахально смеялся Лошатников. — Что вы полюбили? Его фокусы? Его ревматизм? Радикулит? Отхаркивающий кашель по утрам? — Как вам не стыдно! Перестаньте сию же минуту или я уйду. — Нет, вы объясните мне толком: вы влюблены в его стройный стан? В его черепашью голову? — Он хороший человек, — отбивалась Викторина Аркадьевна. — У него хорошая душа. — У меня тоже хорошая душа… Возможно, вы любите по вечерам мыть его вставную челюсть и заваривать слабительный чай из трав? — безжалостно продолжал Лошатников. — Если это так, то вы женщина со странностями. — Вы недобрый! Вы злой, грубый! — отвечала Викторина Аркадьевна, думая, что Лошатников кое в чем прав. Тотальное опорочивание мужских достоинств Сольди не принесло желанного результата. Варварское красноречие Лошатникова не сломило сопротивления Викторины Аркадьевны. Пришлось переменить тему. Эстрадник решил развенчать Сольди как артиста. — И дался вам этот старый иллюзионист! — говорил Лошатников. — Он погубит в вас артистку! — Он многому меня научил! — Чему можно научиться в лавке эстрадных древностей? Носить на голове страусовые перья? Продавать ларец с двойным дном? Подставлять ухо, из которого он якобы извлекает сто метров бумажной ленты? Попомните мои слова: «Сольди зарежет ваш талант!» — Я не могу быть такой неблагодарной! — изнемогала Викторина Аркадьевна. — Разве вы мало подарили ему? Вы расплачиваетесь своей молодостью. Это слишком дорогая цена. Оставьте его! Рано или поздно это должно случиться! Эстрадные дни вашего Сольди сочтены! — Неправда! Его любит публика! — А вы читали статью: «Проблемы эстрады и последние иллюзии»? В ней черным по белому написано, что старые иллюзии надо выбросить на помойку искусства. Очень скоро вашему Сольди придется продать бутылочный брильянт и чалму. И это будет конец. Он слишком стар, чтобы заново начинать свою жизнь на подмостках. Он уйдет на пенсию. Изредка его будут приглашать на выпускные вечера школы эстрадного искусства. Дедушка салонного фокуса будет выступать с воспоминаниями. Ну, а вы? Что тогда будете делать вы? Сидеть вечерами у его изголовья и ставить на затылок горчичники? — А что же мне делать? — вырвалось у Викторины Аркадьевны. — Работать! Жить в искусстве! Доверьтесь мне. Я создам для вас номер. Я вижу афишу:ЧУДО ДРЕССИРОВКИ! Десять четвероногих футболистов. Финальный матч на манеже!У меня на примете есть десять собак бульдогов. Они приходят в неистовство, когда видят футбольный мяч. На этом и будет построен ваш номер. На эстраде футбольные ворота. Вы выходите в шортах, стилизованной майке, со свистком рефери в зубах. Десять бульдогов в трусах и футболках рвутся с поводков. Свисток! Вы кидаете мяч и спускаете собак. Свалка у ворот! Публика, среди которой девяносто девять процентов болельщиков, стонет от счастливых ассоциаций. Успех обеспечен! — Я боюсь собак, — потупив глаза, сказала Викторина Аркадьевна, давая понять, что и впрямь дни Сольди сочтены. — Тогда к черту собак! — с необычайным воодушевлением воскликнул Лошатников. — Создадим другой номер! Сверхсовременный аттракцион! «Женщина из космоса»! На эстраде темно. Тревожная барабанная дробь. Лучи прожекторов выхватывают из тьмы космический снаряд. Вот он опустился. Открывается люк. И выходите вы, дама из другой Галактики. На вас чешуйчатое трико и высотный скафандр. Потусторонняя музыка. Вы исполняете несколько па из «Марсианского танца». Затем снимаете скафандр и начинаете показывать фокусы! — Я согласна! — выдохнула Викторина Аркадьевна, подавленная величием замысла. Викторина Аркадьевна начала исподволь подготавливать старика Сольди. Иллюзионист заволновался. Смутные догадки тревожили его душу. Он по-прежнему боготворил жену. В Москве, куда бригада прибыла на эстрадное переформирование, старик удвоил заботы о жене-ассистентке. Невысказанная нежность сжимала его тронутое склерозом сердце. Он думал: «Бедная девочка, у нее так мало радостей! Я не забочусь о ней. За всю совместную жизнь я не сделал ни одного мало-мальски приличного подарка». Когда старик созрел для самоотверженных решений и опрометчивых поступков, он пошел в комиссионный магазин. — Маэстро, — сказал Веня-музыкант, — вас совсем не видно. Вы вернулись с гастролей на Западе? — С Востока! — односложно ответил Сольди. — И добавил: — Мне нужен подарок для дамы. — Если вы не поскупитесь, то получите изумительную шубку! — сказала Матильда Семеновна. — Я слишком стар, чтобы скупиться для молодой жены, — с грустной иронией ответил иллюзионист. Он мужественно заплатил деньги. Ликуя, он принес нейлоновое диво домой. Викторина Аркадьевна сдержанно поблагодарила мужа. Шубка появилась слишком поздно. Она только затрудняла разрыв. Викторине Аркадьевне не терпелось уже покинуть старика. Ей мерещилась «Дама из чужой Галактики». Лошатникову тоже все больше нравилась его идея, высказанная в минуту любовного озарения. «Может получиться грандиозный номер, — думал он. Космос — это вещь!» Впрочем, так думал не только Лошатников. Халтурщики всех родов литературного оружия, повизгивая от нетерпения, устремились вслед за ракетами в межзвездное пространство. В космосе оказался корм. Космический планктон. Они с жадностью накинулись на него. Благодаря их литературным усилиям неизмеримые просторы Вселенной сузились до размеров прогулочного пятачка в периферийном парке. Величественная проблема завоевания космоса была сведена к привычным любовным пустячкам. Об этом писались рассказы, эстрадные монологи, слагались песни, стихи, частушки и куплеты. Луна, вздыхая, ждет ухажеров. Марс влюблен в Венеру. Земля ревнует к Луне. Космическая ракета кокетничает с астероидом. От поэтов и эстрадных прозаиков не отставали и рисовальщики карикатур. Прорыв человеческого гения в космос рассматривался с точки зрения автобусного пассажира. Тем было до черта! Космический поезд опаздывает. В межпланетном корабле не уступили место старушке. Кондуктор межгалактического экспресса недодал сдачу. Куплетисты пускали в неведомое огненные стрелы своей сатиры. В созвездии Ориона пассажир не может купить кваса. На Водолее живут докладчики. В созвездии Рака не подают к пиву раков, а у Близнецов не сдашь детей в детский сад. Лошатникову страстно хотелось включиться в пляску халтурщиков со своей «Дамой из чужой Галактики». Викторина Аркадьевна форсировала события. Произошло тяжелое объяснение со старым иллюзионистом. Она ушла от Сольди, оставив ему обручальное кольцо, фотографию и нейлоновую шубку. Сознание собственного благородства позволило ей легко пережить разрыв. Старик был подавлен. Он едва шевелился под обломками семейного очага. Несколько дней он не выползал из своей комнаты. Он не брился, питался галетами и плакал по ночам. На свет божий его извлек администратор. Он повез Сольди на шефский концерт. Старик с превеликим трудом показывал свои фокусы. Он ронял на пол волшебные предметы, путал, запихал живую утку не в тот ящик и долго не мог ее найти. Руки у него дрожали. Он шевелил губами, продолжая на сцене начатый еще в комнате диалог с самим собой. Ведущий концерт после рассказывал: — А старик Сольди того… Просится в утиль! Сольди не включили в очередное гастрольное турне. Ему намекнули, что настало время всерьез подумать о пенсии. Старый иллюзионист с непонятным спокойствием выслушал свой приговор. Он не стал спорить. Он ушел не проронив ни слова, будто разговор шел не о нем. По дороге домой он купил три круга копченой колбасы, четвертку чая, буханку обдирного хлеба и галет. Он надолго заперся в своей комнате. По целым дням он валялся на тахте, худой, заросший жесткой седой щетиной, похожий на больного донкихота. Шевелил губами, неслышно произносил все тот же монолог: — Ну что ей со мной! Ничего ей со мной. Старый я. Старый я дятел. Молодая она. Что ей со мной! Она жить хочет. Ничего ей со мной. Подарки не покупал. Что ей со мной… — так до бесконечности. Через неделю он поднялся. От галет и сырокопченой колбасы у иллюзиониста начался жестокий колит. Старик нехотя пошел в аптеку. Был солнечный день. Лето хозяйничало в городе. В сквере шумела густая листва, цвели рослые флоксы, гладиолусы выставили зеленую стражу и крупные краснодарские розы источали неправдоподобные ароматы. На «пенсион-стрит», как шутливо называли большую магистраль сквера, старички сражались в шашки, поставив доски на принесенные из дома чемоданчики, какие носят балерины. Молодые мамаши млели у обтекаемых колясок. Дети играли в астронавтов. По улицам сплошным потоком катилась по-летнему яркая, многоголосая толпа. Москва походила на большой корабль, поднявший в праздник флаги расцвечивания. Старик постоял в сквере. Солнце заключило его в свои объятия. Ему захотелось жить. Не заходя в аптеку, он вернулся домой. Сбрил недельную бороду, надел «бабочку», серый, в талию, пиджак и пошел в горэстраду.
Глава двадцать первая
БАСТИОН ЭСТРАДЫ. КУРС НА ТИМОФЕЕВКУ. НОВАЯ АССИСТЕНТКА
Руководящий центр эстрадного искусства помещался в старом купеческом доме с мощными стенами в три кирпича. За такими стенами, вероятно, хорошо отсиживаться в осаде, выжидая, пока у неприятеля начнут дохнуть от голода кавалерийские кони. Комнаты в доме были маленькие с глухими окнами-бойницами. В узкие двери едва мог протиснуться боком один человек. В темных коридорах пахло смутным временем. В таких коридорах не хотелось встречаться даже с эстрадными премьершами. Хотелось бить поклоны, плести заговоры или стоять, затаившись в нише, с метровым кинжалом в руках. На скупо освещенных стенах висели таблички:РАЗГОВОРНЫЙ ЦЕХ В ГАЛОШАХ НЕ ВХОДИТЬ СЕКТОР ОФОРМЛЕНИЯ РАЗОВЫХ КОНЦЕРТОВНа доске объявлений была приколота написанная от руки бумажка:
Для детского утренника требуются: ЗАЯЦ, УМЕЮЩИЙ ПЕТЬ КУПЛЕТЫ. ВОЛК СО СВОЕЙ ОВЕЧЬЕЙ ШКУРОЙ.Старик Сольди потоптался в мрачном коридоре, прочел юбилейную стенгазету и вышел на улицу. Вокруг было много знакомых. Старик перебросился с ними несколькими незначительными фразами. — Как насчет поездки, Сольди? — окликнул его юноша в кофейном пиджаке без лацканов, с двумя нахальными разрезами по бокам. — Есть возможность совершить левое турне. Новенький, с иголочки маршрут. Ненадкусанное яблочко! — Дикарем не езжу! — холодно ответил Сольди. — Не надо так принципиально, — сказал юноша. — Мы не дикари. Мы от ГОСа. — Что означает ГОС. — Городское общество слепых. Представляем город Малая Вишера. Чистое дело! — Работаете втемную для слепых, — усомнился Сольди. — Упаси бог! Все законно. Чистый доход от нашей бригады идет на культмассовую работу. Слепым будут выписывать книги и журнал «Жизнь зрячих». Кофейный юноша извлек бумагу со штампом и печатями. Он потряс ею перед носом старика. Сольди, как и все фокусники, был крайне доверчив. — Смотрите, не подведите меня, Илюша! — сказал он. — Я берегу свое доброе имя. — А вы думаете оно мне не нужно! Всем нужно доброе имя! Юноша достал засаленную записную книжку, с которой клочьями свисала обложка. — Так как прикажете подать вас на афише? Упомянем насчет индусских йогов? У вас есть чалма? С чалмой вы можете сойти за сына бога Вишну. — Я не люблю этого, — сказал иллюзионист. — Такой вы щепетильный. Хорошо. Тогда что вы скажете насчет психологических опытов? Старик покачал головой. — Да вы не бойтесь, В такой глухомани, как, скажем, Тимофеевка, можно даже работать оккультизм. Станьте медиумом и вызывайте дух Наполеона, графа Монте-Кристо и батьки Махно, пресса вас пальцем не тронет. Туда не доскачешь… — Бросьте острить. Не буду я вызывать духов! — Ладно, молчу. Вы неприлично честный человек, Сольди! — Да, я честный, Илюша! — Тогда возьмем на афишу что-нибудь научное. Как вы смотрите на биотоки? Теперь это очень модно. Вы улавливаете биотоки, которые излучают из своих мозгов зрители, сидящие в первом ряду. Вы угадываете их мысли. — Подсадка? — неодобрительно спросил Сольди. — Ну, подсадим, для верности, пару человечков! — С подсадкой не работаю! — Никогда не думал, что вы такой тяжелый человек, — с огорчением сказал Илюша. — Что же писать? — Пишите на афише правду: «Фокусы Сольди!» — Пресно! Но что поделаешь. Вы большой оригинал, Сольди. Включаю вас в программу. Выезд через неделю. — У меня нет ассистентки, — признался старик. — Копеечная проблема! — пожал плечами Илюша и крикнул: — Альбина! Из толпы вынырнула тощая девица с широкими губами и серьгами такой величины, что ей могли бы позавидовать модницы Мозамбика. — Альбина, ты бы не могла поассистировать моему другу Сольди, заслуженному деятелю магических и прочих наук? — Как это понимать? Ассистировать всю жизнь или одну поездку? Старик поглядел на вертлявую девицу и поспешил сказать: — Илюша, я пошутил. У меня есть ассистентка! — За неудачные шутки бьют по роже. Но я воздержусь. Я добрая, — сказала девица и, тряхнув серьгами, скрылась в толпе. — Что вам не понравилось в этой малютке? — спросил Илюша. — Она для меня слишком культурная, — сказал Сольди. Целую неделю Сольди искал ассистентку. Все кандидатуры не выдерживали даже поверхностного сравнения с Викториной Аркадьевной. Как-то в сквере Сольди вздремнул на скамейке, втянув черепашью голову в плечи. Его разбудила женщина, присевшая рядом. Сольди протер глаза. Он увидел Ингу Федоровну. Прекрасная адвокатша сильно похудела. Синие разводья лежали у нее под глазами. Она была скромно одета. Иллюзионист со старомодной галантностью привстал со своего места и приподнял шляпу. Он извинился за сон. Они разговорились. Ингу Федоровну расположил к себе этот вежливый старик. Незаметно для себя они засиделись до полудня. Им было легко друг с другом. Они вместе пообедали в молочном баре. Они съели по крупенику и крылышку отварного цыпленка. За молочным коктейлем, фирменным напитком бара, Инга Федоровна рассказала о своих стесненных обстоятельствах. Старик тоже разоткровенничался. Он пространно поведал о своей жизни. На следующий день они встретились на той же скамейке «пенсион-стрита». А еще через два дня новая ассистентка иллюзиониста Сольди сидела в купе жесткого вагона скорого поезда. На багажной полке стоял большой кофр старика с его волшебной аппаратурой. В объемистом чемодане хранились костюмы, чалма и нейлоновая шубка, единственная вещественная память о Викторине Аркадьевне.
Продолжение новеллы о знатном свиноводе АФАНАСИИ КОРЖЕ, а также начало новеллы о ГАНСЕ ХОЛЬМАНЕ и ФЕДЕ АКУНДИНЕ
Глава двадцать вторая
ПОЧТА — ЧУТКИЙ БАРОМЕТР СЛАВЫ. ЖЕРТВА РАДИОЦИВИЛИЗАЦИИ
Скажи, сколько писем ты получаешь, и я скажу, кто ты. Количество корреспонденции прямо пропорционально популярности. Так, по крайней мере, утверждают некоторые связисты. Мы не склонны возводить подобного рода утверждения в степень закона. Ведь на этот счет нет ни одного солидного научного труда, ни одной диссертации. Между тем пример Коржа в какой-то степени подкрепляет точку зрения связистов. С тех пор, как его механизированное звено откормило за год 13 тысяч свиней, получив свыше семи тысяч центнеров привеса, телеграммы, письма, заказные бандероли захлестывали скромное жилище Коржа. Почтальоны сбились с ног. Они не успевали опоражнивать сумки. Начальник районного почтового отделения затребовал дополнительно две штатные единицы. Тимофеевский свиновод вдруг почувствовал, что он позарез нужен многим людям. Он засиживался допоздна, отвечая своим корреспондентам. Он мужественно нес бремя славы. Его жена Катерина Трофимовна невзлюбила почту и почтовиков с того мгновения, когда из одного, казалось, безобидного конверта выпала фотография незнакомой девицы с вызывающей челкой и загнутыми кверху накладными ресницами. Девица предлагала Коржу вступить с ней в переписку. В случае родства душ, намекала она, их почтовая связь может иметь далеко идущие последствия. Мимоходом девица сообщала, что она очень одинока, что ей двадцать семь лет и что она может стать достойной подругой любого прославленного человека, если только он не зазнался. Катерина Трофимовна была из тех жен, о которых говорят на Украине, что она носит булаву. Афанасий Корж побаивался ее, хотя с виду она была робкой женщиной. Он тушевался перед Катериной Трофимовной, едва дело касалось таких щепетильных этических категорий и сильных чувств, как любовь, верность, ревность. — Липнут до тебя крали, как мухи на мед, — тихо сказала Катерина Трофимовна, рассматривая фотографию. — Ишь красавица! Рот раззявила, будто хочет сало сгамкнуть! — поддержала невестку Горпина Алексеевна, мать Коржа. Старая Горпина отличалась прямотой суждений и резкостью формулировок. — Так она ж не знала, что у меня добра жинка есть, — дипломатично заметил Корж. — Не знаешь, так не пхай носа в чужое просо! Давай сюда карточку! — приказала Горпина Алексеевна. Без лишних разговоров она отправила фотографию в печь. С этого дня корреспонденция Коржа подвергалась материнскому досмотру. Все фотографии молодых девиц немедленно предавались сожжению, после чего очищенная от скверны почта вручалась знатному свиноводу. Сегодняшняя почта, просмотренная Горпиной Алексеевной, не содержала никаких материалов, угрожающих семейным устоям. Колхозники из-под Кокчетава просили прислать кормовые рационы. Областное издательство предлагало написать книгу о режиме взрослой свиньи. Дом народного творчества интересовался, не играет ли Корж на бандуре, фаготе или тамбурине (нужное подчеркнуть). Если играет, то не хочет ли он записаться в самодеятельный оркестр. Дом моделей требовал отложить все дела и немедленно прислать письменный отзыв, отпечатанный через два интервала, о последних моделях вечернего платья и комбинезонов для доярки (дояра), свинарки (свинаря). Далее следовали приглашения: киностудии — на просмотр новой кинокомедии «Последний опорос»; городского ресторана «Тянь-Шань» — на дегустацию среднеазиатских пельменей, известных под названием «манты» и дунганской лапши; ипподрома — на розыгрыш большого приза для трехлеток; филателистов — на открытие выставки марок; общества врачей-гельминтологов — на лекцию о глистах парнокопытных. Афанасий Корж придвинул стопку бумаги и собрался было писать ответы, как в дверях появился Паша Семиреков, деревенский сумасшедший. — Ты зачем пришел, Паша? — ласково спросил Корж. Паша деликатно переминался с ноги на ногу. — Добре, подождем, — сказал Корж, берясь за перо. — Третья программа, — вдруг выпалил Паша. — А, понятно, — кивнул Корж. Сумасшествие Паши проявлялось несколько необычным образом. Он был помешан на радио. Целыми днями просиживал Паша на деревенской площади под старым, в рыжих подпалинах, репродуктором, подвешенным к столбу. Паша чинно сидел на некрашеном табурете и прослушивал все передачи от начала до конца. К вечеру он совершенно обалдевал и начинал молоть всякую чушь. После отбоя, по пути домой, он останавливал редких прохожих и просил отгадать загадки из радиопередач «Минутка отдыха». Чаще всего им это не удавалось, что вызывало у Паши слезы. Паша горько плакал, если прохожие не могли ответить и на вопросы из других передач, например: в каком году была написана органная прелюдия и фуга соль минор Баха — Листа? Есть ли кислород на Венере? Чем отличаются пекинские утки от белых московских? В остальном же Паша был вполне нормальным человеком. — У меня к вам есть один вопрос, — снова начал Паша. — Скажите, пожалуйста, товарищ Корж, какие демократические и социальные мотивы особенно сильно звучат в новеллах Мари Эбнер-Эшенбах? — Не знаю, — сознался Корж. — А что вы скажете насчет эмоций в рассказах Элизы Ожешко? — Ты на меня не обижайся, Паша, — сказал свиновод, — но я даже толком не понимаю, о чем ты говоришь. Паша помрачнел. — А что такое пальчиковая радиолампа? Не знаете? А есть ли начало и конец Вселенной? Какая средняя удойность коров швицкой породы? Где лучше собирать лекарственный шалфей? Что кроме «Сильвы» и «Марицы» написал Имре (Эммерих) Кальман? Все дневные передачи перемешались у несчастного в голове. Корж соболезнующе посмотрел на жертву радиоцивилизации. — Не слушаете?! Как же вам не стыдно! — сказал Паша, с трудом сдерживая рыдания. — Я буду слушать все передачи подряд, — пообещал Корж. — Только не волнуйся. — Последний вопрос, — сказал Паша, — что написал за последние два года Александр Цфасман? — Я знал, — сказал свиновод, — но сейчас забыл. Ты уж прости меня, Паша. Паша зарыдал во весь голос. — Ну, успокойся, не надо. Вспомни — зачем тебя сюда прислали? На мгновение лицо сумасшедшего приняло осмысленное выражение. — Вас вызывают в сельсовет, — сказал он и, закрыв лицо руками, опрометью бросился вон из комнаты.Глава двадцать третья
ВСТРЕЧА С ГАНСОМ ХОЛЬМАНОМ. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ГОСПОДИН КОРЖ? ЖЕСТОКОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ
В сельсовете Коржа дожидался Ганс Хольман, специальный корреспондент из ФРГ, долговязый, плоский, как гладильная доска, человек. Казалось, его проутюжили вместе с костюмом. — Вы есть господин Корж? — спросил Хольман, заглядывая в блокнот. — Он самый, — подтвердил свинарь. Хольман вынул из портфеля, похожего на баул, фотографию и начал сличать ее с подлинником. — Да, это вы и есть! Кажется… — А вы сомневались? — Станьте, пожалуйста, э-э-э-э, как это у вас называется… боком. — А отпечатки пальцев вам не нужны? — пошутил Корж, становясь боком. Хольман еще раз сличил фотографию с подлинником и наконец сказал: — Спасибо, пожалуйста. Теперь я вижу, что вы есть вы! — Благодарю вас, — поклонился свиновод. — А то я сам начал было сомневаться. Ганс Хольман был чрезвычайно недоверчивым человеком. Недоверчивость превратилась в манию, как только он пересек советскую границу. Ему чудилось, что все, начиная от благообразного гостиничного швейцара и кончая министром, сговорились околпачить его. Даже бифштекс, который подавали ему в ресторане, вызывал у Хольмана серьезные сомнения: не сделан ли он из неведомых пропагандистских материалов, заменяющих филейную вырезку. В Москве, на Выставке достижений народного хозяйства, Хольман дотошно изучал стенд, посвященный Коржу. Черные подозрения закрались в его душу. Дело в том, что он сам считал себя до некоторой степени специалистом по свиноводству. Его отец разводил в своем поместье свиней и слыл образцовым хозяином. Но Ганс никогда не видел у отца таких животных. Особенно поразили Хольмана-младшего хряки, воинственные и массивные, как бегемоты. Под стать им были свиноматки и крепко сбитые поросята. «На фотографиях это выглядит очень убедительно, — подумал корреспондент, — но нет ли здесь трюка? Пропагандистского подвоха? Вульгарного обмана? При этих мыслях Хольман начал рыть копытом землю, как застоявшийся жеребец. Эффектные заголовки будущей корреспонденции неоновыми всплесками промелькнули в его мозгу: «Мифическая ферма!», «Существует ли господин Корж?», «Афера большевиков!» В этот день Хольман чувствовал себя взбудораженным. Всю ночь он не спал, ворочался на огромной, как бильярдный стол, гостиничной кровати с каннелюрами. В его воспаленной голове дозревал план, достойный автора стратегических Канн Альфреда Шлифена. Дважды он слезал со своего ложа, чтобы приложиться к бутылке с русским шнапсом. Изумительный шнапс донельзя раскалил воображение специального корреспондента. Если вечером Хольман-младший думал разоблачить лишь одну мифическую ферму, то под утро он начал мыслить масштабнее. Свиноферма — деталь, частность. На ее примере он наглядно покажет пропагандистские методы большевиков. От него мировое общественное мнение узнает, из каких материалов и экспонатов большевики компонуют свои выставки, которые они рассылают по всему свету. Утром Хольман принял решение. Он быстро оделся, выпил пару чашек кофе и, даже не пересчитав сдачу с пяти рублей, что свидетельствовало о его крайнем возбуждении, поспешил в аэропорт. Спустя два часа он сидел, уже в комфортабельном лайнере. Но вернемся в сельсовет. Убедившись, что Корж — это Корж, хитроумный Хольман попросил немедленно повести его к свиньям. Он боялся, что большевики, узнав о его приезде, стянут в Тимофеевку лучших свиней со всей округи. — Хочу сейчас пойти ко всем свиньям! — не без помощи разговорника составил Хольман нужную ему фразу. — Я бы не советовал это делать, — улыбнулся Корж. — Разве нельзя? Разве это есть секрет? — Да нет. Вы не так сказали. Вы хотите поглядеть на свиней. Так я понимаю? — Не хочу поглядеть, — сварливо возразил Хольман. — Хочу пойти ко всем свиньям! — Ну, если вам так нравится, пожалуйста. Мы не возражаем. Может, отдохнете с дороги? — Я не есть устал! — поспешил заверить корреспондент. — Я есть здоровый мужчина. Я хочу быстро, быстро пойти! Хольман боялся лишиться инициативы, упустить момент внезапности, дать Коржу время для организационных контрмер. «Вот чудной немец», — подумал Корж и сказал: — Так я ж хочу, чтобы вам было лучше. Помойтесь, поспите… — Не надо, чтобы мне было лучше. Пусть мне есть хуже, — поспешил ответить Хольман, радуясь своей прозорливости и содрогаясь от сбывающихся предчувствий. — Пусть мне есть совсем плохо! — И ужинать не будете? — Пфуй ужин! — Как хотите. Пошли! «Интересно знать, — думал Хольман, едва поспевай за широко шагающим Коржем, — как теперь будет изворачиваться этот русишер фермер. Что скажет он насчет свиней? Где они? Проданы? На летнем выгоне? Прирезаны на бойне? Как он объяснит их исчезновение?» Они молча дошли до свинарника. Корж открыл дверь. Парные запахи ударили им в нос. Пахло кукурузным силосом, дезинфекцией и свининой. Живой, не вываленной еще в сухарях, не сваренной, не зажаренной, свининой без гарнира. Они пошли по широкой бетонной дорожке. Хольман подавленно молчал. При неверном свете «летучей мыши» свиньи казались еще более массивными, чем на фотографиях. Они были неприлично большими. Неприлично жирными. До тошноты реальными. — Свинарник мал стал, — сказал Корж. — Строим новый. Из сборного железобетона. Хольман шел согнувшись, словно кто-то стукнул его по позвонкам. В конце свинарника он увидел хряков. Он узнал Яхонта, так поразившего его на выставке. Когда он приблизился. Яхонт с трудом приподнялся, словно приветствуя корреспондента. Четыреста килограммов шпика, шницелей, окороков, а также сосисок приблизились к перегородке. Хольману показалось, что хряк заговорщически подмигнул ему. Корреспондент отвернулся. Ему было нехорошо. «Нервы», — решил он. Сказывалось напряжение последних дней. Хольмана потянуло на воздух. Его потянуло к шнапсу. Он вспомнил, что в чемодане у него лежит бутылка с белой головкой. Они вышли на улицу. Хольман шагал, что-то бормоча себе под нос. Глядя на его унылую проутюженную полусогнутую фигуру, на его бесцветное лицо и водянисто-голубые глаза. Корж подумал: «Хорош экземплярчик. И зачем только он к нам пожаловал?»Глава двадцать четвертая
МОГУЧАЯ АФИША. НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
Хольман переночевал в доме приезжих. Следующее утро не принесло ему желанного облегчения. Он встал поздно, вышел на улицу. Было холодно, сыро и неуютно. Хольман поёжился. Мимо проехала телега с двумя фанерными щитами по бокам. Щиты извещали:КЛУБ ИМ. 1 МАЯХольман прочел афишу и пошел по улице, обсаженной тополями. За могучей тополиной оградой прятались опрятные стандартные домики. Пейзаж был не для его газеты. Хольман в сердцах закрыл объектив фотоаппарата. На площади перед правлением колхоза стояли элегантные грузовички Кутаисского завода, а у коновязи — несколько мотоциклов и мотороллер «Вятка». У столба под репродуктором сидел Паша Семиреков. Он слушал музыку, вытянув журавлиную шею. Хольман быстро изготовился и щелкнул аппаратом. «Неплохой сюжетик», — подумал он и на ходу сочинил подпись: «Обнищавший, задавленный советский колхозник не в состоянии приобрести радиоприемник из-за непомерного радионалога. Он вынужден слушать радио, сидя на улице». Хольман зашел в несколько домов. Долго беседовал с колхозниками. Беседы не принесли ему профессиональной радости, местные аборигены показались ему в высшей степени ограниченными людьми. Никто из них не мечтал о свободном предпринимательстве, многопартийной парламентской системе, хуторах, мажоритарных выборах, ковбойских фильмах, акционерных обществах на паях, жевательной резинке и абстрактном искусстве. Из аборигенов нельзя было выжать мало-мальски приличной цитаты. Хольман огорчился. Нет, ему определенно не везет. Он отыскал столовую. Заказал графинчик перцовки и порцию свиного шашлыка. Напротив, за столиком, забитым пустыми пивными бутылками, сидел мордастый, начиненный здоровьем и пивом молодец. Перед ним стояла сковородка с яичницей. Хольман машинально подсчитал: восемь яиц! Детина нацедил в пивную кружку водки и разбавил се пивом. Затем на его лице появилось выражение веселого ужаса и онзалпом выпил содержимое. Детина с треском поставил граненую кружку, забил под столом копытом и замотал кудряво-плешивой головой, посаженной на шею штангиста-тяжеловеса. — Бррр, берет окаянная! — молвил детина, отрубая от яичницы здоровенный кусок. Хольман с некоторым трепетом наблюдал за завтраком своего соседа. За каких-нибудь полчаса он дважды повторял порцию шнапса. Глаза у него стали красные, словно по ним мазанули бычьей кровью. — Ты чего уставился, глиста? — не соблюдая протокола, спросил детина. — Мне… ничего, — поспешил заверить Хольман. — «Ничего, ни-че-го»! Ездют тут всякие с портфелями! — Федя Акундин! Не приставай к человеку! — крикнула буфетчица. — Брысь! — огрызнулся Федя и, повернувшись к Хольману, продолжал: — Уполномоченный, говоришь? Набил портфель портянками и разъезжаешь? А работать за тебя будет Федя Акундин? У Феди холка крепкая! Он повезет. А ты будешь портфелем махать? Акундин снова плеснул водки в граненую кружку, долил пиво и залпом выпил гремучую смесь. Разоблачительная сущность тирады Акундина, произнесенная заплетающимся языком, не дошла до Хольмана. Корреспондент спросил с любезной улыбкой: — Извиняйте меня, что вы пьете? Это есть русский коктейль? — Ты мне зубы не заговаривай! — наваливаясь грудью на стол, сказал Акундин. — Ты толком отвечай: сколько гребешь, глиста? — Как я должен понимать слово «гребешь» и слово «глиста»? — по-прежнему улыбаясь, спросил Хольман. — Я никогда не учил такой слова. — Вот сволочь, ханурик, придуривается, — возмутился Акундин. — Ну что ты скажешь! Ты зачем приехал, долгоносик? Небось к Коржу? — Да, я есть гость Корж. — Ну и дурак! На этот раз Хольман понял. — Зачем вы наносил мне оскорбление? Меня нельзя оскорблять! — с достоинством сказал он. — Ах, как я напужался! В милицию меня сведешь? Портфелем ударишь? Эх ты, рахитик!.. Ну что Корж? Что вы носитесь с ним? Корж — ничего. Плюнуть и растереть! А про него в газетах пишут, в кино показывают, артисты песни складывают: тру-ля-ля, тру-ля-ля! Танцують! Акундин оттянул кончиками пальцев галифе и, жеманясь, прошелся на цыпочках вокруг стола. — Федя, перестань сейчас же! — крикнула буфетчица. — А что ты со мной сделаешь? От милиционера вы сами отказались, а бригадмил на работе! — Он весело рассмеялся. — Понимаешь, невыгодно райотделу из-за одного Феди Акундина содержать здесь милиционера! Вот такая положения… Так как насчет Коржа? Что он из себя представляет? Па-ду-маешь, вырастил Яхонта, чемпиона-рекордиста. У меня самого кабанчик был. Всем кабанам кабан! Жена выходила. Померла! Акундин рванул на груди рубаху. — Заездили, сволочи! Загубили! — Ваша жена умер молодой? — с фальшивой участливостью спросил Хольман. — Интересуешься? В книжечку запишешь? В портфельчик запихаешь? У-у-у-у, взял бы тебя за косоворотку! — сказал Акундин с такой злобой, что Хольман взвизгнул: — Кельнер! — Кель-нер, — передразнил Акундин. Это слово почему-то его страшно развеселило. — Кельнер! Ну и артист! Ха-ха! Хороший ты человек, вот что я тебе скажу, — с чисто пьяной алогичностью объявил Акундин. Он взял бутылку водки и пиво, сунул под мышку сковородку и, прижимая ее, чтобы отлипшие куски яичницы не падали на пол, перебазировался к столу корреспондента. — Хороший ты человек, хоть и глиста! Акундин, расплескивая водку и пиво, составил свою убийственную смесь. Наскоро чокнувшись, он опорожнил кружку. Затем схватил с тарелки Хольмана палочку шашлыка, нажал сверху вилкой. Мясо посыпалось на стол. Он быстро побросал себе в рот куски, как семечки. — Артист ты. По роже видно! — Я не есть артист, — пытался возразить Хольман. — Вот и врешь! Артист и есть. Ты медведя дрессируешь. Меня не обманешь. Скажи, пожалуйста, как он насчет жратвы? Федя облокотился на стол и деловито продолжал: — Такую скотину накормить — дай бог! Знай подваливай. А мед ему даешь? От тебя дождешься. Ты его, ханурик, падалью кормишь. Гималайское животное мучаешь! Медведя терзаешь! Чего по комнате глазами елозишь? Ты отвечай! Не хочешь? Зазнался? Цельный вечер мою водку хлещешь, а брезгуешь? Хольман был ужасно драчлив и агрессивен в своих статьях на международные темы, но в повседневной жизни он любил улаживать конфликты мирным путем. — Я заплачу за водка, — сказал он. — Я тебе заплачу! Акундина не купишь! Видел? — он поднес к носу корреспондента смятую пачку денег. Насладившись произведенным эффектом, Акундин хотел было сунуть деньги обратно в карман, но промахнулся, и бумажки упали на пол. Ругаясь, он встал на четвереньки. Хольман, воспользовавшись моментом, постыдно бежал, так и не допив своей водки.
Только два дня.
Грандиозное эстрадно-цирковое представление в 2-х отделениях
БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
ИННОКЕНТИЙ ЛОШАТНИКОВ. Фельетон. Пародия. Реприза. Куплет.
СВАДЬБА ГЛУХОНЕМЫХ. Мимическая сценка с музыкой.
«ТАМЕРЛАН!» Медведь-гигант с Гималаев под управлением Лаврушайтиса.
ЧУДО-БОГАТЫРЬ ИВАН БУБНОВ! Рекордный мост. Пляска гирь. Полуторка на груди. Разбитие железобетонных блоков.
ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ БЛИЗНЕЦЫ САТИРИКИ ЖОРА И ВИТОЛЬД ДЕРИБАС! Ах, зачем нам Кукарача! Ковбойская канитель. У них на авеню. Показ и разоблачение рок-н-ролла.
а также критические частушки:
«Две веселые подружки Вам сейчас споют частушки И коснутся между тем Здесь различных местных тем».
Начало в 7 часов вечера. Принимаются коллективные заявки.

























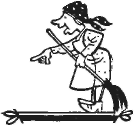





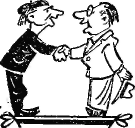















Последние комментарии
1 час 15 минут назад
3 часов 45 минут назад
3 часов 53 минут назад
1 день 15 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 21 часов назад