Преступный мир и его защитники [Н. В. Никитин (Азовец)] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
H. P. НИКИТИН (АЗОВЕЦ)
ПРЕСТУПНЫЙ МИР И ЕГО ЗАЩИТНИКИ


*
© Воениздат, 2002

Не мстите подсудимым, господа присяжные заседатели, и не относитесь к ним с ненавистью. Они столько перестрадали, а сколько еще предстоит им страданий! Как бы ни был ужасен преступник, как бы сильно ни возмущал он добрых людей, судьи должны быть беспристрастными. Когда самого ужасного злодея ведут на казнь и он, измученный, без всякой надежды на сострадание, бросает в негодующую толпу умоляющий взгляд, тысячи сердец людских, возмущенных его жестокостью, проникаются к нему состраданием. Когда вы уйдете в совещательную комнату, помните, что эти жестокие люди тем уже глубоко несчастны, что не смеют надеяться на сострадание. Взгляните на них хоть с тем сожалением, с каким смотрят на затравленного зверя, когда он уже безопасен для людей и замучен.Из защитной речи присяжного поверенного Г. С. Аронсона по делу Анны Коноваловой. 1900 г.

Приступая к исполнению ответственных обязанностей присяжного заседателя, торжественно клянусь исполнять их честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, как уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая виновного и не осуждая невиновного, как подобает свободному гражданину и справедливому человеку.Присяга присяжных заседателей. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г., ст. 332
ОТ АВТОРА

Эта книга для желающих ознакомиться с грубой реальностью, над которой тяготеет власть зла.
Суд — это жизнь и в то же время школа: он учит, как не надо жить.
Сама действительность, в большинстве неприглядная, ничем не скрашенная, с ее пошлостью, горем и страстями, во всей своей наготе предстает в торжественных залах суда.
Как бесконечный клубок, обыденная жизнь день за днем беспрестанно развертывается перед судьями и общественной совестью.
Дикая злоба, безумная ревность, отчаяние, погоня за легкой наживой, месть, грязный адюльтер и муки отвергнутой любви — все это переплетается между собой, ожидая возмездия или прощения.
Суд, по священному завету Законодателя, есть скорый, правый, милостивый и равный для всех суд. Чутко прислушиваясь к обвинению и защите, он выносит в своем беспристрастном решении только одну живую правду.
Обвинение — грозно и зовет провинившегося человека к ответу, но велико святое дело защиты: внести свет в преступление и вызвать милость к падшему.
В данной книге собраны выдающиеся уголовные процессы начала XX в. в России, в которых участвовали представители петербургской адвокатуры.
Читатель будет иметь возможность также познакомиться с речью министра юстиции И. Г. Щегловитова о правах защиты и присяжных заседателей.
Санкт-Петербург.Н. В. Никитин (Азовец)1910 год
ПРАВА ЗАЩИТНИКОВ И ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Всем известно, какое огромное значение в деле уголовного судопроизводства имеют присяжные заседатели, призванные судить, и непосредственно сама защита, на обязанности которой лежит пробуждать милость к падшему и сострадание к невиновному. Очень часто исход дела зависит исключительно от них, и, несмотря на суровое обвинение со стороны закона, подсудимый покидает свою позорную скамью оправданным и возвращается в жизнь полноправным гражданином. Однако в определении прав защиты и присяжных заседателей в судебной практике нередко бывали разногласия, и вопрос об этом обсуждался даже в правительствующем сенате. Наиболее полное разъяснение этого вопроса дал бывший обер-прокурор правительствующего сената, ныне министр юстиции И. Г. Щегловитов. Ввиду того что мнение такого выдающегося юриста, заявленное к тому же официально, имеет важное значение как для адвокатов, так и вообще для всего общества, из которого вербуются кадры присяжных заседателей, мы приводим его возможно подробнее.
Поводом к разъяснению Щегловитовым прав защиты и присяжных заседателей послужило известное дело о крахе страхового и транспортного общества «Россиянин», наделавшее в свое время много шума. Рассмотрение этого дела проходило в Санкт-Петербургском окружном суде в течение шести суток и закончилось обвинением одного из директоров злополучного общества — купца А. С. Семенова. Однако ввиду допущенного судом нарушения порядка судопроизводства приговор был обжалован защитой. В кассационных жалобах главным образом затрагивались два кардинальных для современного суда вопроса. Первый сводился к определению прав защитника на суде, второй же касался степени полномочий присяжных заседателей относительно оснований, какими они должны руководствоваться относительно вменения подсудимому в вину совершенного им преступления.
Давая свое заключение по этому делу, Щегловитов подробно развил те общие начала, которыми определяются необходимость уголовной защиты, ее назначения и условия исполнения ею возложенной на нее задачи, и указал на то, что уголовное правосудие, имеющее своей целью служить охраной общественного порядка и интересов граждан, может достигнуть этого только путем открытия в каждом деле безусловной истины, т. е. действительным установлением виновности подсудимого, дающим право на применение к нему определенного законом наказания. Отыскание же истины в современном уголовном процессе обеспечивается состязательностью, для чего и созданы стороны обвинения и защиты. Каждая из них призвана служить обнаружению истины посредством отстаивания своей точки зрения. Столкновение этих точек зрения, обосновывающих интересы обвинения и защиты, облегчает суду установление истины. Сказанным определяется не только необходимость участия сторон в процессе, но и служебная, часто вспомогательная, их роль в деле отправления правосудия.
Указанная вспомогательная роль в деле отправления уголовного правосудия достигается защитой выполнением ею своего прямого назначения, а именно отстаиванием перед судом интересов подсудимого. Назначение уголовной защиты в точности определено Уставом уголовного судопроизводства: защитник подсудимого в своей речи объясняет все те обстоятельства и доводы, которыми опровергается или ослабляется возведенное против подсудимого обвинение. Вместе с тем, принимая присягу, лица, вступающие в число присяжных поверенных, обязуются «охранять интересы своих доверителей или лиц, дела которых будут на них возложены». Отстаивание интересов подсудимого на уголовном суде является при этом настолько безусловной обязанностью защитника, что, как это признается процессуальной наукой и кассационной практикой, ему не может быть поставлено в вину принятие на себя защиты такого лица, в невиновности которого он не убежден. При этом если защитник может не принять на себя защиту по соглашению, то он, как это определено в отношении присяжных поверенных, не может отказаться от защиты, возложенной на него председателем судебного места, не представив достаточных причин, к числу которых убеждение в виновности подсудимого, конечно, отнесено быть не может. Из обязанности защитника отстаивать интересы подсудимого вытекает также и то, что он не имеет права приводить обстоятельства в пользу обвинения. Такой образ действий, в корне нарушающий идею уголовной защиты, является одним из самых тяжких уклонений защитника от исполнения своих обязанностей.
Участие защитника при судебном рассмотрении составляет, без сомнения, необходимое процессуальное условие, соблюдение которого, по крайней мере по важнейшим уголовным делам, сделалось предметом особой заботы современных законодательств, все более проникающихся сознанием того, что защита — служение общественное. В развитие этого начала наука требует наличия защиты на суде вне зависимости от желания обвиняемого. Указанной заботой была всегда проникнута и кассационная практика, признающая серьезным нарушением несвоевременное извещение подсудимого о невозможности назначить ему защитника и установившая обязательное назначение защитников несовершеннолетним подсудимым. Уголовно-политическое значение защиты в уголовном процессе действительно велико. Можно с уверенностью утверждать, что судебный приговор, вынесенный судом без участия защитника, не может произвести того благотворного впечатления, которое в высшей степени важно для поддержания в обществе должного доверия и уважения к суду. Только приговор, состоявшийся при участии защиты, создает уверенность, что суд осуждает совершивших преступление и оправдывает невиновных.
Каковы же, однако, условия, в которых защита выполняет свою благородную миссию — отстаивает интересы подсудимого? Устав уголовного судопроизводства, вооружая защитника на судебном следствии процессуальными правами, равными правам обвинителя и гражданского истца, предъявляет к нему единовременное требование, заключающееся в том, чтобы он не распространялся о предметах, не имеющих никакого отношения к делу, не позволял себе нарушать должное уважение к религии, закону и властям, а также, чтобы он не употреблял выражения, оскорбительные для чьей бы то ни было личности. Равным образом и в присяге на звание присяжного поверенного содержится требование «не писать и не говорить на суде ничего, что могло бы клониться к ослаблению православной церкви, государства, общества, семейства и доброй нравственности», и «не нарушать уважения к судам и властям». В точном соответствии с этими требованиями определена в законе и обязанность председателя — устранять из прений все, что не имеет прямого отношения к делу, и не допускать ни оскорбительных для чьей бы то ни было личности отзывов, ни нарушения должного уважения к религии, закону и властям.
Со своей стороны правительствующий сенат строго поддерживал приведенные требования, признавая их нарушение, если оно вовремя не было пресечено, существенным. Так, еще в решении уголовного кассационного департамента 1871 г. по делу Антипова сенатом было высказано, что судебные прения, в ходе которых был нарушен Устав уголовного судопроизводства и которые не велись с достоинством, спокойствием и правильностью, необходимыми для того, чтобы присяжные заседатели могли приступить к разрешению дела без всякого увлечения к обвинению или оправданию подсудимых, не могут служить основанием правильного судебного приговора. По этому делу защитник, отвечая на обращение прокурорского надзора к присяжным: «Вы не должны выходить из закона, потому что выходить из закона — значит быть беззаконниками», сказал: «Если на основании доводов, высказанных прокурорским надзором, признать подсудимого виновным в разбое, то это будет судебный разбой». В решении 1887 г. по делу Саратовско-Сибирского банка правительствующий сенат усмотрел нарушение со стороны председательствующего, допустившего в прениях полное извращение процессуальных ролей: гражданские истцы выступали одни — в роли защитников, другие — ярых обвинителей, а защитники — в роли обвинителей. В решении 1888 г. по делу Кетхудова и Махровского сенат признал, что со стороны защитника было допущено существенное злоупотребление своими обязанностями, выразившееся в попытке оказать давление на присяжных заседателей. В частности, он заявил, что при решении дела они должны руководствоваться не оценкой доказательства виновности, а высшими государственными интересами, что в основе их решения должны лежать политические соображения, а не начала справедливости и что необходимо вынести оправдательные приговоры хотя бы и виновным, чтобы сдержать своекорыстные стремления богачей. В решении 1904 г. по делу Салтыкова правительствующий сенат указал на то, что в учреждении, призванном охранять государственные и общественные интересы посредством правосудного разрешения вопросов о преступности действий нарушителя закона, нельзя допускать высказываний, в коих растрата присяжным поверенным денег, вверенных ему доверителями, именуется «легкомысленною шалостью», а дальнейшее хищение этим лицом собственности доверителей, прикрываемое подлогом, «естественным и ненаказуемым последствием первого легкомысленного, но не преступного действия». При этом в решении сената подчеркивалось, что речь подобного содержания является несоответствующей задачам защиты и представляет собой соображения, направленные не к отысканию истины, а к извращению перед присяжными заседателями понятий о дозволенном и воспрещенном как уголовным законом, так и нравственностью, а также к насаждению в их умах смутного представления о присущих им правах и обязанностях. В высшей степени ценные разъяснения были даны правительствующим сенатом в решении 1892 г. по делу Дорна. Речь шла о том, каковы допустимые пределы упоминания в судебных речах обстоятельств, касающихся чести и доброго имени противной стороны свидетелей и вообще третьих лиц. В этом решении сенат основывался на соответствующей статье Судебного устава, по которой председательствующий может принимать запретительные меры в отношении сторон и их поверенных, если они будут оглашать предосудительные для противной стороны обстоятельства без всякой к тому надобности.
Вместе с тем вообще вмешательство председателя в судебные прения вне указанных выше случаев совершенно нежелательно. Оно вносит напрасное смущение, отвлекает внимание присяжных, делая их как бы молчаливыми судьями между председателем и стороною, и суживает область действий противной стороны, которая уполномочена возражать на речи своего противника. Стороны, конечно, легко могут допустить в своих речах неправильное изложение обстоятельств дела или неправильное толкование истинного смысла закона. В этом случае председательствующий обязан указать на неправильности, допущенные сторонами, в напутственном слове присяжным заседателям. Что касается председателя суда, то он ни в коем случае не должен вмешиваться в судебные прения в целях воспрещения защитнику просить оправдательного приговора, так как это будет, в сущности, означать отмену судебных прений и восстановление прежнего инквизиционного процесса, не допускавшего состязательного начала. Если признать за председателем право воспрещать защитнику просить об оправдании подсудимого, то придется признать за ним и полномочие воспрещать обвинителю отказаться на суде от обвинения, что в равной мере недопустимо. При таких условиях председатель превратится в инквизиционного судью, совмещающего обязанности и обвинителя, и защитника. Да и в какое положение будет поставлена защита, если ей будет воспрещено просить об оправдании подсудимого, сознавшегося в совершенном им преступлении? Не будет ли защитник вынужден в ходе предварительного рассмотрения дела склонять подсудимого не сознаваться на суде и не приведет ли подобная практика к тому, что признание обвиняемого совершенно исчезнет из уголовных дел?
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующий вывод относительно условий, которые должны соблюдаться в судебных прениях: в них не может допускаться проведение каких-либо положений, несовместимых с общими началами правосудия. При этом следует иметь в виду, что правительствующий сенат в решении по делу Кетхудова и Махровского 1884 г. весьма определенно указал на существование таких нарушений судебного процесса, которые требуют немедленного пресечения их председателем, а не опровержения в его заключительном слове. По мысли закона, говорится в этом решении, в заключительном слове допустимо лишь исправление неточностей, преувеличений, допущенных сторонами относительно фактических или юридических обстоятельств дела, но не разбор и опровержение мнений, которые вовсе не должны иметь места в судебных прениях. Из этого разъяснения, несомненно, явствует, что все те излишества в прениях, которые посягают на интересы государства или частных лиц, должны немедленно пресекаться председателем, а те излишества, которые носят характер неточностей или преувеличений, председатель суда должен исправить в своем заключительном слове.
Кроме того, председательствующий должен следить за тем, чтобы судебные прения не содержали в себе, за исключением общих логических сопоставлений и выводов, никаких доводов и соображений, опирающихся на фактические данные, не бывшие на рассмотрении суда при судебном следствии, если только эти данные не принадлежат к области бесспорных общежитейских факторов или элементарных предметов человеческого ведения. В пределах указанных условий как обвинитель, так и защитник свободны в выборе способов, приемов, к которым каждый из них прибегает. В равной степени это относится и к выводам, ими делаемым. Составление плана обвинения или защиты — дело личных дарований обвинителя и защитника, не поддающихся регламентации. Если в этой области и возможны какие-нибудь требования и пожелания, то они всецело относятся к судебной этике, т. е. к нравственной сфере, которая не подлежит судебному контролю. Все это приводит к заключению, что защита по своему существу свободна и не может быть стесняема судом, если только она не нарушает требований, установленных законом. Свобода для нее настолько же необходима, насколько необходим воздух для всякого живого существа. Без нее защита захиреет и превратится из полезной силы в ненужный придаток, осложняющий судебное рассмотрение. Поэтому защитник волен просить в своей речи или об оправдании подсудимого, или о признании его заслуживающим снисхождения. Об оправдании он имеет право просить независимо от того, признал ли подсудимый себя виновным или нет, подтверждается ли его признание в совершении преступления обстоятельствами дела или оно ими опровергается, требовал ли защитник судебного следствия при наличии признания подсудимого и, наконец, выясняется ли или нет по делу законная причина невменения подсудимому в вину совершенного преступления.
Преследуя цель опровергнуть или ослабить доводы обвинителя, защитник в своей речи может развивать как фактические, так и юридические основы обвинения. В отношении последних он не вправе, если дело рассматривается с участием присяжных заседателей, касаться ответственности, угрожающей подсудимому. Но зато должен дать критическую оценку всех материально-правовых и процессуальных условий обвинения, предъявляемого подсудимому. Поэтому он вправе доказать, что в деянии, приписываемом подсудимому, не содержится признаков преступления, что в деле усматривается один из вопросов, требующих предварительного разрешения компетентным судом, что самое преследование возбуждено не в установленном порядке, что в деле обнаруживается наличие причины, устраняющей преступность деяния, или же условий, исключающих вменение в вину подсудимому содеянного, и, наконец, что в учиненном подсудимым деянии не заключается караемой законом вины, умышленной или неосторожной. Высказывая одно из приведенных правовых положений, защитник тем самым будет требовать оправдания подсудимого, вместе с тем не отрицая фактических основ предъявленного на суде обвинения.
Признание подсудимым виновным себя в совершении преступления, утратившее в уголовном процессе значение лучшего доказательства, не лишает стороны права доказывать как его фактическую недостоверность, так и отсутствие в деяниях сознавшегося подсудимого признаков преступления или недостаточность оснований для предъявления подсудимому обвинения. Даже при наличии признания подсудимого в совершении им преступления не только защитник вправе просить о его оправдании, но и прокурор может воспользоваться предоставленным ему правом отказаться от обвинения, если он сочтет признание подсудимого опровергнутым на судебном следствии. Само по себе признание подсудимого, не возбуждающее сомнений в своей достоверности, может почитаться устанавливающим разве только событие преступного деяния и совершение его подсудимым, но отнюдь не вменение ему содеянного в вину. Если бы считать последнее предрешалось признанием подсудимого, то само вынесение судом приговора о виновности сводилось бы в сущности только к одной формальности, а прения сторон по этому предмету оказались бы совершенно ненужными. Именно этого и требуют, между прочим, представители так называемой антропологической школы уголовного права, высказывающиеся за устранение прений сторон по делам подсудимых, полностью признавшихся в совершении преступления. Но такая мера не принята ни в одном законодательстве, в том числе в нашем уставе уголовного судопроизводства, по которому заключительные прения сторон должны иметь место по всем уголовным делам, независимо от того, признался подсудимый в совершении преступления или нет.
Другой вопрос — о полномочиях присяжных заседателей — Щегловитов осветил также очень обстоятельно, затронув те основания, которыми они должны руководствоваться по поводу вменения в вину подсудимому совершенного им преступного деяния. По его мнению, учреждая суд присяжных в России, законодательная власть исходила из того, что от присяжных судей собственно требуется решить, изобличается ли подсудимый в преступлении, которое предъявлено ему обвинением и следствием. Если закон требует от обсуждающих фактическую сторону дела одного только полного внутреннего убеждения, не стесняемого никакими формальными доказательствами, то очевидно, что присяжные, избираемые обыкновенно из той же среды, к которой принадлежит обвиняемый, будут более компетентны при оценке факта, чем судьи, принадлежащие к другому слою общества или живущие в другом месте и потому плохо знающие местные обычаи и нравы. Само решение вопроса о виновности подсудимого по внутреннему убеждению предполагает, что любой судья высказывает свое мнение по чистой совести, ничем не стесненной, при этом изобличенные преступники должны наказываться по законам, утвержденным верховной законодательной властью, а не по произволу судей. Из этого следует, что если присяжные заседатели в оценке фактических обстоятельств дела не связаны законом, а призваны действовать по внутреннему убеждению ничем не стесняемой чистой совести, то в оценке правовой стороны дела они обязаны подчиняться закону. Соблюдение закона есть основное начало деятельности всякого судьи, в том числе и присяжного заседателя.
Но какие же правовые вопросы должны разрешать присяжные заседатели, призванные для обсуждения «фактической стороны дела»? Заметим, что присяжным иногда приходится определять степень умысла подсудимого или обстоятельств, увеличивающих или уменьшающих его вину. В этих случаях председатель суда дает присяжным необходимые разъяснения о существующих в законе правилах и о практическом их применении. Действительно, присяжные заседатели, призванные для определения вины или невиновности подсудимых, не ограничиваются одной лишь фактической стороной дела. Отвечая на вопрос о виновности подсудимого, они дают ответ, которым обстоятельства дела подводятся под установленные законом признаки преступного деяния и уголовной вины. Удостоверение одного голого факта, т. е. такого факта, который не заключает в себе осуществления какого-либо правового понятия, по справедливому замечанию известного криминалиста Биндинга, не имеет для уголовного судьи никакого значения. Правовая сторона дела, разрешаемая присяжными заседателями, заключается в признании деяния, совершенного подсудимым, преступным и во вменении ему этого деяния в вину. При разрешении правовых вопросов присяжные заседатели, чтобы в точности исполнить требование принятой ими присяги «не оправдывать виновного и не осуждать невиновного», должны руководствоваться законом, который разъясняет им председатель суда, и в нем одном черпать указания по этому предмету. Само же применение уголовного закона присяжными заседателями не должно пониматься как механическое применение буквы закона к отдельным случаям. Закон бессилен предусмотреть все разнообразие житейских проявлений преступности и неизбежно оперирует одними отвлеченными понятиями, которые в отношении установки признаков и оснований виновности в каждом отдельном случае требуют от судьи тщательной оценки для признания, что в данном случае действительно совмещаются все установленные законом условия для уголовной ответственности.
Правительствующий сенат в решении 1805 г. по делу Падем подтвердил, что присяжные заседатели при исполнении возложенных на них законом обязанностей не могут выходить за общие пределы деятельности судей как применителей установленной законом кары к нарушителям его велений. Они должны подчиняться закону и только фактическую сторону дела обязаны разрешать по внутреннему своему убеждению, основанному на обсуждении в совокупности всех обстоятельств дела. В отношении же невменения в вину подсудимому его деяния присяжные не могут ограничиваться только причинами, указанными в законе, а должны руководствоваться общим смыслом уголовных законов.
Для деятельности присяжных заседателей представляется в высшей степени важным не столько разъяснение им председателем суда причин невменения подсудимому в вину его деяния, не поддающихся точному учету, сколько объяснение, какое значение по смыслу закона имеет то или другое выдвинутое судебным следствием или судебными прениями обстоятельство, могущее служить смягчению наказания, ожидающего подсудимого в случае его осуждения.
Такое объяснение должно помочь присяжным заседателям определить границу, отделяющую судейское снисхождение от помилования, и удерживать их от вынесения наблюдаемых иногда на практике решений, подсказанных не столько голосом совести, сколько велением сердца. К тому же защитникам на суде свойственно иногда сгущать краски при прямом ходатайстве о прощении или под видом просьбы о снисхождении к подсудимому, подкрепляемых обыкновенно ссылками на его личные черты характера, на житейскую обстановку и тяжелое прошлое, на его страдания, безвыходность положения, особенный характер совершенного преступления и т. п.
Правительствующий сенат уже высказывался по этому поводу. Так, например, по делу Грязнова уголовным кассационным департаментом было признано существенным нарушением неразъяснение председательствующим присяжным заседателям, что им следует ответить на поставленный вопрос правдиво, вне всякой зависимости от того, какое значение будет иметь их ответ для наказания виновного.
Присяжные заседатели должны помнить, что не на них, а на членов суда закон возложил ответственность за строгое соответствие наказания действительной вине осужденного и особым обстоятельствам дела. Причем, требуя полного согласования наказания с истинной справедливостью, а не с одним лишь формальным правом, закон предоставляет суду и все необходимые средства, вплоть до обращения к монаршему милосердию.
Необходимо отметить, что в судебной практике бывали случаи, когда сами присяжные заседатели, вынеся обвинительный вердикт, обращались к окружным судам с просьбой отправить на монаршее рассмотрение их ходатайство об облегчении участи осужденных, выходящем за пределы власти суда. Это обстоятельство побудило министра юстиции предложить председателям окружных судов отправлять такие ходатайства в министерство юстиции для доведения их до высочайшего сведения. Нет никакого сомнения в том, что это облегчит присяжным заседателям выполнение своей задачи — вынесения решения о виновности подсудимого, отбросив соображения о том, что ему грозит по закону не соответствующее, по их мнению, наказание.
Далее И. Г. Щегловитов перешел к напутственному слову, с которым председатель суда обращается к присяжным заседателям перед уходом их в совещательную комнату для вынесения вердикта. Правительствующий сенат разъяснил, что председательствующий должен быть совершенно беспристрастным и не должен обнаруживать перед присяжными заседателями своего мнения о виновности или невиновности подсудимого. Вместе с тем он должен помнить, что неправильное разъяснение, сделанное присяжным заседателям, влечет за собой отмену их решения.
Таковы те условия, которые необходимо соблюдать при судебном рассмотрении.
НЕБЫВАЛОЕ ДЕЛО ОБ АДВОКАТАХ

Зимой 1910 г. Санкт-Петербургский окружной суд рассматривал редкий, много нашумевший уголовный процесс. На этот раз на скамье подсудимых оказались сами адвокаты — присяжные поверенные Л. А. Базунов и Г. С. Аронсон. Дело возникло из-за оговора некой Ольги Штейн, прославившейся своими эксцентричными, далеко не безупречными проделками. Имея чересчур легкомысленный взгляд на чужую собственность, эта особа под разными предлогами обирала доверчивых людей. Обманным путем она присвоила десятки тысяч рублей, но в конце концов все ее проделки обнаружились и преступница была привлечена к уголовной ответственности. Слушание дела началось 29 ноября 1907 г. В качестве своих защитников Ольга Штейн пригласила присяжных поверенных Пергамента, Базунова и Аронсона. Однако в ходе судебного следствия, тянувшегося несколько дней, выяснилось, что против Штейн возникают еще новые обвинения в подлогах и хищениях. Поэтому 3 декабря защитники нашли необходимым ходатайствовать перед судом о направлении этого дела на доследование. Суд тем не менее не согласился с их доводами и решил продолжать рассмотрение дела. Улики против Ольги Штейн были настолько веские, все складывалось для нее так неблагоприятно, что сомневаться в решении присяжных заседателей не приходилось. Ее ожидал обвинительный вердикт. Защита была бессильна. Беспечная великосветская жизнь осталась в прошлом. Впереди замаячили мрачные тюремные стены. Штейн не в силах была примириться с ожидавшей ее участью и, воспользовавшись первым удобным случаем, бежала за границу. Розыскать ее удалось уже в Нью-Йорке благодаря перехваченным письмам и телеграммам, и по требованию русских властей она была выдана правительством Северо-Американских Соединенных Штатов. Через год после первого рассмотрения дела состоялся новый суд, приговоривший Штейн к заключению в тюрьму на один год и четыре месяца с лишением всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ. Между тем на допросе по возвращении ее из Америки она объяснила, что будто бы бежать за границу уговорили ее адвокаты Пергамент, Базунов и Аронсон, причем в этом деле содействовал также и ее возлюбленный — бывший корабельный инженер Е. Шульц. По словам Штейн, присяжный поверенный Пергамент прямо говорил ей, что «русское правительство не стоит того, чтобы отдаваться ему в руки». Инженер Шульц, со своей стороны, подтвердил оговор Ольги Штейн, и в результате все ее бывшие защитники волей судьбы превратились сами в обвиняемых. Присяжный поверенный Пергамент, высоко ставивший принципы чести, не перенес неожиданно разразившегося над ним удара и на другой день после предъявления ему обвинения покончил жизнь самоубийством. Перед судом, таким образом, предстали только Л. А. Базунов и Г. С. Аронсон, а также Е. Шульц как соучастник в подготовке побега Ольги Штейн. Защитниками с их стороны выступали: присяжные поверенные М. Г. Казаринов (за Базунова), А. В. Бобрищев-Пушкин (за Аронсона) и член Государственной думы Замысловский (за Шульца). Обвинение поддерживал товарищ прокурора Савич.
Заседание суда открылось оглашением данных обвинительного акта, после чего председательствующий сделал обычный опрос обвиняемых. Из них никто не признал себя виновным.
Вот как объяснил происшедшее Шульц.
По его словам, когда он познакомился с Ольгой Штейн, она жила на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, имела избранный круг знакомых. В гостях у нее бывал даже бывший обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев, заезжали к ней и другие высокопоставленные лица. Но вскоре над ней стряслась беда: один за другим ей стали предъявляться гражданские иски, было открыто уголовное дело, ей стал грозить тюремный арест. Однако благодаря содействию Победоносцева дело ограничилось простым домашним арестом. Первоначально Штейн пригласила своим защитником присяжного поверенного Марголина, который выговорил у нее вперед 4000 рублей гонорара. Затем, когда этот адвокат скоропостижно умер за границей, ей предложил свои услуги Г. С. Аронсон, потребовав при этом, чтобы она еще до суда удовлетворила претензии своих кредиторов. На это ушло свыше 20 000 рублей, но после Шульц узнал, что кредиторы получили свои деньги от адвоката далеко не полностью. Желая избегнуть грозящей ей уголовной ответственности, Штейн обратилась за помощью к присяжному поверенному Базунову, имеющему солидный опыт и хорошо разбирающемуся в юридических тонкостях, а затем пригласила и Пергамента. Оба адвоката также взяли у нее в виде гонорара еще до суда 3000 рублей, уверив ее, что она может вполне рассчитывать на оправдание. Шульц утверждал, что все три адвоката часто бывали на даче у Штейн, распивали дорогое вино и целовали ей руки. После, однако, оптимистическое настроение защитников Штейн резко изменилось, они стали мрачно смотреть на будущее и старались насколько возможно затянуть дело своей клиентки.
3 декабря 1907 г., когда заседание суда было прервано, Шульц застал свою возлюбленную в комнате совета присяжных поверенных. Она была расстроена, плакала и обвиняла своих адвокатов в плохой защите. Встревоженный Пергамент вышел с нею во двор, а Аронсон стал упрашивать ее: «Милая, голубушка, уезжайте, пожалуйста, и спасайте себя!» Напуганная Штейн решилась последовать этому совету, тем более что Пергамент обещал исходатайствовать для нее высочайшее помилование. Сам Шульц, по его словам, был против побега своей возлюбленной и, когда она уехала из Петербурга, с горя познакомился на улице с двумя какими-то девицами и стал кататься с ними на автомобиле.
Однако показания вызванных в суд свидетелей противоречили тому, что рассказал Шульц.
Помощник присяжного поверенного Гурлянд отозвался о покойном Пергаменте с самой хорошей стороны, аттестовав его как доброго и мягкосердечного человека, у которого Шульц неоднократно вымогал под различными предлогами деньги. Своей активной деятельностью в Государственной думе Пергамент нажил немало политических врагов и считал, что оговор его со стороны Штейн и Шульца был инспирирован именно ими. В связи с этим он очень сожалел, что из-за него ни за что ни про что страдают его сотоварищи по защите.
Присяжный поверенный Гольдштейн охарактеризовал обвиняемого Базунова как человека, имеющего безупречную репутацию. В последние годы благодаря своим выдающимся качествам он занимал почетный пост товарища председателя совета присяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной палаты.
Хорошо отзывались также и об Аронсоне, про которого было известно, что временами он не только ничего не получал с клиентов, но даже и сам давал им деньги, когда видел их бедственное положение.
Зато о самом Шульце один из свидетелей, штабс-капитан Франк, сказал, что он «флюгер, безалаберный человек, лгун и без царя в голове». Аттестация более чем нелестная…
Судебно-медицинская экспертиза в отношении Шульца также пришла к неутешительным выводам. Она отнесла его к типу людей, имеющих несносный характер и с трудом терпимых в обществе. Такие люди неуравновешенны, сумасбродны, и жизнь их полна всевозможных противоречий. От них можно ожидать всяких неприятностей, и с ними всегда следует держаться осторожно.
По окончании судебного следствия слово было предоставлено представителю обвинительной власти.
Охарактеризовав Ольгу Штейн как героиню бульварной прессы, товарищ прокурора перешел к подробному анализу данного дела, разобрал все улики против подсудимых и признал вменяемое им в вину преступление доказанным. Речь его продолжалась с перерывами около шести часов. В ней он уделил большое внимание не только подсудимым адвокатам, но и самой адвокатуре. По его словам, великий дар речи, Божий дар, эти люди обратили на недостойное правосудия дело — на усыпление чуткой совести судей. Состязательность процесса многие адвокаты понимают в том смысле, что на них лежит обязанность оправдать своих клиентов во что бы то ни стало, и только судебные власти считают себя обязанными устанавливать обстоятельства, изобличающие обвиняемых и их оправдывающие. Между тем с точки зрения нашего закона адвокатура есть составная часть судебного ведомства. В присяге, которую принимает каждый присяжный поверенный, указывается, что лицо, принимающее на себя эту почетную обязанность, должно исполнять в точности и по крайнему разумению законы Российской империи. Подсудимые Аронсон и Базунов присягнули не делать ничего противного законам империи и интересам религии, оказывать уважение суду, и если теперь они изобличены в том, что способствовали в противозаконном укрывательстве подсудимой от суда и наказания, то звание присяжного поверенного не освобождает их от ответственности. «Поэтому, — отметил обвинитель, — подсудимые не только совершили преступление против закона, но и нарушили профессиональный долг. Самое прискорбное в настоящем процессе есть то, что люди, которым вверены интересы правосудия и которые вооружены для этой цели известными правами, эти люди свои права и обязанности поняли неверно и пользуются ими не для правосудия, а против него». И в заключение, обращаясь к присяжным заседателям, он сказал: «Мне хочется верить, что самый ценный институт судебных уставов — суд присяжных заседателей — окажется и ныне на высоте. Глубоко веря, что, каковы бы ни были стремления исказить доказательства и отвлечь внимание ваше от сути дела, вы все-таки останетесь на той высоте судейского беспристрастия, которую предполагал в вас законодатель, я прошу у вас, господа присяжные заседатели, правосудного приговора».
В защиту Шульца выступил член Государственной думы За-мысловский. Цель его пространной речи — вызвать сочувствие присяжных к своему клиенту. Он подчеркнул, что его клиент жил с Ольгой Штейн как с женой, горячо любил ее и неудивительно, что в конце концов был порабощен ею и всецело поддался под ее влияние. Если он и содействовал побегу любимой женщины, отуманенный страстью к ней, то после, одумавшись, глубоко раскаялся в содеянном. Он слишком много выстрадал, и поэтому присяжные заседатели должны с участием отнестись к его судьбе.
Защитник Л. А. Базунова, присяжный поверенный Казаринов, начал свою речь с указания на то, что настоящее дело в юридической практике является небывалым как по сущности обвинения, так и по той обстановке его, какая выяснена судебным следствием. Три адвоката будто бы убедили свою клиентку бежать от суда и наказания. Суд — это храм справедливости, а адвокат — один из жрецов его. Если адвокат убеждает своего клиента обмануть суд — значит, он изменяет Богу, которому служит.
Какие же соблазны отуманили разум, какая душевная буря смутила сердца обвиняемых, этих умудренных опытом жрецов храма правосудия? Ведь чем необыкновеннее преступление, тем более вескими должны быть мотивы для его совершения, чем ближе человек по профессии своей стоит к сфере закона, тем сильнее должен быть толчок, перебрасывающий его к другому полюсу, в область преступления.
Какие мотивы могли руководить адвокатами? О том, чтобы они, подпав под неотразимое обаяние светлой личности обвиняемого, задались мыслью во что бы то ни стало спасти его от суда как невинно преследуемого, не может быть и речи. Здесь не было идейного мученика. Здесь была женщина, обвинявшаяся в преступлениях корыстного свойства, заслуживающая, быть может, сострадания, но ничуть не в большей мере, чем всякий другой обвиняемый.
Предположение, что несимпатичность дела Ольги Штейн могла побудить адвокатов уговорить ее бежать от суда, несостоятельно, так как такого мотива для адвоката вовсе и быть не могло в силу той аксиомы адвокатской этики, что всякая защита является задачей высокой и благородной.
Столь же несерьезно и утверждение о том, что адвокаты не были достаточно подготовлены к защите Ольги Штейн, а потому склонили ее к бегству. Один опытный французский адвокат хвалился, что для подготовки к любому уголовному делу ему достаточно четырех часов. Пожалуй, этого времени все-таки мало. Но если для судьи, ведущего дело в течение пяти дней, достаточно этого времени, чтобы во всем разобраться и решить судьбу обвиняемого, то и для такого опытного и талантливого адвоката, как Базунов, вполне достаточно тех же пяти дней, чтобы продумать защитительную речь. Между тем дело Штейн находилось у присяжных поверенных Аронсона, Базунова и Пергамента более полугода, по этому делу устраивались неоднократные совещания и Аронсон был в курсе всех денежных расчетов с потерпевшими, так как сам их производил. Ясно, что о недостаточной подготовке адвокатов к делу не может быть и речи, а следовательно, и подобного мотива для удаления клиента быть не могло.
Может быть, адвокатами руководил страх перед ожидавшимся обвинительным приговором?
Но нет! Как ни скорбит сердце адвоката за участь клиента, эта скорбь — скорбь спокойная, она лишь отражение страдания клиента, не имеющее ни остроты, ни мучительности непосредственного чувства, испытываемого самим подсудимым. Это не ужас перед грядущим наказанием, не тоска по разбитой жизни, не стыд публичного позора, не весь тот аккорд страданий, мощно и бурно звучащий в душе обвиненного, а только сочувствие, возбуждаемое созерцанием чужого горя. И в тяжкие минуты отчаяния обвиненного клиента адвокат является его лучшим утешителем, он успокаивает его, как врач пациента, которому предстоит операция. Если клиент захочет бежать отнаказания, как робкий больной от операции, адвокат приведет ему доводы всей безрассудности такого бегства не только с моральной, но и с чисто практической стороны. Он убедит его в том, что та якобы свобода, которую он обретет в этом случае, всего лишь мираж, что свобода изгнанника, вынужденного прятаться, скрываться и голодать, хуже для него любой кары, налагаемой уголовным законом. Сотней доводов успокоит адвокат своего клиента, рассеет преувеличенные страхи, ободрит, вдохнет мужество на перенесение страданий, докажет, что эти неведомые страдания страшны и грозны только издали и что тысячи людей шли на них и затем возвращались воскресшие духом, обновленные, примиренные с людьми и своей совестью.
Нельзя также подозревать в этом и материального расчета. Бегство Ольги Штейн за границу не только не приносило выгоды адвокатам, но, напротив, влекло за собой явный ущерб для их интересов.
«Я пытался, господа присяжные заседатели, найти хоть какой-либо мотив, который мог побудить адвокатов склонить Ольгу Штейн к бегству, — продолжал М. Г. Казаринов, — но не нахожу. А между тем, чтобы подвинуть трех человек на поступок недобросовестный, дерзкий, преступный, необходимы сильные душевные движения, нужен ураган, чтобы сбить с пути, опрокинуть целую флотилию, хорошо оснащенную и приспособленную для плавания по бурным волнам житейского моря, снабженную для устойчивости грузным балластом всесторонних знаний и долголетнего опыта жизни.
Что, спрошу я, могло заставить Базунова изменить своим взглядам, принципам своей двадцатипятилетней деятельности? Или, быть может, долг, совесть, любовь к делу, вера в свой труд, уважение к закону, к правде, к суду, к себе — все это одни пустые слова, осыпающиеся, как осенние листья, при первом дуновении каких-то неуловимых, никому не понятных настроений?
И куда же исчез у Базунова, у Пергамента, этих, по мнению господина обвинителя, глубоких знатоков души человеческой, простой здравый смысл? Как не сообразили они, что если бегство от суда вообще средство неразумное, то для Ольги Штейн это совершенно безрассудная затея, так как она привыкла к роскоши, блеску, шумным похождениям, к игре на быстринах и водоворотах жизни, у самых острых подводных камней? Как не поняли они, что скромное, бесшумное прозябание где-нибудь в глуши, в укромном углу, не для Ольги Штейн, она на это органически не способна, и что ее поимка неизбежна в самом скором времени?
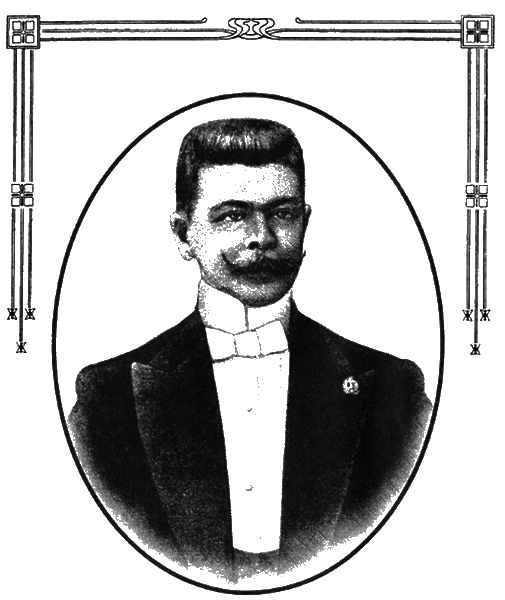
КАЗАРИНОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1866 г. в Петербурге. Образование получил в Санкт-Петербургском университете. На поприще адвокатуры вступил в 1890 г. Из наиболее выдающихся дел, в которых он участвовал как защитник, заслуживают внимания процесс об адвокатах (участие в побеге Ольги Штейн), дело о расхищении наследства купчихи Пискуновой, процесс над дворянкой Элеонорой Певцевич (вовлечение в невыгодную сделку) и многие другие. Известен как опытный юрист.
(Данные приведены на 1910 г.)
У кого же могла зародиться мысль о побеге? Конечно, только у самой Ольги Штейн. Она, бесспорно, догадывалась, какое наказание ждет ее. Из ее переписки видно, как мучительно рвалась она на свободу еще тогда, когда на время следствия ее препроводили в дом предварительного заключения. «Свободу, только свободу выхлопочи мне, — пишет она Шульцу, — об остальном не заботься, остальное все само придет». Она была выпущена, вновь вернулась к радостям свободной жизни и наслаждалась ими, отдаляя всеми способами тяготевший над нею судебный процесс. Но дни ответа настали. Заседание, тянувшееся несколько дней, показало, что ее шансы избежать наказания ничтожны. Положение было угрожающее, ей вновь грозили каменные объятия тюремного заключения. В душе Ольги Штейн поднялись смятение и буря. Изворотливый ум искал выхода из создавшегося положения и вскоре нашел его. Вся жизнь этой женщины и раньше была сплошным метанием, сплошным бегством от долгов, кредиторов, судебных приставов, от власти, от закона. Казалось, и теперь выход прост и легок — бежать. Ее неудержимо манила к себе необъятная даль играющего светом и соблазном мира. И что могло ее сдержать? Моральные принципы, сознание своей вины, потребность искупить ее, успокоить наболевшую совесть? Увы, такой потребности у Ольги Штейн не было. Напротив, она считала себя несчастной жертвой ростовщиков, обстоятельств, окружающей среды, своего легкомыслия, доброты и черной людской неблагодарности. В этом она была убеждена бесповоротно и, — кто знает? — быть может, в известной мере была права. Эта уверенность в своей невиновности сквозит в ее письмах к Пергаменту и Шульцу. «Все здесь, — пишет она из Америки, — того же мнения, что я жертва моего легкомыслия, что судить надо не меня, а тех, кто довел меня до такого положения…» «Я чиста, я всем желаю только добра, а судьи — палачи, не желающие выслушать моих оправданий» — вот убеждения, высказываемые Ольгой Штейн чуть не на каждой странице ее писем. Был и еще один мотив для побега Штейн, наиболее важный. Это та безумная любовь к Шульцу, которая охватила сердце стареющей светской львицы. «Для него, — пишет она в письме из Нью-Йорка, — я всем пожертвовала, из-за него потеряла ребенка, которого обожаю, потеряла человека, который обладал миллионами и хотел на мне жениться». Каких же жертв еще можно требовать от женщины в доказательство ее любви? На суде читались письма Ольги Штейн к Шульцу из одиночной кельи предварительного заключения. Эти письма — сплошной стон исходящего тоской любящего сердца, клокотание страсти, доводящей до бреда. Ее письма из Америки — тот же несущийся через океан крик страстной любви, призыв к Шульцу, чтобы он спешил к ней для любви, для счастья, для совместной жизни, для совместной смерти. В жизни Ольги Штейн любовь к Шульцу становится доминирующей темой, назойливой и неотвязчивой, мучительной и властной, как вагнеровский лейтмотив. Эта любовь и является главным мотивом бегства. Что ожидало Ольгу Штейн в случае обвинения? Заключение, и, быть может, долголетнее, арестантский халат, забранное решеткой оконце, щелканье дверного замка… Ведь это смерть любви, смерть всему, чем живет женское сердце! И она бежит, уговорившись с Шульцем, что тот последует вскоре за ней. Но сердце ее не могло вытерпеть ожидания, и, уже переезжая границу, она нервно шлет Пергаменту телеграмму за телеграммой: «Умоляю, пришлите мальчика… Когда же приедет мальчик… Умоляю, телеграфируйте, иначе вернусь обратно». Так, забывая о себе, она легкомысленно рассыпает на каждой телеграфной станции неизгладимые следы своего маршрута. Но «мальчик» не едет..! Она тщетно умоляет его в ряде писем, напоминает ему: «Ведь я только и уехала в надежде, что буду с тобой… Ты помнишь, ты сказал, что умрешь со мной вместе…» И далее: «Помнишь, я подумала, лучше временная разлука, чем отдаться в руки палачам, приезжай, все будет по-твоему, и деньги всегда будут, я все сделаю, что нужно. Приезжай, без тебя мне не надо свободы!» Мечтам Ольги Штейн не суждено было сбыться. Переписка с Шульцем, обнаруженная властями, выдала ее местопребывание. Она была возвращена в Россию и осуждена. Правосудие свершилось». Затем защитник коснулся памяти Пергамента, для которого дело Штейн оказалось поистине роковым. Покой, звание адвоката, звание члена Государственной думы, репутация — все оказалось в опасности. И он не выдержал. Минуя суд земной, предстал перед тем верховным трибуналом, где всем предстоит держать ответ за свои прегрешения, вольные и невольные. Относительно Базунова защитник говорил, что, если бы даже он и видел, что его клиентка готовится сбежать от суда, он все-таки ничего не мог бы предпринять против этого. Положение защитника обвиняемой обязывало его к молчанию. Адвокат не вправе выдавать тайны своих клиентов. И закон, и совесть запрещают ему это. Эта обязанность молчать не может быть нарушена даже в том случае, если способствует безнаказанности, торжеству преступления, пользованию его плодами. Убийца, поведавший адвокату или священнику, что он действительно убил, указавший, где зарыт труп, где спрятаны награбленные деньги, может спокойно жить и пользоваться плодами преступления, зная, что ни адвокат, ни священник не станут его обличителями. Скажут, это зло. Пусть так, но это зло, этот вред — лишь ничтожная капля по сравнению с тем морем зла, которое хлынуло бы на человечество, если отнять у него веру в тайну исповеди, в тайну врачебную, адвокатскую. Это значило бы обречь человека на вечное ношение в себе нераскрытых гнойников духовных недугов, превратить церковь в западню и подорвать к служителям ее присущее их званию доверие. Адвокат нужен гражданам для защиты их имущества, чести и жизни. Закон и государство утверждают его в этом звании, скромном и вместе с тем высоком по назначению. И чтобы он мог достойно выполнить свою задачу, ему необходимо безграничное доверие клиента, а доверие не может быть там, где нет уверенности в сохранении тайны. Без нее немыслима сама профессия. Многим нападкам подвергается адвокатура, и многие из них, быть может, справедливы, ибо чем выше что-либо по своей идее, по основному назначению, тем большей порче и извращениям подвергается оно в руках человеческих. Все подвержено уклонению от нормы, болезням, но важно, чтобы не поражался самый жизненный нерв организма. Адвокатов упрекают в том, что они растрачивают деньги своих клиентов. Это грустно, это, конечно, пятнит сословие, но нарушение тайны, доверенной клиентом, явилось бы посягательством на те реликвии, во имя которых сам храм заложен. Всякая корпорация несет на себе не только одни пороки прошлого, но и его достоинства. Наследуют не одни только долги, но и накопленные веками ценности. Адвокатура также имеет великое, почетное прошлое. Во все времена у всех культурных народов адвокатуре и суду был вверен священный киот права и свободы. «Господа присяжные заседатели, — закончил свою речь присяжный поверенный Казаринов, — мне не приходится доказывать, что мой подзащитный — чистый человек. Все, что происходило здесь, на суде, говорит о незапятнанности и выдающихся достоинствах Базунова. Грустно думать, что на склоне лет судьба бросила его на скамью подсудимых. Странная судьба! Всю свою жизнь, все силы ума, знаний и таланта человек посвятил служению обществу, и теперь здесь, в уголовном суде, обществу предлагают свести с ним счеты!.. Я не сомневаюсь, вы сумеете воздать ему по заслугам». Последним с защитной речью выступил адвокат Г. С. Аронсона. «Не ответ держать мы пришли сюда, — начал свое выступление присяжный поверенный А. В. Бобрищев-Пушкин, — мы пришли привлечь наших обвинителей к ответу. Мы не дети, и сущность этого процесса нам очень хорошо понятна. Существует свободное сословие. Уже давно обладает оно всем, чем недавно стали было пользоваться русские обыватели. Есть у него право союзов, право собраний, было до последнего времени и право свободного голоса. Заря русской гражданственности не застигла его врасплох. Когда схлынули высоко поднявшиеся волны, оно сохранило свои позиции. Когда обывателя берут за горло, гражданин адвокат оказывает ему помощь… (Председательствующий останавливает защитника.) Господин прокурор говорил, что у нас в России куда лучше, чем за границей, что там — капиталистический строй, что личность там — ноль. Не знаю. Переедет границу русский присяжный поверенный, придет в суд, подаст свою карточку, скажет: «Я — присяжный поверенный», и его проведут с почетом на первые места. Вернется сюда, скажет: «Я — присяжный поверенный», и его тоже проведут на самое «первое» место — на скамью подсудимых. Что ж, нет худа без добра. На скамье подсудимых — русские граждане. Посмотрим, как они будут защищаться. Их зашита будет достойной. Лучшим средством привлечь к ответу обвинение будет дать на него спокойный ответ, доказать всю его юридическую и фактическую несостоятельность. Тогда будет ясно, для чего оно создалось». Попутно Бобрищев-Пушкин коснулся формулировки обвинения и указал на то, что представитель обвинительной власти всячески старался очернить адвокатуру, но все усилия его остались тщетными. Относительно Аронсона защитник уверен, что он ничем позорным не запятнал свое имя и с поднятой головой вернется в свою корпорацию. Что же касается Пергамента, то защита остается при особом мнении. Внезапная смерть Пергамента — это вовсе не улика. Многое после нее осталось невыясненным. За свою излишнюю доверчивость, за свое участие к судьбе Штейн он слишком дорого заплатил — и блестящей, многообещающей карьерой, и целой жизнью. Разбирая и анализируя улики против Аронсона, Бобрищев-Пушкин говорит о том, что даже молчание адвоката в подобном случае не может быть поставлено ему в вину. Если бы, узнав о побеге своего клиента, он донес на него, такого адвоката в 24 часа выгнали бы из сословия. О самом Шульце защитник весьма невысокого мнения. По его словам, это изолгавшийся, беспринципный человек, который всю свою жизнь ложно обвинял всех и каждого. В настоящем деле, считает Бобрищев-Пушкин, прокуратура воспользовалась его услугами, и в результате получился сенсационный процесс с адвокатами в роли обвиняемых. Далее в своей речи защитник опровергал утверждение представителя обвинительной власти о том, что Ольга Штейн могла бежать только с ведома ее защитников и что «без их подстрекательства не мог бы произойти такой всероссийский скандал». «Всероссийские скандалы бывают разные, — заявил Бобрищев-Пушкин, — я не знаю таких, которые были бы по подстрекательству адвокатов, но нам знакомы многие, где адвокаты являются потерпевшими. По-видимому, таким образом хотят на них воздействовать, добиться, чтобы свободное сословие перестало мешать, хотят, чтобы оно склонилось. Напрасный труд. Это Шульц пошел навстречу всем желаниям — стал доносчиком, на что не пошли адвокаты. А адвокаты никогда не станут ничьими сотрудниками… Господин прокурор просил здесь, на суде, правосудного приговора. Разные бывают взгляды на правосудие. Когда сыновей Виктора Гюго французские присяжные заседатели осудили за статью против смертной казни, они тоже думали, что служат правосудию, а Виктор Гюго написал о них: «Правосудие исходит от этих судей, как змея из гробов!» В заключение Бобрищев-Пушкин сказал: «Пусть простят мне дорогие товарищи, если я не оправдал их ожиданий, если силы мои были подавлены громадной ответственностью непосильной задачи, — непосильной, конечно, не в смысле отсутствующих улик, а потому, что надо было от всего сословия дать заслуженный отпор, выразить переполняющее всех негодование. Я закончу теми же словами, которыми начал мой товарищ по защите, чтобы вся она была единым ударом в лицо обвинению. В этом деле обнаружились такие вещи, которые не могут быть предметом ничьей защитительной речи, перед которыми бледнеет все, что вменялось подсудимым в вину. Потому-то так и кипела здесь бессильная злоба. И когда я слышу горькие жалобы на поддержку, которую общество никогда не перестанет оказывать свободному сословию, когда я слышу сомнение в существовании честной печати, я говорю в ответ врагам нашего сословия, кем бы они ни были: «Адвокатура будет существовать всегда, свободная и гордая, она будет существовать, когда от вас не останется и следа!» Наконец предоставляется последнее слово подсудимым. «Все, что я показывал на суде, — чистейшая правда, — говорит Шульц. — В моем поступке я не вижу ничего позорного, но меня все время грязнили здесь… Если я и провожал Ольгу Григорьевну на вокзал, то ведь я же любил ее… Я считал своей обязанностью помочь ей…» «Мое последнее слово! Какая горькая ирония! — восклицает Базунов. — Нет! Это не последнее слово… В этом самом зале я работал 27 лет и видел только одни симпатии к себе. Даст Бог, я еще не раз буду выступать в этом зале…» Волнуясь, говорит присяжный поверенный Аронсон: «За 17 лет моей деятельности я провел массу дел в этом самом зале, я выступал здесь по большим процессам… Теперь же со стороны обвинения меня обдали грязью… Опытные адвокаты, не новички, после этого процесса мы должны прийти к заключению, что все-таки не знали самого главного: нет там равноправия сторон, где над тобой глумятся, а от тебя требуют спокойствия…» В заключение Аронсон обращается к присяжным заседателям с надеждой, что они по достоинству оценят предоставленное на их рассмотрение дело. После резюме председательствующего С. В. Кудрина присяжные заседатели удаляются в совещательную комнату. В долгом, томительном ожидании проходит два часа. Наконец раздается возглас судебного пристава: «Суд идет… Прошу встать!» Старшина присяжных заседателей начинает читать вынесенный вердикт. Присяжные поверенные Базунов и Аронсон оправданы. Шульц признан виновным, но действовавшим в состоянии умоисступления и потому не подлежащим наказанию. Оправданных адвокатов встречают восторженные овации многочисленной публики. Заседание суда окончено.
РОМАН ВРЕМЕН КРЕПОСТНОГО ПРАВА

Началась эта история еще до отмены крепостного права. Некий дворянин Матвей Андреевич Ефимьев, помещик Новгородской губернии, женился в Петербурге на дочери статского советника Вере Гетц и поселился с ней в своем имении, в селе Долоцком Устюженского уезда. Брак оказался не из счастливых. Детей у них не было. Сам же Ефимьев любил кутнуть и вскоре после свадьбы обзавелся любовницей. Произошло это так. Однажды, гостя у своего соседа, помещика Караулова, увидел он в поле молодую крестьянскую девушку, жавшую рожь. Звали ее Екатерина Дмецо-ва. Девушка очень понравилась Ефимьеву. Он позвал ее к себе в комнату, обласкал и сделал несколько ценных подарков. Обновы, в которых вскоре начала щеголять Катерина, сразу были всеми замечены. Заговорили о том, что она стала любовницей помещика. Чтобы прекратить эти слухи, старшая сестра Катерины насильно выдала ее замуж за мещанина Полунина. Однако молодая недолго прожила с нелюбимым мужем. Месяца через три Катерина ушла от него, поселившись на отдельной квартире, нанятой для нее Ефимьевым. Не стесняясь жены, помещик начал открыто жить с молодой крестьянкой, и вскоре от этой связи родился мальчик. Муж Катерины, знавший о ее отношениях с помещиком, отказался признать ребенка своим сыном, поэтому новорожденного объявили подкидышем. Затем мальчика окрестили, назвали Павлом, причем крестным отцом ребенка был помещик Караулов. Около двух месяцев Павлуша оставался в доме матери Катерины, а затем Ефимьев определил ему в няньки свою крепостную Февронью Барсукову, сказав ей: «Иди нянчить моего ребенка», и поселил обоих в квартире Катерины.
Позднее Ефимьев выстроил в УсТюжне большой дом, в котором и стал жить вместе с Катериной, ее ребенком и другой своей любовницей — Елизаветой Проскуряковой. В шестилетнем возрасте сын Катерины, которому была присвоена фамилия Дмецов, был привезен помещиком в Петербург и остался жить в семье его жены. Первоначально она была очень недовольна этим, но ласковый характер ребенка, его поразительное сходство с мужем и потребность любить кого-нибудь привели к тому, что она страстно привязалась к мальчику, полюбила его, как родного сына, и, когда он подрос, отдала в пансион Бидер. Из пансиона Павел Дмецов был переведен в училище при лютеранской церкви св. Петра, а затем поступил учиться в гимназию. Катерина с разрешения помещика несколько раз приезжала из Устюжны навестить сына, да и сама госпожа Ефимьева старалась поддерживать у мальчика любовь к своей родной матери. Заботясь о будущности Павла, супруги Ефимьевы решили усыновить его и обратились с прошением об этом на высочайшее имя. Однако им в этом было отказано. В то же время выяснилось, что классическое образование не по силам Павлуше, и помещик, взяв его из гимназии, стал приучать к торговым делам, а в 1876 г. Павел поступил на военную службу — на правах вольноопределяющегося был определен в лейб-гвардии егерский полк. Год спустя Ефимьев скончался в Устюжне, выписав к себе перед смертью из Петербурга свою жену и незаконного сына. На основании духовного завещания все огромное состояние его в сумме до 300 000 рублей перешло в исключительную собственность Павла Дмецова, который был назван в завещании воспитанником. Став неожиданно богачом, Дмецов оставил военную службу и вместе с вдовой своего отца поселился в Устюжне. Госпожа Ефимьева и после смерти мужа продолжала горячо любить его незаконного сына и в своем завещании отказала в пользу Дмецова все, что у нее было.
В 1878 г. к госпоже Ефимьевой приехала погостить ее старая приятельница Нейлисова, и Павел Дмецов повел их обеих на местное кладбище поклониться могиле Ефимьева. Когда они проходили мимо одной могилы, молодой человек остановил дам и с грустью сказал им, что в этой могиле нашла себе вечный покой его мать-крестьянка.
Через шесть лет после этого в Петербурге умерла вдова генерал-майора А. Н. Бибикова, родная сестра покойного Ефимьева, оставив состояние в 100 000 рублей. Определением Санкт-Петербургского окружного суда в правах на это наследство были утверждены ее дальние родственники, тайный советник П. Митусов и коллежский советник С. Митусов. Между тем прямым наследником генеральши Бибиковой являлся Павел Дмецов как ее родной племянник. В то время, однако, ни он, ни его вторая мать не поинтересовались наследством, перешедшим к дальней родне, и только через шесть лет они вспомнили о нем. К тому времени материальное положение Дмецова сильно изменилось к худшему. Не умея быть бережливым, он спустил не только состояние покойного Ефимьева, но и приданое своей жены.
В 1891 г. вступил в силу новый закон об узаконении детей, прижитых супругами до брака. Дмецов решился воспользоваться удобным случаем и уговорил госпожу Ефимьеву объявить его своим собственным сыном, прижитым будто бы ею с покойным мужем. Убежденная его доводами, она подала в новгородскую консисторию заявление, в котором объяснила, что мещанин Павел Дмецов, записанный в метрике подкидышем, на самом деле есть ее законный сын.
Основанием к сокрытию действительного происхождения его, по словам госпожи Ефимьевой, будто бы послужила ранее беспричинная ревность к ней со стороны мужа. Боясь за ребенка, она поручила своим крепостным подкинуть его к избе старухи Дмецовой, где он и находился некоторое время на воспитании. После, однако, муж узнал о его рождении, взял ребенка к себе в дом и никогда уже не расставался с ним, признавая его своим законным сыном. Сославшись на некоторых свидетелей, госпожа Ефимьева просила консисторию об исправлении метрики Павла Дмецова.
Необходимое дознание по этому поводу было возложено консисторией на устюженского благочинного, протоиерея М. Сахарова, и последний в 1893 г. под присягой допросил указанных госпожой Ефимьевой свидетелей, в том числе Феодосию Закатову и А. Сретенского. Большинство свидетелей удостоверили, что супруги Ефимьевы считали Дмецова своим родным сыном, а жена его крестного отца объяснила, что умерший муж ее, помещик Караулов, однажды по секрету говорил ей, что история с подкидыванием ребенка была просто комедией, так как Дмецов действительно был рожден госпожой Ефимьевой. Феодосия Закатова, в свою очередь, поклялась, что Павел Дмецов был законным сыном госпожи Ефимьевой и что его будто бы нарочно, для отвода глаз, подкидывали к избе старухи Дмецовой.
При рождении Павла, по ее словам, всей прислуге Ефимьевых, в настоящее время уже перемершей, было запрещено называть его сыном госпожи Ефимьевой, и только после он стал жить у своих родителей на правах сына. Тем не менее консистория признала все эти показания недостаточными и оставила ходатайство госпожи Ефимьевой без последствий.
Решение консистории уже не застало госпожу Ефимьеву в живых, но смерть ее не остановила домогательств Павла Дмецова. 9 августа 1893 г. он обратился к архиепископу Новгородскому и Старорусскому Феогносту с просьбой о пересмотре его дела. Согласно резолюции высокопреосвященного, новгородская консистория предложила Дмецову указать таких лиц, которые удостоверили бы под присягой, что они были свидетелями беременности госпожи Ефимьевой в 1858 г. и рождения от нее его, Павла Дмецова. Тогда Дмецов указал на коллежского секретаря А. Веретьевско-го, и последний подтвердил, что Дмецов действительно законный сын Ефимьевых. Отвечая на вопрос, почему же мать решилась подкинуть в чужую семью своего сына, А. Веретьевский объяснил, что при рождении этого ребенка между супругами Ефимьевыми существовала какая-то временная ссора.
Одновременно с этим Павел Дмецов обнаружил действительную цель своих домогательств о признании его законным сыном Ефимьевых. «Почти десять лет тому назад, — писал он 20 февраля 1894 г. высокопреосвященному Феогносту, — умерла моя родная тетка. В первых числах марта настоящего года исполняется десять лет, и если я к этому времени не успею предъявить свои права в Санкт-Петербургский окружной суд, то имение ее поступит в казну за неимением наследников». Все-таки и на этот раз духовная консистория нашла, что возбуждение данного дела уже после смерти дворянина Ефимьева и ближайших свидетелей порождает немалое сомнение относительно происхождения Павла Дмецова от Ефимьевых, и отказала ему по-прежнему в исправлении метрической записи.
В то время, как Дмецов хлопотал перед консисторией с целью объявить себя племянником умершей генеральши Бибиковой, к ее наследникам Митусовым был предъявлен иск о возврате полученного ими наследства. Оказалось, что объявились еще три новых наследника — некие Корсаковы, которые приходились более близкими родственниками покойной генеральше, чем Митусовы. Зная, в каком положении находится дело об этом спорном наследстве, Павел Дмецов, не смущаясь вторичным отказом консистории, обратился в Санкт-Петербургский окружной суд с особым заявлением. Утверждая, что он законный сын дворян Ефимьевых и, следовательно, родной племянник покойной Бибиковой, Дмецов просил окружной суд приостановить дело о правах на ее наследство впредь до окончательного решения духовного суда о его происхождении, а также о допущении его в это исковое дело в качестве третьего лица и о признании за ним исключительного права на наследство. Но и здесь Дмецова постигла неудача. Корсаковы и Митусовы вступили между собой в мировую сделку, и суд, прекратив возбужденное по их иску дело, вместе с тем отказал Павлу Дмецову в его просьбе.
Однако и это не остановило Дмецова. Он принес жалобу в 1-й департамент Санкт-Петербургской судебной палаты, но жалоба его была оставлена без последствий. Тогда Дмецов обратился с жалобой в правительствующий сенат, и тот, отменив определение судебной палаты, передал дело во 2-й департамент той же палаты. 31 марта 1897 г. судебная палата, в свою очередь, отменила решение окружного суда и предписала ему дать законный ход исковому прошению Павла Дмецова. В том же году, 17-го мая, Дмецов обратился в VII отделение Санкт-Петербургского окружного суда с прошением о признании законности его рождения и об исправлении метрической записи. Повторяя известные уже причины, почему он долгое время числился подкидышем, Дмецов просил окружной суд допросить под присягой нескольких свидетелей, знавших о его происхождении. Окружной суд уважил эту просьбу и 10 октября 1897 г. после привода к присяге допросил предоставленных Дмецовым свидетелей Шарухина, Барсукову, Денисову, Караулову, Сретенского, Веретьевского и Укладникова, которые дали благоприятные для Дмецова показания, доказывавшие несомненное происхождение его от госпожи Ефимьевой. Ввиду этого окружной суд определил признать мещанина Павла Дмецова законным сыном дворян Ефимьевых, а 17 декабря он уже выхлопотал исправленную метрику и представил ее в IV отделение суда, где находилось в производстве дело о признании за ним прав на наследство после генеральши Бибиковой.
Тогда Митусовы, видя, что дело повернулось в неблагоприятную для них сторону, предъявили к Дмецову-Ефимьеву встречный иск о признании его незаконнорожденным. Окружной суд, однако, вынес решение в пользу Дмецова-Ефимьева и обязал Митусовых возвратить ему все полученное ими по наследству имущество госпожи Бибиковой.
В результате 7 января 1900 г. С. Митусов обратился к прокурору Санкт-Петербургской судебной палаты с заявлением, что решение окружного суда, признавшего Дмецова законным сыном дворян Ефимьевых, было основано на ложных свидетельских показаниях. На основе этого заявления началось предварительное следствие, в ходе которого удалось обнаружить, что Павел Дмецов на самом деле происходил от незаконной связи помещика Ефимьева с крестьянкой Екатериной Дмецовой, по мужу Полуниной. Вместе с тем выяснилась и ложность свидетельских показаний о происхождении Дмецова. На основании этого Павел Дмецов был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в присвоении себе не принадлежащих ему прав состояния и в подстрекательстве посторонних лиц к даче ложных показаний, а оставшиеся в живых Барсукова, Денисова, Сретенский и Веретьевский — по обвинению в л жесвидетел ьствован и и.
Дмецов не признал себя виновным и настаивал на том, что он действительно законный сын дворян Ефимьевых. По его словам, сама госпожа Ефимьева говорила ему об этом, и он вполне искренно считал ее своей родной матерью, тем более что и помещик Ефимьев никогда не разубеждал его в этом и оставил даже ему все свое состояние.
Из остальных обвиняемых в лжесвидетельствовании сознались только Денисова и Барсукова. Первая объяснила на допросе, что, не зная о действительном происхождении Дмецова, она ложно удостоверяла рождение его от госпожи Ефимьевой только потому, что и другие свидетели точно так же говорили на суде. Барсукова же сказала, что она хорошо знает о рождении Дмецова крестьянкой Катериной, хотя тем не менее на суде по настойчивой просьбе его она дала ложное показание. По объяснению этой свидетельницы, Павел Дмецов обещал со временем хорошо отблагодарить ее за содействие и успокаивал словами: «Не бойся, если что будет не так, я отвечу сам».
Что касается Веретьевского и Сретенского, то они решительно отрицали свою виновность. Первый из них объяснил, что он действительно считал Дмецова законным сыном дворян Ефимьевых, хотя и не присутствовал при его рождении. В таком же смысле он дал показания и под присягой, а если что и прибавил в пользу Дмецова, то, вероятно, по забывчивости. Другой обвиняемый оправдался тем, что он показал под присягой лишь происхождение Дмецова от помещика Ефимьева, но кто была его мать — он не говорил, так как и сам не знал этого.
Помимо того, на предварительном следствии выяснилось, что и Феодосия Закатова при производстве духовной консисторией дознания в 1893 г. также давала ложные показания о происхождении Дмецова. После она призналась, что дать такие показания упросила ее покойная Ефимьева, с которой она прожила вместе около 35 лет. Когда она заметила: «Да ведь всем известно, что Дмецов не ваш сын», Ефимьева возразила на это: «Он мой сын. Никто не стоял у моих ног, когда я рожала его». Уважая ее, Феодосия Закатова решилась на ложное показание, хотя и знала об истинном происхождении Дмецова.
Дело это рассматривалось в марте 1902 г. Санкт-Петербургским окружным судом с участием присяжных заседателей. Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Зиберт. Защищали подсудимых присяжный поверенный Андреевский, помощник присяжного поверенного Гольдштейн, присяжный поверенный Базунов и др. Интересы Митусовых, возбудивших настоящее дело, поддерживали присяжные поверенные Аронсон и Слиозберг.

АНДРЕЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ
Родился в декабре 1849 г. Отличаясь разносторонним образованием, завоевал известность как талантливый юрист и замечательный оратор. Начал свою деятельность товарищем прокурора Санкт-Петербургского окружного суда, затем перешел в корпорацию присяжных поверенных. Кроме того, он занимал видное место в русской литературе как поэт и критик. Почти во всех его стихотворениях сквозит некоторое разочарование и неудовлетворенность жизнью. Андреевский выступал как защитник на многих известных процессах, в том числе по делу Дмецова-Ефимьева, и всегда привлекал к себе всеобщее внимание своими прекрасными выступлениями в защиту обвиняемых. По праву считается корифеем русской адвокатуры.
(Данные приведены на 1910 г.)
Из обвиняемых самый молодой Павел Дмецов, 43 лет, представляющий собой характерный тип помещика «доброго старого времени». Денисова и Барсукова — старушки 60–65 лет, хорошо еще помнящие суровое крепостное право. Веретьевский и Сретенский — два почтенных старца, 65–75 лет, патриархальной наружности, с длинными седыми бородами. На суде никто из обвиняемых не признал себя виновным. — Я действительно законный сын покойного дворянина Ефимьева, — утверждал главный подсудимый. — Нет, не виноваты… Чистую правду показывали, — настаивали остальные подсудимые, обвинявшиеся в лжесвидетельстве. Публика в зал суда допускалась только по билетам. В числе свидетелей вызван был также товарищ министра финансов В. Н. Коковцов. Вначале суд опросил господина Мамонтова, женатого на двоюродной племяннице покойного помещика Ефимьева. Свидетель заявил, что у госпожи Ефимьевой, которую Дмецов выдает за свою родную мать, никогда не было детей. Она была больная женщина и жила отдельно от своего распутного мужа, который обзавелся целым гаремом. Дмецова свидетель знал еще мальчиком и редко видел его у Ефимьевых. Все считали его незаконным сыном помещика, но после смерти последнего он стал вдруг полным хозяином в его доме. Ходили слухи, что Дмецов после уговорил госпожу Ефимьеву ходатайствовать о признании его законным сыном. Однако потом он плохо обращался с ней, и ослепшую в последние годы вдову Ефимьеву преданная ей прислуга похоронила чуть ли не на свои скудные средства. Мировой судья Н. А. Окунев также рассказал, что никто не сомневался в действительном происхождении Павла Дмецова. Он был незаконным сыном крестьянки Екатерины, по мужу Полуниной, и самого Ефимьева. Тем не менее его любили и помещик, и его больная бездетная жена. Из прочитанного показания княгини Святополк-Мирской суду стало известно, что покойная В. К. Ефимьева в минуту раздражения говорила как-то, указывая на мальчика Дмецова: «Из хама не будет пана». Она же заставляла его иногда писать письма своей матери, бывшей крестьянке Екатерине Полуниной. На суде было также зачитано показание не явившейся на суд свидетельницы А. Н. Мамонтовой, двоюродной племянницы покойного помещика Ефимьева. При посещении его семьи она видела иногда небольшого скромного мальчика. По-видимому, он не был близким членом семьи, сама госпожа Ефимьева говорила про него, что он крестник мужа. Мальчик никогда не называл ее мамашей, проводил время обыкновенно где-то в дальних комнатах и не садился за стол вместе с Ефимьевыми. Когда он жил уже в Петербурге, его изредка навещала крестьянка Дмецова, которую все считали его матерью. Тем не менее мальчик был очень похож на помещика-ловеласа, и жена последнего уклончиво выражалась, что ребенок ничем не виноват, если появился на свет Божий незаконнорожденным сыном ее мужа. Из других свидетельских показаний выяснилось также, что позже, когда бездетная помещица полюбили мальчика, ее муж делал попытки узаконить его, но безуспешно. Товарищ министра финансов В. Н. Коковцов рассказал, что ему приходилось одно время навещать Ефимьевых и он действительно видел у них мальчика, которого называли Павлушей. На его расспросы, что это за мальчик, госпожа Ефимьева давала неопределенный ответ, и свидетель считал его простым воспитанником, тем более что у помещика никогда не было своих детей. Однако из оглашенной на суде переписки Ефимьевой с Павлом Дмецовым видно, что она питала к нему в 70-х годах родительские чувства, называла милейшим сыном и вообще проявляла чрезвычайную нежность в обращении на письме. По словам священника Лебольского, посещавшего Ефимьевых около десяти лет, он за все это время не видел какого-либо мальчика, которого они называли бы своим сыном. Да и они не говорили никогда об этом, поэтому священник твердо убежден, что родных детей у В. К. Ефимьевой не было. Случайно от другого священника он узнал, что какая-то крестьянка Екатерина родила от любовной связи с помещиком ребенка и его окрестили Павлом. Сама Ефимьева, как следует из показания дочери генерал-майора В. К. Соколовой, была очень доброй женщиной, безупречной нравственности и жила с мужем, видимо, хорошо. Детей ей Бог не дал, и она отдавала свою любовь чужим детям. Муж ее был, что называется, хороший хлебосол старых порядков, любил широко пожить и отличался редким гостеприимством. Когда он привез в Петербург Павла Дмецова, мальчику шел уже девятый год. Своим сыном оба они в то время его не называли, выдавая лишь за воспитанника. Вдова статского советника Л. Н. Окунева утверждала, что, по общему мнению, Павел был рожден одной из многочисленных любовниц помещика. Привезя Дмецова в Петербург, помещик говорил своим знакомым, что мальчик сирота и что он, Ефимьев, хочет бросить свои кутежи и усердно заняться его воспитанием. Дмецов и сам признавался как-то свидетелю Курбатову, что он незаконнорожденный сын помещика. Спустя некоторое время этот свидетель от кого-то узнал, что будто бы Дмецов был в каком-то трактире и уговаривал нескольких человек засвидетельствовать перед судом о его законном происхождении от дворян Ефимьевых. Ходили также слухи, что из трактира посылали за вексельными бланками и кому-то выдавалось тогда долговое обязательство на 10 000 рублей. Что все это было на самом деле, свидетель утверждать не мог. «Возможно, это лишь пустые сплетни», — считал он. Земский начальник Устюженского уезда Н. А. Колюбакин в своем письменном показании объяснил, что госпожа Ефимьева обыкновенно жила в Петербурге, а муж ее — в Устюжне, где и родился потом Павел Дмецов. Поразительное сходство мальчика с Ефимьевым невольно обращало на себя всеобщее внимание. Как-то почти перед смертью помещик подозвал к своей кровати жену и Павла. «Подожди, Верочка, — сказал супруге, — я скоро поправлюсь, и мы хорошо заживем». Мечтам его не суждено было сбыться. Избранный присяжными заседателями старшиной, профессор Военно-юридической академии генерал-майор В. Д. Кузьмин-Караваев тщательно следил за судебным следствием. От него не ускользала ни одна малейшая подробность дела. Часто для уточнения того или иного обстоятельства он переспрашивал свидетелей, которые резко делились на две группы. Одни были настроены против Павла Дмецова, другие, наоборот, защищали его. «Это был хороший, честный человек, большое состояние которого исчезло как дым из-за неудачных коммерческих дел», — утверждали они. Действительно, для многих Дмецов все еще являлся представителем помещичьей среды «доброго, старого времени», и ему охотно помогали в тяжелых материальных обстоятельствах, которые в последние годы все ухудшались. Имея до десятка детей, Дмецов после широкой, привольной жизни начал серьезно бедствовать, за какую-нибудь сотню рублей, ссуженную добрыми людьми в долг, ему приходилось со слезами благодарить. В Устюжне его считали сыном известного помещика, хотя он и подписывался обыкновенно фамилией Дмецов. Были в Устюжне и другие Дмецовы, но обвиняемый, знавший о своем происхождении, не был знаком с ними. Свидетель С. Орлов, владелец трактира, откуда будто бы посылалась прислуга за вексельными бланками, уверял, что ничего подобного в действительности не было. Самого Дмецова он знает уже около 27 лет и очень высокого о нем мнения. В свою очередь, господин Хосинский удостоверял, что подсудимая М. П. Денисова, по ее словам, вовсе не сознавалась в лжесвидетельствовании. Напротив, она говорила свидетелю, что будто бы сам судебный следователь принуждал ее сознаться и даже грозил арестом за ослушание, но она решительно отказалась брать грех на душу. После, однако, вопреки действительности ее все-таки записали сознавшейся, тем более что она неграмотная. Другие свидетельские показания были также благоприятны для всех обвиняемых. Павла Дмецова многие действительно знали как сына обоих Ефимьевых, и он обрисовывался с хорошей стороны. На суде приводились письма покойного помещика Ефимьева. В одном из них он писал своей жене: «Поздравляю с Днем Ангела… Посылаю к тебе Павлушку провести этот день. Думаю, что будешь довольна». В письме на имя сестры, госпожи Бибиковой, говорится: «Если Павел израсходовал все деньги, то напиши — и я еще вышлю». Вообще, из писем покойного Ефимьева видна родительская забота о подсудимом. Наконец оглашается «Дело Новгородской духовной консистории о признании подкинутого к дому устюженской крестьянки Е. О. Дмецовой ребенка законным сыном дворян Матвея и Веры Ефимьевых». Из дела следует, что родился Павел Дмецов 1 июля 1858 г. По словам госпожи Ефимьевой, подкинуть своего ребенка к чужому дому заставила ее дикая ревность мужа, но последний вскоре убедился, что новорожденный действительно его сын, и взял его обратно в дом. Протоиереем М. Сахаровым по этому делу были опрошены несколько лиц, близко знавших семью Ефимьевых, и они подтвердили, что помещик и его жена считали Павла Дмецова своим сыном и как родного представляли его бывшим в их доме гостям. Со своей стороны он оказывал им полное сыновнее почтение, и, горячо любя его, госпожа Ефимьева тратила на него массу своих денег. Относясь к ней как к родной матери, он везде жил совместно с ней. Умирая, сам Ефимьев оставил ему по духовному завещанию все свое состояние. Если верить некоторым свидетелям, большинство из которых уже умерло, то госпожа Ефимьева в конце июня 1858 г. была беременна и мучилась родами. Когда ребенок появился на свет Божий, она приказала подкинуть его куда-нибудь и настрого запретила дворне упоминать когда-либо о нем. При совместной же жизни Павла с Ефимьевыми родительская любовь их к нему резко бросалась всем в глаза. Странным является только то обстоятельство, что очень долгое время никто из них не хлопотал обисправлении метрической записи новорожденного Павла. Большое впечатление производят три прошения на высочайшее имя от дворян Матвея и Веры Ефимьевых. Упоминая о своем безупречном служении престолу и отечеству, об избрании его в течение пяти трехлетий предводителем дворянства и пожаловании орденами Владимира 4-й степени и Анны 3-й степени, Матвей Ефимьев всеподданнейше просит в трогательных выражениях разрешить им с женой усыновить приемыша Павла. Прошения эти не были удовлетворены. По окончании судебного следствия открылись прения сторон. Представитель обвинительной власти господин Зиберт просил обратить внимание на то, что во всех своих прошениях на высочайшее имя Ефимьевы ни разу не называют Павла Дмецова родным сыном, а выдают его только за приемыша или подкидыша. Если бы Павел действительно был сыном госпожи Ефимьевой, то по желанию мужа он легко мог бы быть узаконен. Помещик сам служил в палате гражданского суда и потому, без сомнения, должен был знать все необходимые порядки. Конечно, в данном деле трудно добиться истины — почти полвека прошло уже со времени рождения подсудимого. Тем не менее из свидетельских показаний все-таки удалось установить, что у больной жены помещика никогда не было детей. Любовь же ее к приемышу решительно ничего не доказывает: лишенная счастья материнства, она ощущала настоятельную потребность заботиться о каком-нибудь ребенке. С другой стороны, никем не было категорически доказано, что подсудимый действительно является родным ее сыном. Называя историю о беспричинной ревности помещика к жене и подкидывании новорожденного ребенка ложью, товарищ прокурора поддерживал обвинение. Со стороны гражданских истцов Митусовых выступили присяжные поверенные Г. С. Аронсон и Г. Б. Слиозберг. Речи их длились почти три часа. Второй из них настаивал, что факт рождения Павла Дмецова больной помещицей, не имевшей детей около 17 лет, бесспорно не установлен. Только жажда большого наследства, оставленного генеральшей Бибиковой, повлекла обвиняемого к домогательствам об узаконении его. В свою очередь, Г. С. Аронсон обрисовал наиболее важные детали данного дела. По его мнению, оно стало сложным лишь к концу судебного следствия, но он уверен, что присяжные заседатели сумеют правильно разобраться в нем. «Вы теперь находитесь в таких же условиях, как когда-то и Новгородская духовная консистория, — сказал Г. С. Аронсон, — и вам, господа присяжные заседатели, надо решить вопрос: сын ли Павел Дмецов дворянке Ефимьевой или только сын ее мужа? Если окружной суд раньше высказался по этому вопросу в пользу Дмецова, то ведь он не слышал многих других свидетелей, которые держатся на этот счет противного мнения». В конце прений гражданские истцы заявили, что для них безразлична судьба подсудимого. Пусть его оправдают, но факт незаконного происхождения его должен быть признан. Слово предоставляется защите. Помощник присяжного поверенного М. Л. Гольдштейн указал первоначально на страшную путаницу в неблагоприятных для Дмецова свидетельских показаниях. Один и тот же младенец рождается в четырех различных местах. Где же правда? Разбивая такие показания, защитник напоминает присяжным заседателям содержание некоторых писем покойной помещицы к Дмецову. Письма эти дышат истинной материнской любовью, она относится к Павлу, как к своему родному сыну. «Защите не приходит в голову дерзкая мысль сказать: на противной стороне лжесвидетели. Нет! — восклицает защитник. — Но история рождения Дмецова много десятков лет тому назад несомненно имела свое основание. Ничего нет удивительного, если дворянин Ефимьев, заметив беременность жены после ее семнадцатилетнего бесплодия, отнесся предубежденно к этому обстоятельству. Ему тогда могла вспомниться известная поговорка относительно «проезжего молодца». На всем этом деле лежит тайна, — продолжал свою речь Гольдштейн, — но люди, общественная совесть должны довольствоваться представленными здесь доказательствами. Иначе дело это правильнее было бы озаглавить делом по обвинению дворянки Веры Ефимьевой в подделке своего ребенка. Характерными, между прочим, являются и те показания против подсудимого, которые даются людьми заведомо по слухам или собственному наитию. Один из таких свидетелей рассказывал, например, о событиях того времени, когда ему самому было не более года от рождения!» Переходя к личности обвиняемого, защитник замечает, что его нельзя упрекнуть в чем-либо предосудительном. Да, он спустил в короткий срок трехсоттысячное состояние, но оно ушло не на любовниц и бесшабашный разгул, а на неудачные коммерческие предприятия.

ГОЛЬДШТЕЙН МОИСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
Родился в 1868 г. По окончании в 1893 г. курса в Киевском университете вступил на поприще адвокатуры в качестве помощника присяжного поверенного. Вскоре обратил на себя внимание своими речами в защиту подсудимых. Первым громким процессом, в котором он выступил в 1894 г. вместе с присяжными поверенными Андреевским, Карабчевским, Мироновым, Муромцевым и Пассовером, было большое контрабандное дело. Затем он фигурировал как защитник в делах об убийстве Елены Жак, о злоупотреблениях в лейб-гвардии казачьем полку (этот процесс длился более трех месяцев), о подлогах и растратах в «Лионском кредите», в процессах Дмецова-Ефимьева, профессора Пашкевича и многих других.
(Данные приведены на 1910 г.)
«Гражданским истцам безразлично, оправдают Дмецова или нет. Они питают только нежные чувства к наследству генеральши Бибиковой, которое грозит перейти от них к подсудимому. Мне кажется, что вы, господа присяжные заседатели, чувствуете здесь правду», — закончил свою речь защитник. Присяжный поверенный С. А. Андреевский начал с того, что для защиты едва ли предвидится опасность с уголовной стороны. Весь главный фундамент настоящего дела кроется в злополучном наследстве. Как можно назвать Дмецова подстрекателем к заведомо ложным показаниям, а остальных подсудимых — лжесвидетелями, если он был твердо уверен в своем рождении, убежден своей матерью, а они подтверждали только действительность? Нельзя же признать, что и покойная Вера Ефимьева, эта добрая, честная женщина, как выяснилось на суде, тоже была лжесвидетельницей. Сказать, что история с подкидыванием ребенка к чужому дому — ложь, едва ли возможно. После, за все 35 лет совместной жизни подсудимого с отцом и матерью, мы наблюдаем прекрасный семейный союз. «Желаю вам, господа, — сказал в заключение Андреевский, обращаясь к присяжным заседателям, — покончить дело простой житейской справедливостью». Блестящая речь защитника изобиловала образными выражениями и произвела на всех сильное впечатление. Горячую речь произнес также присяжный поверенный Л. А. Базунов, защищавший крестьянок Барсукову, Денисову и мещанина Сретенского. Он утверждал, что виновность его подзащитных связана с обвинением главного подсудимого — Павла Дмецова, но все доказательства этого обвинения ничем не обоснованы. Дело осложнилось лишь наносными элементами наследственного вопроса. Присяжные заседатели, безусловно, должны высказаться в пользу обвиняемого. Сами родители его, дворяне Ефимьевы, ныне покойные, признают его своим сыном. Последним выступил присяжный поверенный Герцман, защитник А. С. Веретьевского. Затем последовали возражения сторон. Товарищ прокурора отметил, что защитники Павла Дмецова являются скорее гражданскими истцами, чем защитниками. Выступавший со стороны Митусовых присяжный поверенный Аронсон обратился к присяжным заседателям: «У вас ищут правды, но не на основании чего-то измышленного, фантастического. Вопрос в наследстве… Вы должны решить, кто ближе покойной Бибиковой: Павел Дмецов или Митусовы». В своем последнем слове Дмецов проговорил взволнованным голосом: — Мне остается верить только, что Господь Бог сохранит меня, и с этой же просьбой обращаюсь к вам, присяжные заседатели. — Ни в чем не виноваты, — добавили обе подсудимые. — Как перед Животворящим Крестом, я говорил правду, — закончил последний обвиняемый, титулярный советник Веретьевский. После продолжительного совещания присяжные заседатели признали факт преступления недоказанным. Резолюцией суда все пять подсудимых были объявлены оправданными.
СЕМЕЙНАЯ ДРАМА

Эта драма разыгралась в семье купеческого сына Николая Васильевича Кашина и закончилась убийством его жены.
Преступление было совершено в ночь на 5 апреля 1901 г. в Петербурге. Убийца-муж сам явился в ближайший полицейский участок и объявил дежурному околоточному надзирателю о совершенной им кровавой расправе с женой.
Полиция прибыла на квартиру Кашиных и нашла молодую женщину неподвижно лежавшей на полу спальной комнаты. Постель была беспорядочно смята и носила следы отчаянной борьбы. Всюду виднелась запекшаяся кровь. Осмотр показал, что молодая женщина мертва. Когда ее приподняли с пола, под головой у нее было найдено согнутое лезвие острого столового ножа. Тут же, на туалетном столике около кровати, лежал и черенок от этого ножа, являвшегося орудием убийства.
На голове и левом плече убитой были обнаружены четыре раны и несколько ссадин. По мнению врача, одна из этих ран, задев артерию и вызвав обильную потерю крови, послужила причиной смерти молодой женщины.
Привлеченный к уголовной ответственности Николай Кашин подтвердил свое первоначальное признание в убийстве жены и объяснил, что он зарезал ее ножом в состоянии раздражения. По его словам, в роковую ночь между ним и покойной женой произошла ссора. Обидевшись на мужа, молодая жена стала гнать его от себя прочь и объявила, что она уйдет ночевать к своему любовнику. Взбешенный ее словами, Николай Кашин схватил лежавший на столе нож и нанес жене несколько ударов. Опомнился он только тогда, когда увидел несчастную женщину, истекающую кровью, с предсмертным выражением глаз.
Из предварительного следствия выяснилось, что покойная Валентина Кашина в конце 1896 г. вышла замуж за молодого купеческого сына, и первое время жизнь супругов проходила сравнительно хорошо. Кашин любил жену и был примерным семьянином. Казалось, ничто не могло помешать их взаимному счастью. Увы, счастье оказалось призрачным. Вскоре муж заметил некоторые странности в поведении супруги: она пристрастилась к спиртным напиткам, стала охладевать к мужу, а через некоторое время начала выказывать явное расположение к дворнику дома, в котором они жили. Мало-помалу в сердце Кашина разгорелся огонь ревности, тем более что он получил несколько намеков со стороны услужливых людей. Решив навсегда расстаться с вероломной женой, Кашин уехал из Петербурга. Некоторое время супруги жили отдельно. Николай сильно переживал разрыв, так как все еще продолжал любить жену. Кончилось тем, что он возвратился в столицу и снова сошелся с женой. Однако дальнейшая жизнь скоро убедила его в том, что его жена погибшая женщина. Оказалось, что во время разрыва с мужем она состояла в любовной связи с дворником Ладугиным и не прекратила этой преступной связи и по возобновлении совместной жизни с мужем, причем нисколько не скрывая ее от супруга. Не стесняясь присутствием мужа, она и 4 апреля, вечером, отправилась к Ладугину. Муж уговаривал ее забыть эту связь, но все было тщетно. Ночью они легли спать и между ними разыгралась драма, закончившаяся смертью молодой женщины.
В результате Николай Кашин предстал перед Санкт-Петербургским окружным судом. Молодой человек с симпатичным, интеллигентным лицом произвел большое впечатление на публику, в огромном количестве собравшуюся в зале судебного заседания.
Началось судебное разбирательство. Руководил заседанием товарищ председателя господин Карчевский, обвинение поддерживал товарищ прокурора господин Завадский. Защищал обвиняемого присяжный поверенный Н. П. Карабчевский.
Тяжелое, гнетущее впечатление произвел на всех рассказ обвиняемого о подробностях пережитой им семейной драмы.
Покойную Валентину он горячо любил, несмотря на то что еще в девичестве она с кем-то «согрешила». Он желал забыть ее прошлое, но поведение жены и после замужества было какое-то странное, и он догадывался об ее неверности. Наконец ему открыто стали говорить о связи ее с дворником. Оскорбленный таким поведением жены, он решил предоставить ей полную свободу и с этой целью уехал из Петербурга к своему отцу, который открыл для него лавку на станции Любань Николаевской железной дороги. Но тоска по жене не давала Кашину покоя, и он начал упрашивать Валентину приехать к нему в Любань. Та вначале наотрез отказалась, но затем вдруг сама стала искать примирения с ним.
Поддавшись ее уговорам, Кашин приехал в Петербург. Но отношения их были уже далеко не те, как в первое время после свадьбы. Зная про связь жены с дворником, Кашин мучительно ревновал ее и стал сам просить дворника покончить его любовные отношения к Валентине.
— Если она придет когда-нибудь к тебе, гони ее вон, — умолял муж.
— Что было, то прошло, — говорил на это дворник и обещал исполнить просьбу Кашина. Тем не менее он, по-видимому, продолжал оставаться в тесных сношениях с «купчихой».
Накануне трагической развязки этой драмы у Николая Кашина умер отец. Он был очень расстроен этим, отслужил панихиду и грустный вернулся домой, но сочувствия со стороны жены не встретил. Она равнодушно отнеслась к постигшему его горю. А вечером, когда они ужинали, Валентина, бывшая уже в нетрезвом состоянии, начала зло издеваться над мужем. Он не обращал на ее слова внимания, и тогда она с вызывающим видом встала и направилась в дворницкую.
Ночью, когда Кашины легли спать, муж обратился к жене с упреками относительно дворника.
— А тебе что за дело? Ходила к нему и буду ходить! — озлобленно возразила она.
— Помутилось у меня в глазах, — говорил подсудимый взволнованным голосом. — Схватил я лежавший рядом нож и ударил ее. Сколько раз ударил — не помню.
Суд опросил более 20 свидетелей. Большинство их показаний обрисовывало Валентину Кашину с непривлекательной стороны. Еще девушкой она вела нехорошую жизнь, пила водку, и поведение ее подавало повод к пересудам. С Николаем Кашиным она познакомилась, когда тому исполнилось 18 лет. Валентина была старше его на три года. Тихий и скромный молодой человек, отец которого имел в Петербурге большой торговый лабаз, не замедлил вскоре поддаться пагубному влиянию молодой смазливой девушки. Узнав, что в доме старика Кашина служит в дворниках один из ее дальних родственников, бойкая Валентина стала устраивать при его помощи в дворницкой Кашина частые свидания с его сыном. На столе появились водка и пиво, молодая девушка пила не меньше любого мужчины. В отсутствие старика Кашина в дворницкой устраивались вакханалии. Закончилось все это тем, что молодой Кашин вступил в близкую связь с Валентиной, а через известный промежуток времени не замедлил появиться и «плод любви несчастной». Увлекшийся Кашин решил жениться на любимой девушке. Несмотря на то что Валентина считалась богатой невестой, получив после смерти отца-торговца около 20 000 рублей, родители Николая Кашина решительно воспротивились этому браку, так как об избраннице сына ходили дурные слухи. Говорили, что, не сдерживаемая своей больной матерью, она ведет распутный образ жизни и еще до знакомства с Кашиным находилась с кем-то в связи. Однако молодого человека ничто не могло остановить, и, невзирая на мольбы родителей, он против воли их женился на Валентине. Между тем из показаний одного свидетеля видно, что невеста Кашина не стеснялась даже торжественности ожидавшего ее венчания и накануне своей свадьбы, по слухам, уходила к какому-то любовнику без ведома жениха.
Когда началась супружеская жизнь, Кашин наконец понял, как жестоко обманулся в Валентине, ожидая найти в ней хорошую, любящую жену. Ревность с неудержимой силой заговорила в нем, начались обидные попреки, нередко доходило до крупных ссор. Издеваясь над мужем, Валентина выгоняла его из квартиры. Не стыдясь прислуги, иногда в полночь впускала она в свою комнату дворника, пользуясь отсутствием мужа.
О подсудимом Кашине свидетели отзывались с хорошей стороны, характеризуя как скромного, дельного человека.
В числе свидетелей был опрошен и крестьянин Ладугин — герой грязного романа покойной Валентины, представлявший собой обычный тип петербургского подручного дворника, с грубым лицом и плутоватыми глазами. На все задаваемые ему вопросы он апатично отвечал: «Не видел… не помню», отрицая связь с убитой Кашиной.
После обвинительной речи товарища прокурора слово было предоставлено защите.
Метко охарактеризовав действующих лиц разыгравшейся семейной драмы, присяжный поверенный Н. П. Карабчевский произнес блестящую, горячую речь в защиту подсудимого.
«Дело было сделано. Дело кровавое. Дело, требовавшее не только физической силы, но и огромного душевного подъема, — начал защитник. — Кашин сам стоял перед ним бессильный и жалкий, точно перед созданием чьего-то могучего духа, чуждого ему самому. По отзыву всех знавших его, он натура пассивная, мягкая, дряблая, почти безвольная… Он всегда и всем уступал. Жена его била по щекам, когда хотела.
Как же это случилось? Он и сам не понимает, ничего сообразить даже не может. Проследим его отношение к жене. Может быть, сообразим за него мы.
Семнадцатилетним юношей он впервые обратил внимание на свою будущую подругу жизни — Валентину Павловну Чеснокову. В районе Сытного рынка на глазах его обитателей и торговцев разыгрался этот любовный роман, завершившийся столь печально.

КАРАБЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ
Родился 30 ноября 1852 г. По окончании Санкт-Петербургского университета в конце 1874 г. вступил на юридическое поприще. Первоначально был помощником у известных адвокатов. С 1879 г. — присяжный поверенный. В ряду русских юристов занимает почетное место как один из корифеев адвокатуры. Выступал с блестящими речами в защиту подсудимых на таких известных процессах, как дело об интендантах и подрядчиках последней русско-турецкой войны (длился два месяца), убийство Сарры Беккер, крушение парохода «Владимир», мултанское жертвоприношение, дело Николая Кашина и многие другие.
(Данные приведены на 1910 г.)
Отец Николая Кашина, старозаветный лабазник Сытного рынка, вел жизнь строгую, аккуратную. Сына своего, первенца, он очень любил. Желая сделать его своим преемником, с четырнадцати лет, дав лишь первоначальное образование, он приставил его к делу. С раннего утра до самого вечера Николаю приходилось толочься в лабазе, таскать мешки, глотая мучную пыль, зимой мерзнуть, летом задыхаться в духоте. Отдых только в первые дни Рождества и Пасхи, даже по воскресеньям велась торговля. И вот на этом фоне механического однообразия, как раз в пору первого пробуждения юношеской возмужалости, появляется вдруг очень яркое, заманчивое, почти загадочное существо — Валентина Павловна Чеснокова! Что-то вроде очаровательного видения, предлагаемого самим демоном-искусителем. Она тоже из района Сытного рынка. Богатый дом Чесноковых расположен тут же, но как жизнь в нем не похожа на то, что он всегда видит вокруг себя. У него дома строгий, хотя и любящий отец, богобоязненная мать, сестры, краснеющие от одного взгляда на мужчин. Его самого берегут, как красную девушку, одного никуда не отпускают. Девица же Чеснокова (из той же, как и он, среды) — сама смелость, сама эмансипация! Такая уж ей счастливая доля выпала… Отца у нее нет, мать слабая и нерешительная женщина, предающаяся пьянству, старший брат — какой-то «дипломат», умывший руки и ни в чем ей не препятствующий. Девушка красивая, старше Кашина, смелая и энергичная, она кружит ему голову. По словам матери Кашина, Валентина «завлекла ее сына». Она устраивала для него пирушки, приезжала за ним, увозила его кататься. Дворник Мазилов, двоюродный брат Валентины Чесноковой, давал им в своей дворницкой приют для интимных свиданий. Место, конечно, не слишком поэтичное… Но пусть каждый вспомнит свою молодость и не будет взыскателен к приюту первой любви. А для Николая Кашина это была действительно первая любовь. Началась связь, и спустя три месяца Валентина Чеснокова забеременела. Молодой человек не только не отшатнулся, не попытался уйти, как сделали бы многие на его месте, но еще более привязался к своей возлюбленной и решил непременно жениться на ней. Родители его, словно чуя беду, были против этого брака, но он настаивал, и старики из любви к сыну скрепя сердце благословили его. Уже на втором году супружества Кашин стал подозревать жену в неверности. Бывшая его кухарка Ольга Козлова предлагала ему уличить Валентину Павловну в преступной связи с дворником Василием Ладугиным. Для этого Кашин должен был сделать вид, что уезжает, а затем внезапно вернуться, чтобы застать любовников врасплох. Кашин предпочел вероломной засады не устраивать. Рассорившись с женой, он уехал из дому и переселился к отцу в Любань. Если бы он смог выдержать до конца эту разлуку, развязка драмы не была столь трагичной. Если бы он смог… Но, увы, он все еще продолжал страстно любить эту женщину, к тому же у них были дети… Дети, любимые им нежно… Дети эти оставались на попечении развратной и пьяной матери и любовника-дворника, который в его отсутствие разыгрывал хозяина и ночевал в ее квартире. По отзыву прислуги, пока Николай Кашин находился в Любани, Василий Ладугин жил с Валентиной Кашиной, как муж с женой. Нет, не животная ревность, не ревность оскорбленного самца привела Кашина к печальной развязке. Он проявил достаточно терпимости и человечности в своих отношениях к жене. В марте 1901 г. он переезжает из Любани в Петербург. Навешает жену, детей. Валентина встречает его радушно, не отказывает в супружеских ласках, просит забыть о прошлом, обещает исправиться, зажить порядочной жизнью. Он, размякнув, сдается и переезжает к ней… С дворником Ладугиным он имеет «объяснение». Тот отрицает связь с его женой и обещает «гнать ее из дворницкой», если бы та вздумала к нему прийти. Начинается вновь совместная жизнь. Но проходит день, другой, и все снова рушится. По словам свидетелей, покойная Кашина уже так втянулась в свою пьяную и развратную жизнь, что не в силах была изменить ее. С утра она напивается, дети остаются весь день на руках случайной няньки, она же шатается по квартире без дела, шумит, ругается, иногда убегает куда-то. Прислуга подозревает, что в дворницкую. Подчас еще и дразнит мужа: «А я к Ваське пойду!» Он отвечает ей: «Вот дура», за что с ее стороны следуют пощечины и ругательства. Она побуждает его пьянствовать вместе с ней, и он начинает понемногу попивать. Вот почва, на которой из-за пустого предлога разыгралось убийство, убийство, совершенное дрянным ножом, едва ли даже пригодным для смертоносных целей… Но когда назревает нравственная необходимость кровавой расправы, все готово послужить для этой цели! Отчего же он убил и отчего душа его, вынырнув из кровавой катастрофы, чуть ли не ликовала, чуть ли не ощущала себя обновленной?.. Он убил жену, то есть женщину, связанную с ним навеки браком. Я не стану говорить вам ни о религиозном, ни о бытовом, ни о нравственном значении брачного союза. Со всех точек зрения возможен спор, возможно сомнение. Только для очень верующих и очень чистых сердцем брак может представляться до конца таинством… Все терпимо, раз нет посягательства на самую основу духовной личности человека. Все можно стерпеть и все можно вынести во имя любви, во имя семейного мира и благополучия: и несносный характер, и дурные наклонности, и всякие немощи и недостатки. Но инстинктивно не может добровольно вынести человек одного — нравственного унижения своей духовной личности и бесповоротного ее падения. Ведь к этому свелась супружеская жизнь Кашиных. Мягкость, уступчивость мужа не помогли. Наоборот, они все ближе и ближе придвигали его к нравственной пропасти. Он уже стал попивать вместе с женой, дети были в забросе. Еще немного, и он, пожалуй, делился бы охотно женой с первым встречным, не только с Василием Ладугиным… Он бы стал все выносить. Мрачная, непроглядная клоака, получившаяся из семейной жизни благодаря порокам жены, уже готова была окончательно засосать и поглотить его. Но тут случилось внешнее событие, давшее ему новый душевный толчок. Умер любимый отец, предостерегавший его от этого супружества. Кашин почувствовал себя еще более одиноким, еще более пришибленным и раздавленным. В вечер накануне убийства он плакал, а жена, пьяная, плясала. Ночью случилось столкновение с женой, новая пьяная ее бравада: «Я к Ваське пойду!» И он не выдержал, «не стерпел больше», он зарезал ее дрянным столовым ножом, который тут же и сломался. Тут было не исступление ума, не заблуждение больного мозга. Тут было нечто большее. Гораздо большее! И никакие эксперты, кроме вас, нам не помогут. Тут было исступление самой основы души, человеческой души, беспощадно растоптанной и истерзанной! Она должна была или погибнуть навсегда, или воспрянуть хотя бы ценою преступления. Она отсекла в лице убитой от самой себя все, что ее втаптывало в грязь, ежеминутно и ежесекундно влекло к нравственной погибели. И совершил это ничтожный, слабовольный, бесхарактерный Кашин, совершил бессознательно. Так начертано было на скрижалях беспощадной и за все отмщающей судьбы. Он явился только слепым ее орудием. Я повторяю снова: преступление Кашина выше, глубже, значительнее его самого. Он готов воскликнуть: «Неужели его сделал я?!» Недоумение его будет искренно. Если вы обрушите на него наказание, его понесет вот этот робкий, раздавленный судьбой Кашин, а не тот грозный убийца с исступленной душой, которая, не спрашивая его самого, сделала свое грозное дело. Дело это не исправишь, покойную не вернешь! Перед нами печальный акт, совершенный человеком в состоянии того нравственного невменения, перед которым бесполезно и бессильно людское правосудие. И не страшитесь, господа присяжные заседатели, безнаказанности для Кашина-убийцы!.. Ему предстоит еще вернуться к детям, которым он никогда не посмеет сказать, что сталось с их матерью… Дайте ему к ним вернуться. Среди искренней радости свидания для них, осиротевших, он понесет свое наказание». Присяжные заседатели недолго совещались и вынесли Николаю Кашину оправдательный вердикт. В зале суда в это время воцарился неописуемый хаос. Крики восторга и громкие аплодисменты понеслись отовсюду. Председательствующий вынужден был распорядиться даже арестовать некоторых из наиболее рьяных зачинщиков беспорядков, допущенных в присутственное место. По выходе из зала заседания присяжный поверенный Карабчевский был встречен овациями со стороны публики.
ДУЭЛЬ МАКСИМОВА
Во время рассмотрения этого выдающегося в уголовной практике дела зал Санкт-Петербургского окружного суда представлял собой редкую картину. Многочисленная избранная публика переполняла все места внизу и на хорах. Представители высшего света, блестящие офицеры Собственного Его Величества конвоя, масса нарядных дам, судебный персонал, адвокаты и прочие. В воздухе носился тонкий аромат духов. Публика впускалась в зал только по билетам, причем около дверей дежурил усиленный наряд городовых и жандармов. Заседание суда происходило весной 1902 г. под председательством господина Камышанского. Слушалось без присяжных заседателей дело о подполковнике запаса Е. Я. Максимове, обвинявшемся в нанесении раны в поединке князю А. Ф. Витгенштейну, последствием чего была смерть князя. Скамью подсудимых занимал среднего роста пожилой человек, лет 53, военной выправки, одетый в черную пару. Худощавое лицо его со стальными холодными глазами украшала небольшая острая бородка, подернутая сединой. На вопросы председательствующего обвиняемый отвечал спокойно и с достоинством: — Евгений Яковлевич Максимов, подполковник запаса, живу в Петербурге, женат, имею детей. Окончил полный курс классической гимназии, постоянное занятие — литература. Читается обвинительный акт. В 1901 г., 15 июля, в поезде Финляндской железной дороги возвращались из Шувалова в Петербург француженки Мюге, Грикер, Бера и Краво. Вместе с ними ехал также и один из их знакомых, сотник Собственного Его Величества конвоя, светлейший князь А. Ф. Сайн-Витгенштейн-Берлебург. Все они мирно беседовали между собою в отделении вагона II класса, как вдруг в это же отделение вошел подполковник Максимов, одетый в статское платье. Пристально оглядев француженок, он прошел в следующее отделение и оставил дверь незакрытой. Через некоторое время одна из дам заметила, что новый пассажир остановился недалеко от двери и упорно смотрит на нее. Другая француженка, обратив на это внимание, встала с дивана и захлопнула дверь. В ту же минуту дверь снова отворилась, и подполковник Максимов, сделав несколько шагов, остановился в проходе. Госпожа Грикер обернулась в его сторону и увидела, что он по-прежнему не сводит с нее пристального взгляда. — Уж не хотите ли вы снять с меня фотографию? — недовольно спросила она, удивляясь бесцеремонности пассажира. — Сколько это будет стоить? — отпарировал подполковник с вызывающим видом. Обмен колкостями по этому поводу продолжился. Максимов сказал, что карточки француженок он может приобрести в публичном доме, где они служат. Задетые за живое, оскорбленные дамы обратились к своему спутнику с просьбой защитить их от дерзкого пассажира. Князь Витгенштейн в вежливой форме потребовал от Максимова, чтобы он оставил в покое пассажирок. — Не ваше дело! — резко возразил на это подполковник. — Я знаю, что делаю, и с вами не разговариваю. Прошу сесть. — Кто вы такой? — обратился к нему вспыхнувший князь. — Вы узнаете это завтра от барона Мейендорфа. — И с этими словами подполковник вышел из отделения. Одна из дам поспешила закрыть за ним дверь, но Максимов с такой силой толкнул дверь ногой, что она отскочила в сторону и ударила по руке ближайшую француженку. Ввиду такого вызывающего поведения князь Витгенштейн счел себя вынужденным кончить дело дуэлью. Получив разрешение командира конвоя генерала барона Мейендорфа, он пригласил секундантами князя Амилахвари и сотника Логвинова и послал через них Максимову вызов на поединок. Тот принял вызов и со своей стороны избрал секундантами отставных генерал-майора Вишневского и полковника Меженинова. Несмотря на все усилия секундантов обоих противников, примирить их не удалось, и секундантам волей-неволей пришлось приступить к выработке условий дуэли. 31 июля условия эти, с общего согласия всех секундантов, были занесены в протокол в следующей форме: оружие — пистолеты; дистанция — 25 шагов; по одному выстрелу. Стрелять по желанию в промежутке четырех секунд, между счетом: раз… два… три… стой!.. На следующий день, около восьми часов вечера, вблизи станции Стрельна Балтийской железной дороги состоялась дуэль между Максимовым и Витгенштейном. Первым выстрелил князь после счета «раз!» и — дал промах. После счета «два!» раздался выстрел со стороны подполковника. Князь пошатнулся и, раненный в живот, упал на траву. После перевязки он был немедленно отправлен в Обуховскую больницу. Несмотря, однако, на все медицинские меры, Витгенштейн не перенес тяжкой раны и 3 августа скончался. По заключению врача, вскрывшего труп покойного князя, смерть его последовала от острого гнойного заражения крови, вызванного огнестрельным ранением кишечника. Убийца-дуэлянт был привлечен к уголовной ответственности. Признавая факт поединка со смертельным исходом, Е. Я. Максимов заявил тем не менее, что принятие офицером запаса вызова на дуэль не составляет нарушения закона. Обвиняемый держался на суде хладнокровно, с чувством собственного достоинства. — Признаете ли вы себя виновным? — задал обычный вопрос председательствующий. — Ни дамам, ни князю Витгенштейну я обид не наносил… Действовал согласно высочайше утвержденным правилам 1894 года о дуэлях и считал себя обязанным принять вызов. — Пригласите свидетелей, — отдается распоряжение судебному приставу. В суд явилась только одна из француженок — Констанс Краво. Это миловидная, молодая особа, очень изящно одетая. Русского языка она почти не понимает и дает показания через переводчика. Свидетель доктор Зуев был вызван по просьбе самого подсудимого. Первым опрашивался сотник Собственного Его Величества конвоя В. П. Логвинов. Он был одним из секундантов роковой для князя Витгенштейна дуэли.
АДАМОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
Родился в 1860 г. в Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую военную гимназию, Константиновское военное училище и вступил на военную службу офицером в лейб-гвардии Измайловский полк. По окончании курса Военно-юридической академии служил в войсках Восточной Азии, затем уволился в запас в чине штабс-капитана. С 1885 г. зачислен в состав петербургской адвокатуры. В сословие присяжных поверенных вступил в 1889 г. С успехом выступил на поприще защитника в крупных процессах. Из наиболее выдающихся дел его известны: процесс о похищении 200 тысяч рублей из Государственного банка, дуэль Максимова, сожжение ребенка Богдановой, дело о краже китайского божка и многие другие.
(Данные приведены на 1910 г.)
Покойный князь сообщил ему о своей ссоре с Максимовым только 17 июля. По его словам, он сидел в вагоне с несколькими дамами, из которых лишь одна была ему знакома. Дамы эти незадолго до этого катались на автомобиле, но потерпели легкое крушение и в помятых оттого костюмах принуждены были возвратиться в Петербург уже поездом. Когда Максимов увидел их, глаза его приняли довольно недвусмысленное выражение. — Не желаете ли сфотографировать нас? Это будет стоить очень дорого, — сердито сказала ему одна из француженок. — Я могу достать ваши карточки в том «пансионе», где вы воспитываетесь, — грубо ответил Максимов. Изумленные француженки начали переговариваться между собой: — Что это за господин? Какой невоспитанный… Мало-помалу между князем и развязным пассажиром разыгралась ссора. По собственной ли инициативе князь вступился за дам или они сами просили его об этом — свидетель не знает. Когда поезд подошел к Петербургу, Витгенштейн нагнал Максимова в другом конце вагона и схватил его за руку. — Ваше имя? — А вы кто такой? — также осведомился Максимов. — Я — князь Витгенштейн. — А обо мне вы узнаете от вашего командира. При этом Максимов вынул свою визитную карточку и вручил ее князю. Секунданты, ознакомившись с подробностями инцидента между двумя противниками, признали повод для дуэли несущественным и сделали попытку примирить их. Так как первый повод к оскорблениям был подан подполковником Максимовым, то ему предложили извиниться перед князем. Однако Витгенштейн выдвинул такие оскорбительные для своего противника условия примирения, что Максимов наотрез отказался от него. Таким образом поединок был признан решенным делом. Секунданты выбрали место около Стрельны. Один из них взял на время пару больших пистолетов у известного оружейника Леженя. Вечернее время было выбрано специально для того, чтобы солнце не мешало дуэлянтам целиться. В день поединка первыми приехали секунданты, затем прибыли и оба противника. Сотник Логвинов отмерил 25 шагов. Секунданты снова предложили помириться. — Я согласен, — сказал Максимов. — Только при соблюдении моих условий, — решительно заявил князь Витгенштейн. Максимов отказался. Оба они стали на свои места, получив по жребию заряженные пистолеты. Сотник Логвинов начал считать по секундомеру: «Раз!., (выстрел). Два!., (выстрел)». Раненый князь несколько мгновений еще держался на ногах, затем упал. — Простите, князь, я этого не хотел, — подбежал к нему Максимов. — Не беспокойтесь, вы очень добры, — слабым голосом выговорил раненый. Далее из свидетельских показаний выясняется, что покойный князь до своей роковой дуэли почти никогда не стрелял из пистолета и вообще был очень неважным стрелком. Когда был возбужден вопрос о примирении, Максимов написал князю следующее письмо: «Ваша светлость, князь А. Ф., Вы изволили почтить меня вызовом… Секунданты находят возможным примирить нас… Я приношу Вам искреннее сожаление по поводу происшедшего». А. Ф. Витгенштейн не удовлетворился этим письмом и потребовал, чтобы Максимов написал, что он раскаивается или извиняется «в своем поведении». По словам сотника Логвинова, князь был хороший, добрый человек и ссор никогда не затевал. Француженки в столкновении его с Максимовым, видимо, играли ничтожную роль, скорее это была личная обида. Защитник подсудимого, присяжный поверенный М. К. Адамов, спрашивает свидетеля, было ли известно ему, что среди француженок, из-за которых загорелся весь сыр-бор, находилась также и шансонетная певица Мюге — интимная подруга покойного князя. Свидетель дает отрицательный ответ, объясняя, что Витгенштейн поклялся ему, что Мюге в то время не было в вагоне. Если бы он знал, что поводом к дуэли могла послужить эта француженка, то отказался бы выступить секундантом. Присяжный поверенный Адамов старается доказать, что под словом «пансион» обвиняемый не подразумевал ничего предосудительного. Затем суд приступил к допросу другого секунданта — хорунжего конвоя князя Амилахвари. Тот рассказал, что перед вручением своей карточки Максимов спросил у противника, кто он. — Я светлейший князь Витгенштейн, — последовал короткий ответ. Максимов усомнился. — Правда ли это? — обратился он к другому встретившемуся офицеру. — Да, правда. Только после этого Максимов подал князю свою визитную карточку с адресом. — А верен ли адрес? — колко проговорил Витгенштейн, вертя ее в руках. Доктор Поляков, присутствовавший при поединке, рассказывал, что с места дуэли раненого князя на руках донесли до ландо и он был привезен на железнодорожную станцию. Однако поезда пришлось очень долго ожидать. В Петербурге в Морском госпитале не оказалось свободного места, и мучительно страдавшего от раны князя направили в Обуховскую больницу. Дорогой он беспрестанно жаловался на страшные боли в нижней части живота. При вскрытии трупа пуля была найдена застрявшей в левой стороне таза. По словам свидетеля, Максимов утверждал, что француженки первыми стали его вышучивать. — Позвольте вашу карточку, — обратился Максимов к одной из них, одетой особенно экстравагантно. Последовал обмен колкостями, и одна француженка раздраженно толкнула Максимова. По-видимому, все дамы были навеселе. — Меня преследует какая-то пьяная компания, — жаловался после Максимов кому-то из пассажиров. Столкнувшись с ним под конец ссоры, князь Витгенштейн резко схватил его за рукав и потребовал указать свое звание. Свидетель доктор Поляков удостоверяет также, что по окончании дуэли Максимов сам помогал перевязывать раненого князя, и для него, очевидно, был неожиданностью трагический исход поединка. Действительный статский советник Меженинов, служащий по министерству финансов, в сербскую войну был начальником отряда русских добровольцев. В этом же отряде находился и подсудимый Максимов, отличавшийся беззаветной храбростью и удальством. Помня его геройское прошлое, свидетель Меженинов никак не мог отказать ему в просьбе быть его секундантом. Порядок поединка был выработан по условиям № 2, применяемым в подобных случаях в германской армии. По соглашению участников дуэли в пистолеты для лучшего боя был вложен двойной заряд пороха. — Я не стану первым стрелять, — говорил Максимов свидетелю. — Но если не буду убит, то я дам своему противнику немного почувствовать. — Если я буду убит, — сказал князь, — то передайте мое письмо матушке. Она дожидается. «Я, старый, обстрелянный в боях офицер, был глубоко растроган этими словами», — добавляет свидетель с дрожью в голосе. Подполковник Максимов — бывший кирасир, стяжавший почетную известность в военном мире своим геройством. В одном из сражений под ним были убиты за короткое время три лошади. Отчаянный храбрец, он дрался в Боснии, участвовал в Ахалтекинской экспедиции и сражался с англичанами в Трансваале среди мужественных буров, командуя иностранным легионом. Генерал-майор Вишневский, рассказывая о дуэли, сообщил, что подсудимый говорил ему о своем намерении целиться только в ногу противника. Суд вызывает свидетельницу Констанс Краво. Собравшаяся публика с интересом разглядывает одну из француженок, послуживших косвенной причиной трагической смерти молодого князя. Краво держится очень непринужденно, спокойно отвечает на вопросы. Об обстоятельствах ссоры она сообщить ничего не может, но в словах Максимова, вырвавшихся у него при инциденте в вагоне, в настоящее время не видит чего-либо оскорбительного. Он говорил по-французски про какой-то «пансион», но слово это можно истолковать по-разному. Сам ли князь вступился в защиту дам или же по их просьбе, она не помнит. Что касается того, что «дамы были навеселе», то до этого они действительно посетили какой-то ресторан, но пили нормальную порцию (в публике смех) и нисколько не были пьяны. Доктор Зуев охарактеризовал подсудимого как хорошего человека, верного рыцарским традициям. Обнаруживается также, что Максимов во время сербской кампании был ординарцем у известного генерала Черняева. Наконец все свидетели опрошены, и слово предоставляется товарищу прокурора, господину Новицкому. Вначале он в общих чертах конулся истории дуэлей, подвергнув этот обычай резкой критике. В то же время он понимает, что может бытьнанесена тяжкая обида, которую иногда не в состоянии удовлетворить обыкновенный суд. Но между Витгенштейном и Максимовым не было ничего подобного. Просто бестактность со стороны подсудимого и горячность князя привели к трагически закончившейся дуэли. Максимов вынудил Витгенштейна затеять этот поединок, за что покойный князь заплатил своей жизнью, покончив все счеты с правосудием. Максимов же является, безусловно, виноватым в этой печальной истории. Обвинитель просил применить к Е. Я. Максимову наказание в виде заключения в крепости на срок от четырех до шести лет. Следующим выступил защитник подсудимого. Присяжный поверенный Адамов представил суду данное дело с совершенно иной точки зрения. Покойный князь Витгенштейн был представителем «золотой молодежи», беспечно прожигающей свою жизнь. Вина в его смерти лежит только на нем самом. Максимов только вышел на бой, и бой честный, одинаково опасный для обоих. Известный герой, храбрец, он не мог поступить иначе. Как офицер, он считал себя не вправе отказаться принять вызов, но до этого он со своей стороны сделал все, чтобы избежать дуэли. Суду остается только или вынести ему оправдательный приговор, или же ходатайствовать о царской милости. Дуэль — честный, равноправный поединок. Но если военный может безнаказанно убивать, то штатский отвечает за это перед судом. Где же здесь равноправие? Для государства должны быть одинаково дороги и честь военного, и честь простого гражданина. «Как защитник, как юрист и как гражданин, я думаю, что Максимов должен быть оправдан», — закончил свою речь Адамов. Последнее слово предоставляется подсудимому. Но от волнения он ничего не может сказать. Присяжный поверенный Адамов от его имени заявил, что обвиняемый ищет не милосердия и не смягчения своей участи. Он ищет только правосудия. После продолжительного совещания Санкт-Петербургский окружной суд признал Е. Я. Максимова виновным в участии в поединке, вызванном, однако, не им, и приговорил его к заключению в крепость на два года. Вместе с тем ввиду чрезвычайных обстоятельств этого дела окружной суд постановил ходатайствовать через министра юстиции пред Его Императорским Величеством о полном помиловании осужденного. Е. Я. Максимов был высочайше помилован. В русско-японскую войну в чине подполковника он отправился на Дальний Восток и в первом же сражении под Мукденом пал геройской смертью.
ПОЖАР НА ДАЧЕ КРАЕВСКОГО

В 1901 г., 15 июля, в Озерках был устроен большой «праздник цветов», привлекший многочисленную публику. В организации этого праздника принимал участие председатель Парголовского добровольного пожарного общества присяжный поверенный М. К. Адамов при содействии членов Санкт-Петербургского велосипедно-атлетического общества провизора Э. Ф. Краевского и А. А. Ведерникова. Гулянье закончилось поздно вечером раздачей призов участвовавшим в процессии праздника, причем главный приз был присужден жене провизора, Марии Краевской, за выезд «Орлеанской девы». Остальное время до рассвета Э. Ф. Краевский провел в Озерковском саду, где на сцене шли «Рабыни веселья», и после обильной попойки с знакомыми вернулся на свою дачу, расположенную в местечке Шувалове, только в пятом часу утра. Несмотря на позднее время, жены его еще не было дома. Оказалось, что она в ту же ночь поехала кататься с двумя кавалерами, брандмейстером пожарной дружины и его помощником.
Сильно опьяневший провизор вошел в свою комнату в верхнем этаже дачи и вскоре заснул как убитый. Проживавший на этой же даче Ведерников вышел на террасу и стал поджидать кассира Озерковского сада, который в это время подсчитывал в гостиной Краевского расходы по устройству цветочного праздника.
Через некоторое время утомившийся кассир незаметно для себя задремал, как вдруг почувствовал сильный жар. Очнувшись, он с ужасом увидел недалеко от стола сильное пламя. Горели сложенные на полу в большом количестве мешочки с конфетти. Перепугавшийся кассир поднял отчаянный крик о помощи, и прибежавший Ведерников стал тушить пожар. Однако пламя все разрасталось, в гостиной уже невозможно было дышать от дыма. Тогда, бросив бороться с огнем, Ведерников помог теще провизора выбраться из горевшей дачи, а затем побежал наверх будить самого Краевского. Но было поздно: пламя охватило комнату, и несчастный провизор сделался его жертвой. Все остальные обитатели дачи успели благополучно спастись, в том числе двое детей Краевского, и только гостивший у него титулярный советник Банду-ров, выпрыгнув со второго этажа, сломал при падении руку.
По окончании пожара, уничтожившего всю дачу, среди дымящихся развалин был найден обезображенный, обгоревший труп провизора.
Несмотря на тщательное дознание, причину пожара так и не удалось установить, и он был приписан неосторожному обращению с огнем.
Прошло три недели. О трагической смерти провизора стали уже понемногу забывать, как вдруг произошло следующее.
8 августа Ведерников, проживавший уже на другой даче, пригласил к себе местного станового пристава и заявил ему, что дача Краевского была нарочно подожжена им. Удивленному приставу Ведерников объяснил, что на преступление толкнула его Мария Краевская, жена сгоревшего провизора, желавшая во что бы то ни стало получить за уничтоженное огнем имущество большую страховую сумму.
Как выяснилось затем из его рассказа на предварительном следствии, Ведерников, молодой, 27-летний человек приятной наружности, несколько лет тому назад вместе с отцом приехал из Киева в Петербург. Старик Ведерников передал любимому сыну около 2000 рублей наличными деньгами и на 9000 рублей различного товара с тем, чтобы тот смог открыть в Петербурге собственное коммерческое предприятие. Но у молодого человека была тяга к другой деятельности. Быстро распродав весь товар за бесценок, он с головой окунулся в веселую круговерть столичной жизни, посвящая все свое время картам и игре в тотализатор. На красавца Ведерникова обратила внимание жена провизора Мария Краевская и вскоре же познакомилась с ним. В то время супруги Краевские жили сравнительно скромно, снимая небольшую квартиру на Николаевской улице всего лишь за 720 рублей в год. С первых же дней своего знакомства с Марией Краевской молодой человек, по его словам, страстно полюбил ее и уже через две недели находился с ней в близких отношениях. Муж, очевидно, догадывался об этой связи, но почему-то относился к ней индифферентно, и молодой человек в конце концов даже поселился в квартире Краевских. С этого времени, пользуясь деньгами Ведерникова, провизор с женой стали жить на широкую ногу, приобрели роскошную обстановку, лошадей и сняли квартиру за 2000 рублей. Необходимые средства к жизни Ведерников добывал исключительно карточной игрой. Ему поразительно везло, и за каких-нибудь четыре года он выиграл почти 60 000 рублей. Из этой суммы на Марию Краевскую им было истрачено 40 000 рублей. И все же бывали времена, когда он испытывал нужду в деньгах. В таких случаях ему обыкновенно щедро помогали его родные.
Но в 1900 г. фортуна повернулась к нему спиной, и после ряда неудач он решил бросить карточную игру. С тех пор он стал уже серьезно нуждаться и приходил в отчаяние, когда Мария Краевская настойчиво требовала от него денег, осыпая его упреками.
Весной прошлого года жена провизора под секретом сообщила ему, что она придумала способ, как добыть много денег. По ее словам, для этого стоило только нанять где-нибудь дачу и, застраховав обстановку на большую сумму, поджечь ее. Ведерников, по его утверждению, пришел в ужас от такого плана легкой наживы и решительно отказался от приведения его в исполнение. Но Краевская стала настойчиво убеждать его в том, что затея эта совершенно безопасна, ссылаясь на то, что она однажды уже поджигала свое имущество в Одессе и была оправдана судом. Безумно влюбленный в Краевскую, Ведерников наконец согласился на ее ужасное предложение. Подыскав вскоре дачу в Шувалове, они обставили ее мебелью и застраховали все имущество на 12 000 рублей. Затем, чтобы обмануть бдительность местной полиции и пожарной дружины, молодой человек заарендовал от имени Санкт-Петербургского велосипедно-атлетического общества Озерковский сад с театром и записался в члены пожарной дружины. Когда Парголовское добровольное пожарное общество стало готовиться к устройству 15 июля «праздника цветов», он принял в этом живейшее участие и предложил для праздника Озерковский сад. Мария Краевская решила воспользоваться удобным случаем для преступного замысла и назначила поджог дачи в ночь на 16 июля, рассчитывая на то, что большинство пожарных дружинников напьются по случаю праздника допьяна.
Все шло по плану. По окончании «праздника цветов» супруги Краевские пригласили на ужин в Озерковском саду в числе других лиц пожарного брандмейстера Лоренсона и его помощника Мордуховского. За ужином много пили и, когда все уже достаточно опьянели, жена провизора начала жаловаться, что будто бы извещения о «празднике цветов», расклеенные в Шувалове и Озерках на заборах, по небрежности были сверху закрыты театральными афишами. Когда с ней заспорили по этому поводу, она под предлогом проверки сказанного ею пригласила с собой брандмейстера и его помощника и увезла их в своем экипаже. Перед отъездом она условным взглядом дала понять Ведерникову, чтобы он не упустил случая осуществить их преступный замысел.
Отправившись с провизором на его дачу, молодой человек из желания отвлечь подозрение в поджоге пригласил с собой и кассира сада будто бы для подведения счетов.
Утомленный бурно проведенным днем и под воздействием выпитого в изрядном количестве вина кассир вскоре заснул. И тогда Ведерников поспешно зажег спичкой хранившиеся в мешочках конфетти. Огонь мгновенно охватил комнату, и, желая спасти спавших обитателей дачи, Ведерников бросился будить их.
К его ужасу, сам Краевский не успел покинуть дачу и сделался жертвой огненной стихии. Его страшная смерть совершенно не входила в планы поджигателя и жены провизора и сильно поразила их.
После пожара Ведерников вместе с вдовой, ее матерью и детьми покойного провизора перебрался на другую дачу в том же Шувалове. И тут отношения Краевской к молодому человеку почему-то вдруг резко изменились, она начала упорно избегать его и завела довольно странную дружбу со своим кучером, крестьянином Алексеем Полозом. Она по целым часам гуляла с кучером, всячески симпатизировала ему и даже дарила дорогое белье. Вернувшись однажды в неурочное время домой, Ведерников, к своему удивлению, увидел через стеклянную дверь, как ненавистный кучер в одном белье выходил из спальни вдовы провизора.
Через некоторое время Ведерников заметил, что хозяйка и кучер часто о чем-то таинственно шепчутся между собой. Почуяв неладное, он стал подслушивать разговоры, но смог уловить лишь отдельные слова: «убить», «отделаться», «отравить». Молодой человек понял, что его жизни угрожает опасность, и решился наконец признаться в тяготившем его преступлении.
Предварительное следствие установило, что покойный Краевский занимался в аптечной лаборатории Глокова изготовлением желатиновых капсул и зарабатывал до 200 рублей в месяц. Но, по-видимому, у него были и другие доходы. Платя за одну лишь квартиру свыше 2000 рублей в год, он держал дорогих лошадей и проживал ежегодно не менее 7000–8000 тысяч рублей. Кроме детей от первого брака в квартире провизора жила и старушка Л. А. Брюнэ, мать его второй жены Марии, заменявшая по большей части кухарку. Эту старушку супруги Краевские выдавали за очень богатую родственницу и, нанимая квартиру на ее имя, рассказывали, что они живут на ее деньги. Одна из комнат квартиры провизора была занята А. А. Ведерниковым, но, несмотря на то, что он числился жильцом, молодой человек держал себя на положении хозяина и, как выяснилось из расследования, всем было известно о любовной связи его с Марией Краевской. На родственников своего мужа Мария Краевская производила крайне неблагоприятное впечатление, они считали ее двуличной, распущенной женщиной. Тем не менее благодаря сильному характеру она сумела совершенно подчинить себе и мужа, и Ведерникова, отличавшихся слабой волей. Молодой человек горячо ревновал ее ко всем другим мужчинам, и на этой почве между ними нередко происходили крупные ссоры и бурные объяснения. Но вскоре после очередной размолвки Ведерников искал примирения с любимой женщиной, привозя ей фрукты, вино и другие различные подарки.
После пожара, послужившего причиной смерти Краевского, молодой человек заметно изменился в обращении, сделался неестественно рассеянным и грустным. На лице его постоянно лежал оттенок меланхолической задумчивости. К этому времени относится внезапное расположение вдовы провизора к своему кучеру, который, в свою очередь, стал развязно обходиться с ней, постепенно входя в роль «барина».
После ареста кучера и его хозяйки последняя не переставала заботиться о нем, передала ему через урядника свои носовые платки и полотенце и тревожилась, не обеспокоил ли его внезапный арест.
На основании показаний Ведерникова вдова провизора была привлечена к следствию в качестве обвиняемой в поджоге. Однако она упорно отрицала свою виновность и утверждала, что пожар на даче произошел помимо ее ведома, вследствие чьей-либо неосторожности с огнем.
На предварительном следствии она рассказала, что познакомилась с Краевским еще в Одессе и после смерти его первой жены вышла за него замуж. Во время совместной жизни на их одесской квартире неожиданно случился пожар, и, заподозренные в умышленном поджоге, оба они были арестованы. Хотя окружной суд и оправдал их, но процесс наделал в Одессе много шума, и Краевский принужден был покинуть город и переехать в Петербург. За ним вскоре последовала и жена, которая, получив от страхового общества 15 000 рублей за сгоревшее имущество, наняла в Петербурге, на Николаевской улице, квартиру в несколько комнат. Часть из них она стала сдавать внаймы, и одну из них занял Ведерников. По словам обвиняемой, этот молодой человек начал ухаживать за ней и, добиваясь взаимности, бешено ревновал ее ко всем знакомым. В особенности же усилилась его ревность после смерти мужа. Заметив холодное отношение к нему со стороны молодой женщины, он пришел в отчаяние и пригрозил отомстить ей доносом, что она будто бы подожгла дачу в Шувалове.
Из свидетельских показаний выяснилось, что по приезде Краевских из Одессы в Петербург оба они крайне бедствовали. Заработок провизора в это время был настолько ничтожен, что Мария Краевская вынуждена была поступить певицей в сад «Помпей», где дебютировала под именем Margot Sans-Gene. Впрочем, успеха на эстраде она не имела, но зато завела знакомства с некоторыми офицерами, и они стали давать ей средства к жизни. Затем у нее завязался роман с Ведерниковым, после чего она уже оказалась в состоянии нанять большую квартиру и завести дорогую обстановку и лошадей.
В ходе предварительного следствия по этому делу в руки помощницы начальника дома предварительного заключения попало письмо Ведерникова, адресованное Марии Краевской. Письмо это было написано на французском языке по просьбе Ведерникова Василием Трахтенбергом, также содержавшимся в доме предварительного заключения по обвинению в мошенничестве.
В перехваченном письме Ведерников сообщал Краевской, что она ни в чем не виновата, так как он возвел на нее ложное обвинение, и что он спасет ее чистосердечным признанием на суде.
Когда же Ведерникова стали спрашивать о содержании письма, он просил не придавать последнему никакого значения. Из его объяснений выходило, что перехваченное письмо было будто бы ложно написано с целью обмануть Краевскую и вызвать ее на переписку с Ведерниковым.
Кучер Краевской, как не имеющий отношения к поджогу дачи, был освобожден из-под ареста, а его хозяйка и Ведерников были преданы суду.
28 февраля 1902 г. оба они предстали перед присяжными заседателями.
Дело слушалось в Санкт-Петербургском окружном суде под председательством Д. Ф. Гельшерта.
Еще до начала суда зал заседания буквально осаждался многочисленной публикой, но ее пускали только по билетам, разобранным за несколько недель до этого.
Подсудимых защищали: А. А. Ведерникова — присяжный поверенный Марголин, М. И. Краевскую — присяжные поверенные Нестор и Зейлингер (защищавший ее ранее в Одессе).
Со стороны гражданского истца, Русского страхового общества, выступал присяжный поверенный Мандель.
Обвинительную власть на суде представлял товарищ прокурора Зиберт.
И вот оба обвиняемых предстали перед судом. Ведерников — статный молодой человек, лет 27, брюнет. Особую привлекательность ему придавали матовая бледность лица, изящные черные усы и жгучий взгляд выразительных глаз. Просто, но со вкусом одетый, подсудимый держался с достоинством, производя на публику приятное впечатление. Образование он получил в киевском реальном училище.
Подсудимая Краевская вошла в зал, едва держась на ногах от волнения. Но, сев на скамью, она, по-видимому, быстро освоилась со своим положением и приняла непринужденный вид. Молодая женщина, 30 лет, француженка по происхождению, особой красотой не отличалась, хотя и была не лишена некоторой доли миловидности и пикантности. К Ведерникову проявила очевидное недружелюбие и села далеко от него, на противоположном конце скамьи. Родившись во Франции, она не умела ни читать, ни писать по-русски и понимала только разговорный язык.
Старшиной присяжных заседателей был избран статский советник А. А. Чагин.
По прочтении обвинительного акта председательствующий обращается к Ведерникову с вопросом, признает ли он себя виновным в поджоге.
Наступает гробовая тишина, все глаза устремлены на подсудимого.
— Нет, не признаю, — слышится его твердый ответ.
Председательствующий задает тот же вопрос Марии Краевской.
— Нет, не виновата! — всхлипывает она и, закрыв лицо платком, судорожно рыдает.
Опрашивается первый свидетель — становой пристав С. Н. Не-дельский. Судя по его словам, Ведерников, сознаваясь в поджоге, говорил, что ему ничего более не остается делать. Любимая женщина изменила клятвам и унизилась до грубой, животной связи со своим кучером. После, однако, подсудимый спохватился и спрашивал пристава, может ли он взять обратно свое обвинение Краевской. «Я ее очень люблю, и мне все-таки жалко ее», — признавался молодой человек.
— Я действительно говорил тогда неправду, — подтверждает свои слова Ведерников, обращаясь к судьям. — Эта женщина меня так измучила, что я не мог владеть собой.
— Значит, вы к суду прибегли только для того, чтобы свести свои домашние счеты? — спрашивает председательствующий.
— Меня тогда все угнетало. Я был в отчаянии от измены любимой женщины и выдумал обвинение, чтобы отомстить ей.
— Почему же вы поддерживали эту ложь и после?
— Я не мог сказать прокурору и судебному следователю, что это была шутка с моей стороны. Да если бы я и сказал, то мне все равно не поверили бы, так как следователь, по-видимому, был уже твердо убежден в обратном. Вообще, я запутался в этой истории, попал в какую-то западню, из которой может вывести только суд.
— Но вы же сами устроили себе эту западню, — заметил председательствующий.
Полицейский урядник К. Людорф показал, что, сознавшись в поджоге, Ведерников стал говорить, что он все-таки не виноват, как-то странно смеялся, бравировал и вообще старался казаться очень веселым, так что урядник невольно подумал, уж не с ума ли сошел молодой человек.
Свидетель И. Ф. Краевский, брат покойного провизора, рассказал, что супруги Краевские приехали в Петербург из провинции лет семь тому назад. Первоначально они жили очень скромно. Э. Краевский получал в какой-то аптеке всего 50 рублей жалованья и постоянно нуждался в деньгах. Когда Ведерников познакомился с супругами Краевскими, они перестали вдруг бедствовать и зажили в полное свое удовольствие. Необходимые средства к жизни, очевидно, давал им Ведерников.
— Он помогал от доброго сердца, — прибавляет свидетель. — Это был хороший молодой человек. Между ним и обоими супругами существовали самые милые, добрые отношения. Это была как бы одна семья, тесно сплоченная родственными узами.
Присяжный поверенный М. К. Адамов, председатель Парголовского пожарного общества, нарисовал яркую картину пожара дачи Краевского на рассвете 16 июля.
По окончании «праздника цветов» свидетель возвратился домой и узнал о пожаре только утром. Он немедленно помчался на лошадях к даче Краевского и нашел ее уже всю в огне.
Деревянный двухэтажный дом представлял собой сплошной костер. Едкий, удушливый дым застилал глаза, и добровольцам-пожарным ничего не оставалось, как стараться локализовать огонь. Соседние постройки были спасены, но дача провизора сгорела до основания. На пожаре свидетель встретил также и Ведерникова. Он был одет в пожарную форму, с каской на голове и казался страшно возбужденным. Растерянно отвечая на расспросы, он беспомощно бегал с топором в руке и со слезами просил спасти остававшегося на даче провизора.
Подсудимого присяжный поверенный Адамов охарактеризовал как скромного молодого человека, добавив, что, по слухам, Ведерников спас кого-то во время пожара.
Когда свидетель узнал о поджоге, он был сильно поражен совершенно неожиданным для него признанием Ведерникова. Молодой человек жаловался на свою разбитую жизнь и говорил, что ему изменила любимая женщина, променяв его на простого кучера, и вместе с новым любовником собирается спровадить его на тот свет.
В заключение Адамов объяснил, что извещения о «празднике цветов», как утверждала Мария Краевская, действительно были закрыты наклеенными сверху театральными афишами. Что же касается увоза Марией Краевской пожарного брандмейстера и его помощника, то это обстоятельство нисколько не могло помешать тушению пожара.
Пожарный брандмейстер Лоренсон рассказал, что, уехав в ночь пожара с Марией Краевской из Озерковского сада, они вместо проверки афиш стали кататься по дачным районам и затем в каком-то ресторане пили лимонад. Когда они возвратились в Шувалове, дача провизора уже догорала.
Помощник брандмейстера А. Г. Мордуховский добавил, что во время поездки подсудимая ничем не обнаруживала своего волнения. Напротив, казалась очень спокойной и беспечно веселилась.
Другие свидетели рассказали о том, что первым вопросом Краевской по возвращении на сгоревшую дачу был: «Где мой муж?» «Он, должно быть, обжегся и поехал на перевязку», — стали успокаивать ее. Когда же она все-таки узнала о трагической смерти мужа, ей сделалось дурно.
Еще один свидетель, господин Шапиро, соседний дачник, рассказал о том, что подсудимый во время пожара принимал горячее участие в тушении огня, был обожжен и со слезами обращался ко всем:
— Я вас Богом умоляю, спасите Краевского.
Но никто не хотел рисковать своей жизнью. Дача со всех сторон пылала.
Ведерников зарыдал.
— Спасите же! Я дам сто рублей, озолочу! — дико кричал он.
Из показаний дворника сгоревшей дачи суду стало известно, что у Краевских было много различного ценного имущества, но перед пожаром никакие вещи с дачи не вывозились. Накануне пожара у них происходила большая стирка белья, которое тоже сгорело.
Кассир-управляющий Озерковского сада М. А. Островский рассказал, что сад этот был арендован Санкт-Петербургским велосипедно-атлетическим обществом исключительно на средства Ведерникова. «Придя в ночь пожара на дачу Краевского для подведения счетов, — объяснял кассир, — я курил папиросы и незаметно для себя задремал. Во время сна бывшая у меня в руках папироса могла упасть на лежавшие на полу мешочки с конфетти, отчего и возник огонь. Что касается Ведерникова, то он вообще не курит». После пожара, отметил свидетель, Ведерников сделался почему-то боязливым и приобрел даже револьвер для защиты. Краевская, бесспорно, имела на него большое влияние.
Подсудимая попросила слова, чтобы дать объяснения относительно своей совместной жизни с покойным мужем. Говорила она волнуясь, с сильным французским акцентом, едва сдерживая рыдания. Ничего нового следствие от нее не узнало. Квартирная обстановка, ставшая добычей огня, по ее словам, стоила очень дорого. После пожара в Одессе супруги Краевские получили до 16 000 рублей страхового вознаграждения, и это дало им возможность жить более широко.
После смерти мужа безумно полюбивший ее Ведерников стал настаивать, чтобы она вышла за него замуж. Но она считала неудобным так скоро вступать в новый брак после трагической смерти супруга. Существование каких бы то ни было интимных отношений между ней и подсудимым она решительно отрицает.
Казначей Велосипедно-атлетического общества, господин Александров рассказал, что видел подсудимого после пожара с обожженными лицом и рукой. Ведерников был одет в довольно плохой костюм и сообщил ему, что все его вещи сгорели. Свидетель не считал его способным на такое преступление, как поджог.
Из дальнейших свидетельских показаний выяснилось, что Ведерников постоянно ревновал Краевскую. Так, он был очень недоволен ее поездкой в ночь пожара в компании бравых добровольцев-пожарных. Позже свое недовольство он мотивировал тем, что если бы она сразу вернулась из сада домой, то спасла бы мужа.
После катастрофы подсудимый начал жаловаться госпоже Александровой на участившиеся поездки Краевской в Петербург в компании с фатоватым кучером. Каждый раз, поздно вечером, он ревниво ожидал на станции их возвращения.
Однажды Ведерников застал кучера в комнате Краевской. Он держал себя очень непринужденно с барыней, развязно говорил и помогал ей подрубать платки. Ведерникова взорвала такая фамильярность, и он устроил Краевской целый скандал. Бешеная, дикая ревность всецело поглотила его.
Сделав донос на любимую женщину, молодой человек озлобленно хохотал, прыгал и вообще вел себя как бесноватый. «Я обвинил ее, я обвинил!» — чуть не плясал он.
Когда чувство жалости закралось в его душу, он попробовал объясниться с молодой женщиной и покинул ее еще более озлобленный. «Подлая, она не стоит, чтобы я простил ее!» — возмущенно кричал он.
От него же госпожа Александрова слышала, что он мстит вероломной женщине.
Странные родственные отношения Ведерникова в семье провизора были известны и многим другим свидетелям.
Гнетущее впечатление произвел на публику опрос дочери сгоревшего провизора Марии, симпатичной 13-летней девочки. Она, видимо, была весьма напугана официальной обстановкой суда и очень волновалась.
Девочка замечала загадочное отношение молодого квартиранта к ее мачехе. Особенно ее удивляли часто происходившие между подсудимой и молодым человеком резкие ссоры из-за мужчин. Молодой человек приходил в состояние раздражения, негодовал на свою квартирную хозяйку, но вскоре опять мирился с ней. После пожара отношения между Краевской и Ведерниковым стали все более и более обостряться. Молодая женщина ходила гулять со своей падчерицей в сопровождении кучера и боялась, что квартирант когда-нибудь застрелит ее. Во время последних ссор она открыто говорила Ведерникову, что не хочет более видеть его у себя на даче.
По словам одной из квартиранток Краевских, мадемуазель Н. Томара, Ведерников в семье провизора был своим человеком, он очень хорошо относился к детям Краевского, заботливо ухаживая за ними.
Брат покойного провизора, Генрих Краевский, сразу же обрушился с целой обвинительной речью на обоих подсудимых. Тем не менее тут же, на суде, выясняется, что после трагической смерти брата свидетель ничем не помог осиротевшим детям и даже не присутствовал на похоронах. Мало того, им оспаривается право на наследство после другого умершего брата, доктора Владислава, у его незаконнорожденной дочери.
Второй брат провизора, Сигизмунд Краевский, также считает подсудимых виновными в поджоге дачи.
На вопрос председательствующего, когда он в последний раз видел своего брата, свидетель ответил: «За год до его сожжения», — особенно подчеркивая последнее слово.
— Подсудимая, жена моего несчастного брата, была… — он не договаривает и делает многозначительный театральный жест в сторону Ведерникова.
— Квартира моего брата превратилась в вертеп! — восклицает свидетель. — Бедный мой брат! Его сожгли, иначе я не могу выразиться. За него ответят перед судом Божиим! — кричит он. — Он на вас смотрит!
— Вы, кажется, сами же говорили, что у судебного следователя немного увлекались? — пытается охладить пыл свидетеля защитник.
Далее обнаруживается, что и этот свидетель является претендентом на наследство покойного доктора Владислава Краевского, а также выясняется, что горячей любви, которую он пытается изобразить на суде, к погибшему брату никогда не испытывал. Последние пять лет братья были в ссоре из-за того, что свидетель продал какую-то дорогую вещь и получил за нее деньги, между тем как покойный доктор считал эту вещь своей собственностью.
Следующим свидетелем в зал суда приглашается крестьянин Алексей Полоз.
Сотни глаз впиваются в вошедшего. Дамы поднимаются со своих мест, чтобы лучше рассмотреть красивого, франтоватого кучера, предполагаемого счастливого соперника Ведерникова. Это молодой человек, лет 27, выше среднего роста, прилизанный, с тонкими кривоватыми ногами. Одет прилично, в белом воротничке и брюках навыпуск. Чисто выбритое лицо его с небольшими подстриженными усами несколько вульгарно. Держится непринужденно. Вполне подходит на роль сердцееда в кругу простых людей.
По-видимому, раньше он находился на военной службе, потому что на все задаваемые ему вопросы отвечает: «так точно», «никак нет» и «не могу знать». О своих отношениях к хозяйке говорит очень сдержанно, не позволяя себе ни одного намека на близость с ней.
Полоз рассказал, что на службу к Краевским он поступил недели за четыре до пожара и долго не подозревал о разыгрывавшейся ревности Ведерникова. После пожара Краевская, перебравшись на другую дачу, приказала ночевать на этой даче и Полозу, раньше обыкновенно спавшему при конюшне на другом дворе, объяснив это тем, что в доме только две женщины и она боится.
Кучер спал в мезонине, «от скуки» подрубал хозяйке полотенца и ездил с ней в Петербург в одном и том же вагоне и на одном извозчике.
В первых числах августа, когда Ведерников, озлобленный поведением молодой женщины, добивался от нее объяснения, она, испугавшись его гнева, заперла свою комнату и дверь, которая вела в помещение кучера.
— Зачем же вы-то были заперты? — спрашивает председательствующий.
— Не могу знать, — коротко отвечает Полоз, плутовато поглядывая по сторонам.
Из дальнейших показаний свидетеля выяснилось, что Ведерников в последнее время был в высшей степени возбужден, бегал по комнатам Краевской с револьвером и угрожал смертью. Спал он одетый, не расставаясь с револьвером. Падчерица Краевской тайно забрала у него оружие и передала мачехе, а та отдала револьвер Алексею Полозу. Дарила она кучеру также дорогие батистовые платки и разные вещи из белья покойного мужа.
6 августа Ведерников возвратился на дачу в полночь. В доме царило полнейшее безмолвие. Он позвонил в дверь, но никто не ответил. Он позвонил еще и еще раз. Послышались чьи-то шаги. Молодой человек через стеклянную дверь попытался рассмотреть, что происходит, и увидел испуганно выбежавшую из кухни полуодетую Краевскую. Из этой кухни ход шел наверх, к кучеру. Ведерников почувствовал себя опозоренным, ревность вспыхнула в нем с новой силой.
Свидетельница Александрова сообщила суду, что подсудимый в разговоре с ней как-то проговорился, указав причину, почему Краевская предпочла ему своего грубого, невежественного кучера.
— Что ж это за причина? — спрашивает председательствующий.
— Ах, я не могу, мне неприлично сказать это, — смущается она.
Из показания доктора Зильберга, состоявшего врачом дома предварительного заключения, выяснилось, что у арестованного Ведерникова была форменная истерия. Его мучили сильные головные боли и нервные припадки. Он часто плакал от безотчетной тоски и повторял, что ложно оговорил любимую им женщину, так как испытывал мучительное чувство ревности.
После опроса еще нескольких свидетелей суд приступил к чтению письменного показания умершей старушки Л. А. Брюнэ.
Она откровенно сознается, что на предварительном следствии неверно назвала Краевскую своей незаконнорожденной дочерью. В действительности она не знает, кто были родители Краевской. Когда Брюнэ проживала в качестве кухарки в Париже, какие-то незнакомые люди принесли к ней на воспитание маленькую девочку, дав ей 35 000 франков. Через некоторое время Брюнэ получила от неизвестного еще 5000 франков, но более уже не имела ни малейшего известия о таинственных лицах, принявших участие в судьбе ребенка. Когда девочка подросла, Брюнэ отдала ее в пансион при одном из женских католических монастырей. Достигнув зрелого возраста, воспитанница приехала из Франции в Одессу, служила здесь гувернанткой и наконец вышла замуж за провизора Краевского. Ввиду своего таинственного происхождения Мария Краевская называла себя иногда виконтессой и сильно сердилась, когда находились те, кто не верил ей.
В качестве певицы «Помпея» она выступала раз десять, не более, и потерпела неудачу.
Судебное следствие подходит к концу. С речью выступает прокурор.
Напомнив присяжным заседателям, что всякое сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого, он замечает, что к этому принципу надо относиться осмотрительно.
— Мы явились сюда не защищать, не обвинять и не оправдывать, а судить, — говорит он. — В данном деле необходимо тщательно разобраться. Хотя и имеется признание одного обвиняемого, но оно в делах уголовных играет незначительную роль.
Переходя к сущности процесса, товарищ прокурора обрисовывает слабохарактерную личность подсудимого, попавшего в цепкие руки хитрой, настойчивой женщины с твердой волей. Обуревающая его страсть приводит к тому, что он вскоре становится послушным орудием в ее руках. Женщина эта влечет его за собой по наклонной плоскости, доведя наконец до позорной скамьи подсудимых. Только дикая, слепая ревность, желание насладиться местью заставили его раскрыть преступление. Обвинитель уверен, что это преступление действительно было. В противном случае трудно вообразить, чтобы Ведерников из-за одной лишь мести мог ложно оговорить женщину, посадить ее на семь месяцев в тюрьму, лишив бедную, осиротевшую девочку матери.
В общем, товарищ прокурора поддерживал обвинение против обоих подсудимых.
Выступивший со стороны страхового общества присяжный поверенный Мандель также находил поджог дачи Краевского несомненным фактом.
Среди публики возникает вдруг сильное волнение. Многие встают со своих мест, в задних рядах происходит невообразимая давка. Так присутствующие реагируют на то, что свою речь начинает присяжный поверенный С. П. Марголин, защищающий Ведерникова.
«Приглядитесь к семье Краевских в период их первого знакомства с Ведерниковым, и вы увидите семью особого типа, — начал он. — Во главе ее стоял человек весьма обязательный и уступчивый. Его жена, Мария Краевская, шесть лет тому назад казалась очаровательной светской дамой. По слухам, она вела свой род от таинственного виконта, проживающего на юге Франции. Теперь следствием обнаружено, как эта женщина завоевала свое общественное положение. В доме Краевских было весело и уютно. Приходившие туда молодые люди играли там в карты, пили вино, ухаживали за хозяйкой.

МАРГОЛИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
Родился в 1853 г. По окончании Санкт-Петербургского университета прослушал полный курс Военно-юридической академии. С 1879 по 1881 г. состоял кандидатом на военно-судебные должности и участвовал в качестве защитника в некоторых известных процессах того времени. После громкого дела о Макшееве (интендантские злоупотребления) в 1882 г. перешел в общую адвокатуру и дебютировал защитником в сенсационном деле Мироновича, обвинявшегося в убийстве Сарры Беккер. Своими блестящими речами вскоре завоевал широкую популярность. Принимал участие в громких процессах в Петербурге и провинции. Среди них: процесс гельсингфорских инженеров, длившийся два месяца, дело «Черной банды», судебное разбирательство по делу Юлиана Геккера (убийство) и многие другие. Должен был выступать по известному делу бывшего священника Гапона, но неожиданно скоропостижно скончался, находясь за границей.
(Данные приведены на 1910 г.)
И вот в это время приезжает в Петербург Ведерников — молодой провинциал, мешковатый и неловкий, с аляповатыми галстуками, не испорченный светом юноша. Как теперь установлено, молодой человек не обладал ни силой воли, ни твердым характером. Он сентиментальный и чувственный. 21 год… Весна жизни, предчувствие волшебного счастья, утро чудного дня. На одном из балов он был замечен Краевскою, и с этой минуты в его жизнь ворвалась восторженная любовь. Это юношеское чувство одним дает счастье, наслаждение и покой, другим — несчастье и муки. Что случилось здесь, мы знаем. Через дымку свидетельских показаний нам рисуются их интимные отношения, подернутые чем-то нездоровым. Мы видим в этих отношениях непрерывное чувственное возбуждение, взрывы страстей, едкое и жгучее сладострастие». Установив, что в центре настоящего дела мутный поток страстей, защитник подсудимого перешел к изложению доказательств, опровергающих обвинение. Защитник указывает на спокойствие Ведерникова и Краевской перед возникновением пожара. Подсудимые не могли не понимать, к чему ведет поджог сухой деревянной постройки, наполненной людьми. Обвинение рисует госпожу Краевскую женщиной безнравственной, способной на все, но область половой порочности не исключает чувства любви к своей матери, всегда жившей подле нее, и к детям мужа, Марии-Антуанетте и Жоржу. «16 июля, в 6 часов утра, в верхнем и нижнем помещении дачи спали дети, мать 70 лет, покойный Краевский, — продолжал речь защитник. — Могла ли она «заказать» поджог такой дачи и в то же время спокойно отправиться с двумя молодыми людьми в местечко Юкки, отстоящее от места пожара на несколько верст? Мы расспрашивали спутников о поведении Краевской. Нам отвечали: «Она была весела, смеялась, мы не заметили никакого признака волнения и притворства». Такого же рода поведение Ведерникова. Он нянчится с детьми, устраивает им елку, проводит ночи подле больного Жоржа. Обвиняемая Краевская могла заставить подсудимого бросить мать, сестер, проводить время в притонах карточной игры, но не поджечь дачу, наполненную детьми. На такое дело подсудимый решиться не мог по свойству своей натуры, в сущности, мягкой и доброй. Посмотрите на образ действий обвиняемого во время пожара и вы увидите, что поведение Ведерникова не совпадает с поведением человека, умышленно совершившего поджог. Подсудимый спасает Брюнэ, получает значительные ожоги и вновь бросается в огонь, чтобы попытаться вытащить Краевского. Его удерживают дружинники, он вырывается, молит о спасении, рыдает и требует помощи. Пожар случился в 6 часов утра, когда часть населения Озерков была на ногах. На улицах уже появились разносчики, дворник дома мел сад, горничная развешивала белье. Нельзя не признать, что для поджога были выбраны время и обстановка, не отвечающие аттестации подсудимых как умных преступников. После пожара обвиняемые переселяются на дачу Строгонова, между ними происходят постоянные ссоры, и наконец, спустя три недели, подсудимый приносит повинную. Представитель обвинения говорит: «Слабый человек совершил деяние свыше своих сил. Им овладела скорбь о погибшем, и он принес повинную следственной власти». Неужели вы разделите такое убеждение? Вам рисуют Марию Краевскую как натуру сильную, хитрую, почти демоническую. Ее сообщник терзается совестью. Что же делает она во избежание появившейся опасности? Где ласки и чары, отуманивающие его ум, при помощи которых она цепко держит его в своих руках? Всмотритесь в события этого времени и вы заметите, что обвиняемая почти всегда подле кучера Полоза. Как могла эта женщина пренебрегать гневом подсудимого и смеяться над его страстью, отравленной общим преступлением? Пусть разъяснит обвинение эту загадочную для нас психологию. 9 августа подсудимый пришел с повинной. Допрошенный урядником и помощником пристава, он заполнял свои объяснения бесконечными рассказами о связи обвиняемой с Полозом, об их ночных свиданиях, прогулках подле озера, поездках в Петербург. Он требовал немедленного ареста кучера и тут же по секрету сообщил полицейским властям, что никакого поджога не было. Находясь в доме предварительного заключения, он признается в своем ложном оговоре отцу, матери, сестрам, госпоже Александровой, помощнику начальника тюрьмы, посылает Краевской свои последние деньги, молит ее о прощении, осыпает укорами. Всем казалось, что этот человек не преступник. Все его жалели и инстинктивно чувствовали, что за этим признанием кроется что-то другое. Ведь на самом деле в распоряжении обвинительной власти только одна улика — это явка с повинной, содержащей в себе оговор Краевской. Присмотритесь внимательно к этой улике и вы увидите, что в рассказе подсудимого правдиво только то, что Краевские жили в Петербурге, что, переехав на дачу, они застраховали свое имущество, что Ведерников поступил в пожарную дружину и что 16 июля был праздник. Равным образом правдиво и то, что после праздника госпожа Краевская уехала кататься и что пожар произошел в 6 часов утра от загоревшихся мешочков с конфетти. Все остальное содержание оговора — плод фантазии, полное взаимных противоречий. Разве может умная женщина, уезжая в 5 часов утра с двумя дружинниками, «заказать» поджог на 6 часов утра, несмотря на присутствие посторонних лиц? Почему была пропущена темная июльская ночь, когда все члены семьи были на празднике? Почему Краевская не предупредила своего мужа? Судебное следствие обнаружило источники, откуда исходило благосостояние дома Краевских. В течение многих лет подсудимыйВедерников играл в карты дома, в гостях, во всех клубах. Его посылали за добычей каждый день. Широкие траты по дому не давали ему отдыха. Ночная жизнь истощала его силы. Перед нами человек, расточивший свою жизнь, замучивший себя излишествами, истощенный и страшно усталый. Наблюдая Ведерникова в последних числах июля месяца, мы видим его жалким, бессильным, с истерическими припадками». Затем присяжный поверенный Марголин обрисовал душевное состояние подсудимого, почувствовавшего себя отвергнутым. Истерическая борьба за свое положение в семье, взрывы безумной ревности и дикий экстаз мести бросили обвиняемого к прокурору. Охваченный чудовищными страстями, подсудимый отождествил свою месть с актом правосудия, создал улики и, гордый сознанием своей правоты, кинул неверной возлюбленной в лицо обвинение в поджоге. Свою речь защитник окончил призывом к присяжным заседателям оправдать обоих подсудимых. Защитник подсудимой присяжный поверенный А. П. Нестор обратил внимание присяжных заседателей на то, что представитель обвинения не придает значения снятию оговора со стороны Ведерникова потому, что он не сделал этого во время предварительного следствия. Однако это было сделано Ведерниковым, но не перед следователем, которого он, естественно, боялся, а перед помощником начальника дома предварительного заключения. И не вина Ведерникова, подчеркнул защитник, если объяснение его не дошло до следователя. Поджога не было. Следствием установлено, что два очень пьяных человека курили в комнате, наполненной легковоспламеняющимся материалом. Много нехорошего говорилось про Краевскую, но присяжные заседатели не забудут показания доктора Покровского, удостоверившего на суде ее лучшие качества — качества материнства по отношению к пасынку. Пристав впал в ошибку, поверив Ведерникову. Ошибку эту повторил следователь, но теперь возможно исправить ее, так как решительное слово еще не произнесено. Краевская в результате безумного шага Ведерникова лишена свободы и томится среди каменных стен одиночной камеры, ожидая своего освобождения на основании справедливого и авторитетного слова присяжных заседателей.

НЕСТОР АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Родился в Омске в 1856 г. Окончив курс Харьковского университета, в 1880 г. поступил на службу при Харьковской судебной палате. В 1884 г. назначен судебным следователем Виленского окружного суда, а в 1892 г. — членом Екатеринодарского окружного суда. В 1896 г. вышел в отставку и вступил в сословие присяжных поверенных. В качестве защитника принимал участие в процессах генерал-майора Пашкевича (обвинялся в ростовщичестве), надворного советника Кочубея (подлог и вовлечение в невыгодную сделку), Краевской (обвинялась в поджоге) и многих других. (Данные приведены на 1910 г.)
Небольшую, но убедительную речь в защиту Краевской произнес Зейлингер. Суд предоставил последнее слово подсудимой. Голос ее срывался от волнения и душивших ее слез: — Не виновата… Муж сгорел… Девочка осталась… Я в тюрьме… — И, не договорив, рыдая, она бессильно упала на скамью. Ведерников только молча встал перед присяжными заседателями. Прошло более получаса томительного ожидания, и наконец в пятом часу угра прозвучал отрывистый звонок. Наэлектризованная публика, как один человек, ринулась в зал. Все замерли в напряженном безмолвии. Торжественно вышли присяжные заседатели, и старшина начал читать вопросный лист. — Нет, не доказано — таков был ответ присяжных заседателей на поставленный им судом вопрос: доказано ли было, что дача Краевского сгорела от поджога? Истомившаяся публика облегченно вздохнула. Послышались радостные рыдания и крики. Председательствующий объявил А. А. Ведерникова и М. И. Краевскую свободными от суда и следствия.
УБИЙСТВО ПРОФЕССОРА ДОНБЕРГА

Летом 1900 г. в Петербурге неожиданно разыгралось кровавое преступление, жертвой которого пал известный профессор-окулист Императорского клинического института, действительный статский советник Г. А. Донберг.
20 июня, около часа дня, в квартиру его по Университетской набережной пришел один из знакомых профессора Юлиан Геккер. Хозяин принял его в своем кабинете. Не прошло и пяти минут, как вдруг до слуха стоявшего в коридоре, у парадных дверей, лакея из кабинета долетел звук выстрела, сопровождавшийся криком Донберга. Лакей побежал к дверям столовой комнаты и натолкнулся на выбегавшего профессора. В эту минуту раздался новый выстрел, пуля вонзилась в косяк двери, а около дверей столовой показался взволнованный Геккер и направил дымящийся револьвер в бежавшего по коридору профессора. Лакей бросился к стрелявшему, схватил его за руку и, несмотря на сопротивление, быстро обезоружил.
На выстрелы прибежал находившийся в квартире ассистент профессора, доктор Коневский. В одной из комнат он обнаружил Донберга. Он был сильно бледен, говорил с трудом.
— Меня Геккер ранил в живот, — объяснил он доктору Коневскому.
Тот немедленно уложил пострадавшего на диван и поспешил за льдом и сулемою. В дверях столовой ему навстречу попался сам Геккер.
— Что вы сделали! Вы человека убили! — возбужденно обратился к нему Коневский.
— Ну что ж? Очень рад, — спокойным голосом ответил убийца и спустился по лестнице в нижнюю квартиру, в которой проживала тетка его жены, Г. В. Рафалович. Вся семья Рафалович в это время сидела за завтраком, и Геккер ошеломил ее своим хладнокровным сообщением об убийстве профессора. Выпив стакан холодной воды, он снова поднялся в квартиру профессора, где и был задержан.
Несмотря на все усилия врачей, Донберг ночью скончался от раны.
Допрошенный в качестве обвиняемого в убийстве с заранее обдуманным намерением Юлиан Геккер сознался в своем преступлении.
По его словам, он еще в октябре 1896 г. случайно познакомился в г. Пскове с девицей Ольгой Андреевной Фрейганг, до безумия увлекся ею и вскоре предложил своей избраннице руку и сердце. Та согласилась несмотря на то, что жених был вдвое старше ее (Фрейганг было тогда 22 года). 3 ноября состоялась свадьба. Три года супружеская жизнь их казалась счастливой. Ольга Геккер, по-видимому, любила своего мужа и не скупилась на ласки, окружая его заботой и вниманием.
8 декабря 1899 г., когда они оба еще находились в постели, в спальню вошла прислуга и подала молодой женщине письмо. Быстро пробежав его глазами, Ольга, как показалось Геккеру, смутилась и поспешно разорвала письмо на клочки.
— Кто пишет? — заинтересовался муж.
— Портниха… Неинтересное… — отвечала она.
Геккеру, однако, показалось несколько странным ее поведение. Он подобрал валявшиеся клочки и попытался прочитать послание. Письмо было написано по-немецки. Кто-то, скрываясь за подписью «Н», извещал, что «сегодня нельзя чего-то сделать, а завтра в полдень». Присмотревшись к почерку, Геккер узнал в нем руку профессора Донберга, имя которого по-немецки писалось «Herman».
— Что это такое? — изумленно обратился Геккер к жене.
Молодая женщина расплакалась и после некоторого колебания чистосердечно призналась, что Донберг стал ухаживать за ней, обещал жениться и с этой целью советовал ей хлопотать о разводе с мужем. При этом профессор, по ее словам, просил по крайней мере до следующей весны ничего не говорить об их разговорах Геккеру.
Уверив мужа, что она осталась верной женой, Ольга передала ему хранившуюся у нее фотографическую карточку профессора. В тот же день Геккер отправился к Донбергу, переговорил с ним, взяв с него честное слово, что тот навсегда прекратит всякие ухаживания за его женой.
На следующий год, 7 мая, Ольга Геккер с согласия мужа переехала на отдельную квартиру, где открыла магазин дамских шляп. Отправившись 17 июня вечером к жене на квартиру, Геккер не застал ее, а утром, к своему удивлению, узнал, что она вовсе не ночевала дома. У него тотчас же зародилось подозрение, что Ольга снова возобновила свое знакомство с Донбергом и уехала на его яхту. Обуреваемый ревностью, Геккер достал из письменного стола револьвер и, зарядив его, отправился на поиски жены. Ее нигде не было в Петербурге. Узнав, что яхта Донберга «Гарри» стоит в Сестрорецке, Геккер поспешил туда и узнал от матросов, что жена его вместе с профессором провела две ночи на этой яхте и лишь 19 июня возвратилась в Петербург. Он оставил на яхте письмо, в котором требовал от Донберга назначить время для переговоров по «важному делу», и приехал обратно в Петербург. Отправившись затем на квартиру профессора, он решительно потребовал у него объяснить свое поведение. Профессор начал уверять его, что он не злоупотребил доверием молодой женщины и ни в чем не виноват перед мужем. Не доверяя его объяснению, Геккер стал настаивать на том, чтобы профессор женился на Ольге, взяв на себя расходы по бракоразводному делу, или же дал необходимые для этого деньги ему, Геккеру.
Донберг отказался жениться на молодой женщине, а относительно денег для развода предложил ее мужу явиться за ответом через несколько дней.
20 июня Геккер, захватив с собою револьвер, снова явился на квартиру Донберга. Находясь в возбужденном состоянии, он молча подал профессору письмо, в котором требовал восстановить честь его жены посредством женитьбы на ней. Профессор ответил отказом. Тогда Геккер, повторив свое требование еще два раза, выхватил револьвер и на расстоянии шести-семи шагов выстрелил в сидевшего против него Донберга.
Пострадавший профессор Донберг, опрошенный за несколько часов перед смертью, рассказал, что он действительно ухаживал за женой Геккера, но только до декабря 1899 г., когда он дал ее мужу слово прекратить свои ухаживания. После этого он видел ее лишь два раза — на балу и на обеде у ее родных. 10 июня он вдруг получил от нее письмо с жалобами на свою судьбу. Узнав из письма, что муж бросил ее без всяких средств к жизни, он навестил молодую женщину в ее магазине, а затем также послал ей письмо с приглашением приехать в Сестрорецк и провести воскресный день вместе с ним на яхте. Она охотно приняла его приглашение и две ночи провела на яхте, но в интимную связь с ним не вступала. После этого Геккер два раза навещал его в квартире и настойчиво заставлял жениться на его жене, требуя деньги на развод. В роковой день преступления Геккер, не дав ему даже дочитать врученное письмо, резко спросил: «Какой будет ответ?» Донберг не успел вымолвить ни слова, как вдруг раздался выстрел, и пуля попала ему в живот.
Письмо, поданное Геккером профессору, было следующего содержания:
«Милостивый государь Герман Андреевич! Счастливая случайность открыла мне 1 июня глаза на причину возбужденного состояния моей бедной, нервнобольной жены. Причиной этого — Вы, Ваши неблагородные и бесчестные поступки. Вам, как врачу, более чем кому-либо должна быть известна слабость воли таких субъектов и та легкость подчиняться чужому влиянию, которой вы не преминули воспользоваться с 17 по 19 июня. Поступок ваш подл. Вы — человек с положением, именем, проживший около полустолетия, так низко воспользовались своим влиянием. 8 декабря прошлого года я говорил с вами по этому поводу, и вы дали мне честное слово оставить ухаживание за моей женой. Исполнили вы его? Как называют людей, подобных вам? Для восстановления чести жены я требую от вас: 1) по получении развода со мной жениться на ней. У меня нет средств для ведения бракоразводного процесса, поэтому вы ссудите мне под вексель, обеспеченный моим страховым полисом, нужную сумму согласно требованию присяжного поверенного, которому мною будет поручено дело; 2) до окончания процесса во избежание ложных толков об отношениях ваших к жене моей вы не будете с ней видеться, то есть не будете вместе гулять, бывать в театрах и посещать ее квартиру, все должно ограничиться только письменной корреспонденцией. По прочтении немедленно прошу дать мне ваш ответ письмом же. Слову вашему больше не придаю значения. Ю. А. Геккер».
Дальнейшим следствием по этому делу было установлено, что Юлиан Геккер, потомственный дворянин, по оставлении военной службы имел частную службу и в 1896 г. заведовал материальным складом Рыбинско-Бологовской железной дороги с годовым содержанием в 2400 рублей.
После свадьбы супруги Геккер поселились в Пскове, перезнакомились почти со всем городом и стали жить на широкую ногу. Они часто выезжали на балы и вечера. Посещение театра сделалось их потребностью. Кроме того, госпожа Геккер сама принимала участие в любительских спектаклях и живых картинах. Они ездили также в Крым и за границу на известные курорты, нигде не отказывая себе в удовольствиях и развлечениях. Такая привольная жизнь длилась около трех лет. Само собой разумеется, жалованья Геккера не могло хватать на все это, и так как у него не было никаких других средств, то он стал вскоре запутываться в долгах. Между тем Ольга Геккер не задумывалась над затруднениями мужа, желала блистать в обществе и любила ухаживания мужчин, отвечая кокетством.
Для посторонних глаз совместная жизнь супругов выглядела нормальной, но это было обманчивое впечатление. В действительности же разность возраста, нехватка материальных средств и отсутствие нравственной связи между супругами постепенно подготовили почву для крупных семейных недоразумений. По-видимому, нелады в семье заставили Ольгу Геккер переехать в Петербург и поступить на высшие женские курсы. Здесь и завязалось ее роковое знакомство с профессором Донбергом. Он виделся с ней почти каждый вторник на обедах у госпожи Рафалович. Два раза молодая женщина была у него на квартире. Когда муж узнал об ее отношениях с профессором, семейная жизнь окончательно разладилась. Начались ссоры, и Ольга Геккер решила фактически разойтись с мужем. 18 февраля 1900 г. она выдала ему следующую расписку: «Я, нижеподписавшаяся Ольга Андреевна Геккер, даю сию расписку моему мужу Юлиану Антоновичу Геккеру в том, что обязуюсь с 1 мая 1900 г. не требовать от него ни гроша на мое содержание, если Юлиан Антонович даст мне 1 мая 1900 г. отдельный бессрочный паспорт. Нося фамилию мужа, обязуюсь вести себя прилично. Причина нашего разрыва — я, О. Геккер. С.-Петербург, 18 февраля 1900 г. PS. Обязуюсь и впредь никогда не возвращаться к мужу и не обращаться к нему за помощью. О. А. Геккер».
Женские курсы молодая женщина вскоре бросила и 7 мая переехала на новую квартиру, при которой открыла магазин дамских шляп. Муж время от времени навещал ее. Когда же он обнаружил, что жена находилась на яхте Донберга, то стал настаивать, чтобы Ольга попросила у последнего денег на развод и «не трепала бы его фамилии». Жена возразила, что профессор может отказать ей в этой просьбе. Геккер был в высшей степени раздражен этим заявлением, и на другой день в квартире Донберга разыгралась трагедия.
Юлиан Геккер прошел медицинское освидетельствование, которым было установлено, что он не имеет какого-либо психического расстройства и в день убийства находился в нормальном состоянии.
Дело рассматривалось в Санкт-Петербургском окружном суде под председательством Н. А. Чебышева. Обвинительную власть представлял товарищ прокурора господин Новицкий. Защищали подсудимого присяжные поверенные Марголин и Миронов. В качестве экспертов по делу привлечены профессора-психиатры — Нижегородцев и Чечогт.
Ввиду огромного наплыва публики в зал заседания пускали только по билетам. Масса любопытных, не попавших на процесс, заполняла обширный коридор суда, интересуясь исходом дела.
На скамье подсудимых Юлиан Антонович Геккер. Это видный, представительный мужчина, лет 45, с интеллигентной наружностью, в очках, с солидной бородой, расчесанной надвое. Он печален, держится с достоинством и производит приятное впечатление.
В суд было вызвано около 30 свидетелей. Жена обвиняемого на суд не явилась, отказавшись давать показания.
Геккер признал себя виновным и только отрицал заранее обдуманное намерение.
— Я находился в то время под гнетом чего-то ужасного, — стал взволнованно объяснять он. — Что-то подсказывало мне нехороший совет потребовать крови, но я поборол себя. 1 июня я оставил револьвер дома и отправился к профессору для переговоров. Глубоко оскорбленный, я вызвал его на дуэль, надеясь, что он, как бывший воспитанник Дерптского университета, где поддерживается рыцарский дух, не замедлит удовлетворить мое требование. Но получил отказ. Тогда я предложил ему другой исход из позорного положения — развод жены со мной, чтобы он женился на ней. Для бракоразводного дела нужны деньги, и я хотел обеспечить их выдачей Донбергу векселя под свой страховой полис. Он упорно отказывался от женитьбы и начал откладывать окончательные переговоры по этому делу со дня на день. То у него какое-то заседание, то он занят серьезной работой или должен отправиться на гонки в Гельсингфорс. Я не мог более терпеть… Моя честь страдала!
Подсудимый перестает говорить и начинает глухо рыдать.
— Позвольте мне, господин председатель, не продолжать далее, — прерывающимся, подавленным голосом произносит он. — В деле есть мои показания об этом.
Из прочитанного затем на суде показания Геккера, данного им во время предварительного следствия, выясняется, что он сам, желая дать большой простор желаниям жены, предложил ей поступить на высшие женские курсы. С этой же целью, чтобы не расставаться с ней, он решился оставить свое место службы и переехать в Петербург. Ольга Геккер очень обрадовалась его предложению. Вскоре все устроилось хорошо, и молодую женщину, знавшую иностранные языки и обладавшую прекрасной памятью, охотно приняли на курсы. Казалась, она была этим вполне довольна. Прошла ее нервозность, она стала веселой и жизнерадостной женщиной, прежние мелкие недоразумения с мужем были забыты. Но потом вдруг ее энергия сменилась апатией, она начала тосковать и плакать, устраивать супругу домашние сцены. Затем в ней внезапно пробудилась страстная любовь к мужу, и она стала умолять взять ее обратно в Псков. «Я не могу без тебя жить, мне скучно», — твердила она упорно. Остававшемуся еще в Пскове и только изредка навещавшему жену Геккеру было очень приятно, что он снова любим, он чувствовал себя в это время счастливейшим человеком на свете. Каких-либо подозрений у него не возникало.
По-видимому, и сама Ольга Геккер сознавала некоторые причуды своего характера и говорила мужу в минуту откровенности, что у нее существует двойственное «я». Одно «я» настоящее, хорошее, а другое — пришлое и злое. «Не обращай на это внимания, — нередко говорила она. — Я сама не знаю, что со мной делается». То она была доброй, любящей женой, то вдруг мучила мужа своим характером.
Так продолжалось вплоть до получения ею письма от Донберга, которое она поспешила разорвать. Когда произошло объяснение ее с мужем по этому поводу, она сказала:
— Как жена я перед тобою не виновата, но как человек я не оправдала твоего доверия. Я страдала и страдаю от этого. Прости и забудь.
Встревоженный ее странным поведением, Геккер начал усиленно хлопотать о переводе в Петербург, сознавая, что его жене, больной, впечатлительной женщине, необходима помощь близкого человека. В Ольге между тем все более наблюдалась перемена к худшему. Порой на нее находили припадки беспричинной злости, и она грозила совсем бросить мужа. Подсудимый предполагал, что это происходило после ее свиданий с Донбергом, который мог вселять в нее предубеждение к мужу.
«Я думаю, что многие предосудительные поступки она делала под влиянием гипнотического внушения», — утверждал в своем показании Геккер.
Очередной раз навещая жену, Геккер заметил в ее глазах хорошо знакомый ему злой огонек.
— До свидания, Лелечка, — стал он прощаться, покидая ее квартиру.
— Прощай, и навсегда, — загадочно ответила она.
Через несколько дней после этого она ночевала на яхте «Гарри».
Успокоившись, подсудимый продолжил свой рассказ о пережитой им тяжелой драме.
Когда он пришел к профессору с письмом, то не думал его убивать, а револьвер взял с собой только из боязни насилия с его стороны при объяснении.
Прочитав письмо, Донберг холодно заметил:
— Вы здесь очень много наговорили.
— Я вас категорически спрашиваю: угодно ли вам жениться на Ольге? — повторил свой вопрос Геккер.
Профессор медлил с ответом. Геккер смотрел на него в упор. Каким же подлым и гаденьким человеком выглядел в эти минуты Донберг! Ненависть захлестнула Геккера. Он сам не понимал, что с ним вдруг сделалось.
О своей жене Ольге, чье поведение стало главной причиной трагедии, обвиняемый отзывался хорошо. Ее ум, начитанность, скромность и красота при первом знакомстве с ней произвели на него неизгладимое впечатление. Она казалась ему почти идеальной женщиной, и, женившись, он посвятил ей всю свою жизнь. Ни в чем не отказывая ей, он за какие-нибудь три года израсходовал около 17 000 рублей, прибегая и к посторонним заработкам. Продолжал он ее любить и после, когда начали проявляться причуды ее характера. Он все надеялся, что нервы ее наконец успокоятся и она снова станет кроткой, любящей женой.
По показаниям свидетелей, покойный Донберг был симпатичным, всесторонне образованным человеком, с манерами джентльмена, имевшим только две слабости: любовь к спорту и к хорошеньким женщинам. Составивший себе громкую известность как окулист, искусный хирург и профессор Императорского клинического института, Донберг имел огромную практику, зарабатывая в год до 30 000 рублей. В отношении своих пациентов он был в высшей степени предупредителен и охотно оказывал помощь бедным больным, нередко помогая им из своих средств. Кроме того, он вообще помогал многим нуждавшимся, в особенности учащейся молодежи. В отношениях его с женщинами ничего предосудительного не замечалось.
Шкипер яхты «Гарри», Ю. Сандбанг, рассказал, что на яхте профессора иногда бывали и другие дамы, приезжавшие с кем-либо в компании. Ольга Геккер, как подтвердил юнга Туохино, в день своего прибытия на яхту была очень радушно встречена профессором. В салоне яхты появились чай и вино. На ночь профессор приказал поставить кровати в двух отдельных каютах, соседних между собой и выходивших дверями в салон.
О самом Геккере свидетели в большинстве отзывались очень хорошо. Находясь на военной службе, он участвовал вместе с другими войсками в русско-турецкой войне, затем лет пять занимался земледелием и, наконец, перешел на частную службу. Это был прекрасный, дельный человек, действительно глубоко любивший свою жену. Сестра последней, Наталья Фрейганг, отзывается о нем с большим уважением, она считала бы за счастье, если бы Геккер простил свою жену и снова сошелся с ней. Такого же мнения о подсудимом и другие родственники, считающие его добрым, любящим мужем.
Зато об Ольге Геккер отзывы были в высшей степени неблагоприятные.
Прислуга Краковяк рисует ее крайне грубой, дерзкой женщиной, которая не стеснялась в выборе выражений и ругалась, как хороший извозчик. Нисколько не уважая мужа, она открыто говорила, что любит только Донберга и выйдет за него замуж.
Узнав случайно, что профессор убит, она не поверила этому известию и послала купить номер газеты. Трагическая кончина Донберга, по-видимому, не прошла бесследно для нее, и она стала искать забвения в водке. После этого, по словам прислуги, к ней ходили и другие мужчины, причем она упрашивала прислугу скрывать это от всех, так как над ней был будто бы учрежден полицейский надзор. Поведение Ольги Геккер в это время вообще было странным. Она временами разговаривала сама с собой и плакала.
Мастерица из магазина Ольги Геккер, Трофимова, рассказала, что хозяйка часто бывла нервной и раздражительной, грубо обращалась с мужем. Незадолго до убийства профессора, после двухдневного отсутствия хозяйки, мастерица стала спрашивать ее, где она провела все это время.
— Была на яхте у Донберга, — последовал ответ.
— Неужели же вы все-таки остались чисты в своих отношениях с ним?
— О нет, после этой ночи мы уже с Донбергом близки, — развязно сказала будто бы Ольга Геккер.
Когда умер профессор, она вступила в любовную связь с каким-то молодым человеком. Отправляясь по утрам на могилу погибшего из-за нее профессора, она вечером принимала у себя на квартире своего любовника, не уклоняясь от посещений и других мужчин.
Ученица Плотникова, работавшая в ее магазине, слышала однажды, как Ольга Геккер раздраженно кричала мужу: «В ногах буду у Донберга валяться, а к тебе не пойду!»
Полное презрение сквозило в ее отношениях к подсудимому, и, взбешенный, он пригрозил как-то, что застрелит Донберга. «Если хочешь стрелять, то лучше в меня, — в ответ на это сказала она. — Только, пожалуйста, не в лицо».
С яхты она вернулась веселой и жизнерадостной и говорила всем, что чувствует себя очень счастливой и прекрасно провела время с профессором Донбергом.
Подозревая жену в неверности, Юлиан Геккер перед своим преступлением стал следить за Ольгой и подговорил прислугу жены наблюдать за всеми мужчинами, появляющимися на этой квартире.
По окончании допроса свидетелей были оглашены наиболее существенные для дела письменные документы. Вначале читается дневник Ольги Геккер, озаглавленный «Моя исповедь». Дневник этот она начала вести еще до замужества и записывала в него главным образом свои мысли и впечатления.
«При благоприятных условиях из меня может выйти искренно преданная, любящая жена, — говорится в начале дневника. — Приятно, когда есть цель в жизни, когда есть для кого усовершенствоваться и быть хорошим человеком… Я хочу видеть в муже авторитет, чтобы он являлся главой дома… Трудно прожить девушке без цели в жизни. Старая дева — это лишняя, скучная гостья на жизненном пиру… Думаю, что буду хорошей матерью. Мой идеал — воспитывать детей и развивать их нравственную сторону. Для семейного счастья надо, чтобы обе стороны поклялись никогда не иметь друг от друга секретов, чтобы они составляли одну душу (приводятся ссылки из сочинений Вольтера о семейной жизни). Писала совершенно секретно, что чувствую, что думаю, — не судите».
В другом месте дневника Ольга Геккер, будучи уже невестой Геккера, пишет: «Все равно, где ни жить. Мой идеал — ровная, покойная жизнь. Вдвоем с мужем — любимым человеком — это легко. Я готова пойти на всевозможные уступки, чтобы в доме был мир и довольство. Для мужа я готова сделать все, решительно все.
Я привяжусь к моему мужу, и его Бог будет моим Богом, его народ — моим народом (Юлиан Геккер — лютеранин из поляков). Детей своих я воспитаю в польском духе. Мой обожаемый Юля!.. Как я желаю, чтобы Бог помог мне доставить ему счастье! Я так непозволительно счастлива, что не знаю, как и отплатить. Все сделаю, чтобы он был счастлив, горячо любимый Юля… Эти строки писала моя душа, мое сердце».
После замужества, когда первый пыл страсти прошел, она заносит в свой дневник: «Меня он, кажется, не понимал и считал хуже, чем я есть… Я постараюсь переделать себя и заменить сварливость лаской. Постараюсь сделать Юлека счастливым, но прошу и его не делать мне неделикатных замечаний, хотя бы и наедине, не кричать и не ссориться из-за денег… Скандалов больше не буду делать… Теперь у меня два желания: поехать на воды и быть здоровой».
В своем письме из Мариенгофа в 1897 г. Ольга Геккер пишет: «Душа, золото мое, милый мой, желанный, душа Юлианчик, мой милый… Страшно скучно без тебя. Я бы отдала полмира, чтобы видеть тебя, расцеловать твои пухлые, аппетитные ручки… Зимой все улучшится, и характер свой, честное слово, изменю».
Судя по письмам, она в это время лечилась сеансами гипнотизма. Сеансы были неудачны, она засыпала и жаловалась мужу на «врачей шарлатанов», даром получающих деньги.
«Ненавижу знакомиться и глубоко ненавижу гостей обоего пола, — пишет она в другом письме. Моя духовная жизнь постоянно с тобой. Я влюблена в тебя и обожаю. Солнышко ты мое красное, пиши мне скорее. Обнимаю тебя и целую так же горячо, как люблю. Горячо любящая тебя жена и друг…»
«Теперь будут жалеть тебя, — пишет Ольга в другом письме мужу, — что ты, несчастная жертва, женился на нервной больной… За все мерзости, которые я тебе делала, чувствую себя виноватой перед тобой…»
В 1898 г. в ее письмах попадаются фразы: «Я буду прежней, но в улучшенном виде… Как хорошо иметь деньги и быть самостоятельной!»
В следующем году у нее уже прорывается глухое отчаяние и недовольство жизнью: «О, как на душе гадко и темно! Мне так жутко, так жутко!»
В это время она была уже на высших курсах в Петербурге и высказывала намерение оставить их. Мужу она пишет: «Дуся! Почему ты не едешь в Варшаву? Тебя это развлекло бы». В том же году она получает от Донберга записку на немецком языке: «Мое милое сердечко! Сегодня я прибыть не могу», а через день пишет мужу: «Обнимаю тебя, мой дорогой Юля».
Одно из ее писем читается при закрытых дверях.
Когда отношения супругов обострились в высшей степени, Юлиан Геккер в своем письме к родным горько жаловался на жену. Он узнал, что она оговаривала его перед знакомыми во всевозможных подлостях, выдумывая небылицы.
«Что это: квинтэссенция человеческой подлости или сумасшествие? — пишет он. — Если первое, то надо взять себя в руки и не обращать внимания на негодную, скверную женщину. Если второе, то ее, бедную, надо лечить».
Дальше в переписке Ольги Геккер попадается: «Я каждую ночь вижу смерть… страшно страдаю. Меня угнетает мысль, что я не человек, а лишняя тварь и тебе не нужна. Но должна же наконец наступить перемена в моей духовной жизни!.. Ах, если бы быть здоровой! Это самое главное, а то болезнь тормозит все… Как человека, я тебя люблю, но как мужа — нет, не знаю. В душе у меня холодно, сыро, затхло, как в сарае. Мужем и женой мы уже не можем быть».
В марте 1900 г. Юлиан Геккер обращается к жене с укоризной: «Ты скверная по своей натуре, душонка у тебя мелкая».
«Тоска, хоть топись, — содержится в последних письмах жены. — Если мой магазин пойдет плохо, то я покончу свою проклятую жизнь…. Он оказался патентованным мерзавцем и подлецом, а ты — мой милый, дорогой. Твой друг — жена Леля».
Донбергу она пишет: «Я все та же» — и обрушивается на Юлиана Геккера с бранными выражениями, называя его в письме к профессору «этот проклятый муж».
Судебное следствие закончилось опросом экспертов. По их убеждению, подсудимый во время преступления не страдал душевной болезнью и находился лишь в возбужденном состоянии. В отношении самой Ольги Геккер эксперты считают, что она страдает истерией.
Слово предоставляется обвинительной власти.
Товарищ прокурора господин Новицкий считает, что это одна из семейных драм, которые, к сожалению, «все чаще и чаще разыгрываются в наше нервное время». Кровавая развязка привела к смерти видного общественного деятеля, ученого, которого хорошо знали не только в Петербурге, России, но и за границей. Допустим ли подобный ужасный самосуд со стороны обвиняемого — вот вопрос, на который должны ответить присяжные заседатели. Со своей стороны, обвинитель находит, что на любовь, как на причину преступления, нельзя ссылаться в данном деле. Истинная любовь тесно связана с уважением и доверием к любимому человеку. Истинная любовь отдает свою жизнь, свое «я» на благо другому. В настоящем случае это не святая, а плотская любовь, с ее эгоизмом и чудовищной ревностью со стороны подсудимого. В семье столкнулись два человека: нервная, озлобленная жена и пожилой, уже утомленный жизнью муж. Они тяготились друг другом, и, к несчастью, у них не было детей, которые могли бы еще спасти расползавшуюся семью.
Что касается покойного Донберга, то товарищ прокурора считает, что он вполне мог пожалеть молодую женщину, поверив в ее несчастно сложившуюся судьбу. А она, поставив себе целью выйти замуж за богатого, известного профессора, сама пошла к нему со своей любовью и кокетством. Юлиан Геккер свел за это счеты с Донбергом, и тот заплатил своею жизнью. Теперь наступил для убийцы момент свести счеты с правосудием. «Поднявший меч да погибнет от меча!» — так закончил свою речь обвинитель.
Защитник подсудимого, присяжный поверенный С. П. Марголин, начал с упоминания о дневнике и первоначальных письмах жены подсудимого, в которых рисуются прекрасные картины семейного счастья:
«Был канун свадьбы, два часа ночи. Молодая Фрейганг проводила свой последний девичий вечер. Ей хотелось поделиться своими мыслями, и она послала своему возлюбленному дневник и письмо. В нем много возвышенных чувств, доходящих до экстаза. Дневник обрывается страстной молитвой к Пречистой Божьей Матери за ниспосланное ей счастье.
Перед нами письма Ольги Андреевны Геккер. Какая пылкая любовь! Она называет своего мужа «милый и дорогой Юлианчик», «мое красное солнышко». «Мой дорогой, — пишет она ему, — днем и ночью, во всякое время, моя любовь духовная и жизнь с тобой, мое золото, моя радость…»
И вдруг неожиданно 8 декабря — письмо Донберга, точно молния, упавшая с безоблачного неба. Ничто не предвещало этого письма. Это было неожиданное несчастье, упавшее на голову Геккера. Оно исказило жизнь, захватило его могучею, железной рукой и выбросило сюда, в зал судебного заседания, как преступника, как убийцу.
Подсудимый Геккер не защищается и не умаляет своего поступка. Все так ясно и просто. Под развалинами семейных неурядиц тысячи людей гибли от любви, ревности и оскорбления их чести. Геккер — один из многих, и вся его история стара как мир.
Задача защиты сводится прежде всего к устранению той накипи и тех наслоений, которые легли на это дело. Эта темная сторона дела создана Ольгой Андреевной Геккер в виде жалоб на мужа и оправдания своего поведения. Кто не слышал ее жалоб? Они рассеяны по всем уголкам настоящего дела, их слышала ее семья, все знакомые и между ними покойный Донберг. Она обвиняла своего мужа в скупости, скаредности, дурном характере. Что же мы видим в действительности? Мы видим, что сразу же после свадьбы Юлиан Геккер, человек небогатый, стал возить свою жену на курорты, за границу. Она была в Ялте, Евпатории, Стокгольме, в Финляндии, в Мариенгофе. Все эти траты, превышавшие средства Геккера, вели его к разорению. В августе 1899 г. Ольга Андреевна пожелала покинуть Псков и переехать в Петербург. Муж немедленно уступил ее желаниям. Вынужденный жить по делам службы на небольшой железнодорожной станции, он мечется между местом свой службы и Петербургом, ночует на засаленном кожаном диване, вызывает замечания со стороны начальства и в конце концов теряет службу. Все эти факты не вяжутся с обликом скупого, скаредного и неуступчивого мужа. Столь же неверно объяснение Ольги Андреевны и об ее отношениях к мужу за время с 7 мая по 30 июня. Она утверждает, что за этот период времени все нити их семейной жизни были перерезаны. Между тем мы имеем свидетельские показания, что за этот период времени муж оставался у нее ночевать. В письме от 11 мая она пишет мужу: «Приезжай в магазин, я тебя расцелую, и все будет хорошо». В письме от 22 мая снова читаем: «Дуся, приезжай». 23 мая она видит своего мужа во сне. Все это дает нам право утверждать, что с 7 мая по 30 июня Ольга Андреевна общалась с подсудимым как с мужем. Последнее обвинение, проникшее вдело от имени госпожи Геккер, подчеркивает разницу лет между мужем и женою. Об этой разнице лет здесь много и настойчиво говорилось. Что сказать по поводу этого? Ольге Андреевне, когда она вступала в брак, было 23 года, она вышла из интеллигентной семьи, получила воспитание и образование. Никто не заставлял ее писать сорокалетнему жениху: «Я обожаю своего золотого Юлека».
Далее в своей речи присяжный поверенный Марголин говорит о том, что в центре рассматриваемого дела скрывается семейное правонарушение. Оно доказано всем судебным следствием. На суде было оглашено письмо подсудимого, в котором прямо сказано: «Пока ты считаешься юридически моей женой, ты должна себя вести так, как это требуют светские приличия и каноны церкви». Затем в другом письме Геккер пишет: «Живи отдельно, в твои дела я вмешиваться не буду, тебя к себе не потребую. Если ты действительно кого-нибудь полюбишь, я дам тебе развод, но я тебя предупреждаю, что, пока ты носишь мое имя, ты должна себя вести как женщина честная». Несмотря на эти предупреждения, Ольга Андреевна 17 июня 1900 г., зная, что муж ее находится в Петербурге, спокойно отправилась на яхту покойного Донберга, предупредив прислугу, что она вернется домой через два дня…
Перейдя к нравственной оценке личности профессора Донберга, Марголин подчеркнул, что это был немолодой человек 50 лет, в сущности, уже усталый от жизни и страшно занятой. Он видел в госпоже Геккер замужнюю женщину, не любящую мужа. Ему хотелось маленького флирта, хотелось время от времени отдыхать от трудов с хорошенькой женщиной. Его действительные отношения к Ольге Андреевне лучше всего характеризуются тем фактом, что он дважды от нее отказался. Его поведение на яхте также не свидетельствует о серьезности его намерений. На требование мужа Ольги жениться он ответил, что это не входит в его планы, и утратил свое спокойствие только тогда, когда выстрел поразил его насмерть.

МИРОНОВ ПЕТР ГАВРИЛОВИЧ
Родился в 1853 г. в Тверской губернии. Окончил в 1875 г. курс Санкт-Петербургского университета. Два с половиной года находился на военной службе, затем уволился в запас в чине подпоручика. В 1882 г. вступил в сословие присяжных поверенных и с 1886 по 1902 г. был членом совета присяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной палаты. Пользовался заслуженной известностью, выступая во многих выдающихся уголовных делах, в том числе в ряде банковских процессов, по делу об убийстве Старосельского на Кавказе, убийстве профессора Донберга и других. (Данные приведены на 1910 г.)
«Где же выход из той ужасной ситуации, жертвой которой стал Геккер? — продолжал защиту Марголин. — Подумайте только, сколько пережил подсудимый прежде совершения убийства! Его несчастья начались с 8 декабря. Письмо Донберга, перехваченное им, терзало и мучило его. Доверчивый и простодушный раньше, подсудимый стал подозрительным и недоверчивым: он подслушивает сплетни, ищет признания на лице жены, готов подкупить слуг. Потом он пережил две ужасные ночи, в течение которых метался как зверь, разыскивая свою пропавшую жену. Он пережил утро на яхте, когда истина предстала пред ним во всей полноте. Он видел эти каюты, где спала его жена. Матрос повторил ее имя… Встаньте рядом с этим человеком! Три года тому назад он был с этой женщиной в церкви, его соединило с ней благословение Божье. Он принимал эту женщину от Бога. И вот он на яхте, где его жена провела две ночи с другим мужчиной. Соберите эти усилия человека удержаться от кровавой расправы, и вы увидите, какую ужасную тяжесть нес на себе подсудимый в последнюю ночь накануне убийства. О чем он только не передумал! Он говорил себе: «Я все сделал, я ходил к нему, предостерегал и ничего не получил, кроме новой обиды». И чем больше думал он о своем несчастье, тем сильнее его охватывала ревность. Эта страсть уже давно душила его в своих объятиях. Она не оставляла его с 8 декабря и все шептала ему в уши: «Заступись за себя и за жену. Разве ты не знаешь, что она больна, что она любит тебя одного?» А над всем этим высилось сознание о поруганной чести. Рано утром он встал, зарядил револьвер и пришел к Донбергу. Положив пред ним письмо, он потребовал женитьбы. Тот стал читать и что-то говорить. Но Геккер его уже не понимал. Он всматривался в лицо Донберга, и вдруг какое-то дикое бешенство нахлынуло на его душу. Перед ним выросло что-то бесформенное, отвратительное, и он убил его…» В заключение защитник обрисовал духовный мир подсудимого после совершения преступления и просил судей быть снисходительными к нему. Другой защитник, присяжный поверенный П. Г. Миронов, дав обстоятельный анализ дела, также подробно остановился на пережитой Геккером семейной драме. Профессор Донберг, преступивший свое слово, являлся для него палачом в этой драме. Опозоренный муж, спасая свое доброе, незапятнанное имя, решительно потребовал, чтобы его вероломная жена и по закону принадлежала своему любовнику. Профессор отказался от женитьбы на ней. Произошло глубокое несчастье, которое лишило общество одного из лучших врачей и искалечило две жизни. Но здесь нет преступника, а только несчастный человек, бывший хорошим, добрым мужем. Оправдать его можно не ради милости, но ради правды. Это не будет помилование, а только правдивый, святой суд. Присяжные удалились в совещательную комнату и через полтора часа вынесли Ю. А. Геккеру обвинительный вердикт, признав его виновным в убийстве в состоянии запальчивости и раздражения, но заслуживающим снисхождения. Резолюцией суда Ю. А. Геккер был приговорен к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские отделения на три года.
АННА КОНОВАЛОВА

Молодая, красивая женщина 20 лет, Анна Коновалова, обвинялась в убийстве своего нелюбимого мужа.
Преступление это было открыто совершенно случайно.
9 декабря 1896 г., охотясь в нескольких верстах от г. Старая Русса, отставной подполковник С. Орловский заметил на Дубовицком выгоне человека, лежавшего ничком в снегу. Подойдя ближе, охотник, к своему ужасу, увидел, что неизвестный мертв. О своей страшной находке он немедленно сообщил в ближайшую сельскую полицию.
В результате медицинского освидетельствования было выяснено, что неизвестный, имевший на вид не более 30 лет, за несколько дней до этого был удушен во время сна.
С найденного трупа было снято несколько фотографий, но, несмотря не предъявление их окрестному населению, убитый никем не был опознан, и в течение двух лет его имя оставалось тайной для судебного следствия.
В январе 1899 г. старорусской уездной полиции случайно стало известно, что несколько месяцев тому назад в деревню Пеньково Старо-Русского уезда приезжала какая-то старуха Анна Киселева и хвалилась знакомым, что дочь ее сделалась певицей и, овдовев в последнее время, может снова выйтизамуж.
Одновременно с этим полиция узнала также, что крестьянка Екатерина Павлова проговорилась как-то своим знакомым о том, что найденный на Дубовицком поле в 1896 г. мертвый человек и есть первый муж дочери Киселевой. По ее намекам оказывалось, что он был преднамеренно убит в Петербурге, а затем для сокрытия следов преступления его перевезли в сундуке в Старую Руссу.
— Стоит только мне захотеть, и я всегда могу получить деньги от певицы Коноваловой за то, что хорошо спровадила ее мужа, — загадочно говорила Павлова.
На проведенном по этому поводу следствии обнаружилось, что с ноября 1896 г. в Старой Руссе, часто меняя квартиру, проживали крестьянка Анна Коновалова, зарегистрированная в участке как «певица», и ее подруга Екатерина Павлова. Обе часто выезжали в Петербург, вели разгульный образ жизни и слыли особами легкого поведения.
Узнав, что у Коноваловой действительно в начале декабря 1896 г. пропал без вести муж, полиция предъявила его матери и сестре, проживающим в Петербурге, фотографический снимок с найденного около Старой Руссы трупа. Присмотревшись к изображению на карточке убитого человека, обе женщины тотчас же признали в нем исчезнувшего крестьянина Петра Коновалова.
Выяснилось, что семейная жизнь Коновалова сложилась очень неудачно. Жена его, Анна, вскоре же после свадьбы обзавелась любовником, бросила мужа и ступила на скользкий путь порока. Прельстившись вольной, беспечной жизнью, она падала все ниже и ниже, пока наконец не превратилась в одну из «этих дам», продающих свои ласки каждому встречному.
В первых числах декабря 1896 г. Коновалов сказал своей матери, что беспутная жена просит у него отдельный вид на жительство и что он собирается поехать к ней, чтобы обсудить этот вопрос. 5 декабря он отправился по приглашению жены к ней на квартиру и с того времени уже более домой не возвращался.
Через два дня после этого в Старую Руссу приехала с утренним поездом из Петербурга подруга Коноваловой, Екатерина Павлова, и привезла с собой огромный тяжелый сундук. Подрядив на вокзале извозчика, она отправилась в деревню Большое Вороново и свалила сундук во дворе знакомого крестьянина. Затем таинственный сундук был отвезен в деревню Жилой Чернец, где проживал отец Павловой, Павел Анисимов.
Загадочное исчезновение мужа Коноваловой, путешествие со странным сундуком ее подруги и, наконец, находка трупа в окрестностях Старой Руссы — все это подтверждало подозрение о причастности Анны Коноваловой к убийству своего мужа, и в том же году, 19 февраля, она была арестована.
Когда ей показали снимок найденного около Старой Руссы трупа, она, не выдержав, тотчас созналась в своем преступлении. Да, она виновата в ужасной смерти мужа. С ее ведома Екатерина Павлова и ее дальний родственник, Дмитрий Телегин, накинули петлю на мужа и задушили его. Знавшая об убийстве мать Коноваловой после дала свой сундук, и Павлова увезла в нем труп.
В результате к уголовной ответственности помимо Коноваловой были привлечены также Дмитрий Телегин, Екатерина Павлова, ее отец и Анна Киселева.
Рассмотрение дела продолжалось четыре дня и привлекло в зал Санкт-Петербургского окружного суда многочисленную публику.
Заседание открылось чтением обвинительного акта. Монотонным голосом председательствующий зачитывает подробное описание обстоятельств, при которых был найден труп Коновалова в 1896 г.
Жена убитого начинает все более и более волноваться, у нее вырываются истерические крики, и наконец она падает в обморок. Чтение акта прерывается, подсудимую приводят в чувство, успокаивают. Далее она сидит безмолвно, и только багровый цвет лица выдает ее внутреннее напряженное состояние.
На вопрос председателя, признает ли она себя виновной в предумышленном лишении жизни ее мужа, Анна Коновалова тихо произносит: «Виновата». Так как другие подсудимые на предварительном следствии отрицали свою виновность, то они на время удаляются из зала. Слово предоставляется Анне Коноваловой. Прерывающимся голосом, беспомощно оглядываясь вокруг себя, она начинает рассказывать историю своей жизни.
Семи лет от роду она была привезена матерью из деревни в Петербург, попала в детский приют и пробыла в нем до 15-летнего возраста, обучившись за это время грамоте и шитью. Когда ей минуло шестнадцать, девушку увидел Петр Коновалов, простой рабочий-слесарь, и, не спрашивая ее согласия, через свою сестру и мать посватался к ней. Мечтавшая о лучшей доле, чем брак с мастеровым, и не испытывавшая к своему жениху никакой симпатии, тем более что ей и встречаться с ним пришлось всего два раза, Анна стала умолять свою мать не губить ее, выдавая замуж за нелюбимого человека. Но все было напрасно. Против воли девушки ее вскоре выдали замуж за Коновалова. Во время венчания она была в полнейшем отчаянии и впала в какое-то бессознательное состояние.
«Настала тяжелая жизнь с нелюбимым мужем, — с плачем продолжала свой грустный рассказ Анна — Муж был груб, циничен. На все просьбы относиться ко мне более человечно он только со смехом говорил: «Зачем же ты замуж выходила, когда так нежничаешь?» Не обращая внимания на то, что я невыразимо страдала от его дикого отношения, он каждый день продолжал меня беспощадно мучить. Никогда я не слышала от него ласкового, задушевного слова, и хотя он не бил меня, но зато сплошь и рядом, в особенности по ночам, жестоко щипал меня. Потом он все чаще стал возвращаться с работы домой пьяным, а когда я укоряла его, устраивал ссоры, грубо оскорбляя меня как женщину. Когда он не пил, то был довольно тихим и скромным, но после водки делался невозможным, и я с трудом переносила его присутствие. Я умоляла его бросить совсем пить водку, и он несколько раз обещал исполнить эту просьбу, воздерживался от пьянства, но затем вскоре срывался, и снова возобновлялась моя горькая доля».
В конце концов жизнь с постылым человеком стала для молодой женщины невыносимой. Бросив мужа, она перешла жить к своей матери. В 1895 г., чтобы заработать себе на кусок хлеба, она поступает певицей в один из увеселительных садов. Красивая внешность ее обращает на себя внимание мужчин. И вскоре она становится содержанкой одного из прожигателей жизни. Тот нанимает для нее квартиру и дает ей на первоначальные расходы около 400 рублей. Через четыре месяца она, однако, бросает своего любовника и начинает ездить в Старую Руссу, где зарабатывает деньги пением. Зимой 1896 г. Анна стала просить мужа, с которым она находилась фактически в разводе, чтобы он выдал ей отдельный паспорт. Несмотря на ее мольбы, муж все оттягивал выдачу паспорта, стал приходить к ней на квартиру, пьянствовал и вообще вел себя предосудительно. Не зная, что делать, как освободиться от опротивевшего ей человека, погубившего ее молодость, Коновалова с плачем пожаловалась на него своей близкой знакомой, Екатерине Павловой. Та пообещала избавить ее от постылого мужа с условием, что Коновалова будет признательна ей за это. Что она задумала сделать, Анна, по ее словам, первоначально не догадывалась.
После неудачных попыток споить Петра Коновалова насмерть водкой в роковой день убийства Павлова объяснила своей подруге, что она вместе с их знакомым, Дмитрием Телегиным, задушит ее мужа.
— Но как же ты это сделаешь?! — испугалась Коновалова. — Ведь он очень сильный, с ним трудно справиться.
— Не бойся. Мы уж сделаем как следует, — отвечала Екатерина.
В план Павловой были посвящены также мать Коноваловой, Анна Киселева, и крестьянин Дмитрий Телегин. Все они стали сообща совещаться, как бы без хлопот справиться с мужем Коноваловой. В результате остановились на мысли напоить его до беспамятства во избежание сопротивления, а затем, пользуясь его беспомощным состоянием, удушить. Пришедшему в этот день в гости к жене Петру Коновалову стали наливать одну рюмку за другой. Ничего не подозревая, тот безостановочно пил, все более и более пьянел и наконец, свалившись на диван в гостиной комнате, погрузился в мертвецкий сон.
— Ну! — начала торопить Павлова.
— Какой праздник-то завтра! Николая Угодника! А мы что затеяли, — нерешительно протянул Телегин.
— Ничего, Бог простит. Вот давайте лучше помолимся Николаю Угоднику, чтобы он послал нам успех, — сказала Павлова.
И они начали истово креститься на находившуюся в комнате икону.
— Ой, страшно! — с ужасом повторяла жена Коновалова.
— Пустяки! Перестань глупить! — ободряла ее подруга.
Телегин с Павловой подошли к спавшему Коновалову, взяли его за голову и ноги и, перетащив на ковер в спальне, спустили на окнах шторы. Было два часа ночи, и в комнате горел только один ночник.
Павлова взяла шелковый шнур от корсета своей подруги и, попробовав его крепость, сделала петлю.
В это время, по словам Коноваловой, мать ее, видя, что Павлова действительно собирается привести в исполнение свой злой умысел, начала горячо протестовать против готовящегося преступления. Но ей приказали молчать, пригрозив позвать полицию. Киселева вышла на улицу.
— Жаль мне было мужа, — поясняет Коновалова с дрожью в голосе и подносит платок к побледневшему лицу. — Но так уж, видно, Бог судил.
Прежде чем приступить к удушению, злоумышленники удостоверились, насколько сильно опьянела жертва. Коновалова толкали и трясли, но он только глухо мычал.
Телегин связал веревкой ноги спавшего, и Павлова приблизилась к нему с шелковой петлей. Через минуту оба они наклонились над своей жертвой. У Анны похолодело сердце, ее охватила дрожь, глаза застлало туманом, и она уже не видела, кто душил несчастного мужа. Послышалось короткое, сдавленное хрипение, Анна почувствовала сильный удар в ноги. Это задыхавшийся муж в предсмертной агонии забился на полу и задел ее связанными ногами. Наконец он затих. В комнате повисла зловещая тишина.
Видно, как Анне тяжело вспоминать все эти подробности. Голос ее дрожит, она порывисто дышит. Картина ужасного преступления ясно запечатлелась в ее мозгу. Несмотря на то что прошло уже три года, роковая ночь стоит у нее перед глазами. Председательствующий, чтобы дать успокоиться подсудимой, объявляет перерыв.
Через некоторое время заседание возобновляется. Коновалова тихим голосом продолжает свой рассказ.
Труп задушенного решено было поскорее увезти из Петербурга. С этой целью преступники взяли у матери Коноваловой объемистый сундук длиною около двух аршин и втиснули в него боком тело убитого. Потом сундук зашили в простыню и обвязали веревками. Все проделывалось очень хладнокровно, как будто это был самый обыкновенный багаж.
Рано утром, когда в городе еще горели фонари, Телегин нанял двух извозчиков. На одну пролетку поставили сундук с убитым, в другой поместились Коновалова и ее подруга, и через полчаса они уже были на Николаевском вокзале. Здесь Анна купила подруге билет на поезд и дала ей на расходы 45 рублей. Сундук был сдан в багаж, и с девятичасовым утренним поездом Екатерина Павлова выехала в Старую Руссу. Через несколько дней она возвратилась обратно в Петербург и похвалилась подруге, что все обделано благополучно. За свои «труды» она стала просить еще денег, потом взяла у подруги несколько шелковых платьев, затем опять потребовала денег. В общем, по словам Коноваловой, начала систематически обирать ее. Телегину за участие в преступлении Анна дала около 100 рублей.
Председательствующий приказывает ввести в зал суда Екатерину Павлову.
Это женщина лет тридцати, с некрасивым скуластым лицом. Держится хладнокровно. Ее волнение выдает лишь беспокойное выражение раскосых калмыцких глаз. Свою виновность она решительно отрицает.
Вслед за Павловой вводятся, один за другим, остальные подсудимые.
Дмитрий Телегин, лет тридцати семи, с антипатичным, хищным выражением лица, хитрыми подслеповатыми глазами, производит отталкивающее впечатление. Анна Иванова Киселева, сорока шести лет, представляет собой безликое существо, с тупым, покорным взглядом. Крестьянин Павел Иванов Анисимов, сгорбленный шестидесятилетний старик, со спускающимися на лоб седыми космами волос, простодушно-недоумевающе посматривает на окружающую его обстановку.
Анисимов обвиняется в том, что, не принимая участия в убийстве Коновалова, он с целью сокрытия следов преступления отвез труп на Дубовицкий выгон и бросил в снег.
— Зачем вы это сделали? — спрашивает его председательствующий.
— А Бог ведает, — пожимает плечами старик. — Пришел, значит, я пьяный из гостей. Ну, дочка и стала просить — отвези, мол. Вижу, человек мертвый, много хлопот с ним, вот и повез. А что был ли он убит — я про то не ведал. Думал — мертвец, да и только.
Павлова сознается лишь в том, что вывезла труп из Петербурга в Старую Руссу. По ее словам, она также не знала, что Коновалов был убит, а считала его умершим естественной смертью. Кто задушил его — она не знает, но в ночь на 6 декабря видела будто бы в гостях у подруги какого-то неизвестного ей «черного мужчину». После Коновалова вошла к ней в комнату и стала просить отвезти куда-нибудь ее умершего мужа.
Опрошенный по этому поводу Телегин понес было какую-то околесицу, вовсе не касаясь преступления. Председательствующий прерывает его и требует говорить только по существу дела. Телегин начинает рассказывать. По его версии, к убийству он не причастен, Павлова с подругой обделали свое дело без его ведома.
Анна Киселева говорит, что она не была в спальне в то время, когда душили мужа дочери. После она увидела Коновалова уже мертвым и отдала свой сундук, чтобы спрятать в нем труп.
После предварительной присяги начинается опрос свидетелей.
Марфа Тимофеева, мать покойного Коновалова, рассказывает, что она не сочувствовала женитьбе своего сына. По ее словам, брак этот был действительно очень неудачный. Анна невзлюбила мужа и уже через два месяца после свадьбы пыталась сжечь его, поставив с этой целью под кровать жаровню с горящими углями. К счастью, жаровню вовремя заметили, и Анне не удалось довести до конца свой ужасный замысел. Свою невестку Тимофеева считала очень плохой хозяйкой и к тому же женщиной далеко не безупречного поведения.
Сестра убитого, Варвара Петрова, также нелестно отзывается о подсудимой.
Мать Анны Коноваловой заступается за свою дочь, утверждая, что убитый неоднократно бил свою жену каблуками сапог и что у нее и сейчас еще от таких зверских расправ болит бок.
— Коновалова, почему же вы не говорили суду о побоях мужа? — обращается председательствующий к подсудимой.
Она порывисто приподнимается со скамьи и взволнованным голосом объясняет:
— Потому, что не хотела жаловаться на мертвого мужа, в смерти которого я повинна. Я всегда скрывала это от чужих глаз, стараясь не выносить своих страданий наружу.
Опрос свидетелей продолжается.
Большинство из них хорошо отзываются о Коноваловой и подтверждают, что муж ее любил выпивать. Подсудимую характеризуют как добрую, отзывчивую женщину, к сожалению, чрезвычайно легко поддающуюся чужому влиянию.
Крестьянин Образцов, старший дворник дома в Усачевом переулке, где произошло убийство, рассказывает, что к Коноваловой часто приходили гости, но оставались у нее на квартире только до 11–12 часов ночи. Подсудимая говорила ему о желании получить от мужа отдельный вид на жительство, и 5 декабря 1896 г. он по ее приглашению вместе с обоими супругами отправился вечером в управление полицейского участка. Сам Коновалов упрямился выдавать жене паспорт и вызывающе говорил: «Вот возьму да и не дам согласия на это. Надо тебя проучить, негодницу!»
Между тем старший дворник почти ежедневно требовал от нее паспорт, так как подходил уже срок выданной ей отсрочки.
Когда Коновалова переехала на квартиру в Усачевом переулке, при ней было немного мебели, но потом обстановка стала пополняться и появился даже рояль.
— Не могу только знать, какой системы рояль-то эта, — глубокомысленно добавляет дворник-свидетель.
На заданный ему вопрос, чем занималась Коновалова, свидетель, осклабившись, говорит:
— А занималась, значит, своей красотой.
Крестьянин Никифор Горох показал, что 7 декабря он был нанят в Старой Руссе Екатериной Павловой отвезти ее в соседнюю деревню Жилой Чернец. При пассажирке, одетой по-городскому, находился большой, тяжелый сундук, но что лежало в нем — он постеснялся спросить у «барыни».
Сама же Павлова на подобный вопрос, сделанный одним из крестьян-свидетелей, со смехом ответила, что в сундуке спрятаны «петербургские черти».
По окончании допроса многочисленных свидетелей, среди которых фигурируют старорусский исправник, агент сыскной полиции, директор института слепых и другие лица, подсудимые снова начинают давать объяснения по поводу убийства Коновалова.
Екатерина Павлова настаивает, что она решительно ничего не ведала о преступлении 5 декабря 1896 г. В рассказе ее опять появляется неизвестный мужчина, гость подруги, который, по ее словам, вместе с Коноваловыми пил водку. Что произошло между ними ночью — она не знала, так как находилась в другой комнате. После к ней пристали с угрозами, чтобы она сплавила куда-нибудь мертвого Коновалова.
— Куда же я его дену? — растерявшись, спросила она.
— Куда хочешь вези! — сердито закричал незнакомец.
На Николаевском вокзале, куда ее привезли вместе со страшным сундуком, Павлову угостили будто бы чаем с коньяком, и, опьянев, она уже не сознавала, что делает. Приехав домой к отцу, она бросилась к нему с криком:
— Папа, помоги!
Отец поколотил ее, когда узнал, что за багаж привезла дочь из Питера, тем не менее сжалился над нею и помог избавиться от трупа. Что Коновалов был задушен — она не догадывалась, а считала его умершим внезапно от чрезмерного потребления водки. Телегина она мало знает.
Дмитрий Телегин также отказывается признать себя виновным.
— Не ведаю, как это случилось. Заснул я в другой комнате и ничего не слышал. Вдруг чувствую — будит меня кто-то. Очнулся. Стоит около меня Коновалова и со смехом говорит: «А мы с Катей удушили его», мужа то есть. Перепугался я.
С подсудимой Коноваловой делается нервный припадок.
Телегин добавляет, что он не укладывал трупа убитого в сундук и не видел, как выносили его из квартиры.
Его показание, однако, опровергается Анной Киселевой, уверяющей суд, что Телегин говорит неправду. Во время самого убийства ее не было в доме, но когда она возвратилась, то дочь объявила ей, что Дмитрий уже удавил мужа. «Прости, мама, прости», — стала умолять со слезами Коновалова. Потом с Киселевой насильно взяли клятву хранить все в тайне, и она вынуждена была скрывать преступление. Сундук из квартиры выносили на улицу Дмитрий Телегин и извозчик.
Далее Анна Киселева рассказывает, как ей жилось с дочерью, после ее ухода от мужа. Существовали они тогда впроголодь, и так как у Анны не было паспорта, то ее приходилось прятать в холодном сарае. К несчастью, дочь заболела, и они оказались в отчаянном положении. От безысходности Анна даже пыталась отравиться, и лишь случай спас ее от преждевременной смерти. Только беспросветная нужда толкнула ее на скользкий путь.
На третий день судебное следствие было объявлено законченным и прокурор приступил к обвинительной речи.
Указав присяжным заседателям на сложную житейскую драму, которая развернулась перед их глазами, он подробно охарактеризовал Петра и Анну Коноваловых. Простой, неграмотный кузнец, некрасивый и грубый, имевший к тому же пристрастие к водке, Коновалов совершенно не подходил своей жене, по своему развитию и сложившимся для нее жизненным условиям ставшей значительно выше той среды, откуда она вышла. В результате их семейная жизнь превратилась в ад, ссоры обострялись, становясь все сильнее и продолжительнее. Не выдержав, Анна бежит от ненавистного мужа. Затем началась обыкновенная история: неудовлетворенная обыденной, серенькой жизнью простого человека, женщина вскоре покатилась по наклонной плоскости, на которой уже трудно удержаться. Зная цену своей красоте, она постепенно втягивается в сытую, беспечную жизнь и уже не хочет больше от роскошных обедов, дорогой обстановки и зеркальных трюмо возвращаться к своему прежнему прозябанию с нелюбимым мужем. Но последний ведь может помешать такой жизни, его вмешательство грозит разрушить все планы гулящей жены. И вот мало-помалу вызревает преступная мысль стереть постылого мужа с лица земли. Повинна в этом преступная жена, но еще более виновата ее подруга, Павлова, которая является душой преступления, найдя себе достойного сообщника в лице Дмитрия Телегина.
Сравнивая затем убитого кузнеца с трудолюбивой пчелой, вносящей свою частицу меда на пользу общего благосостояния, прокурор в противоположность ему ставит подсудимых, которые, как трутни, существовали только за счет чужого труда. И так как им мешали, то эти вредные трутни убили полезную пчелу. Всюду в этом возмутительном деле красной нитью проходит одно чувство — эгоизм. Прокурор надеется, что суд присяжных своим обвинительным ответом для всех подсудимых принесет пользу обществу, охранив его от преступных элементов.
Слово предоставляется защите.
Присяжный поверенный В. А. Плансон нарисовал грустную картину неудавшейся семейной жизни Коноваловой, женщины, стремящейся к свободе, но полностью подчинившейся злой воле своей подруги.
По словам защитника, Коновалова если и участвовала в ужасном преступлении, то без собственной воли и сознания. У нее не было никаких мотивов для преступления и не могло быть. Преступление не освобождало ее, а связывало и было выгодно только для Екатерины Павловой, надеявшейся поживиться около нее.
«Но страшное дело сделано, и вот наступает расплата! — продолжает свою речь защитник. — Расплачивается одна Коновалова. Вы помните, господа присяжные заседатели, те ужасные дни и ночи, которые она переживала после того. Ночью призрак погибшего на ее глазах мужа является ей. Она служит заупокойные обедни за него, но видения не оставляют страдающую душу ее. Днем караулят ее, требуя денег, Павлова, Телегин и их родные. Отказать нельзя. Но откуда взять? Как заработать?
Не думайте, господа, что я перед вами буду защищать нравственность Коноваловой. Но я спрошу лишь: вправе ли мы судить ее за это?
Странно было бы слышать, что врач, когда к нему привели больную, исследует в ней не болезнь, а допытывается, безупречна ли ее нравственность. И не странно ли, когда судья не исследует преступление, а ищет в нравственных качествах подсудимой улик против нее! Разве не сжимается у вас сердце от жалости и сострадания, когда на молодом, почти детском лице вы видите «поддельную краску ланит»?
Но отчего не удержалась она, спросите вы, на честном пути? Как трудно ответить на это! Отчего надломленный цветок вянет и не благоухает? Отчего подстреленная птица не парит под небесами? Отчего человек с надорванной жизнью и без нравственной поддержки не стремится к идеалам?..
Но выпрямите и подвяжите цветок, и он зацветет. Заживите рану у птицы, и она взовьется к небесам. Протяните руку больному, но не зачерствевшему душой человеку, и он воспрянет духом, он оживет.
И бедной Коноваловой протянули руку, и ей улыбнулось счастье! На нее пахнуло в первый раз в ее жизни теплом, лаской, искренней любовью; ее полюбили, и она полюбила и стала оживать. Вы слышали того свидетеля, который знал ее в детстве? Он встретил ее в это время опять и увидел ее любимой и любящей, такой же, как и прежде, доброй и милой. Он радовался ее счастью, но что-то таилось в ней. Какая-то непонятная грусть сквозила в ее радости, какая-то непонятная власть держала ее в руках. Признаться во всем, все рассказать, снять путы? Но страшно: нужно выдать всех и даже мать. Нет. И она молчит и несет тяжелый крест искупления. Проходит два года. И вот преступление раскрылось. Она арестована. Какой удар! Но вместе с тем какое облегчение! Наконец настал давно желанный час: снять тяжесть с души. И она все рассказала, все, без утайки, без оправдания. Она во всем покаялась. И вот она пред вами. Ей только 21 год, а жизнь ее уже полна страданий. Как мало прожито, как много пережито!
Она ждет вашего приговора. И если вы думаете, что в молодой душе ее пылает преступный огонь, что она опасна для общества, если вы верите, что наказание может исправить ее, карайте. Но не мстите ей за смерть бесконечно долгими днями позорного наказания. А если вы, как я, вглядитесь в ее душу и скажете себе: в ней нет преступности, она сама жертва преступления, — вы смело вынесете ей оправдание.
Я окончил. Меня, как и вас, призвал закон к тяжелой задаче отправления правосудия. Я, как и вы, человек и могу ошибаться, но я, как и вы, ищу в этом деле правду. В течение этих томительных дней суда я видел работу мысли и сердца, я видел в вас искание правды. И я спокойно жду вашего приговора».
Второй защитник, помощник присяжного поверенного А. В. Бобрищев-Пушкин, видит объяснение всему в 18-летнем возрасте Коноваловой. Ее хрупкая воля подчинилась взрослым.
«Представьте себе, — обращается он к присяжным, — что вы все это читаете в повести. Вам рассказывают, как девушку неполных шестнадцати лет выдают насильно замуж, как чрез две недели справляется свадьба среди непробудного пьянства и ее слез, как она вынуждена уйти от мужа, живет с матерью, зарабатывая себе хлеб ремеслом портнихи, как совершается неизбежное — она одинока, но она уже замужем, она не может полюбить законною любовью, ей закрыта семейная жизнь. Значит, ей нет дороги на честный путь. Ни в отчиме, судившемся за кражи, ни в матери, доброй, но забитой, недалекой женщине, она не может найти опоры. И вот, еще сама толком не понимая, что делает, она дает себя пристроить в певицы увеселительного сада, сходится с В-м, мимо показаний которого я прохожу с брезгливой грустью. Когда бы вы читали об этой ночи убийства, о том, как она, захмелевшая, растерянная под их криками, то трясла за руку опьяневшего мужа, умоляя его уйти, то помогала нести его, подавала шнурок для мертвой петли и молилась с ним перед образом, что бы вы чувствовали к ней: ужас или сострадание? Разве не хотелось бы вам столько же для нее, как и для этого несчастного, чтобы злодейство не совершилось? И когда вы дошли бы до той минуты, что мы все мучительно переживаем здесь, до этого негодования против нее, этого грозного обвинения, этой отчаянной борьбы, что ведет зашита, — разве не захотелось бы вам, как это часто хочется при чтении, вступиться, крикнуть: «Да вы не понимаете! Это все совсем не то! Здесь нужен сознательный, согретый любовью к ближнему взгляд на жизнь, а не формальные статьи закона!» Каким мучительным, даже там, в этой повести, было бы для вас ожидание приговора! Разве вы не желали бы всем существом своим, чтобы все кончилось хорошо, чтобы этого заблудившего полуребенка выпустили отсюда? И кому бы пришла на ум из такой развязки мораль, что можно совершать убийства? А если бы в беспощадной верности жизни русский писатель заставил бы своих судей вынести обвинительный приговор, с каким бы чувством вы его встретили? Удовлетворил бы он ваше чувство справедливости? Да, все это так было бы в повести, потому что в повести мы видим житейские явления освещенными с нравственной стороны, а здесь перед нами лишь мертвая оболочка.

БОБРИЩЕВ-ПУШКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1875 г. Образование получил в Императорском училище правоведения. В 1896 г. начал службу по судебному ведомству. С 1898 г. в составе адвокатуры. Первым громким процессом, который принес ему успех, было дело Анны Коноваловой. Затем он фигурировал в процессах супругов Скала (поджог), Сорокина (покушение на убийство), Сибулля-Талуне (подделка кредитных билетов), Муса (женоубийство) и других. (Данные приведены на 1910 г.)
Коновалову вовлекла в преступление Павлова, заручившись согласием Телегина. Они, конечно, не убивали из любезности. У этого мрачного дела мрачный мотив — корыстная цель. Связав Коновалову общим преступлением, можно эксплуатировать ее без пощады. Но муж чуть все не расстроил добрым отношением к жене. Его белая горячка прошла, он стал совсем иной, согласился возобновить отдельный вид на жительство и пошел для этого с женой в участок. Этому Павлова помешать не могла. Легко представить себе, в каком состоянии она осталась в квартире. И вдруг неожиданная удача для Павловой — супруги возвращаются ни с чем! Анна Коновалова идет грустная: выгнали пьяного мужа из участка, не дали отдельного вида. Горе для Коноваловой, радость для Павловой, но она понимает, до завтра ждать нельзя, — завтра он протрезвится, опять пойдет в участок, и тогда все кончено. Теперь или никогда! Она впала в какое-то нечеловеческое бешенство. По словам Коноваловой, «она точно зверь была, не похожа на человека, не то что на женщину. Я не знаю, что с ней сделалось». Этого точно не знаем и мы. Суд отказал в защите Павловой, в вызове экспертов-акушеров. Между тем Павлова разрешилась от бремени в конце ноября и это мог быть послеродовой психоз. Могли быть и другие причины. Гнев и отчаяние, когда, казалось, все погибло, резкий, внезапный переход к радости при возвращении из участка и сознание, что уже теперь надо действовать, что отсрочка лишь до утра, могли вызвать прилив крови к голове, то есть исступление. Что б это ни было, Павлова становится страшной — в ней развивается дикая, усиленная энергия. Она требует немедленного убийства, она хватается за буйные, пьяные слова Петра, она, точно в каком-то припадке, наступает на растерявшуюся Коновалову: «Он не даст, не даст тебе вида, от него надо отделаться!» Такая дикая, лихорадочная энергия страшно действует, особенно на слабые натуры. А Коновалова в эту минуту, когда она должна противостоять страстному натиску на ее полудетскую волю, даже плохо сознает окружающее. Она выпила водки и коньяку недостаточно для потери сознания, но достаточно для того, чтобы ослабить способность психического сопротивления. Голос Павловой стучит ей в уши, комната идет кругом, сознание туманится. Атмосфера сгущается до кошмара. И среди всего этого буйствующий, что-то кричащий муж. Если бы ей внушали, например, убить мать, любовь, затаившаяся хоть в виде инстинкта, даже в этом хмельном чаду дала бы отпор, а здесь нет этого инстинктивного отпора, она одурманена дикой энергией Павловой, она почти вещь в ее руках, она не сознает чудовищности своего поступка, ей только смутно страшно. Ей говорят, что что-то надо сделать — и она делает. Они стали перед образом — и она вместе с ними, они велят ей дать шнурок — и она дает, они делают перед ней петлю — и она понимает: «Да это, чтобы убить», но она не представляет себе убийства. При таком помутившемся сознании верит ли она в совершение преступления? Связывает ли она свои поступки с имеющими быть последствиями? Часто даже хладнокровный убийца, когда подкрадывается к своей жертве, когда вынимает нож, до последней секунды не верит, что убьет. И вот почему во всех ее чистосердечных показаниях сейчас же после ареста, на предварительном следствии, здесь она повторяет: «Я была как во сне. Я не верила, не верила, что его убьют». В таком состоянии она не могла в это верить! Да, сознание, конечно, есть, но такое смутное. Мысли скачут, не поймаешь ни одной. Помрачение идет постепенно. Сначала ей страшно, она плачет, она сопротивляется, как может. Она хватает пьяного мужа за руку: «Петя, уйди! уйди! На свою голову сидишь!» И он бормочет ей заплетающимся языком: «Я тебе дам отдельный вид на жительство». Но Павлова кричит на нее: «Не вмешивайся! Раз я взялась за дело, я его и кончу!» И когда через несколько времени второй раз взяла мужа за руку Коновалова, не ответил он ей, неподвижно упала его рука, и она сама обернулась к ним уже с тупым, отуманенным взглядом. И когда бесчувственно пьяный Петр Коновалов при свете ночника уложен на ковер ее спальни, когда сделана мертвая петля, ей и тут не представляется, что сейчас начнут душить, хотя она за минуту говорила с ними об этом. Она не может сделать из своих поступков неизбежного вывода. И когда они над ним нагибаются, это для нее совершенно неожиданно. Вдруг он хрипит, судорожно ударяет ее ногами, она падает в обморок и в самый момент совершения убийства находится в бессознательном состоянии. Согласие Коноваловой было вынужденное. Восемнадцатилетняя, полупьяная, она находилась ночью одна, запертая, с озверевшими людьми. Не могло быть другого сопротивления, кроме бесполезных слез и мольбы, да и оно не могло не замереть, не перейти в полное подчинение». В заключение с защитной речью выступил присяжный поверенный Г. С. Аронсон. «Господа присяжные заседатели, — начал он свое выступление, — ужасно преступление, совершенное подсудимыми, удручает всех картина убийства, но во сто крат более угнетает нас всех та борьба, которая происходит здесь между подсудимыми, борьба не на жизнь, а на смерть. Все они стоят на краю пропасти, и каждый, понимая, что не спастись им всем, обезумев от страха потерять свободу, употребляет невероятные усилия, чтобы столкнуть в пропасть другого. Это положение подсудимых, это зрелище борьбы ужаснее самого преступления, совершенного ими.

АРОНСОН ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ
Родился в Петербурге 18 апреля 1869 г. Образование получил в Санкт-Петербургском университете. С 1895 г. в сословии помощников присяжных поверенных. В корпорацию присяжных поверенных вступил в 1899 г. Красивыми, образными речами, с которыми он выступал во многих уголовных процессах, вскоре обратил на себя всеобщее внимание. Особенно большую популярность ему, как защитнику, принесло нашумевшее в свое время дело Анны Коноваловой. С неменьшим успехом он защищал также подсудимых в других процессах. (Данные приведены на 1910 г.)
Я помню, как луч надежды блеснул в глазах Коноваловой, когда она услышала речи своих защитников. Она смотрела на вас, господа присяжные, и глаза ее говорили: «Вы слышите, что говорят мне в защиту, говорят добрые, как и вы, граждане, которые, как и вы, завтра могут быть судьями таких же, как и мы, преступных и несчастных. Забудьте то, что говорилось про меня дурного на суде, вы меня знаете всего три дня, мои защитники знают меня лучше, они несколько месяцев посещали меня в тюрьме, не раз слышали мою тюремную исповедь! Поверьте им!» Боже мой, что происходило в это время в душе остальных подсудимых! С немым ужасом в глазах искали они вашего взгляда, хотели угадать ваши мысли, понять, верите ли вы в то, что говорят о них, людях жестоких, погибших. Они слышат, как вам говорят: «Взгляните в глаза Коноваловой и остальным подсудимым, и вы увидите, кто говорит правду и кто лжет, кто совершенно испорчен и кого еще можно исправить» — и судорога искривляет их лицо, они снова ловят ваш взгляд и снова не встречают его. Защита — это молитва за грешных об отпущении им прегрешений вольных и невольных. Я говорю последним, и пусть мою молитву не омрачат проклятья. Никого не буду я обвинять, пусть примирит она этих несчастных между собой, пусть даст она им силы выслушать тот приговор, который ваша совесть продиктует им. Перехожу к защите Киселевой. Она обвиняется в двух преступлениях, одинаково ужасных, жестоких: в убийстве в сообществе с другими лицами и дочерью мужа последней и в торговле из корыстных видов своей дочерью. Прежде чем доказывать свою невиновность в убийстве Коновалова, будь то активное соучастие или попустительство, как склонен думать теперь господин прокурор, ей надо оправдаться во втором, неофициально предъявленном ей обвинении. Если Киселева дурная мать, не только не воспитавшая свою дочь, но и толкнувшая ее на позорную, развратную жизнь, которая настолько испортила Анну Коновалову, что она дошла до преступления, то нет для нее наказания достаточного — она погубила две жизни. И если я не докажу вам, что она не виновата в этом, то карайте ее! Трудно, почти невозможно было бы ей оправдаться словами, отдельными фактами, если бы не оправдывала ее вся долголетняя несчастная жизнь, полная мучений, горя и унижения и любви к дочери. Вы слышали уже, какова была жизнь Коноваловой с молотобойцем-мужем, который пропивал все, даже вещи жены. Слышали, что она приходила к свекрови просить ночлега. Помните, что, когда она ушла от него и поселилась отдельно, Коновалов навещал ее для того, чтобы получить взятку за выдачу паспорта, а иногда для того, чтобы сорвать на ней свою злобу. Скромный и тихий человек в трезвом состоянии, он зверел, когда был пьян, и до полусмерти избивал жену и ее мать — Киселеву. Вы слышали, — не знаю, правда ли это, — что Коновалова опускалась все ниже и ниже, что она запивала с горя, так как муж не давал ей отдельного вида, шантажировал ее. Ей приходилось иногда прятаться от полиции, приходилось проводить ночи в подвале или на чердаке. Сколько горя натерпелась несчастная мать, не зная, чем помочь дочери, потеряв всякое влияние на нее! «Бывало, — говорит она, — ночи не спишь, боясь, как бы не изловили дочь. С квартиры гонят, всякий оскорбляет, а тут еще и зять придет пьяный, денег, водки требует, еще больше напивается, бьет и меня, и дочь. Я его пуще огня боялась — приду, говорит, и всех перережу. Дочь до того добил, что у нее и теперь, три года спустя, еще бок болит, все топтал ее ногами». Вы помните, что привычка смотреть на мать как на прислугу настолько укоренилась у Анны Коноваловой, что она ее иначе не называет как «Аннушка», «кухарка», «прачка». Даже Телегин раз упрекнул Коновалову, когда поселился у них, что «она матерью Киселеву никогда не назовет, а все кричит на нее: Аннушка да Аннушка». Даже после убийства Петра, когда Киселева, вернувшись домой, услышала крик дочери: «Воды, воды!» — и побежала подать ей воду, Коновалова, придя в себя, обратилась к ней: «Аннушка, зажги лампу!» Всю жизнь она кухарка при родных, всю жизнь человек подневольный, забитый! Но, может быть, хотя и унижена, но вознаграждена? Нет! Кусок хлеба да кровать на двух дощечках в кухне — вот все, что имела Киселева от дочери! Правы ли те, кто говорил вам, что «за житье праздное, на всем готовом» мать развращала и продавала свою дочь? Нет, глубоко несправедливы они, эти обвинители! Пока могла, она воспитывала свою любимицу, довела до 15 лет, с горькими слезами проводила ее к венцу да так уже и не переставала плакать до сегодняшнего дня, болея душой за дочь, такую молодую и такую несчастную! «После признания Коноваловой в совершении преступления были арестованы все остальные подсудимые, оно было исходным пунктом полицейского дознания и предварительного следствия, легло в основание обвинительного акта. Упоминая имена своих соучастников, Коновалова называет и мать, но прибавляет, что она участия в преступлении не принимала и даже отговаривала ее. Правду ли говорит Коновалова и не защищает ли она свою мать? Да, она говорит правду. Вспомните, как было дано ею первое показание. Неожиданно, поздно вечером, два с лишним года спустя после убийства она была арестована и немедленно доставлена в управление сыскной полиции, где ей тут же показали карточку удавленного. Едва не лишившись сознания от нахлынувших чувств, она умоляет убрать карточку и под влиянием минуты рассказывает все, до мельчайших подробностей, не спасая себя, не щадя других, даже мать. Может быть, она подготовила рассказ за трехлетний промежуток? Нет. Убийца никогда не верит в то, что его поймают, несмотря на то, что всегда боится, что преступление раскроется. Он всегда гонит эту мысль от себя и уж, конечно, готовит заранее защитные речи. После ареста — наоборот, он уже ищет в себе самом оправдания своему поступку и готовится к ответу. Да если бы Коновалова готовила себе защиту, то неужели за три года не придумала бы лучшего, чем сказать, что не знает, за что убила мужа, что он хотел дать ей паспорт, что убивать его не было цели? Нет, она рассказала все честно, не пытаясь придумать что-нибудь себе в защиту. Мачеха-судьба наконец пожалела ее, как бы внушив ей мысль говорить одну только правду. И в этом для нее есть уже доля спасения! Киселева не участвовала в убийстве мужа своей дочери и отговаривала ее от этого шага. Ее волновала судьба дочери. Она и теперь остается любящей матерью и больше всего волнуется и беспокоится об участи своей Ани. Когда проклятия сыпались на Анну Коновалову, когда ее забрасывали комьями грязи, мать невыразимо страдала и все время плакала. Да, господа обвинители, мать, идя рядом с дочерью даже на плаху, забывает себя и в последнюю минуту думает только о том, что может быть совершится чудо — дочь будет спасена. Меня глубоко волнует ее просьба заступиться за дочь. Еще я хочу рассеять то тяжелое впечатление, которое произвела на вас, господа присяжные заседатели, одна фраза в речи прокурора. «Еще ранее убийства, — говорит он, — все они вчетвером молились перед образом Николая Чудотворца, просили успеха в задуманном убийстве». Правда ли, что это так происходило? Молились ли они? Да! Хотя, кроме Коноваловой, никто не сознается в кощунственной молитве. Обвинитель видит грубое упорство в нежелании подсудимых сознаться в том, что они молились, но я с ним не согласен. Наоборот, это свидетельствует, что это люди не совсем погибшие. Почему? Да потому, что чувствуют, что молитва эта может возмутить вас больше самого преступления. Как? Нарушая законы Божеские и человеческие, эти озверевшие люди просят благословения у Бога за свои беззакония? Да, они молились, я верю Коноваловой, она не лжет, но каждый о разном молил Бога. Киселева просила Господа, чтобы прошел этот вечер благополучно, чтобы не допустил Он преступлению совершиться, чтобы уберег Он и дочь, и несчастного Петра. Остальные просили Господа простить им тяжкий грех. Повторяю, если подсудимые не сознаются, что молились перед убийством, то это доказывает, что совесть у них не погибла, что им стыдно и страшно вспомнить об этом, что они — случайные преступники, что к ним можно относиться милостиво, хотя сами они были жестоки. Не мстите им, господа присяжные заседатели, и не относитесь к ним с ненавистью. Они столько перестрадали даже за эти четыре дня, а сколько еще предстоит им страданий! Как бы ни был ужасен преступник, как бы сильно ни возмущал он добрых людей, судьи должны быть беспристрастными. Когда самого ужасного злодея ведут на казнь и он, измученный, без всякой надежды на сострадание, бросает в негодующую толпу умоляющий взгляд, тысячи сердец людских,возмущенных его жестокостью, проникаются к нему состраданием. Когда вы уйдете в совещательную комнату, забудьте взаимные нападки подсудимых, помните, что эти жестокие люди тем уже глубоко несчастны, что не смеют надеяться на сострадание. Взгляните на них хоть с тем сожалением, с каким смотрят на затравленного зверя, когда он уже безопасен для людей и замучен. И есть за что каждого из них пожалеть! Коновалову за то, что, не живши, отжила, что, едва выйдя из детского возраста, видела только горе. Сегодня ей неполных 22 года, а она уже семь лет страдает. Ведь последние три года, с самого убийства мужа, она даже в вине и шумной жизни не могла утопить своего горя, заглушить угрызения совести. Пожалейте вы и Павлову за то, что никто ее не жалеет, что она не смеет просить милости, что ее страдания здесь на суде во многих вызывают еще большее отвращение, даже злобу. Не пройдите мимо Телегина, не забудьте, что случайно, на горе себе, приведенный сюда Киселевой, чтобы получить место, честным трудом заработать кусок насущного хлеба, оторванный от семьи, детей, он по несчастной, роковой случайности сделался преступником. Из-за чего и как — один Господь знает. Поймите Киселеву, материнское сердце которой заставило ее укрыть дочь, невольно сделаться соучастницей преступления. Вспомните, что закон делает уступку родителям, позволяя им безгранично любить своих детей, даже преступных. Позвольте мне всем им сказать, что ваш приговор будет милостивый. Ведь это все, чего они просят у вас». После выступлений защитников дается последнее слово подсудимым. Анна Коновалова, плача, повторяет, что она уже раньше дала чистосердечное признание во всем. Павлова отрицает свою виновность. Телегин заявляет: «Будет нас судить Христос. Все понапрасну наговаривают». Анисимов и Киселева молчат и тупо смотрят в сторону присяжных заседателей. Через два с половиной часа присяжные заседатели вынесли решение. Виновными были признаны только двое — Павлова и Телегин. Суд постановил: Екатерину Павлову и Дмитрия Телегина лишить всех прав состояния и сослать в каторжные работы на 10 лет каждого; Анну Коновалову, ее мать Киселеву и Павла Анисимова считать оправданными. По протесту товарища прокурора правительствующий сенат в отношении Коноваловой решение присяжных заседателей и приговор отменил и дело о ней возвратил для нового рассмотрения в Санкт-Петербургский окружной суд при другом составе суда. Вторично дело слушалось в мае 1900 г. Телегин и Павлова фигурировали на суде уже как свидетели. Защищал Коновалову присяжный поверенный Г. С. Аронсон. Его взволнованная речь произвела на публику большое впечатление. «Когда около года стоишь с человеком, которому грозит опасность, — говорил защитник, — невольно начинаешь волноваться вместе с ним. И вы, господа присяжные заседатели, через час будете взволнованы не менее меня. Вам приходится иметь дело со страданиями человека, а есть страдания, которые бесконечны. У иных людей судьба — палач. Она дает как бы в насмешку светлые мгновения, чтобы потом послать еще тяжелейшие страдания. Такая цепь непрерывных страданий у несчастной подсудимой. Коновалова не была дурной или испорченной женщиной. У нее еще сохранилась живая, отзывчивая душа. Ее только преследовала судьба, бывшая для нее злой мачехой. И, сбившись с пути, Анна Коновалова в самую страшную минуту оказалась правдивой, честной женщиной и рассказала всю голую правду, ничего не скрашивая, ничего не убавляя. Если вы, господа присяжные заседатели, думаете, что она еще должна пострадать за свой грех, то, скажите, где же предел этих страданий? Уже второй раз она занимает эту позорную скамью, и второй раз выворачивают ее душу. А между тем годы уносят и молодость, и красоту, и здоровье. Сколько же еще надо ей выстрадать? Где конец? От вас зависит распорядиться жизнью подсудимой. Судите же ее как живые люди!» Защитнику Г. С. Аронсону публика устроила овацию. После предварительного совещания присяжные заседатели признали Анну Коновалову виновной лишь в недонесении и заслуживающей снисхождения. Резолюцией суда она была приговорена к заключению в тюрьму на три месяца.
ДЕЛО ТАЛЬМЫ И КАРПОВЫХ

Весной 1894 г., 28 марта, в г. Пензе произошел пожар. Загорелся флигель дома госпожи Тальма, в котором проживали вдова генерал-лейтенанта П. Г. Болдырева и ее горничная А. Савинова. Пожар заметили на рассвете квартиранты соседнего флигеля, мещане Карповы. Они же и подняли тревогу. Вскоре прибыла пожарная команда, которая довольно быстро справилась с бушевавшим огнем. Когда удалось войти в заполненную едким, удушливым дымом квартиру, взорам вошедших предстала ужасная картина. В первой комнате лицом вниз лежал окровавленный труп горничной. Ей было нанесено множество ранений, один из ударов поразил насквозь легкое и сердце. Находившийся здесь же телефонный аппарат оказался сорванным со стены, провода оборваны, на столе лежали две опрокинутые лампы. Саму генеральшу также нашли мертвой в своей спальне. На сильно обожженном теле было обнаружено шесть глубоких ран как бы от удара кинжалом. Все свидетельствовало о том, что квартира была нарочно подожжена неизвестным преступником, чтобы скрыть ужасное злодеяние. Процентные бумаги, деньги и некоторые золотые вещи исчезли.
30 марта два футляра от драгоценных вещей, пропавших из квартиры Болдыревой, были найдены при обыске в квартире Карповых. Те, однако, объяснили, что один из футляров был подарен им убитой Савиновой, а другой случайно найден во дворе.
Тщательно проанализировав все обстоятельства, полиция пришла к убеждению, что преступление совершил «свой человек», близко знакомый с генеральшей и укладом ее жизни. По-видимому, он около двух часов ночи вошел в квартиру и привел в исполнение свой преступный замысел.
Подозрение пало на мужа домовладелицы, 28-летнего молодого человека. Будучи воспитанником убитой генеральши, он в то же время считался незаконнорожденным сыном ее сына — полковника А. О. Тальмы. Выяснилось, что муж домовладелицы, Александр Тальма, имел веские причины питать злобу к Болдыревой. Они часто ссорились, потому что, отдавая деньги под проценты, она к тому времени завладела большей частью состояния его жены, лишив его обеспечения. Однако, привлеченный к уголовной ответственности, молодой человек решительно отрицал свою виновность.
Пока велось следствие по этому делу, в одно из московских полицейских управлений ночью 11 июля явился некий мещанин Коробов с просьбой арестовать его. На вопрос за что, объяснил:
— Я весной служил на фабрике в Пензе и хорошо знаю убийц генеральши Болдыревой, — и загадочно добавил: — Может быть, и сам принимал в этом деле участие.
Допрос отложили до утра. Но ночью таинственный Коробов отравился, унеся свою тайну в могилу.
Имело ли его заявление какую-нибудь связь с пензенским убийством или нет, выяснить так и не удалось.
В результате в убийстве генеральши был заподозрен только один Александр Тальма, и осенью 1895 г. он предстал перед Пензенским окружным судом.
Тальма обвинялся в том, что, желая завладеть деньгами и документами генеральши Болдыревой, он убил ее и горничную, а затем поджег квартиру.
Показания свидетелей, среди которых фигурировала также и семья Карповых, были в общем неблагоприятны для подсудимого. Основываясь на этом, товарищ прокурора М. О. Громницкий поддерживал обвинение против Тальмы.
Защита в лице господ Грушецкого и Кальмановича настаивала на том, что во взаимных отношениях Тальмы и Болдыревой решительно не было ничего такого, что подвинуло бы его на убийство двух женщин. Хотя факт убийства и поджога доказан, но это преступление могло быть совершено другим человеком. Что же касается Тальмы, то никто не видел, чтобы он в ночь преступления выходил из своей квартиры.
Подсудимый был очень взволнован и в своем последнем слове просил присяжных заседателей вынести такой вердикт, какой продиктует им совесть.
После продолжительного совещания присяжные заседатели признали его виновным.
Как только был прочитан вердикт, защитник Кальманович со слезами стал просить суд отменить решение присяжных заседателей. По его мнению, в данном случае был осужден совершенно неповинный человек. В свою очередь, полковник Тальма упал на колени перед судом и молил о пощаде для невинного.
Вердикт, однако, был оставлен в силе, и суд приговорил Александра Тальму к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы на пятнадцать лет.
Прошло четыре года, и вдруг произошло событие, заставившее вспомнить о деле Тальмы.
Летом 1899 г. в Пензе обокрали жену штабс-капитана Е. Билим. В краже заподозрили ее бывшую прислугу, крестьянку Захарову. В ходе дознания случайно обнаружилось, что Захарова незадолго перед этим пыталась продать какую-то железнодорожную акцию в 1000 рублей, переданную ей мещанином Александром Карповым. Последний был вызван в местное полицейское управление для допроса. Оказалось, что это был тот самый Карпов, который когда-то вместе с родителями выступал свидетелем в процессе Тальмы. К этому времени семья Карповых все так же продолжала квартировать во флигеле госпожи Тальма.
Откуда у него взялась такая дорогая акция, Карпов объяснить не мог. После долгого запирательства, поняв, что другого выхода у него нет, он заявил полицеймейстеру, что желает открыть истину и дать важное показание, но просил вызвать в полицию своего отца.
Когда старик Карпов явился, сын упал ему в ноги:
— Прости меня. Погубил я вас всех.
— Говори, в чем ты виноват, — сурово сказал отец.
Александр зарыдал и стал просить полицеймейстера удалить на время старика из комнаты.
— Мне тяжело говорить при нем, — со слезами объяснил он.
Когда тот вышел за перегородку, Карпов подошел к полицеймейстеру и глухо сказал:
— Акция эта — Болдыревой.
Затем, оправившись от волнения, Александр начал свой печальный рассказ.
В ту весеннюю ночь четыре года назад, когда все уснули, Карпов взял кинжал, сделанный им из подпилка, и через оконную форточку влез в спальню Болдыревой. Хозяйки еще дома не было. Александр спрятался за шкаф и стал поджидать свою жертву. Часа через полтора Болдырева вернулась, вошла в спальню. За ней следовала горничная. Поставив на столик около кровати принесенную лампу, она принялась раздевать барыню. Потом горничная ушла, генеральша заперла дверь на крючок, легла в постель и повернулась лицом к стене. Тогда Карпов вышел из засады, напал на Болдыреву и начал наносить ей удары кинжалом. Сколько было таких ударов — он не помнит. Генеральша громко застонала, за дверью раздался испуганный крик горничной. Бросив генеральшу, Александр выбежал из комнаты и ударил кинжалом горничную. Она упала на пол. Покончив с обеими женщинами, Карпов возвратился в спальню, взял из комода драгоценности и ценные бумаги, а потом поджег квартиру. Никем не замеченный, он пробрался двором домой. Кинжал спрятал, а утром сломал и выбросил его в реку.
По словам Карпова, убийство он совершил один, без сообщников, и сделал это потому, что ненавидел покойную генеральшу за ее черствый характер. Незадолго до преступления она велела выгнать его отца из флигеля за неплатеж квартирных денег.
На следующий день старик Карпов заметил, что с сыном произошло что-то неладное. В ответ на его расспросы Александр упал отцу в ноги и признался в своем ужасном преступлении. В тот момент ему еще не было 17 лет. Все похищенные им деньги, процентные бумаги и вещи он передал родителям, которые воспользовались ими с корыстной целью.
На основании повинной Александра Карпова он вместе со своими родителями был предан в 1900 г. суду присяжных заседателей по обвинению в том же преступлении, за которое уже отбывал наказание Александр Тальма.
Судебное следствие продолжалось пять дней.
Главный подсудимый — молодой человек, среднего роста, с красивыми, задумчивыми глазами. Его отец, Иван Карпов, представлял собой обычный тип ремесленника. По профессии он медник. Жена его, Христина, ничем особенным не выделяется. Все они признали себя виновными (последние двое — в укрывательстве преступления).
По словам Ивана Карпова, вернувшись 28 марта 1894 г. после пожара домой, он увидел случайно на печке дорогой футляр с серьгами. Удивившись находке, он подозвал сына и стал расспрашивать, откуда появились серьги. Тот смутился и этим выдал себя.
Почувствовав, что произошло что-то недоброе, отец начал разыскивать самодельный кинжал, который раньше он отобрал у сына. К его ужасу, кинжал был найден в горне с запекшейся у рукоятки кровью.
— Что это? — в испуге спросил старик.
Только тогда преступный сын упал ему в ноги и покаялся в убийстве.
Ужасное дело, однако, было сделано, и старик решился спасти хоть сына.
Александр отдал ему некоторые похищенные у генеральши вещи, которые отец тут же сжег, 140 рублей деньгами и на 4000 рублей процентных бумаг.
Купоны от этих бумаг и деньги стала потом тратить и Христина Карпова, также знавшая о преступлении сына.
На судебном следствии Александр Карпов почему-то начал давать противоречивые показания, невольно сбивавшие с толку.
Защищали семью Карповых присяжные поверенные Гирш-фельд и Козлов, произнесшие горячие речи в защиту подсудимых.
Особую роль в данном деле, тесно связанном с судьбою Александра Тальмы, играл присяжный поверенный В. И. Добровольский как представитель гражданского истца — полковника Тальмы. Основной своей задачей он видел восстановление справедливости и оправдание невиновного.
«Мы не можем не чувствовать и не сознавать того, что здесь, на суде, решается судьба не только семьи Карповых, но в связи с решением вопроса об их виновности или невиновности, быть может, открывается путь к спасению того, образ которого является для нас, обвинителей, руководящим светочем в настоящем деле, — начал свою речь господин Добровольский. — Это нравственный стимул привел нас сюда и здесь, на суде, дает нам силу и убеждение поддерживать обвинение против Карповых. Но одна эта цель была бы недостаточна. Как бы она ни была нравственно высока и чиста, вы не увидали бы нас в роли обвинителей Карповых, если бы мы не имели в своем распоряжении безусловно подавляющих улик.
Вся Россия знакома с делом осужденного Тальмы, а тем более оно известно вам, господа присяжные заседатели, как местным обывателям. И, возможно, в противовес высказанному мною только что убеждению в виновности Карповых у вас возникнут в памяти подобные же слова, убеждающие в виновности Тальмы. А может быть, не только взгляд представителя обвинения, но и сам приговор по этому делу в виде непреложной истины, добытой тяжким судебным трудом, стоит пред вами, склоняя вас к мнению, что приговор как судебное решение, как закон для данного случая требует высшей осторожности. И это не может не остановить вас в некотором критическом размышлении пред той новой истиной, которая открывается перед нами здесь.
Конечно, всякое судебное решение с формальной стороны одинаково достоверно, но не всякое решение основано на одинаково достоверном судебном материале. В ходе судебного разбирательства судье приходится решать вопрос о виновности на основании или прямых, или косвенных улик. В том и другом случае достоверность приговора далеко не одинакова.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Родился в Полтаве 25 сентября 1865 г. По окончании Санкт-Петербургского университета непродолжительное время служил по судебному ведомству. В 1893 г. вступил в адвокатуру. Первым громким процессом, в котором Добровольский выступил защитником главного обвиняемого, было дело об убийстве псаломщика Кедрова. После этого он участвовал во многих известных процессах то в качестве защитника, то как гражданский истец. Наиболее крупные из них: процессы Тальмы и семьи Карповых, авантюристки Сенкевич, Лоретца-Эблина, братьев Иовановичей (поджог). Помимо уголовных нередко выступал и по большим гражданским делам, отстаивая принципиальный вопрос о преимущественных правах матери над детьми. (Данные приведены на 1901 г.)
Косвенная улика говорит лишь об известной вероятности, бросает лишь тень подозрения. Правда, эта тень сгущается по мере увеличения числа улик, убеждение судьи приближается все более и более к полной достоверности, но абсолютной — не достигает никогда. Случилось убийство, и все обыватели данного города находятся в некотором подозрении. Все они с большей или меньшей вероятностью могли его совершить, против них имеется хотя и слабая, но уже одна косвенная улика. Идем далее. Против всех лиц, живущих на той улице, где совершилось преступление, имеется уже большее число косвенных улик, а против живущих под одним и тем же кровом число таких улик уже неисчислимо. Все эти лица находятся в явном подозрении, все они не гарантированы от уголовной ответственности, от скамьи подсудимых, скажу более, от осуждения. Как бы ни были косвенные улики многочисленны, тяжесть доказательства лежит на обвинителе. Никогда приговор, основанный на них, не создает полной достоверности. Он приближает нас к истине, но судебная ошибка всегда возможна. Иной силой обладает прямая улика. Она устанавливает бесспорный факт, обвиняемый уличается безусловно, и совершение им преступления стоит вне сомнения. В настоящем деле мы, обвинители, ищем против Карповых прямые улики. Карповы пойманы с билетами, несомненно принадлежащими Болдыревой, похищенными при совершении убийства. Убийца признается в совершении преступления. Казалось бы, чего же более? Но такое признание своей вины хуже всякого отрицания. Александр Карпов, чувствуя тот яд сомнения, которым все здесь пропитано, и пользуясь этим, дает такие показания, которые заводят нас в лабиринт противоречий, порождают ничем не обоснованный скептицизм и подрывают силу и значение самых простых и достоверных фактов. Но мы должны разогнать этот мираж, чтобы постичь реальную действительность, так как только на фактах, фактах абсолютно достоверных, проверенных на суде, вы должны обосновать свой приговор. Все то, что вы получили за стенами зала, вы должны выбросить из своего ума и сердца и судить согласно данной вами присяге, основываясь только на том, что видели и слышали на суде. Однако и судебный материал неодинаково достоверен, отбросим же и в нем все сомнительное, условное и станем лицом к лицу с реальной действительностью. На ней вы должны обосновать свой приговор. Александру Карпову предъявлено обвинение в убийстве, но нам, обвинителям, и вам, судьям, недостаточно одного того факта, что Александр Карпов пойман с облигацией на руках и что она находилась у него в 1899 г. Раз мы поддерживаем против него обвинение в убийстве, мы должны доказать, что он его совершил. Когда Карпов был уличен в продаже облигации, он пришел на помощь правосудию и чистосердечно сознался в содеянном. Но теперь, когда душа облегчена признанием, в Карпове заговорил инстинкт самосохранения. Признаваясь в убийстве, он дает такие путаные объяснения, что у нас невольно возникает мысль, не имеем ли мы дело с одним из тех добровольцев, что готовы принять страдание. Это убеждение может в нас окрепнуть еще более, если мы вспомним то объяснение, которое давал Карпов относительно кражи в 1893 г., за которую он был осужден. Он говорил: «Я принял чужую вину». Невольно напрашивается аналогия: может быть, и теперь он принимает чужую вину. Давайте во всем этом разберемся. Картину убийства, которую нам рисует подсудимый, мы должны сопоставить с той, которую получаем, воспроизводя ее по свидетельским показаниям, заключению экспертов, осмотру места преступления. В этом отношении правдивость признания подсудимого не оставляет сомнения. Картина убийства не могла запечатлеться в уме Карпова как свидетеля по делу Тальмы: она иная, она не та, которая рисовалась в том деле. Когда Карпов совершил убийство, ему не было 17 лет. Поэтому мы, во-первых, должны спросить себя: как пришел Карпов в столь юные годы к подобному преступлению и мог ли он совершить его один? О мотивах, которые привели его к убийству, мы получили противоречивое объяснение. То Карпов говорит, что он руководствовался корыстными целями ограбления и наживы, то утверждает, что преследовал чисто моральную цель, считая, что Болдырева была очень плохим человеком и заслуживала смерти. Я думаю, что тема Раскольникова Карпову не по плечу. Здесь мы имеем дело с простым, корыстным преступлением, о чем свидетельствует и нравственный облик подсудимого. Карпов угрюм, молчалив, необщителен. Еще будучи мальчиком, он умел постоять за себя, достичь цели, проявив твердую волю. Уже смолоду в нем таились сильные страсти. Эксперты-психиатры останавливали ваше внимание на том, что в юношеском возрасте бывает достаточно самых незначительных импульсов, чтобы молодой человек мог с исключительной легкостью поддаться преступному желанию. И уголовная практика подтверждает это. Исследуя далее вопрос о физической силе Карпова, о его возможности совершить убийство Болдыревой и Савиновой, когда ему не было еще 17 лет, мы должны учесть заключение экспертов, которые утверждают, что кинжал страшен и в руке младенца, сила же жертвы преступления роли не играет. Совершенно безразлично, была ли Болдырева немощной старухой или могла свалить с ног одной пощечиной своего дворника. Теперь давайте разберемся в противоречиях показаний Карпова. Например, в одном случае Карпов говорит, что он спрятался за комодом, в другом — под постелью. Как же понять это противоречие? Я нахожу его вполне естественным. Карпов пойман, он имел неосторожность сознаться в преступлении. Чем же ему теперь защищаться, как не дискредитированием собственного же признания? Это единственный путь к спасению. Отрицание хотя бы и незначительных фактов достигает своей цели. Карпов, с одной стороны, говорит, что он совершил убийство «один», а с другой — известные факты отрицает. Таким образом он достигает того, что возникает сомнение в достоверности признания и возможности совершения им убийства без соучастников. Мы не можем не понять тех целей, которые преследует подсудимый, но мы в то же время не можем не протестовать против этого всей силой нашего убеждения. В процессе Тальмы Карповы были его обвинителями. Теперь мы, представители интересов Тальмы, обвиняем Карпова, добиваемся его осуждения, добиваемся от него правды. «Говорите же, — призываем мы его, — говорите! Истина нам не страшна!» Но он молчит. Может быть, он скрывает того, чье спасение мы не можем поставить ему в упрек? Действительно, предположение о соучастии отца возможно, но оно не имеет за собой достаточных оснований. В то же время в признании Карпова проскользнули такие правдивые штрихи, что их невозможно уничтожить. Вспомните, как он говорил об убийстве Болдыревой: «Ударил ее в левый бок, она приподнялась, почти что привстала на ноги, и тогда я нанес ей второй удар». Это фотографически верный снимок с действительности. Он мог запечатлеться только у совершившего убийство. Защита во время судебного следствия стремилась доказать, что до 1898 г. у Карповых не было облигаций, что следы причастности их к преступлению начинаются только с 1898 г. И потому со стороны Карповых нет уже преступления, а есть лишь жертва и добровольное принятие чужой вины. Конечно, всякие предположения возможны, но они должны быть подтверждены фактами. А факты говорят нам о другом. Футляры, похищенные у Болдыревой, были найдены у Карпова 30 марта 1894 г., то есть через день после совершения убийства. Кровавый след, как видите, не обрывается в 1898 г., он ведет нас к месту совершения убийства, и там застаем мы отца и сына Карповых. Признание последнего завершает логическую цепочку доказательств, подтвержденных фактами. Слова излишни, они отдаляют справедливый приговор, отдаляют ту истину, которую мы ожидаем услышать. Поспешите же вынести свой приговор и отогнать им тот кошмар, который навеян на общество настоящим делом, и снять тот укор, который лежит на общественной совести!» После продолжительного совещания присяжные заседатели признали Александра Карпова виновным лишь в укрывательстве преступления, совершенного другим лицом. Такой же вердикт был вынесен ими и в отношении его родителей. Суд постановил: Ивана и Христину Карповых лишить всех прав состояния и сослать в каторжные работы на шесть лет, причем ходатайствовать через министра юстиции пред Его Императорским Величеством о замене этого наказания для Карповой тюремным заключением на один год; Александра Карпова заключить в тюрьму на два года. Гражданский иск, заявленный присяжным поверенным Добровольским со стороны полковника Тальмы, был удовлетворен полностью. По вступлении этого приговора в законную силу ранее осужденный Александр Тальма подал в правительствующий сенат ходатайство о возобновлении его дела вследствие вновь открывшихся обстоятельств. Ходатайство, однако, было оставлено сенатом без последствий, но затем по представлению министра юстиции состоялось высочайшее помилование Александра Тальмы.
ЖЕСТОКАЯ МЕСТЬ

В ночь на 19 сентября 1900 г. в Петербурге, на Надеждинской улице, произошел трагический случай. Возвращаясь от своей невесты домой, крестьянин Ф. О. Иокимас встретился с какой-то женщиной, которая быстро выхватила из-под одежды склянку и плеснула ему в лицо едкой жидкостью. Иокимас почувствовал страшную боль в глазах и закричал, призывая на помощь. Таинственная незнакомка поспешила скрыться.
Медицинское освидетельствование потерпевшего констатировало почти полную потерю зрения в правом глазу и сильные ожоги на шее и лице как бы от действия серной или азотной кислоты. По заключению врачей, лицо пострадавшего навсегда останется обезображенным.
Иокимас объяснил, что жестоко расправившаяся с ним женщина, несомненно, виленская мещанка Текла Вержхницкая. Раньше он состоял с ней в любовной связи, но затем порвал отношения и решил жениться на Франциске Крассовской. Узнав, что свадьба должна состояться 19 сентября, отвергнутая любовница начала упорно преследовать его, но безрезультатно и тогда прибегла к мести.
Заявление пострадавшего было подтверждено его невестой и ее подругами, которые рассказали, что Текла Вержхницкая вечером 18 сентября долгое время поджидала кого-то у дома, где живет Крассовская и где в этот вечер был в гостях жених последней. Когда Иокимас вышел на улицу, его бывшая любовница на глазах у подруги невесты, Евы Киршанской, стоявшей на балконе дома, стремительно подошла к нему и облила кислотой.
Вержхницкая упорно отрицала свою виновность и настаивала на том, что в ночь преступления не встречалась с Иокимасом.
Из дальнейшего дознания обнаружилось, что на квартиру ее вскоре после преступления наведался один из знакомых и стал укорять ее, зачем она так зверски поступила с Иокимасом.
— А ты разве сыщик? — сердито сказала молодая женщина и затем вдруг заплакала.
Когда знакомый стал ее успокаивать, она со слезами начала просить его уговорить как-нибудь Иокимаса снова вернуться к ней и позабыть о невесте.
— Он должен меня простить, — уверенно говорила она. — Я его люблю.
Знакомый пробовал заметить ей, что едва ли Иокимас согласится теперь жить с ней.
— А если так, то я ему и другой глаз выжгу, — пригрозила она.
На предварительном следствии возникло сомнение в нормальности психики подозреваемой, и она была отправлена в больницу Николая Чудотворца. По заключению экспертов-психиатров, Вержхницкая хотя и одержима истерией, но никаким душевным расстройством не страдала.
В ноябре 1901 г. она предстала перед Санкт-Петербургским окружным судом. Молодая женщина, среднего роста, с миловидным лицом, производила благоприятное впечатление. Она была модисткой и раньше имела в Петербурге собственный магазин дамского платья и шляп. Защищал ее присяжный поверенный М. К. Адамов. Зал суда и коридоры были переполнены публикой, большинство которой составляли дамы.
На вопрос председательствующего, признает ли она себя виновной, Текла Вержхницкая взволнованно сказала:
— Отчасти я признаю себя виновной. Да, это я облила Иокимаса кислотой, но меня вынудили на это. Я любила его, а он хотел жениться на другой, издевался надо мной и обманывал. Мне было тяжело жить, и я сама намеревалась отравиться. В последний раз, когда я хотела объясниться с ним, он ударил меня. Не помня себя от обиды, я плеснула в него кислотой.
Далее последовал печальный рассказ подсудимой.
Текла познакомилась с Иокимасом лет шесть тому назад, и между ними возникли близкие отношения. У нее в то время было до 500 рублей денег и хороший заработок. Обещая на ней жениться, любовник перебрался на ее квартиру и жил с ней мирно до тех пор, пока не выманил у нее все деньги. Затем эта связь стала его тяготить. Несмотря на рождение детей, любовник отказывался помогать Вержхницкой и думал лишь о том, как бы побольше раздобыть у нее денег. Часто, пьяный, он затевал на квартире шумные скандалы и грубо требовал денег. Однако Вержхницкая по-прежнему продолжала любить Иокимаса. Она уговорила его закрепить церковным обрядом их связь, надеясь, что после женитьбы на ней он изменится.
День свадьбы был назначен на 15 августа 1900 г. Перед этим состоялось обручение, и Иокимас взял у своей любовницы на необходимые расходы около 260 рублей. Прошло некоторое время, но Иокимас как бы забыл о свадьбе. Вержхницкая начала беспокоиться и, к своему отчаянию, проведала, что у нее завелась соперница в лице смазливой горничной, крестьянки Франциски Крассовской. Мало того, она узнала, что вероломный любовник нагло обманывает ее и решил тайком от нее жениться на Крассовской. Убитая горем Вержхницкая, чувствуя, что она не может перенести измены, стала умолять любовника не губить ее и прекратить знакомство с горничной. Иокимас, однако, не обращал внимания на ее просьбы, осыпал грубой бранью и, чтобы избавиться от нее окончательно, обвинил ее в краже своей одежды и в подлоге денежной расписки. Однако обвинение не было доказано, и мировой судья оправдал Вержхницкую.
Но и после этого Текла не перестала любить Иокимаса и надеялась вернуть к себе возлюбленного. Она даже намеревалась предложить своей разлучнице 300 рублей «отступного».
Как объяснила обвиняемая, кислоту она купила в день преступления в аптеке для чистки медной посуды.
Сам пострадавший — довольно красивый мужчина, лет 37, с небольшой черной бородкой. Широкая повязка скрывала поврежденный глаз. По профессии он конторщик, служил на Александровском сталелитейном заводе. Вместе с ним в суд явилась также и его жена, бывшая горничная Франциска.
Супруги Иокимас отзывались о подсудимой как о вздорной и взбалмошной женщине.
— Никогда я не думал на ней жениться, никакой любви к ней не испытывал, — откровенно признался Иокимас. — Она и до меня уже имела тесное знакомство с некоторыми мужчинами.
Остальные свидетельские показания мало внесли нового в собственное признание подсудимой, подтвердив лишь данные обвинительного акта.
Находя виновность ее вполне доказанным фактом, товарищ прокурора Бибиков поддерживал обвинение.
Присяжный поверенный Адамов в своей защитной речи нарисовал яркие портреты главных действующих лиц этого дела — беззащитной женщины, горячо привязавшейся к своему недостойному избраннику, и ее бездушного, эгоистичного любовника, которым руководил простой холодный расчет. По мнению защитника, присяжные заседатели должны проникнуться тяжелым, безотрадным положением исстрадавшейся женщины-матери и прийти ей на помощь своим гуманным вердиктом.
После непродолжительного совещания присяжные заседатели признали факт обезображения доказанным, но Теклу Вержхницкую признали совершившей преступление в состоянии аффекта.
Резолюцией суда она была оправдана.
ПОХОЖДЕНИЯ ТРАХТЕНБЕРГА

В 1900 г. крестьянин Быковский, приискивая для себя место артельщика или рассыльного с гарантией денежного залога, поместил объявление в газетах.
Вскоре после этого он получил письмо от купеческого сына В. Ф. Трахтенберга, который предлагал ему должность и просил зайти для переговоров. Обрадованный Быковский отправился по указанному адресу. Представительный молодой человек, назвавшийся Трахтенбергом, принял его очень любезно и объяснил, что он имеет в Петербурге электротехническую контору, а кроме того, состоит агентом Российского страхового общества, поэтому очень нуждается в расторопном артельщике для исполнения различных денежных поручений. Быковский охотно согласился поступить на эту должность и представить залог в 400 рублей, с тем чтобы деньги были внесены в государственный банк, а в руках Трахтенберга находилась только одна квитанция.
В тот же день оба они пришли в государственный банк. Артельщик вынул из кармана свидетельство четырехпроцентной государственной ренты, билет дворянского займа и пятипроцентную облигацию Житомирской узкоколейной железной дороги, всего ценных бумаг по курсу на сумму 402 рубля. Трахтенберг, забрав их у артельщика и выдав взамен вексель на 400 рублей, отправился с ними в какое-то отделение банка. Через несколько минут он возвратился обратно и объявил Быковскому, что его залог сдан в кассу, но квитанцию он сможет получить только на другой день. Однако прошло несколько дней, а о квитанции не было ни слуху ни духу. Артельщик стал волноваться, но Трахтенберг успокоил его и выдал какое-то извещение на печатном бланке о том, что процентные бумаги внесены в государственный банк. Не видя на бланке фамилий ни кассира, ни контролера, Быковский усомнился в его действительности и справился в банке. Подозрение его не замедлило подтвердиться. Оказалось, что Трахтенберг никаких ценностей в государственный банк не вносил. Встревоженный артельщик обратился за разъяснениями к своему «хозяину», который стал уверять, что залог находится в сохранности.
— Если вы беспокоитесь, возьмите всю мою квартирную обстановку в обеспечение, — предложил Трахтенберг.
Между тем ни конторы, ни агентства у него не оказалось, и Быковскому пришлось исполнять роль простого лакея. В конце концов Трахтенберг скрылся вместе со всем своим имуществом.
Обманутый артельщик обратился к прокурору с жалобой, и на другой же день, 31 января, Трахтенберг поспешил возвратить ему выигрышный билет, а в счет остальной недостающей суммы залога выдал сторублевый вексель от имени дворянина Э. Шафрата. Вексель этот также оказался результатом мошеннических действий Трахтенберга. Взяв из музыкального магазина купца Бормана перед Рождеством напрокат дорогое пианино, Трахтенберг в январе продал его за 200 рублей мебельному магазину «Взаимная польза». Из этих денег он получил наличными только 100 рублей, а на остальную сумму — вексель дворянина Шафрата.
В результате В. Ф. Трахтенберг был привлечен к уголовной ответственности и предстал перед Санкт-Петербургским окружным судом с участием присяжных заседателей.
Обвиняемый — молодой человек 21 года, с худощавым, интеллигентным лицом. Одет очень прилично, в высоком воротничке, с пенсне, на суде держался вполне непринужденно.
Бывший студент Императорской военно-медицинской академии, сын состоятельного купца, Трахтенберг был известен всему веселящемуся Петербургу как постоянный посетитель клубов и легкомысленный жуир. Немудрено поэтому, что еще задолго до начала заседания зал суда и коридоры были переполнены разношерстной публикой, интересовавшейся исходом данного дела и его деталями. Большинство присутствующих составляли студенты Военно-медицинской академии, правоведы, студенты Санкт-Петербургского университета, а также дамы, для которых личность подсудимого, приобретшего большую популярность своей широкой жизнью, имела особый интерес.
Обвинение поддерживал товарищ прокурора Завадский.
Из свидетельских показаний выяснилось, что подсудимый никакими делами не занимался и по большей части проводил время вне дома, возвращаясь поздно ночью. Но деньги у него водились, по-видимому, немалые. Он собрал редкую коллекцию старинных монет. Для езды обыкновенно держал помесячно лошадей, щедро давал кучерам на чай, имел выездного лакея-черкеса и обезьяну и ни в чем себе не отказывал. Квартиру, отделанную им по собственному вкусу, украшали многочисленные изделия из бронзы и фарфора, роскошные ковры, картины и статуи. В общем, стоимость его обстановки определялась в сумме до 10 000 рублей. Жил он совершенно одиноко, без родных, окруженный только слугами. И вдруг в этой беспечальной жизни Трахтенберга произошел резкий переворот. Средства оскудели, появились настойчивые кредиторы. Чтобы спасти от описи свое имущество, он пытался перевести его на чужое имя. Однако это ему не удалось, и он уехал в Москву, бросив нанятого артельщика, залогом которого он воспользовался для поправления своих дел. Но и в Москве ему не повезло: он попался в какой-то проделке, и на него было заведено дело в Московском окружном суде. Что это за дело, Трахтенберг не хотел объяснить, называя его маловажным. Посаженный в московскую пересыльную тюрьму, он вскоре из-за жалоб обманутых артельщика и хозяина музыкального магазина был препровожден в Петербург.
Сам Трахтенберг оправдывался тем, что он будто бы с ведома Быковского взял у него залоговые деньги, выдав ему за это вексель и предоставив у себя хорошо оплачиваемое место лакея. После же, когда Быковский начал упорно требовать у него свой залог, он для расчета решился продать взятое раньше напрокат пианино. Не желая в то же время обманывать владельца музыкального магазина, он немедленно после продажи пианино прислал ему нотариальное заявление о том, что покупает в рассрочку взятое напрокат пианино, обязуясь уплачивать ежемесячно по 25 рублей.
По словам подсудимого, в мае 1899 г. он окончил курс во 2-й Санкт-Петербургской гимназии, давал первое время уроки, а затем поступил в Императорскую военно-медицинскую академию. Лишенный возможности жить совместно со своей семьей по особо уважительным причинам, он решительно отказался от денежной помощи со стороны родителей и жил на свой скромный заработок, исполняя кое-какую постороннюю работу и сотрудничая в журнале «Звезда». Материальные обстоятельства его тем временем становились все более и более затруднительными, он стал сильно нуждаться и, отчаявшись, решил попытать счастья на «зеленом поле». С ничтожными деньгами в кармане он пробрался, переодетый[1], в клуб, стал играть в карты и в первый же вечер выиграл до 300 руб. Всю неделю после этою ему везло, он продолжал выигрывать и окончательно пристрастился к карточной игре, видя в ней легкий источник наживы. Как только наступал вечер, он сбрасывал студенческий мундир, облачался в сюртук и целые ночи просиживал в клубе. Такая жизнь не замедлила отразиться на его здоровье; он заболел и вскоре слег в военный госпиталь. По выздоровлении он ушел из академии и опять взялся за карты, выиграв в короткое время около 5000 рублей. Имея в руках крупные деньги, он безрассудно стал разбрасывать их направо и налево, давая всем, кто просил. Появились роскошная обстановка, выезд, лакей-черкес, причудливая обезьянка. Но о высшем образовании он не забыл и стал готовиться к поступлению в Санкт-Петербургский университет. Казалось, жизнь улыбалась ему. Но счастье изменило, начались проигрыши, и деньги быстро исчезли. Он пробовал отыграться, отчаянно рисковал, но не смог вернуть потерянного и в январе 1900 г. остался без копейки денег. Между тем у одного кредитора был исполнительный лист на него в сумме 400 рублей, для оплаты которого он и решился воспользоваться залогом нанятого им лакея. Вскоре ему было обещано хорошее место в Москве, хотя за «содействие» нужно было заплатить какому-то видному лицу 500 рублей. Он заложил все свои дорогие вещи и уехал в Первопрестольную. Однако и там его преследовали неудачи. В результате он попал в пересыльную тюрьму, а из нее — на скамью подсудимых.
Ознакомившись с обстоятельствами дела, присяжные заседатели признали В. Ф. Трахтенберга виновным в мошенничестве на сумму около 300 рублей и в растрате, но сделали ему снисхождение, найдя, что при продаже чужого пианино он действовал легкомысленно. Суд приговорил Трахтенберга к заключению в тюрьму на один месяц.
После отбытия наказания он снова судился (на этот раз уже в Москве) по обвинению в том, что ложно именовал себя князем Барятинским и в устроенном им игорном доме обыгрывал посетителей краплеными картами. Суд приговорил его к двухмесячному тюремному заключению с лишением особых прав.
Кроме того, против него было возбуждено еще одно дело — о растрате на сумму до 150 000 рублей.
СМЕРТЬ ЗА ИЗМЕНУ

Года два назад в Петербурге проживала некая Акулина Сергеева, крестьянка по происхождению. Восемнадцатилетняя женщина не отличалась разборчивостью в сердечных делах и меняла своих любовников, как перчатки. Однако последний ее роман оказался неудачным и закончился трагически.
Вечером 6 марта 1901 г. она была доставлена в Обуховскую больницу тяжело раненная в живот и, несмотря на все медицинские меры, через три дня скончалась.
— Кто вас ранил? — спросили у нее перед смертью.
— Любовник… Александр Богданов, — слабым, прерывающимся голосом ответила она.
По словам Сергеевой, он сильно ревновал ее. Прожив с ним около месяца на одной квартире, она бросила его и перебралась в другой дом. Но бывший любовник не переставал преследовать ее. 6 марта, когда она выходила из трактира «Вена», путь ей вдруг преградил Богданов.
— Что, загордилась? Ушла? — резко сказал он и, прежде чем она успела отбежать, вонзил в нее нож.
В общем, из предсмертного показания молодой женщины следовало, что Богданов был жестоким человеком с преступными наклонностями.
Однако из показаний других лиц удалось выяснить, что Александр был трудолюбивым, скромныммолодым человеком, избегавшим спиртных напитков. Познакомившись с покойной Сергеевой, он очень дружно жил с ней первое время, пока она не «свихнулась». Соскучившись по прошлой, легкомысленной жизни, она мало-помалу стала снова распутничать, завела каких-то подозрительных кавалеров и порой по целым суткам пропадала из дома.
— Где ты ночевала? — тревожился Богданов, окидывая молодую женщину ревнивым взглядом.
— У матери, — коротко отвечала она.
Чувствуя, что она обманывает его, Богданов тем не менее продолжал любить беспутную женщину и даже намеревался жениться на ней.
Александр познакомился с Акулиной в театре. Случайное знакомство с бойкой молодой женщиной вскоре переросло в любовь. Кто она была, Богданов первоначально не ведал, хотя и узнал, что он является уже не первым ее любовником.
Получив предварительное воспитание в каком-то благотворительном приюте, Акулина Сергеева служила потом горничной у одного чиновника, затем работала на винном заводе, в типографии и постепенно познакомилась с «прелестями» городской цивилизации. Своих родителей она почти не навещала, но до матери нередко доходили слухи, что дочка «шибко гуляет».
Убийца-любовник был привлечен к уголовной отбетственности и в конце 1910 г. предстал перед присяжными заседателями.
Дело слушалось под председательством Н. А. Чебышева. Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Ф. С. Зиберт. Защищал подсудимого присяжный поверенный Н. П. Карабчевский.
На суде обвиняемый объяснил, что он очень любил покойную Сергееву, несмотря на ее строптивый характер. Между тем она явно издевалась над ним, заводила частые ссоры и осыпала его грубой бранью. Любя ее, он не мог спокойно относиться к ее распутной жизни. Ему делалось очень больно, когда она оставляла его одного, собирала разных мужчин и уходила с ними гулять или кататься на тройке.
Как-то однажды он встретил Акулину на Садовой улице. Вероломная женщина шла под руку с каким-то мужчиной и держала себя в высшей степени непринужденно. Это так подействовало на Богданова, что он выхватил из кармана небольшой нож и попытался перерезать себе горло. Израненного, его поспешили отправить в ближайшую больницу.
Выздоровев, Александр упорно начал разыскивать Акулину, которую он, несмотря ни на что, продолжал любить. Он готов был простить ей все, лишь бы только она снова возвратилась к нему. Оказалось, что ее тоже положили в больницу. Богданов поспешил навестить ее.
— Чем ты больна? — стал допытываться Александр.
— Так, просто… расстроилась, — неохотно отвечала она, не желая вступать с ним ни в какие объяснения.
Когда любовница покинула Богданова, он тщетно пытался уговорить ее на совместную жизнь. Она не отказывалась брать у него деньги, но все-таки избегала возобновления любовной связи с ним. Доведенный до отчаяния, он стал искать забвения в водке.
В день преступления он, проходя случайно мимо магазина металлических изделий, под влиянием тоски купил остро отточенный финский нож. Для чего он ему понадобился, для самоубийства или кровавой расправы с изменницей, он не знал в то время.
Вечером, желая заглушить горе водкой, он зашел в трактир «Вена» и, к своему негодованию, увидел здесь Акулину, пьянствовавшую в компании мужчин. Она вызывающе посмотрела на своего бывшего любовника и презрительно отвернулась в сторону. Возмущенный Богданов бросился вон и на углу стал поджидать любовницу. Через некоторое время она вышла из трактира и, не обратив внимания на Александра, пошла быстро по улице.
— Подожди! — крикнул, нагоняя ее, молодой человек.
— Чего тебе?
— Прощай! Простись со мною!
— Что ты ко мне лезешь? — рассердилась она. — Я тебя не знаю!
Потеряв самообладание, Богданов ударил ее ножом в живот.
Первоначально он думал скрыться и поездом Николаевской железной дороги поехал к матери в Старую Руссу. Однако в вагоне им овладело раскаяние в своем жестоком поступке, и по совету какого-то старика пассажира он возвратился обратно в Петербург, чтобы отдаться в руки правосудия.
После обвинительной речи товарища прокурора слово предоставили Н. П. Карабчевскому.
«Сознательно и по своей воле убивают только изверги и сумасшедшие, как редкие исключения, — начал свою речь защитник. — Большинство же убийств — только несчастье и мука, и прежде всего несчастье и мука именно для тех, кого мы называем убийцами. Они гораздо несчастнее жертв своих. И единственный вопрос, который приличествует судье задать им: что обрушило на вас подобное несчастье? Нередко они сами не могут дать на него ответ.
Человек не хочет убивать. Он хочет есть, пить, спать, плакать, смеяться, радоваться, любить, быть счастливым, дышать всей грудью… Но прекратить в себе или другом это дыхание, эту жажду жизни — всегда противно его воле и его разуму.
Под какую категорию убийц подвести нам дотоле незлобивого, тихого двадцатилетнего юношу Александра Богданова? Согласиться ли с обвинителем, что он хотел зла своей жертве, обдумал его и совершил это зло сознательно? Едва ли на этом может успокоиться судейская совесть. Бедной и жалкой, так же юной, Сергеевой нам, разумеется, не воскресить. К чему бы привела ее жизнь, мы не знаем. Хуже или лучше ей было бы, если бы она оставалась на этом свете, мы предугадать не в силах, но перед нами другая, молодая еще жизнь, за дальнейшую судьбу которой мы всецело ответственны.
Александр Богданов, выросший в самом омуте столичной трудовой жизни, наперекор всему сохранил в себе все черты молодой, нетронутой пороком души. В неприглядной обстановке мастерового, среди дурных примеров и окружающей его нравственной распущенности он умудрился уберечь свою чистоту и свежесть. Он не пьет, не бражничает с товарищами, до двадцати лет вовсе не знает женщин и прежде всего сторонится размалеванных красавиц, с которыми другие его товарищи не прочь «водить компанию». Живет он скромно, одевается чисто, копейке знает цену, но не копит деньгу, а помогает своим заработком отцу и матери. Так обстоит дело до зимы 1900 г. В эту зиму он случайно знакомится в театре с Сергеевой и влюбляется в нее со всем пылом первой юношеской страсти.
Здесь, на суде, господин председательствующий стремился выяснить у подсудимого, какой именно любовью полюбил он Акулину Сергееву — плотской или духовной. «За тело ли» или «за ее душевные качества»? На этот вопрос подсудимый не сумел ответить, он упорно отмалчивался, багровел и потуплялся. Я думаю, что если бы любому из нас, взрослому, поставить такой же вопрос, мы тоже, если бы хотели быть искренними, ответить не сумели. Любовь к женщине — вещь слишком сложная и деликатная, чтобы ее можно было разложить на столе вещественных доказательств и разобрать на составные части. И сам вопрос едва ли ставится правильно: за что любишь? Люблю, потому что люблю. Ни за что, и за все! Люблю! Как только разберешься, за что именно, наступит черед уважению, благодарности, признательности и другим прекрасным чувствам, но любви-то, собственно, почти всегда наступит конец.
Итак, не будем выяснять, за что любил Богданов Сергееву. Достаточно, что он ее любил и что это была его первая любовь. Терпеливо и радостно лелеял он мысль о браке с полюбившейся ему девушкой. Пусть нигде не встречает сочувствия его затея, пусть отец косится на его распутную нареченную, пусть приятели про себя хихикают и подсмеиваются над его гулящей возлюбленной, он один только знает ей цену, один простил ей все ее прошлое и готов отдать ей все свое будущее. Он не ревнует ее, он только бесконечно жалеет ее и боится, чтобы она не ушла от него, не оступилась, не окунулась опять в омут прежнего разврата.
Если бы это была не любовь, что бы его тянуло к ней? Насладился ею, насытил свою животную страсть и — будет! Для чего связывать себя, становиться добровольным батраком и пестуном такой женщины, как Акулина Сергеева? Мало ли таких шестнадцатилетних Акулин, Настасий и Лукерий выбрасывает на свою поверхность и затем вновь поглощает омут столичного разврата? На каждого молодца (особливо такого красавца, как Александр Богданов) всегда найдется новая, свежая Акулина… Но вот поди ж ты! Ни «свежей» Акулины, ни Настасьи, ни Лукерьи ему не нужно. Прилепился он духом и телом к одной и во что бы то ни стало хочет вытянуть ее из омута, точно собственную душу боится с нею вместе погубить. Когда в первый раз уходит от него Сергеева, он в тот же вечер встречает ее на Фонтанке, отзывает от компании в сторону, на ее глазах тут же режет себе горло перочинным ножом и попадает в больницу. Едва оправившись, он опять разыскивает Сергееву и находит ее уже в больнице. Есть основание думать, что она болела нехорошей болезнью, которую затем передала и ему. Поблекшую, утомленную, он водворяет ее опять к себе и снова счастлив. Надо быть самому очень молодым и очень чистым, чтобы понять такую экзальтированную идеализацию любимой женщины. С прожитой жизнью все это утрачивается, забывается, но, пока мы сами молоды и чисты, нам кажется, что, любя, мы священнодействуем. А когда священнодействуешь, всегда ждешь чуда. С Сергеевой, к сожалению, подобного чуда не случилось. Для нее не наступило момента нравственного перерождения. После небольшого отдыха от панельной жизни ее вскоре опять потянуло на гульбу и легкую жизнь.
Богданов целые дни на работе. Она, не привыкшая ни к делу, ни к работе, томится, скучает. Ее зовут то кататься на тройке, то провести вечер в ресторане. У компании, которая за ней так настойчиво ухаживает, по-видимому, никогда не переводятся деньги, и деньги эти нехорошие, грязные. Богданов узнает (и это больше всего его убивало), что среди этой веселой молодежи, сманивавшей Сергееву, числились и профессиональные воры. Они не прочь были втянуть смазливую молодую женщину в свое темное ремесло. Богданов хорошо понимал, что она была уже на самом краю пропасти. Между тем он любил ее по-прежнему, а может быть, даже больше прежнего и жалел, как никогда… Что могло ждать эту несчастную впереди? Или тюрьма, или больница у Калинкина моста… А он любил ее!
Однажды, не предупредив его, Сергеева уходит и уже больше не возвращается. Для Богданова это был удар в самое сердце. Он бросает работу, дотоле непьющий, пытается заглушить горе водкой. Несколько дней спустя он на улице случайно сталкивается с Сергеевой. Она уже вышла на панель. Он умоляет ее уехать в провинцию к его матери, чтобы там начать новую жизнь. Так как все деньги он прокутил, то закладывает за восемнадцать рублей свое пальто и пытается найти Сергееву, чтобы передать деньги и отвезти ее на вокзал. Но встретить Акулину ему никак не удается. Проходит несколько дней, и он впадает в совершенное отчаяние. И опять пытается найти забвение в водке. Наконец деньги заканчиваются. На последние гроши он покупает финский нож, чтобы покончить либо с нею, либо с собою, как приведет судьба. Он понимает только одно: надо покончить! В тот же вечер, попав в трактир, он случайно встречает Сергееву. Она была там со своими «обожателями» — они ее поили водкой. Потом она вышла на улицу на свою уже обычную, «профессиональную» прогулку.
Богданов кинулся за нею. «Прощай, простись со мною», — заступил он ей дорогу. А в ответ слышит: «Я тебя не знаю. Что ты лезешь?» И она, отвернувшись от него, стремится продолжить свой путь…
Если бы он не любил ее, он бы брезгливо посторонился, послав ей, по обычаю, вдогонку разве только площадное слово. Но уйти от нее он не мог. Он чувствовал всем существом своим, что любит ее и жалеет больше жизни, больше самого себя. Он и сам рад был бы умереть в эту минуту — так ему было невыносимо. Но что сталось бы с ней? Она пошла бы дальше, по проторенному, известному пути. И тогда он решил: «Нет! Она не сделает больше ни шага по этому пути». Он выхватывает нож и наносит Акулине смертельный удар в живот. Но став убийцей, он тут же почувствовал себя и слабым, и беспомощным, как ребенок. Ноша оказалась непосильной! Он вспомнил о матери… Думал у ней укрыться на груди. Его образумил первый встречный, участливый человек. «И мать бессильна спасти убийцу!» — сказал он ему.
Может быть, спасете его вы, присяжные заседатели?! Вы — людская совесть! Подумайте, попробуйте!.. Если можете взять его грех на себя и отпустить его — спасите!»
Присяжные заседатели совещались недолго. Александру Богданову был вынесен оправдательный вердикт.
БАНКИРСКИЙ КРАХ

Весной 1900 г. к одному из судебных следователей явился владелец банкирской конторы в Петербурге мещанин Г. А. Никитин и заявил о совершенной им вследствие неудачной биржевой игры растрате чужих денег на сумму около 200 тысяч рублей. В его банкирской конторе немедленно был произведен тщательный обыск, в ней оказалось всего 4888 рублей. Вместе с тем выяснилось, что Никитин заложил в Обществе взаимного кредита, в Сибирском торговом банке и у мещанина Федорова различные ценные бумаги общей стоимостью 332 233 рубля, под которые было взято ссуды 293 766 рублей.
По прекращении банкирской конторой финансовых операций кредиторы поспешили распродать эти бумаги, причем кроме долга Общество взаимного кредита выручило лишних 6866 рублей, Сибирский банк — 1231 рубль. Таким образом, с учетом оставшихся непроданными процентных бумаг на 10 118 рублей на покрытие растраты у Никитина было только 23 103 рубля.
Предварительным следствием было установлено, что Никитин приобрел банкирскую контору в декабре 1897 г. у своего брата при вполне удовлетворительном балансе и с активом, превышавшим пассив почти на 15 815 рублей. Своих денег Никитин имел тогда около 45 000 рублей. В конторе работал другой брат Никитина — Василий, но он, как приказчик, самостоятельной роли не играл. И когда пытался изредка делать замечание о рискованности каких-нибудь операций, то Никитин просил его не вмешиваться в посторонние дела.
Первоначально новый владелец конторы вел банковские операции с осторожностью и получал даже прибыль, но затем дела его пошатнулись, и с 1899 г. он стал прибегать к помощи своего брата, продавшего ему контору. Последний считался очень состоятельным человеком и в разное время передал Никитину до 72 000 рублей, хотя эти деньги по большей части не записывались ни в какие конторские книги. В делах конторы негласное участие принимал также купец И. Манус, имевший, по-видимому, неограниченное влияние на Никитина, который придерживался его советов в деле покупки и продажи бумаг, принимал от него различных клиентов и открывал им в своей конторе специальный текущий счет на крупную сумму. Клиенты эти обыкновенно отдавали приказания не самому Никитину, а через Мануса и, внося по своим счетам весьма небольшое обеспечение, к тому же еще часто отсрочивали прием заказанных на срок ценных бумаг, пользуясь покровительством Мануса.
Из показаний потерпевших инженеров Бонди, Крушколла и Бернатовича и подрядчика Парйдеева, наиболее крупных клиентов конторы, видно, что все они занимались строительством Сибирской железной дороги и осенью 1899 г. приехали по делам в Петербург. Здесь они познакомились с Манусом, который узнав, что у них имеются деньги, уговорил их начать биржевую игру дивидендными бумагами. При этом как на наиболее надежное учреждение для открытия специальных текущих счетов он указал им на банкирскую контору Никитина.
Сибирские гости последовали его совету, открыли текущие счета, и контора Никитина начала покупать для них и продавать различные бумаги, записывая эти операции в расчетные книжки. Однако никто из них и никогда не видел покупавшихся бумаг, и номера последних почему-то не вписывались конторой в книжки.
Операции банкирской конторы заключались главным образом в продаже ценных бумаг и покупке на срок. При продаже в банки Никитин пользовался бумагами своих клиентов, которые сдавал покупателям, и таким путем доставал необходимые средства для продолжения своих операций. С 1898 г. он сильно расширяет операции специальных текущих счетов (on call), и по балансу на 1 апреля 1900 г. видно, что им было принято всего бумаг на 1 580 859 рублей и выдано клиентам в ссуду 1 432 386 рублей. В особенности же возросли текущие счета с осени 1899 г., когда клиентами в контору вступили три сибирских инженера и подрядчик, сразу открывшие счета на сумму свыше 1 000 000 рублей.
Такой огромный кредит Никитин, владевший незначительным оборотным капиталом, мог оказывать только под условием продажи ценных бумаг, принадлежавших его клиентам, тем более что столь обширным кредитом он сам ни в каком банке не пользовался. И действительно, он не стеснялся прибегать к продаже чужих ценностей, продав к 1 апреля 1900 г. ценных бумаг своих клиентов на сумму 1 373 512 рублей. Желая все-таки предохранить себя от ответственности и убытков, Никитин одновременно с продажей этих бумаг покупал такие же бумаги на срок.
Так как ценные бумаги в последние два года все более и более падали, то он, кроме крупных убытков, ничего не получил от этой операции. Помимо того, подобная операция, заключающаяся обыкновенно в конце месяца, заставляла его принимать в конце месяца большую партию бумаг, и ему с трудом приходилось доставать необходимые для этого денежные средства. В таком же затруднительном положении он очутился и весною 1900 г., накануне своего признания в растрате.
Общая сумма этой растраты, как показала проверка, составила 220 432 рубля 70 копеек. Пострадавшими оказались многие клиенты конторы.
Привлеченный к уголовной ответственности, Никитин признал себя виновным в растрате вверенных ему ценностей и объяснил, что продавал ценные бумаги клиентов для биржевых операций, так как сам он не обладал достаточным оборотным капиталом. Продавал он как бумаги, внесенные клиентами на обеспечение специального текущего счета, так и покупавшиеся конторой согласно их поручению. С той же целью были растрачены им и внесенные на простой текущий счет деньги, а также положенные на хранение в контору ценные бумаги.
По словам некоторых лиц, близко знавших обвиняемого, он всегда вел скромную жизнь и на свои личные расходы тратил очень мало денег. Ввиду этого произведенная им крупная растрата может быть объяснена исключительно несчастливой биржевой игрой.
Дело это рассматривалось 28 ноября 1900 г. в Санкт-Петербургском окружном суде под председательством Д. Ф. Гельшерта.
Защитником со стороны подсудимого выступал присяжный поверенный Г. С. Аронсон.
Обвиняемый спокойно рассказал суду о своей биржевой деятельности, приведшей его в конце концов на позорную скамью. По его словам, это результат несчастного стечения обстоятельств, а также того, что в 1899 г. он познакомился с купцом Манусом. В том же году он и стал прибегать к продаже и залогу вверенных ему клиентами ценных бумаг, надеясь как-нибудь извернуться в биржевой игре. По совету Мануса, бывшего мелким биржевым спекулянтом, он принял крупных клиентов. Но дававшееся им обеспечение не соответствовало открытым им счетам, ему самому приходилось расплачиваться за них, и, когда клиенты зарвались в погоне за наживой, они и его втянули в опасный водоворот. Между тем растрата все более и более росла без надежды на поправление дел, и Никитину наконец ничего не оставалось, как только чистосердечно признаться во всем. Сам он решительно ничем не воспользовался от своей деятельности, а, напротив, потерял на биржевых операциях до 400 000 рублей. Ко времени суда над ним его богатый брат пришел к нему на помощь, и обвиняемому удалось сполна удовлетворить все претензии бывших клиентов его конторы.
Товарищ прокурора Ф. С. Зиберт ввиду полного признания своей вины подсудимым находил излишним допрашивать многочисленных свидетелей, тем более что по этому делу не было заявлено никаких гражданских исков.
Защитник Г. С. Аронсон, присоединяясь к мнению обвинителя, просил допросить только купца Мануса как главного свидетеля, показания которого могли пролить свет на данное дело.
Свидетель Манус показал, что он знал подсудимого как солидного биржевого дельца, которому смело можно было довериться. Поэтому, когда он познакомился с сибирскими инженерами, желавшими попытать счастья в биржевых операциях, он прямо отрекомендовал им контору Никитина. Вместе с тем он стал давать им советы относительно биржевой игры, но они мало слушались его и вскоре совсем перестали прибегать к его содействию. Свидетель, между прочим, считал, что сибиряки сами были не менее его опытные биржевики и могли понимать, куда дело клонится. Что касается Никитина, то он никого не мог обмануть, его считали неспособным к биржевой деятельности. Манус также рассказал о том, что в конторе Никитина после трех часов дня устраивалась так называемая американская биржа, участниками которой являлись разные лица, не допускавшиеся на настоящую биржу: всевозможные биржевые «зайцы», любители быстрого обогащения и прочие. Здесь тоже заключались сделки, покупались и продавались ценные бумаги. В этой нелегальной бирже принимал участие и сам Никитин со своими клиентами-сибиряками.
Защитник Аронсон заметил, что в определенной степени краху конторы Никитина содействовал сам свидетель, навязывая ему малообеспеченных клиентов и давая не всегда правильные советы.
По просьбе присяжных заседателей на суде были оглашены письменные показания некоторых свидетелей. Эти показания обрисовывали Мануса в невыгодном свете. Например, знакомясь с будущими клиентами конторы Никитина, он настойчиво уговаривал их принять участие в биржевой игре, сулил златые горы, а потом, когда те терпели неудачу, преспокойно умывал руки.
Манус считал эти обвинения неубедительными. «В биржевых операциях все дело основано исключительно на кредите, — объяснял он. — Я не имею сейчас и 1000 рублей, а между тем, если захотите, могу предложить вам акций на миллион рублей».
По его же словам, подсудимый, расплачиваясь со своими клиентами после краха конторы, некоторым из них даже переплатил лишние деньги. Так, например, он возвратил одному клиенту 5100 рублей, между тем как благодаря биржевым операциям он сам должен был дополучить с него вдвое большую сумму. На это было указано также и экспертизой, которая, отметив неправильное ведение книг в конторе Никитина, тем не менее не усмотрела в этом какого-либо злого умысла или недобросовестности с его стороны.
Оборот в конторе подсудимого иногда доходил до двух миллионов рублей в день.
Товарищ прокурора усматривал в действиях Никитина, приведших к растрате, лишь признаки легкомыслия.
Присяжный поверенный Г. С. Аронсон произнес горячую речь в защиту подсудимого. «От действий бывшего банкира, — сказал он, — решительно никто не пострадал, скорее он сам сделался жертвой различных «американских» дельцов, потеряв все свое состояние и превратившись в нищего». Метко охарактеризовав тот азартный мирок, в котором вращались господа Манусы и другие подобные ему биржевые дельцы, Аронсон делал вывод, что подсудимый в своей печальной деятельности играл почти исключительно пассивную роль, всецело подпав под постороннее влияние.
В заключение защитник выразил надежду, что присяжные заседатели, признав Никитина невиновным, тем самым дадут хороший урок на будущее всем другим биржевикам и удержат их от рискованной игры ценностями в погоне за наживой.
Присяжные заседатели недолго совещались и вынесли Г. А. Никитину оправдательный вердикт.
ГРАФИНЯ-САМОЗВАНКА

Осенью 1898 г. проживавшая в Петербурге мещанка Анподистова, 60 лет, случайно познакомилась с молодой, представительной дамой, представившейся графиней. Дама эта произвела на старушку благоприятное впечатление и получила предложение почаще навешать ее. Графиня, оказавшаяся впоследствии дворянкой Д., стала заходить к Анподистовой, как правило, в отсутствие ее мужа. Мало-помалу «графиня» вкралась в доверие к Анподистовой, которую начала уверять, что ей предстоит вскоре получить наследство после умершего миллионера Базилевского. Сообщив, что она пока нуждается в деньгах на ведение дела по наследству, ловкая дама сумела выманить у простодушной старушки около 1800 рублей.
Однажды придя к Анподистовой, Д. застала ее лежащей в постели с компрессом на голове. Когда больная впала в легкое забытье, гостья осторожно пробралась к стоявшему в комнате незапертому шкафу и похитила из него объемистый пакет с процентными бумагами на сумму свыше 10 000 рублей. Затем, не простившись с Анподистовой, быстро направилась к выходу. Прислуга, находившаяся в передней, заметила, что гостья выронила пакет, смущенно подняла его с пола и поспешно вышла на улицу. Прислуга рассказала об увиденном своей хозяйке, та заглянула в шкаф и убедилась, что сделалась жертвой кражи.
На другой день самозваная графиня опять навестила обкраденную старушку и на просьбу последней возвратить похищенные процентные бумаги ответила, что она отдаст ей со временем все деньги.
— Если же вы вздумаете заявить о краже в полицию, то ничего не получите, — пригрозила молодая женщина.
Госпожа Анподистова тщетно прождала несколько месяцев и наконец, не получив ни денег, ни процентных бумаг, рассказала обо всем мужу. Тот обратился с жалобой к прокурору.
На предварительном следствии выяснилось, что после похищения процентных бумаг к госпоже Анподистовой приходил муж «графини» и просил не возбуждать уголовного преследования.
— Не беспокойтесь, деньги будут вам возвращены, — говорил он при свидетелях. — Процентные бумаги заложены в банке, а квитанции взяла с собой моя жена, которая выехала из Петербурга. Но я сейчас же напишу ей.
Однако старушка так ничего не получила.
Привлеченная к ответственности дворянка Д., происходящая из почтенной, уважаемой семьи, не признала себя виновной в краже. По ее словам, она была должна госпоже Анподистовой только около 600 рублей, которые брала у нее в разное время на свои нужды.
В результате в конце 1900 г. Д. предстала перед Санкт-Петербургским окружным судом.
К судебному расследованию был привлечен в качестве эксперта врач-психиатр профессор Нижегородцев.
Подсудимая, довольно симпатичная женщина, лет тридцати, свою виновность отрицала. Она рассказала, что давно уже страдает алкоголизмом. Напиваясь нередко до полной потери сознания, она в это время не отдает себе отчета в своих поступках.
— Если я и попала теперь под суд, то только из-за своего пьянства, — объясняла она суду.
— Вот вы говорите, что порой напивались до потери сознания, — обратился к ней председательствующий. — Может быть, в эти моменты вы и взяли бессознательно у потерпевшей процентные бумаги?
— Но если бы я взяла или украла несколько тысяч рублей, то у меня ведь были бы деньги… Однако у меня ничего нет и не было, — горячо протестовала обвиняемая.
В ходе дальнейшего следствия выяснилось, что Д. с юных лет воспитывалась у одной баронессы, относившейся к ней как к своей дочери.
Одни из свидетелей говорили в пользу подсудимой, другие давали неблагоприятное для нее показание.
Муж подсудимой рассказал, что она с 1896 г. начала предаваться неумеренному потреблению спиртных напитков. Потеряв надежду исправить жену, он наконец разошелся с ней, но через некоторое время снова стал жить с ней совместно, так как дети нуждались в матери. Д. спивалась все больше. Нередко швейцар вносил ее на руках на квартиру, до такой степени она была пьяна. Под кроватью ее и под подушками хранились часто бутылки с водкой. Пила она не рюмками, а чайными стаканами. Иногда под влиянием алкоголизма принимала внутрь даже нашатырный спирт. Предаваясь пьяному разгулу, теряла всякое человеческое достоинство, а, чтобы добыть денег на водку, относила вещи мужа в заклад. Свидетель утверждал, однако, что он не говорил потерпевшей о том, будто процентные бумаги ее заложены в банке. По его словам, кража бумаг не могла быть совершена подсудимой.
Во время судебного следствия обвиняемая вдруг заявила:
— Прошу суд ускорить это дело, я утомилась… К чему эти бесконечные разговоры? Если я виновна — обвиняйте, невиновна — оправдайте, но только поскорее.
В своем показании муж обвиняемой высказал предположение, что ее систематически спаивали у Анподистовых, хотя это и опровергается другими свидетелями. Сама обвиняемая также говорила, что она пьянствовала вместе со старушкой Анподистовой, которая будто бы чуть ли не насильно навязывала ей свои деньги.
Старушка, однако, взволнованно протестовала против такого заявления и, обвиняя подсудимую в краже, уверяла суд, что самозваная графиня однажды даже намеревалась убить ее, и только прислуга спасла ее от смерти.
Свидетель Уважнев, знакомый потерпевшей, объяснил, что, придя 12 марта 1899 г. к Анподистовым, он застал хозяйку больной. Старушка лежала в кровати, а около шкафа стояла обвиняемая, которая взяла при нем какой-то пакет и быстро вышла из комнаты. Не подозревая ничего дурного, он в то время не придал этому обстоятельству никакого серьезного значения.
Эксперт-психиатр признал подсудимую ко времени суда вполне нормальной. Но заключение о том, была ли она больна в период преступления, экспертиза дать отказалась, мотивируя это отсутствием необходимых данных.
Основываясь на судебном следствии, товарищ прокурора поддерживал обвинение.
Защитник подсудимой, присяжный поверенный Плансон, указывая на ужасный порок, которому она была подвержена, и на ее невменяемость, с учетом недоказанности обвинения ходатайствовал об ее оправдании.
После часового совещания присяжные заседатели, отвергнув обвинение в краже, признали Д. виновной в мошенничестве и заслуживающей снисхождения.
Суд приговорил ее к лишению всех особенных прав и преимуществ и к заключению в тюрьму на восемь месяцев, а также к возмещению с нее в пользу супругов Анподистовых 12 000 рублей.
УБИЙСТВО РОСТОВЩИЦЫ

Зимой 1901 г. в Петербурге была убита с целью ограбления небезызвестная столичным жителям ростовщица А. А. Щолкова.
Покойная была петербургской мещанкой, имела небольшой капиталец и жила на Малой Итальянской улице. Кроме прислуги, Н. И. Гурьяновой, в квартире убитой проживал также мещанин Христенко, занимавший отдельную комнату. 3 января он возвратился домой ночью и с удивлением увидел, что дверь квартиры ростовщицы незаперта. В коридоре царила непроглядная темнота, из квартиры не доносилось ни звука. Испугавшийся квартирант позвал дворника.
Когда они оба вошли в коридор, то услышали голос Гурьяновой. Она говорила, что ей плохо, она лежит на полу в кухне и не может подняться. Христенко не обратил на это внимания и прошел в свою комнату.
Проснулся он на другой день, в 9 часов утра, оделся и вышел из своей комнаты, решив проведать больную хозяйку. Приоткрыв немного дверь спальни хозяйки, он в ужасе попятился назад. Ростовщица лежала на полу в огромной луже крови. Перепуганный квартирант выбежал в кухню и увидел, что и прислуга также лежит в крови, с разбитой головой, в полубессознательном состоянии.
Христенко стал звать на помощь. В квартиру сбежались дворники, вскоре прибыла и полиция.
Сама ростовщица была найдена мертвой, с проломленным черепом.
Гурьянова оказалась еще живой, но говорила с трудом. Из ее отрывистых слов можно было заключить, что в день убийства в гостях у Щолковой были два каких-то знакомых человека, из которых один назывался Бруно. Все они пили водку, угощая и прислугу. Потом Гурьянова вышла на кухню и села на табурет. Что происходило дальше, она уже не помнила. Из бессвязного рассказа потерпевшей полиция поняла также, что у покойной ростовщицы часто бывал на правах ее друга какой-то Марко.
Гурьянову немедленно отправили в больницу, где она вскоре скончалась.
Около трупа убитой был найден небольшой острый топор, по-видимому, и бывший орудием преступления. В спальне ростовщицы царил полнейший хаос. Все ящики комода оказались выдвинутыми, вещи перерыты.
Задержанный Э. Л. Марко на допросе признался, что ему известны убийцы. По его указаниям были арестованы швейцарский гражданин Отто Висс и германский подданный Бруно Иогансен, первый из которых тотчас же сознался в убийстве ростовщицы.
Как рассказал Висс, он познакомился с Иогансеном прошлой зимой. Не имея никаких средств к существованию, они стали заниматься различными мелкими кражами, пока мещанин Э. Л. Марко не познакомился чрез Иогансена с его товарищем.
Опрошенная на предварительном следствии, госпожа Залесская показала, что к ней однажды приходили два молодых человека, похожие на Висса и Иогансена, чтобы, как они объяснили, снять комнату. При разговоре они зачем-то наводили справки об ее состоятельности, интересовались, какие у нее имеются ценности, и вообще вели себя странно.
По окончании предварительного следствия Марко и оба его товарища очутились на скамье подсудимых.
Дело это слушалось осенью 1901 г. в Санкт-Петербургском окружном суде под председательством Д. Ф. Гельшерта. Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Клингенберг. Главных подсудимых защищали: помощник присяжного поверенного М. С. Маргулиес — О. Висса и присяжный поверенный Л. А. Базунов — Б. Иогансена. Защитником Э. Л. Марко был присяжный поверенный Феодосьев.
Все обвиняемые вовсе не похожи на мрачных злодеев. Это самая обыкновенная петербургская молодежь. Главному действующему лицу ужасной трагедии — Отто Виссу всего лишь 21 год. Очень прилично одетый молодой человек с апатичным выражением лица.
Иогансену 22 года. Безусый, с пробором на голове, он смахивал на взрослого мальчугана. Держался непринужденно, хладнокровно рассматривая публику и призванных его судить присяжных заседателей.
Самый старший Марко. Ему уже минуло 27 лет. В высоком белом воротничке с подкрученными усами — классический вид «сердцееда», имеющего большой успех у женщин. Он, как и его товарищи, служил раньше по конторскому делу.
Висс подтвердил на суде сделанное ранее чистосердечное признание.
Окончив в 1896 г. немецкое реформатское училище на Васильевском острове, юноша уехал к своему зятю, жившему в Старой Руссе и занимавшемуся подрядными работами. У него он вел некоторые конторские работы и затем попытался самостоятельно заняться коммерцией. Но его преследовали неудачи. Он потерпел крах и решил искать место. В январе 1899 г. Висс поступил на какой-то завод в качестве заведующего складом, но недолго удержался и в этой должности.
Однажды в Зоологическом саду он познакомился с девушкой, увлекся ею. Знакомство переросло в любовную связь. Девушка стала настаивать на законном браке. Но родные Висса неблагосклонно отнеслись к его сумасбродному поступку и были против женитьбы. Между тем девушка умоляла Висса жениться на ней, предлагая ему обвенчаться где-нибудь в другом городе.
Дождавшись лета 1900 г., Висс выехал вместе с любимой женщиной за границу, закрепил свою связь с ней церковным обрядом, и они уехали в Северную Америку. Однако незнание английского языка очень затрудняло жизнь молодого человека, найти приличную работу он не мог. В короткий промежуток времени он был и комиссионером, и уличным продавцом какого-то патентованного товара, и разносчиком в булочной, и, наконец, простым рабочим на кирпичном заводе. Последнее занятие оказалось ему не по силам, и он заболел.
Жена тоже не знала ни слова по-английски и после тяжелых мытарств в поисках работы предложила ему вернуться в Россию. Супруги продали все свое скромное имущество, но вырученных денег хватало только на возвращение одного человека. Тщетно Висс пробовал наняться на какой-нибудь пароход, чтобы добраться до Европы, — его всюду преследовала неудача. Тогда было решено, что жена останется пока в Америке, а он приедет в Петербург, добудет денег и вышлет ей на дорогу. Родня встретила его холодно. Он поступил служащим в магазин, но постоянные думы о жене, остававшейся за океаном, не давали ему покоя, оттого он был рассеян и плохо справлялся со своими служебными обязанностями. В конце концов, незадолго до Рождества, ему отказали от должности.
В полном отчаянии обратился он за помощью к своему товарищу, некоему Сталовичу:
— Подскажи, что мне делать.
— Самое лучшее, заниматься какими-нибудь нечистыми делишками, — посоветовал ему товарищ, который сам находился без места. — Хорошо было бы убить одного фабриканта, — продолжал он. — По субботам у него производится расчет служащих, и тогда полно денег.
Но Висс отверг такое решение его проблемы.
Вскоре в поисках должности он выехал с товарищем в Москву. По дороге в вагоне между ними состоялся следующий разговор.
— Ты не годишься мне в товарищи, — заявил Сталович.
— Почему? — спросил Висс.
— Мне нужен человек энергичный, без предрассудков.
— Я давно уже бросил предрассудки. Я считаю себя вправе поступить с человеческим обществом так, как оно поступило со мной.
— Мне нужен хороший сообщник, — продолжал Сталович.
— Для какого дела?
— Недавно я был у одной дамы, некой Залесской. Она играет на бирже и имеет массу денег и драгоценностей. Ее можно было бы убить.
Висс наотрез отказался от такого сообщничества. Сталович стал упрекать его в нерешительности.
— Надо что-то делать, а то смотри, ожидая тебя, твоя жена заведет в Америке любовника, — подсмеивался он над товарищем.
Позже Висс узнал, что Сталович, не имея средств к жизни, занимается кражей вещей у докторов. Сдружившись с Иогансеном, Висс тоже начал совершать с ним мелкие кражи, чтобы иметь кусок хлеба. Вскоре подвернулся и Марко, он начал подговаривать их убить его бывшую любовницу-ростовщицу, которой было уже около 60 лет.
— Почему же ты сам не хочешь покончить с ней? — спросил Висс.
— Это опасно. Меня все знают, так как я был ее любовником, — объяснил Марко. — Теперь же я много должен ей, и она хочет подать мои векселя к взысканию.
Висс и Иогансен познакомились с ростовщицей. И в первый же вечер Иогансен по привычке унес из ее квартиры муфту. Однако, понимая, что это может скомпрометировать их в глазах Щол-ковой, друзья поспешили возвратить ей украденную вещь.
По словам Висса, он долго не мог решиться принять участие в убийстве ростовщицы.
И вот настал роковой день. Вечером они пришли в гости к Щолковой. Иогансен на глазах ростовщицы бросил жребий, кому покончить с ней. Монета упала орлом вверх, и он сказал Виссу по-немецки: «Тебе убивать», услал прислугу за водкой и сам подал ему топор.
Два раза подходил Висс с топором к старухе и все не решался.
— Поскорее, а то прислуга вернется, — торопил его Иогансен.
— Не помню, — говорил подсудимый, — как я ударил ростовщицу. Пришел в себя только тогда, когда она вскрикнула: «Ой» — и свалилась на пол. Все время я находился в каком-то странном, лихорадочном состоянии. Покончив с Щолковой, прислонил топор к стене и стал тупо разглядывать картину на стене, изображавшую какую-то «грешницу». После я уже действовал совершенно машинально, не отдавая себе отчета.
Другой подсудимый, Бруно Иогансен, многого не признавал из рассказа Висса, называя его показания фантазией, и утверждал, что он не принимал никакого активного участия в убийстве ростовщицы и ее прислуги.
По его словам, он участвовал только в мелких кражах, но не допускал и мысли убить кого-либо и никакого жребия в квартире Щолковой не метал.
Обвиняемый Марко также отрицал свою виновность и уверял, что он никого не подстрекал убить ростовщицу. Если же он и закладывал иногда краденые вещи, то решительно не знал, каким путем приобретали их Висс и его товарищ.
Судя же из рассказа Висса, он был орудием в руках Иогансена, который оказывал на него подавляющее влияние и, как злой гений, играл в преступлении руководящую роль.
Показание Висса было, по-видимому, логическое и изобиловало массой деталей, что не вызывало сомнений в душевном здоровье подсудимого в момент совершения им преступления. Однако у М. С. Маргулиеса, защитника Висса, было иное мнение.
— При покупке топора Висс смеялся и не показался ли вам странным? — задал защитник вопрос торговцу, продавшему топор Виссу и Иогансену.
— Да, смеялся и острил, он был как-то странно возбужден, — ответил свидетель.
Защитник начал расспрашивать старушку — мать обвиняемого, которая объяснила, что отец Висса пил запоем и допивался до белой горячки.
— Это было до рождения подсудимого или после?
— До рождения, — последовал ответ.
Дальше выяснилось, что старший брат Висса скончался в возрасте 20 лет от чахотки, младший брат — недоразвит, а сестра страдает истерией. Сам обвиняемый был чрезмерно пуглив и боязлив. В малолетнем возрасте он упал как-то с пятого этажа дома, и после этого у него бывали головокружения и временная забывчивость.
Защитник начал задавать вопросы сестре Висса.
— У вас бывают припадки, во время которых вы теряете сознание? — спросил он.
— Да, и нередко.
— Когда они начались?
— В 16–17 лет.
— А у вашего брата Отто не были ли в этом возрасте какие-нибудь перемены?
— К 15–16 годам он стал задумчивее, был рассеян и часто забывал данные ему поручения.
В общем защитнику удалось из показаний свидетелей, вызванных по его просьбе, воссоздать ту патологическую почву, на которой выросло редкое по жестокости преступление слабохарактерного Висса. Вследствие этого встал вопрос о психической нормальности Висса. Возникло предположение, что он, как человек со слабой волей, мог легко подчиняться посторонней воле и действовать как бы по внушению со стороны других лиц.
После краткого совещания присяжные заседатели высказали сомнение в умственных способностях Висса. Их мнение было поддержано защитой и товарищем прокурора. Окружной суд вынес решение приостановить дело впредь до психического обследования Отто Висса.
Только через два года суд возобновил рассмотрение дела. На этот раз со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Бибиков. Защищали подсудимых: Бруно Иогансена — присяжный поверенный Казаринов, Отто Висса — помощник присяжного поверенного Маргулиес и Э. Л. Марко — присяжные поверенные Адамов и Феодосьев.
Из обвиняемых сознался в преступлении один лишь Висс. Иогансен же уверял судей, что он был только зрителем преступления. Все будто бы произошло помимо егожелания и воли, и он никакого жребия не метал в квартире ростовщицы.
— Почему же вы не заступились в защиту убиваемых женщин? — задал ему вопрос председательствующий.
— Я просто растерялся… был сильно взволнован, — ответил обвиняемый.
— Затем, когда преступление совершилось, вы взяли у товарища билет государственной ренты, добытый таким ужасным путем… Зачем вы сделали это?
— Растерялся… ничего не помнил…
— В чем же вы признаете себе виновным?
— Я только участвовал при убийстве…
Мещанин Марко по-прежнему горячо настаивал на своей невиновности и утверждал, что он никогда и никого не подстрекал убить ростовщицу.
На судебное заседание было вызвано свыше 20 свидетелей и несколько экспертов-психиатров.
Рассмотрение дела ввиду его сложности продолжалось два дня. Главной фигурой следствия являлся Отто Висс, непосредственно совершивший убийство ростовщицы и ее прислуги.
Странной натурой был этот Висс, словно сотканный из противоречий. Выросший в почтенной швейцарской семье, с высокими нравственными устоями, он все-таки ступил на скользкий путь порока и стал заниматься кражами. Человек слабохарактерный, он в то же время способен был обнаруживать порой необыкновенную твердость воли. Жена его была раньше самая заурядная проститутка, свободно торговавшая своим телом. И тем не менее, познакомившись с ней в пьяной, угарной атмосфере Зоологического сада, Висс пренебрег мольбами своей матери, порвал все отношения с родными и против воли семьи женился на этой уличной женщине. Он смело перекочевал через Атлантический океан и в далекой Америке продолжал отчаянно бороться за право существования. И наконец, обыкновенно мягкосердечный и всегда избегавший каких-либо проявлений жестокости, он хладнокровно, самым зверским образом, с помощью топора прикончил двух женщин. Между тем он же, как выяснилось на суде, искренно сожалел о преждевременной смерти своей собаки и не мог простить себе, что во время ее болезни не обратился за советом к опытному ветеринарному врачу.
Чистосердечно сознавшись в ужасном преступлении, он нисколько не старался выгородить себя, а, наоборот, даже несколько сгустив краски, обрисовал себя страшным злодеем. Даже тогда, когда его заподозрили в ненормальности умственных способностей и поместили на испытание в больницу душевнобольных, он не захотел воспользоваться благоприятным случаем для симуляции.
— Я вполне здоров… Зачем меня держать здесь? — жаловался он врачам-психиатрам.
В больнице Висс сразу обратил на себя внимание как интеллигентный человек и пользовался авторитетом среди больных и прислуги. Отличаясь хорошим поведением, он завоевал симпатии и врачей. С удовольствием он участвовал в любительских спектаклях, которые устраивались в больнице. На сцене держался непринужденно, свою роль играл с видимым удовольствием. Очевидно, его нисколько не тяготило совершенное им страшное преступление. Ясно сознавая, что всякое вообще убийство преступно, он тем не менее поразительно равнодушно относился к ужасной смерти Щолковой. По собственному признанию подсудимого, ему не было жаль этой женщины. Мысль, что она занимается ростовщичеством и сводничеством, значительно облегчала ему задачу совершения убийства.
Следует отметить, что и раньше, до совершения этого тяжелого преступления, Висс не отличался особенными нравственными устоями. Кроме краж он успел совершить где-то по службе растрату, имелся в его прошлом и случай шантажа, который был только вскользь затронут на суде.
Как выяснилось на следствии, в детстве Висс страдал частыми обмороками. Вообще же его характер, по словам родных, не отличался устойчивостью, и он легко поддавался внешним влияниям. В то же время, когда подсудимые были уже арестованы и Бруно Иогансен пришел в отчаяние, Висс старался успокоить его. «Я вообще считал своим долгом поддержать товарища», — говорил по этому поводу подсудимый.
В доме предварительного заключения он завязал переписку с Иогансеном, которая, однако, была перехвачена. Суду были предъявлены отрывки из писем Висса.
В одном из посланий он просит товарища указать какое-нибудь средство для ращения волос. «Гнусно потерять в столь молодые годы свои волосы», — сокрушается он.
«Что ты читаешь? — спрашивает он далее у Иогансена. — Я читаю «Власть тьмы» Толстого, драму в пяти действиях». В том же письме спрашивает: «Не сообщал ли тебе вор-рецидивист о том впечатлении, которое произвел на публику мой рассказ? (имеется в виду первое судебное заседание в 1901 г.). Ты теперь можешь быть спокойнее, чем перед предыдущим судом, ибо тогда был лишь один шанс против девяти для оправдания, а теперь девять против десяти, то есть один шанс против оправдания. Если мы будем оправданы, то нас перевезут чрез германскую границу, до Кенигсберга, за казенный счет, а далее придется передвигаться за свои деньги. Можно добраться матросом до Лондона, а оттуда — в Америку. В будущий раз, когда нас будут судить, то, пожалуй, снимут и портреты наши напечатают в газетах…»
После этого Висс иронически замечает: «Поверенный Марко (адвокат) больше не интересуется им. Думал, что все симпатии будут на его стороне и его будут жалеть, что он, как невинный, двумя мазуриками был привлечен на скамью подсудимых. Но так как Марко больше всего ругают, то для адвоката не представляется интереса защищать его… Адвокат полагает, что врачи признают меня ненормальным, и тогда мы все трое будем оправданы или получим по несколько месяцев тюрьмы за кражи, ибо Марко будет оправдан, я — как ненормальный — тоже, а тебя одного наказать совесть присяжным заседателям не позволит». Находясь в доме предварительного заключения, он писал также Иогансену: «Посылаю список семейных болезней, которые могут нам пригодиться». «Когда нас поведут в суд, я отлично знаю, что вся публика будет смеяться. Действительно, чудесно выглядит, когда трех таких франтов вводят в зал под конвоем с обнаженными саблями», — заканчивает Висс свое последнее письмо.
В судебном заседании он все время держался очень спокойно, видимо, мало интересуясь ожидавшей его участью. Толково описывал все детали своего мрачного злодеяния.
Экспертами по делу были приглашены в суд известные психиатры Чехов и Розенбах. Оба они никаких признаков душевного расстройства у Висса, несмотря на тщательное обследование, не обнаружили.
— Не считаете ли вы циничным, что подсудимый после зверского убийства двух беззащитных женщин мог спокойно и весело играть на флейте, принимать участие в спектаклях и тому подобное? — спросил товарищ прокурора у доктора Чехова.
На это последовал довольно уклончивый ответ, так как задача экспертов касалась исключительно психопатологической стороны дела.
— Не был ли Висс особенно удрученным или задумчивым? — осведомился присяжный поверенный Казаринов.
— Да, в последнее время перед выходом из больницы он стал задумываться, — ответил эксперт.
Казаринов одновременно с этим старался обратить внимание присяжных заседателей на бедственное положение, в котором находился до преступления Бруно Иогансен, часто не имевший куска хлеба.
— А можно ли считать Висса правдивым? — спросил Адамов.
— Несомненно, — ответил доктор Чехов. — У Висса не приходилось замечать извращений и лжи. Он говорит только правду. Даже в тех случаях, когда ему было бы выгоднее солгать, он старался быть правдивым.
Путем опроса эксперта присяжному поверенному Адамову удалось установить, что Висс отличался такой слабохарактерностью, которая не требовала особого, специального влияния на него со стороны. На него могла подействовать любая случайность: и разговор с приятелем Сталовичем, бежавшим затем с подложным паспортом в Америку, и общение с преступным миром во время краж, и все другое в том же роде. Таким образом, особого подстрекательства со стороны Марко вовсе и не требовалось.
Адамов просил также суд огласить письма Марко к судебному следователю.
— Это вопль души безвинно арестованного человека, — горячо настаивал защитник. — Из писем можно заключить о психологии подсудимого. Так как господин прокурор стремится раскрыть истину, то, вероятно, он не будет протестовать против оглашения их.
После спора между сторонами суд в удовлетворении этой просьбы отказал.
В общем, по заключению экспертизы, ужасное преступление могло быть совершено Виссом под влиянием неотвязной мысли, сверлившей его мозг.
Присяжный поверенный Казаринов указал, что у Висса все-таки бывали резкие вспышки несомненной воли и что поэтому ничего нет удивительного в подчинении ему Иогансена.
В свою очередь, товарищ прокурора старался обратить внимание присяжных заседателей на фразу Висса в его письме: «Я буду оправдан как ненормальный».
— Но к этому необходимо добавить и то, что подсудимый далее пишет: «Так говорил мне защитник», — вступился за интересы подсудимого помощник присяжного поверенного Маргулиес.
По окончании судебного следствия слово было предоставлено представителю обвинительной власти товарищу прокурора Бибикову. «Мрачная кровавая драма, разыгравшаяся на Малой Итальянской улице, — сказал он, — проявление того в высшей степени печального явления, которое замечается в последнее время: ценность человеческой жизни как-то упала, а ценность рубля, наоборот, значительно возросла. Из-за этого рубля люди идут теперь на тягчайшее преступление и со спокойным сердцем убивают себе подобных. И невольно кажется, что совесть человека как будто заснула в этом грозном, победном шествии рубля.
Из-за чего были самым зверским образом убиты две женщины? — продолжал обвинитель. — Тоже из-за рубля, и эта роковая власть денег, губящая жизнь, должна страшить всех».
Сопоставив совершенное убийство со знаменитым романом «Преступление и наказание», обвинитель указал что, попавшие на скамью подсудимых преступники — далеко не Раскольниковы и у них решительно никакой борьбы не происходило в душе, прежде чем решиться на убийство старухи ростовщицы.
«Эта ужасная молодежь — больной продукт больного века, она вполне заслуживает самого строгого возмездия за свое преступление. Иогансен и Висс — убийцы, они сами признались в этом, а Марко — их подстрекатель», — сделал заключение Бибиков.

МАРГУЛИЕС МАНУИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Родился в Одессе в декабре 1868 г. Окончив в 1891 г. юридический факультет Новороссийского университета, выехал в Париж и поступил там на медицинский факультет. По окончании его в 1897 г. остался работать в клинике знаменитого профессора Шарко и в психиатрическом приемном покое центральной парижской тюрьмы. Возвратившись в Россию, в конце 1898 г. вступил в сословие санкт-петербургской адвокатуры. Принимал участие во многих уголовных процессах, в том числе по делам об убийстве Ларионовой, Тимофеева и ростовщицы Щолковой. (Данные приведены на 1910 г.)
Доказывая несомненную виновность всех трех подсудимых, товарищ прокурора настаивал на применении к ним высшей меры наказания. Защитникам Висса и Иогансена предстояла, безусловно, трудная задача — вызвать снисхождение к убийцам. «Господа присяжные заседатели! — начал свою речь присяжный поверенный Казаринов. — Когда мы читаем грустную повесть о том, как в чью-нибудь мирную жизнь с ее радостями и печалями вторгается преступная рука и разбивает эту жизнь, мы негодуем, сердце и разум требуют возмездия, и мы облегченно вздыхаем лишь после того, как преступник претерпевает должную кару. Но приходится нам читать иногда и иную повесть, в которой сам герой является преступным нарушителем права ближнего, и часто мы живем одной с ним жизнью, радуемся его радостям, страшимся его страхом, сердце наше болезненно замирает, когда его схватывают представители закона. И если бы нам пришлось быть его судьями — кто знает, какой приговор мы бы ему написали. Отчего же происходит такая разность взглядов у нас, считающих преступление недопустимым и наказуемым? Эта разница происходит оттого, что в первом случае мы смотрим на преступника извне, с точки зрения жертвы, и видим в нем лишь неразумную злую силу, которую надо уничтожить; во втором же случае мы находимся в самом центре психической жизни преступника, наблюдаем эту жизнь со всеми ее страстями, соблазнами, борьбой, падением, отчаянием, одним словом — видим в преступнике не отвлеченную силу, а живого человека с печатью божества и с богоотступными чертами. Мы понимаем его, а понимать — это почти всегда сочувствовать. Итак, от точки зрения совершенно меняется наша оценка события. Обе точки зрения крайние, истину надо искать в середине, и, чтобы быть справедливым судьей, надо в равной мере осветить и ту, и другую сторону. На суде уголовном эта равномерность освещения часто не соблюдается. В настоящем деле она, несомненно, не соблюдена относительно подсудимого Иогансена. Что касается подсудимого Висса, то требование это соблюдено вполне. Вся жизнь Висса с младенческих лет по настоящее время выяснена до мелочей и его собственными объяснениями, и показаниями его родителей, родственников и учителей, и даже заключениями врачей-психиатров. Мы видим в нем живого человека, понимаем его и потому сочувствуем ему. Вместе с сочувствием все взгляды направляются на него, весь интерес дела сосредоточивается на нем, а тем временем Иогансен — безмолвный, сумрачный, со своим загадочным взглядом — остается в тени, словно он не живой человек, а безличная, злая сила, к которой никто никакого сочувствия питать не может. И не знаем мы, что здесь перед нами — глубокий ли омут, населенный чудовищами, или просто лужа, в которой на два пальца воды, сосредоточенное ли глубокомыслие или невозмутимая пустота. И так как мы ему не сочувствуем, то склонны все толковать в худшую сторону. Но как часто внешний вид не соответствует внутреннему содержанию! Эффектными вывесками манит ярмарочный балаган и сулит открыть неизведанные ужасы, а войдешь в него — все так просто, мизерно и жалко. Господин прокурор приобщил к делу обвинение Иогансена в ношении револьвера и в угрозах этим револьвером. А открыли мы дело, и что же — револьвер оказывается ломаным! Нет, чтобы судить верно, надо смотреть глубже. Не заглянув в душу Иогансена, вы не можете взвесить и его вины. На одной чаше весов лежит громадная тяжесть — его преступление, а на другой не лежит ничего. Все с любопытством ждут, что положит защита на эту чашу. Да, отвечаю я, немного могу я сказать, но все-таки скажу хоть что-нибудь. Что такое, спрошу я прежде всего, этот Иогансен, который в 22 года, в то время, когда другие молодые люди вступают на разных поприщах в договоры с обществом для служения ему, приведен сюда под конвоем, чтобы свести с обществом свои окончательные счеты? Злодей ли это торжествующий, урвавший на жизненном пиру завидную долю, зачерствевший в своей преступной сытости и равнодушно смотрящий на бедных, голодных и бесприютных? Нет! Это сам голодный, бездомный, жалкий, смотрящий с улицы сквозь щели забора на роскошный пир других! И это первое, что радует меня как защитника. Я рад, что преступление его взросло не на тучной почве, в теплоте оранжереи, что не цвело оно пышным цветом, не опьяняло тонким ароматом и не дало сладких плодов, а, как сорный чертополох, появилось на задворках жизни из тощей земли, отравленной ядом отбросов. У преступления, как и у всего, две стороны: одна — привлекательная, манящая, другая — безобразная, отталкивающая. Только одну изнанку преступления довелось видеть Иогансену, и если вся его жизнь была лишена и света, и смысла, и благословения, то самым темным, самым бессмысленным моментом ее, самым высшим проклятием над ней было совершенное им преступление. И это первое, что кладу я на чашу весов Иогансена! Как же к 22 годам стал он убийцей? «Человека нет, он должен создать в себе его», — говорит современный французский философ. Да, каждый сам создает в себе человека, но, чтобы создать, надо, чтобы было чем и из чего создать, и одному для этого дается много, другому — мало, третьему — ничего. Мы разбирали жизнь Висса, и я нахожу, что ему было немало дано. Он имел перед собой пример труженика-отца, ему даны были образование, любовь матери, любовь сестры, которые сопутствуют ему даже здесь, в этом зале, и вы видели, с каким самозабвением протягивают они ему руку помощи, хотя бы и призрачной. Здесь читались письма, присланные ему издалека любящей женщиной, и в этих письмах слышали мы обращенный к нему омытый слезами призыв: «Друг мой, не делай ничего злого!» А где, спрошу я, мать Иогансена? Почему, живя здесь, в Петербурге, не появилась она среди свидетелей? Почему нет ее даже среди публики? Что же не придет она сопутствовать ему на этом печальном шествии, чтобы ободрить его взглядом, чтобы сказать ему: «Ты опозорил меня, но я прощаю тебя, я мать твоя?» Семья — та кузница, где выковывается моральный остов человека; такой семьи у Иогансена не было. Образование дает человеку в руки светильник, с которым он идет затем сквозь дебри жизни и читает надписи на сумрачных перекрестках ее путей. Иогансену не дали образования. Три класса училища — это мало, это даже хуже, чем ничего. «Немного науки отдаляет нас от религии, много науки опять возвращает к ней», — сказал великий мыслитель Бэкон. Иогансену не дано светильника науки, ему дана в руки плошка, от которой больше чада, чем света, которая не столько освещает, сколько искажает окружающие предметы. И вот без воспитания, без образования выходит человек на трудовую жизнь. Но легкий труд за прилавком магазина с его торгашеской моралью, занятия комиссионерством и торговым агентством — плохая школа нравов. Рестораны, бильярдные трактиров с их завсегдатаями, товарищи и сожители вроде Сталовича вконец растлевают душу. К 21 году молодой человек сформирован окончательно. Внешние признаки интеллигентности налицо: модный костюмчик, пунцовый галстук, пенсне, которое так веселило Висса в доме предварительного заключения — все как положено. В голове сумбур, клочки каких-то знаний, лоскутки каких-то принципов, из которых если и можно что сшить, то разве только саван всему доброму, что когда-то было вынесено из семьи, если только было вынесено. Пока такой «интеллигент» декадентского стиля имеет 40–50 рублей жалованья, он может жить в свое удовольствие. Но лишь только заработок пресекается, наступает кризис. Чернорабочий, потерявший место, может пережить безработицу, ютясь по ночлежным домам и питаясь на постоялых дворах, но такой интеллигент не может поступиться ни костюмчиком, ни цилиндром, ни безукоризненным пробором. Внешний вид — для него самое главное. По тому, как одет он, как выглядит, оценивает его хозяин магазина или представитель торговой фирмы. Ему нужно выглядеть, иначе он опустится ниже и уже больше не вынырнет. Иогансен постоянно боролся с нуждой. Запершись в своей каморке, выдерживал он осаду голода, не делая вылазок чрез потайные ходы преступления. Нужда, как клещи, в один миг раскусывает человека и обнаруживает его сокровенную сущность. Иной, полжизни почтенно проживший в довольстве, при первом же нажиме этих клещей обнаруживает свою порочную сердцевину. Но Иогансен долго боролся и не шел на призыв своего товарища Сталовича, все идеалы которого сводились к ясной формуле: «убить и ограбить». И эту борьбу тоже кладу я на чашу весов Иогансена. Однако, скажут мне, в голове его уже бродили преступные мысли, вместе со Сталовичем строил он темные планы. От мыслей до исполнения их, возражу я, целая бездна. Свободно гуляют в голове злые замыслы, и мы даже не накидываем на них узды нашей воли, но когда они начинают пробивать дорогу в жизнь, тогда мы начинаем бороться с ними. Мы можем и должны тогда бороться. Не тот убийца, у кого в голове была мысль убить, а тот, кто нанес реальный удар ближнему. Одно намерение — ничто. Если ад, говорят, вымощен благими намерениями, то и рай, скажу я, может быть засеян скверными помыслами, не давшими всходов. Итак, что бы ни мыслил Иогансен, он ничего преступного до конца 1900 г. не совершил. Но вот в начале декабря этого года он знакомится с Виссом, и замкнутая жизнь его сразу развертывается в отчаянное нападение на общество. Одна за другой следуют кражи и затем совершается убийство. Кто же вел, кто руководил? Висс говорит — Иогансен. Факты доказывают иное. Не Иогансен едет за Виссом, когда надо совершить кражу, а Висс каждый раз заезжает за Иогансеном и увлекает его за собой. Не Иогансен подает мысль купить топор, а Висс. Когда Марко, содрогнувшись перед планом убийства, желает разрушить его, не Иогансена он тогда убеждает и умоляет, а Висса. Висс все время действует: он убивает, он взламывает хранилища, он грабит, он делит награбленное. Вычеркните из дела Иогансена — оно ни в чем не изменится. Попробуйте вычеркнуть Висса — что останется? Висс всюду единица — и в семье, и в школе, и в заключении, и в больнице, и здесь, на суде. Иогансен в сравнении с ним всюду нуль. Он слуга Висса, он оруженосец его в военное время, казначей — в мирное. По приказу Висса хранит он краденый билет государственной ренты, так же как и ничего не стоящие ломбардные квитанции на заложенные краденые вещи. Только под руководством Висса может действовать Иогансен, и когда он вздумает совершить что-нибудь сам, выходит одна нелепость. Вспомните, как 28 декабря, в то время, когда обдумывался план убийства Щолковой, Иогансен по собственной инициативе украл у нее грошовую муфту. В какое негодование приходит тогда Висс!.. Немедленно отнимает он у Иогансена эту муфту и возвращает ее Щолковой. Глупая выходка Иогансена чуть не заперла для них двери Щолковой и не расстроила весь план убийства. В постоянных переездах, превратностях судьбы и столкновениях с людьми закалился характер и приобрел гибкость ум Висса. В нем выработались и сильная, непреклонная воля, и та сообразительность, с которой он всякий обращенный к нему упрек ловко перебрасывает на другого, и та двуличность, с которой он, преклоняясь перед истиной, когда последняя стоит как незыблемый колосс, гнет и крутит ее для своей пользы, когда она слабо и нежно вьется у подножия этого колосса, как молодое растение. Иогансен — ничтожество, человек толпы, для которой нужны вожаки, пророки, хотя бы и ложные, чтобы подвинуть ее на добро и на зло. Был у Иогансена один такой лжепророк — Сталович, но тот учил только словом и был свой, а своим пророкам не верят. И вот из-за океана явился другой пророк, стал учить и словом, и делом — и Иогансен уверовал в него, пошел за ним и погиб. И это тоже кладу я на весы Иогансена. Виновен ли Иогансен в том, что по предварительному уговору с Виссом убил Щелкову и Гурьянову? Нет, предварительного уговора не было. С такими людьми, как Иогансен, не уговариваются. Им говорят: «Я иду», и они идут сзади. Иогансен не убивал и не грабил — это делал Висс. Но Иогансен присутствовал, видел, что над головой ближнего занесен топор, и не отвел удара, не бросился, не подставил рук своих за ближнего. Как христианин, как человек, он должен был это сделать! Он спокойно смотрел на злодейство, он — попуститель убийства. И пусть не говорит, что спокойствие его было спокойствием человека, у которого все застыло от ужаса, что не своими ногами ходил он, не своим голосом говорил, что долго после убийства метался он по квартире, пытаясь отыскать шляпу, которая была у него на голове, — это может смягчить его вину, но не спасет его… Уже три года прошло со дня преступления. Это долгий срок для тех, кто живет свободно среди разнообразия и развлечений жизни, но для того, кто, как Иогансен, томился в одиночном заключении, этот срок неизмеримо длиннее. Довольно было времени и для запоздалого раскаяния, и для преждевременного отчаяния, для горячих слез и для холодного смеха, для молитв и для проклятия. Три года предварительного заключения! За этот срок он должен был прийти и к окончательному заключению, что высшее благо есть свободная жизнь среди природы, среди людского общества, но что право это принадлежит лишь тому, кто повинуется и законам природы, и законам общества. Эти три года я тоже кладу на чашу весов Иогансена, и уже более положить мне нечего. Я не знаю, дрогнула ли стрелка весов или мертвенно неподвижно стоит она. Если так, если суждено моему слову быть словом надгробным, значит, того требует ваша совесть, совесть всего современного интеллигентного общества. С уважением выслушаю я ваш обвинительный приговор. С замершим сердцем будет слушать Иогансен ваши обвинительные ответы, и будет казаться ему, что это глыбы земли стучат в крышку его гроба. Но вместе с комьями земли летит иногда в свежую могилу и венок, как последний привет жизни. Бросьте же и вы ему этот венок, венок снисхождения падшему, как символ вашей надежды на его моральное воскресение». Другой защитник, Маргулиес, в своей речи разбил прошлое подсудимого Висса на три периода: до момента его приезда из провинции в Петербург, после его женитьбы и бегства в Америку и после возвращения в Россию без жены. Вот именно в этот период, когда, вернувшись из-за океана в Петербург, Висс голодным блуждал зимой по его богатым улицам, не имея куска хлеба, он и ступил на скользкий путь преступления и постепенно поддавшись влиянию своих скверных товарищей. Защитник просил присяжных заседателей быть милостивыми к подсудимому, как павшему вследствие неблагоприятных условий жизни. Свой вердикт, считал он, они должны основывать не на перехваченных письмах Висса из тюрьмы, которые являются только «отрыжкой истосковавшейся человеческой души, скомканной тюрьмою», а на основании психологического развития в нем идеи преступления. Присяжный поверенный Адамов в убедительной речи энергично отстаивал невиновность третьего подсудимого — Марко. «Положительно не знаешь, можно ли представить себе более зверское преступление, чем преступление Висса и Иогансена, — говорил Адамов. — Страшно становится, когда подумаешь, до какого падения может дойти человек!» Касаясь обвинения, предъявленного Марко, защитник находил, что, как бы ни был несимпатичен Марко как человек, присяжные заседатели не имеют права обвинить его только на основании одной антипатии. Если бы даже оговор его товарищей и оказался правильным, то и тогда в деянии этого подсудимого нет состава преступления. Не подстрекательство было это с его стороны, а лишь пьяный совет в пьяной компании ресторана, и, скорее всего, на другой же день он совершенно позабыл о нем. «Ведь ему же не могло быть никакой выгоды убивать старуху и терять, таким образом, получаемые от нее деньги. Наконец, если бы он и был действительно душою преступления, то, без сомнения, воспользовался бы львиной долей из добычи товарищей. А он между тем взял у Висса всего лишь три рубля, да и то взаймы» — таковы были аргументы в защиту подсудимого. В заключение своей речи Адамов призвал присяжных заседателей тщательно обдумать свое решение, чтобы не совершить судебной ошибки. Второй защитник Марко, присяжный поверенный Феодосьев, также произнес горячую речь в его защиту, ссылаясь на отсутствие доказательств. Резюме председательствующего Д. Ф. Гельшерта, по обыкновению, отличалось полным беспристрастием и освещением всех темных сторон рассматриваемого дела. На разрешение присяжных заседателей было поставлено судом свыше 20 вопросов как об убийстве двух женщин, так и о совершенных в разное время Виссом и Иогансеном кражах. После часового совещания присяжнь г заседатели оправдали только одного Марко. Отто Висс и Бруно Иогансен были признаны виновными в убийстве по предварительному сговору мещанки Щолковой и ее прислуги, но заслуживающими снисхождения. Вместе с тем им был вынесен обвинительный вердикт также и по многочисленным кражам. С побледневшими лицами, видимо сильно взволнованные, обвиненные выслушали решение своей участи. Окружной суд постановил лишить Отто Висса и Бруно Иогансена всех прав состояния и сослать их в каторжные работы сроком на десять лет каждого.
СОЖЖЕНИЕ РЕБЕНКА

В 1901 г. в деревне Волковой, под Петербургом, было совершено страшное преступление.
18 октября, в 7 часов утра, крестьянин этой деревни А. Большаков отправился на работу, вслед за ним ушли в Петербург и его жена со старшей дочерью. В квартире оставались только младшие дети Большакова, дочери Александра и Анна, последней из которых было всего пять лет. Через два часа после ухода родителей Александра ушла в школу, оставив малолетнюю сестренку дома одну. Она, как всегда, заперла дворовую калитку на замок, а ключ положила в условленном месте, под углом дома, на случай, если кто-либо из семьи возвратится домой раньше.
Однако, когда около 10 часов утра жена Большакова вернулась из Петербурга, ключа в условленном месте она не нашла. Калитка же оказалась отпертой. То, что увидела женщина, войдя во двор, привело ее в ужас. На земле возле крыльца лежал обуглившийся труп ребенка. Несчастная мать, узнав в сгоревшей девочке свою дочь Анну, подняла отчаянный крик.
Обеспокоенные, сбежались соседи, а вскоре прибыла и полиция, которой удалось обнаружить, что девочка пала жертвой зверского преступления. Находившаяся в кухне Большаковых бутылка с керосином была найдена почти опорожненной, а из комода похищены вещи, принадлежавшие старшей дочери: суконная жакетка, две шерстяные юбки и капот.
Вскрытие трупа показало, что смерть девочки последовала от ожогов всего тела. При этом выяснилось, что потерпевшей первоначально был нанесен удар по голове, а затем была сделана попытка удушить ее.
На предварительном следствии мать девочки заявила, что подозревает в совершении преступления Ольгу Богданову, 14 лет, отличавшуюся предосудительным поведением и жившую неподалеку от дома Большаковых. Ольга всегда очень интересовалась нарядами и дней за десять до преступления приходила к Большаковым с просьбой показать ей новую жакетку их старшей дочери. Потом, 16 октября, когда дома оставалась только одна маленькая Аня, Ольга тайком пробралась к ней в комнату и стала пугать ее, называя себя «домовым» и грозя съесть ее. Перепуганная девочка пожаловалась матери, сказав, что Ольга обещалась еще раз зайти к ней через несколько дней. По-видимому, новая жакетка прельстила Богданову, и она решилась на преступление, чтобы добыть ее.
Задержанная Ольга Богданова откровенно призналась в своем ужасном преступлении. По ее словам, 18 октября, утром, она прокралась в квартиру Большаковых и, пользуясь отсутствием родителей и сестер маленькой девочки, начала примерять понравившиеся ей вещи старшей дочери Большаковых. Надев на себя две шерстяные юбки и жакетку, Ольга решила уже больше не расставаться с ними. Однако тут же в квартире беспечно играла пятилетняя Аня, которая могла выдать воровку, и после короткого раздумья Богданова решилась избавиться от свидетельницы.
В голову ей пришла ужасная мысль — живьем сжечь ребенка. Богданова завязала в узел еще некоторые вещи, разыскала в кухне бутылку с керосином и подошла к девочке. Та, инстинктивно почуяв опасность, хотела убежать в другую комнату, но преступница, прижав ее к стене, одной рукой сдавила горло, а другой начала наскоро поливать ее керосином. Затем, придерживая плачущего ребенка, Богданова стала доставать лежавшие на печке спички. Аня воспользовалась этим моментом, вырвалась из ее рук и побежала в соседнюю комнату. Ольга погналась за девочкой, настигла ее в кухне и, прижав к печке, подожгла на ней платье…
После этого юная злодейка поспешила выйти в сени и хотела запереть дверь, но несчастная девочка с отчаянным воплем выбежала вслед за ней. Охваченная пламенем, она стала безумно метаться по крыльцу, затем выскочила во двор и вскоре рухнула на землю…
Преступница же затворила калитку и, прихватив похищенные вещи, отправилась в Петербург.
Ольга Богданова, незаконнорожденная дочь крестьянки, жила отдельно от матери и работала на табачной фабрике. Несмотря на юный возраст, она вела дурную, распутную жизнь и имела уже нескольких любовников. Работала мало и неохотно, предпочитая проводить время в разгуле.
Ввиду возникшего сомнения в нормальности ее умственных способностей Ольга была помещена в больницу для душевнобольных. Однако после продолжительного наблюдения врачи-психиатры нашли, что она родилась от вполне здоровых родителей, правильно развивалась и, отличаясь лишь дурными наклонностями, в общем совершенно здорова как в физическом, так и в психическом отношении.
В начале декабря 1901 г. Ольга Богданова предстала перед Санкт-Петербургским окружным судом. Защищал ее присяжный поверенный М. К. Адамов.
Подсудимая представляла собой небольшого роста девочку-подростка, с бледным миловидным лицом. Давая свои объяснения, она горько и неудержимо рыдала.
По прочтении обвинительного акта председательствовавший С. В. Карчевский задал подсудимой вопрос:
— Признаете вы себя виновной?
— Виновата, простите! — с глухим плачем вскрикнула она и упала перед судом на колени.
— Успокойтесь и объясните, как вы это сделали.
— Я ничего не знаю, как все произошло… Не помню…
Взволнованной подсудимой дали воды, и суд приступил к опросу свидетелей.
Из показаний выяснилось, что родители сожженной девочки — зажиточные люди, имеют собственный дом и живут вполне обеспеченно. В то время как сам Большаков работал на заводе, жена его и старшая дочь занимались молочным хозяйством, поставляя молоко в Петербург. Дом их, где разыгралась трагедия, стоит на краю деревни.
Особенно характерным было показание матери покойной девочки — Ульяны Большаковой.
По ее словам, девочка незадолго до своей ужасной смерти жаловалась ей на посещение Ольги Богдановой, прикидывавшейся «домовым», и вместе с тем хвалилась, что кроме Ольги к ней стал являться в последние дни «ангел-хранитель». «Мы с ним в игрушки играем, и Боженька любит меня», — настойчиво уверяла девочка, когда мать с сомнением отнеслась к ее рассказам.
Мать обвиняемой, 60-летняя старушка, рассказала на суде, что в детстве Ольга Богданова была скромной, тихой девочкой. На десятом году ее отдали в земскую школу, но она пробыла в ней только два года, служила затем у кого-то нянькой, была ученицей в чулочной мастерской и наконец поступила на табачную фабрику, где занималась клейкой гильз. В 13-летнем возрасте она пала жертвой грубого насилия со стороны одного женатого человека. В общем, жизнь девочки складывалась далеко не благоприятно, и ей пришлось вынести много горя, прежде чем она сбилась с честного пути.
Товарищ прокурора Зиберт настаивал на том, что подсудимая действовала с разумением во время жестокой расправы с малолетней девочкой.
Присяжный поверенный Адамов в своей речи отметил полную неразвитость подсудимой, ненормальность ее поведения, некоторые, наиболее важные психические дефекты и ходатайствовал, чтобы она была признана действовавшей без разумения. Речь его отличалась большой убедительностью и произвела на публику сильное впечатление.
После непродолжительного совещания присяжные заседатели признали Ольгу Богданову виновной, но заслуживающей снисхождения и действовавшей без разумения.
Суд постановил отдать ее для исправления в один из православных монастырей до достижения ею восемнадцатилетнего возраста.
ЛОВКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

В 1900 г., осенью, в петербургских газетах появилось объявление сотника лейб-гвардии уральской казачьей Его Величества сотни М. Бородина о продаже имения Винцентово в Виленской губернии. Вскоре на квартиру сотника явился приятный молодой человек, представившийся дворянином Гюббенетом, и любезно предложил свои услуги по продаже имения, объяснив, что при министерстве финансов существует будто бы особая комиссия по реализации казенных земель, покупке и продаже их в казну. Гюббенет уверял при этом, что он хорошо знает председателя комиссии, тайного советника Кобеко, и близко знаком со многими высокопоставленными лицами. Первоначально он обещал продать имение за 50 000 рублей, но затем, узнав, что на территории имения находятся известковые залежи, высказал уверенность, что возможно выручить и больше денег.
М. Бородин поверил молодому человеку и охотно согласился вознаградить его за посредничество крупной суммой в 8000 рублей. Сделка между ними была оформлена. Сотник выдал Гюббе-нету две доверенности на право ходатайства по продаже имения и на получение из вырученной суммы комиссионного вознаграждения. Вместе с тем по просьбе молодого человека сотник письменно обязался в течение года не уничтожать выданных доверенностей под страхом уплаты неустойки в 8000 рублей.
Прошло несколько дней, и молодой человек снова навестил М. Бородина. Он показал сотнику какую-то официальную бумагу, в которой сообщалось, что Н. Н. Гюббенету поручается организовать специальную комиссию для «конфиденциального» осмотра имения Винцентово. В комиссию должны были войти: землемер, лесничий, архитектор, член сельскохозяйственного комитета, минералог, оценщик и сам Гюббенет. Расходы по поездке комиссии в имение возлагались на его владельца, и Гюббенет, определив их в 1000 рублей, немедленно получил от сотника эту сумму под расписку.
Через несколько дней многообещающий молодой человек опять появился у Бородина. Он сообщил, что вместо себя назначил в комиссию чиновника Чернышевского и уже получил от него телеграмму с извещением, что специальная комиссия оценила имение Винцентово в 55 000 рублей благодаря найденным в нем минералогом большим залежам извести. По предложению Гюббенета сотник выдал ему 275 рублей, чтобы «поблагодарить» минералога, а затем еще около 300 рублей будто бы на поездку чиновника Чернышевского по делу о продаже имения в Минск и, кроме того, в Вильну для необходимых переговоров в канцелярии генерал-губернатора.
Всего, таким образом, Гюббенету удалось выманить у доверчивого сотника свыше 2000 рублей, а затем он еще получил от него же 520 рублей на нотариальные расходы.
Наконец, 13 ноября, Гюббенет сообщил своему доверителю, что уже состоялось постановление комиссии о принятии имения Винцентово в казну за 62 862 рубля и в подтверждение этого показал какую-то бумагу с заголовком: «Комиссия по реализации казенных земель, покупки и продажи оных в казну». В ней значилось, что М. Бородин должен внести 429 рубля на актовые, гербовые и другие расходы. У сотника денег не оказалось, и ему пришлось прибегнуть к займу. Через три недели Гюббенет в очередной раз наведался к сотнику и, не застав его дома, оставил следующую записку: «Поздравляю. Сегодня подписано. Выдача 15 декабря». Вскоре из Вильны пришла телеграмма за подписью неизвестного Александрова, сообщавшая, что деньги за имение не могут быть выданы ранее внесения 629 рублей казенных сборов. Посмотрев на телеграмму, сотник удивился, что на ней не было выставлено число слов. Однако Гюббенет уверил его, что эта телеграмма послана из канцелярии Виленского генерал-губернатора, а в казенных учреждениях число слов не проставляют. Затем он посоветовал Бородину вместо денег поставить свой бланк на векселе в 4000 рублей. Это новое вымогательство показалось Бородину подозрительным. Он начал наводить справки и узнал, что никогда и никакой комиссии по реализации казенных земель в России не существовало.
Когда Гюббенет явился к нему за векселем, сотник встретил его холодно и объяснил, что уже знает о его обмане. Молодой человек заметно смутился, пробормотал, что он ничего пока возвратить не может, и поспешил удалиться из квартиры.
В результате против Гюббенета было возбуждено уголовное преследование. Опрошенный на предварительном следствии, он подтвердил, что действительно принимал близкое участие в продаже имения Винцентово и что, съездив по этому делу в Вильну, познакомился там с каким-то комиссионером, а также с чиновником Александровым и принужден был выдавать им деньги на предварительные расходы. Другую часть денег он израсходовал на разъезды по делу о продаже имения, которое он намеревался уступить казне.
Однако после Гюббенет изменил свое первоначальное показание и стал уверять, что имение он хотел продать в частные руки через одно высокопоставленное лицо, фамилию которого он назвать не может.
Гюббенет фигурировал уже однажды в деле, рассматривавшемся Санкт-Петербургским окружным судом, вместе с баронессой Штенгер. Оба они были приговорены за мошенничество к лишению всех особенных прав и преимуществ и к шестимесячному тюремному заключению.
20 ноября 1901 г. Гюббенет вновь предстал перед судом. Виновным он себя не признал и объяснил, что ни о какой комиссии Бородину не говорил и операции по продаже имения вел открыто, не прибегая к обману. При этом очень часто подсудимый ссылался на мифического чиновника Александрова, который, по-видимому, существовал только в его воображении. Телеграммы, полученные М. Бородиным, оказались поддельными.
Из рассказала Гюббенета выяснилось, что он потомственный дворянин и служил одно время чиновником особых поручений при государственном контролере. Любя широко пожить, он быстро спустил все свое довольно крупное состояние. Чувствуя в себе музыкальные способности, он пробовал свои силы на поприще композиторства, написал балет и даже намеревался издавать большой музыкальный журнал.
В общем, слова подсудимого не внушали доверия.
Чувствуя это, Гюббенет сослался на свое болезненное состояние, граничащее будто бы с психическим недугом. Раньше он лечился у профессора Чечотта и обнаруживал признаки неврастении.
Тем не менее из свидетельских показаний личность подсудимого вырисовывалась в далеко не благоприятном свете.
Также неблагоприятно было для Гюббенета и заключение экспертов-психиатров, в том числе профессора Нижегородцева. Экспертиза нашла, что подсудимый отчасти представляет тип дегенерата, но ни во время преступления, ни после он не обнаруживал признаков душевного расстройства, а, напротив, умно и ловко обдумывал свои действия.
В обвинительной речи товарищ прокурора Новицкий охарактеризовал подсудимого кактипичного петербургского афериста, который боится только пустого кармана и честного труда.
Защитником со стороны подсудимого выступил присяжный поверенный С. П. Марголин, ходатайствовавший о снисходительном отношении к больному Гюббенету.
После непродолжительного совещания присяжные заседатели признали Н. Н. Гюббенета виновным в мошенничестве и дали ему снисхождение.
Суд приговорил его по совокупности с приговором по первому делу к лишению всех особенных прав и преимуществ и отдаче в исправительные арестантские отделения на один год.
ВАРШАВСКАЯ БАНДА

В 1900 г., 24 октября, в меховой магазин санкт-петербургского городского головы на Большой Морской улице зашла компания, состоящая из мужчины и двух молодых женщин. Все они были очень прилично одеты. Спросив дорогой бобровый воротник, мужчина подсел с ним к окну и стал рассматривать волос, между тем как дамы занялись примеркой меховых накидок. Однако после предварительного торга покупатели не сошлись в цене и покинули магазин. После их ухода дежуривший у магазина швейцар сообщил приказчику, что одна из дам передала что-то своей спутнице, стараясь сделать это незаметным образом. Приказчики сделали проверку товаров и обнаружили исчезновение двух бобровых воротников, стоивших около 500 рублей. Бросились догонять ушедших, но их уже и след простыл. Вскоре после этого подозрительная компания наведалась в Гостиный двор и вошла в магазин золотых вещей Митюревой. Дамы начали выбирать для себя бриллиантовые серьги, советуясь со своим спутником и требуя все более и более дорогих бриллиантов. Приказчики сбились с ног, удовлетворяя дамские капризы, как вдруг с прилавка улетучился футляр с серьгами, стоившими более 200 рублей. Несмотря на долгие переговоры, покупатели, так и не сторговавшись, направились к выходу. Заметив, что у мужчины что-то зажато в руке, приказчики остановили его и, разжав пальцы, нашли пропавший футляр с серьгами. Вся компания была задержана и передана в руки полиции.
На дознании как мужчина, так и дамы вначале назывались разными вымышленными именами. Но затем одна из молодых женщин сообщила наконец свое настоящее имя — Констанция Робак. По ее словам, она в тот же день, утром, приехала вместе со своими знакомыми Валентием Буркевичем и Антониной Гурной из Варшавы исключительно для совершения краж в петербургских магазинах. Их сопровождала также известная варшавская воровка Текла Макаревич, которая успела скрыться.
Содержатель и швейцар меблированных комнат на Казанской улице подтвердили, что Макаревич останавливалась в этих комнатах в качестве прислуги при двух дамах в период времени с 25 августа по 2 сентября 1900 г., причем паспорта их не были прописаны в полиции.
Потом Макаревич приезжала с одной из дам и наконец 24 октября опять поселилась в меблированных комнатах с двумя дамами и Буркевичем. Он с этими дамами два раза уходил из номера, а затем в их отсутствие в шестом часу вечера к содержателю меблированных комнат явилась вдруг Макаревич, заплатила следуемые за номер деньги и, забрав с собой все вещи, поспешно скрылась. Как видно из справок, она уже много раз судилась за кражи, но на этот раз полиции не удалось ее разыскать.
Глава преступной компании Валентий Буркевич, судя по отметкам в паспорте, успел уже «оперировать» раньше в Москве, Калуге, Курске и Харькове, причем в первом городе он выдавал сопутствовавшую ему Антонину Гурную за свою законную жену.
Не отрицая своего участия в краже бобровых воротников, Констанция Робак в то же время решительно отказалась признать себя виновной в принадлежности к преступной шайке, составившейся для краж.
Буркевич же и Гурная сознались, что, сговорившись с другими лицами, совершили ряд краж. 24 октября они вместе с Робак и Макаревич прибыли в Петербург и побывали в магазинах Лелянова и Митюревой. При этом оказалось, что в момент задержания преступной компании в Гостином дворе Текла Макаревич, занимавшаяся сбытом похищенных вещей, стояла на стреме у окна магазина Митюревой. Заметив, что дело принимает дурной оборот, она поспешила скрыться.
При кражах Констанция обыкновенно прятала украденные вещи под ротонду. У Антонины же были сшиты для этого специальные юбки с потайными карманами.
Все задержанные оказались уже лишенными всех особенных прав и преимуществ и неоднократно отбывали наказания за кражи и мошенничества.
Констанция Робак, как опасная воровка, была выслана в г. Аккерман Бессарабской губернии на четыре года под надзор полиции. Вместе с тем было обнаружено, что и жена Буркевича, Паулина Иеронимова, также была известной воровкой и неоднократно отбывала наказание за кражи с лишением особенных прав и преимуществ.
Хорошо знала полиция и мужей Констанции Робак и Антонины Гурной: первый из них содержался в последнее время в исправительных арестантских отделениях в Воронеже, а второй — в краковской тюрьме.
При обыске у всех компаньонов были найдены более или менее значительные суммы денег, а у Буркевича, кроме того, двое золотых часов с цепочками.
Осенью 1901 г. Буркевич с двумя своими сообщницами предстал перед Санкт-Петербургским окружным судом по обвинению в составлении преступного сообщества, в кражах и самовольном прибытии в Петербург. Дело слушалось с участием присяжных заседателей.
Все обвиняемые на вид представительные люди, молодые женщины невольно обращали на себя внимание своею миловидностью.
Буркевич, солидный человек, 42 лет, был похож на зажиточного помещика. Его подруге Антонине минуло 32 года, Констанции — 26 лет.
Буркевич и на суде признал себя виновным в составлении воровской шайки, с угрюмым хладнокровием посматривая на своих волновавшихся сообщниц. Те, однако, отказывались от участия в этой шайке, оговаривая друг друга.
По объяснению Констанции, выйдя из тюрьмы, она думала заняться честным трудом и с этой целью приехала в Петербург с Буркевичем и Антониной, которые обещали пристроить ее к месту. Между тем они обманули ее и заставили невольно участвовать в их воровских похождениях.
Из справок видно, что подсудимая начала заниматься кражами еще в 14-летнем возрасте.
Антонина Гурная старалась взвалить большую часть вины на Констанцию, уверяя, что она еще перед отъездом из Варшавы знала, зачем они едут в Петербург.
Во время судебного заседания демонстрировалась также и хитро сшитая юбка Антонины с огромным потайным карманом. Несмотря на очевидное приспособление ее для воровских целей, обвиняемая пыталась отрицать это, уверяя, что юбка была изготовлена специально для сокрытия беременности.
Подсудимых защищали присяжные поверенные Залеский, Струков и помощник присяжного поверенного Бобрищев-Пушкин. Со стороны гражданского истца, городского головы П. И. Лелянова, выступал присяжный поверенный Ливен. Обвинение поддерживал товарищ прокурора Завадский.
Присяжные заседатели должны были ответить на 22 вопроса, составление которых потребовало от суда почти пяти часов времени.
После продолжительного совещания присяжные заседатели отвергли существование шайки и принадлежность обвиняемых к преступному сообществу и признали Буркевича и Гурную виновными в краже и покушении на нее, а Констанцию Робак — только в самовольном возвращении в столицу.
Судом они были приговорены: Буркевич — к отдаче в исправительные арестантские отделения на четыре года, Гурная — к заключению в тюрьму на три года шесть месяцев и Робак — к трем месяцам ареста.
Гражданский иск был признан подлежащим удовлетворению в сумме 425 рублей за похищенные бобровые воротники.
ЗАГАДОЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Весной 1900 г. присяжным заседателям пришлось рассматривать загадочное дело, главным действующим лицом которого являлся крестьянин Федор Ларионов, обвинявшийся в убийстве жены.
Подсудимый — молодой человек лет 29, служил истопником в придворно-конюшенном ведомстве.
На предварительном следствии было установлено следующее. Около шести лет тому назад Ларионов случайно познакомился с Ириной Ивановой. Молодая, довольно красивая женщина вскоре вскружила ему голову. Он серьезно увлекся ею, стал искать взаимности, и наконец знакомство их закончилось браком. Семейная жизнь, однако, оказалась неудачной. Жена Ларионова строптивая была женщина, с тяжелым характером, и, видимо, вышла замуж за него только для того, чтобы как-нибудь «пристроиться». Мужа своего она с первых же дней невзлюбила, относилась к нему с заметным презрением, окрестив его «пермским дураком», и беспрестанно заводила с ним ссоры.
— Какой ты муж? От тебя навозом пахнет! Ступить по-людски не умеешь. Впрямь, пермский дурак! — озлобленно говорила она.
— Проваливай! — уже с явной ненавистью добавляла она, когда Ларионов, простой, бесхарактерный человек, изъявлял намерение приласкаться к ней.
Бывали случаи, когда такие ссоры обострялись, и сварливая женщина, не обращая внимания на мужа, на целые ночи уходила из дому. Обиженный муж только вздыхал и отправлялся к кому-нибудь из знакомых поделиться своим горем.
Была ли она верной женой — он не мог знать, но зато в прошлом у нее существовало, по-видимому, немало грехов в отношении целомудрия. По крайней мере, еще до знакомства с Ларионовым она успела родить около полдюжины детей, которые все были отданы в воспитательный дом.
Как бы то ни было, но Ларионов прожил с ней более четырех лет, пока наконец не произошла эта странная история.
26 октября 1899 г. оба они рано легли спать. Что происходило между ними ночью — осталось тайной. Только на другой день молодая женщина была найдена в своей постели мертвой.
Первым заявил об этом сам Ларионов.
— У меня несчастье, жена повесилась! — взволнованно объяснил он утром одному из встретившихся во дворе сослуживцев.
В квартиру его немедленно сбежались соседи и увидели Ларионову неподвижно лежавшей на кровати. Тело было покрыто многочисленными ссадинами и синяками, в височной кости — большая трещина, шея туго затянута веревочной петлей. Тут же, над изголовьем кровати, болталась отрезанная веревка, другой конец которой был привязан к гвоздю.
Обстановка, при которой была найдена Ларионова, невольно наводила на мысль об умышленном преступлении. И действительно, судебно-медицинское освидетельствование трупа подтвердило это предположение. Оказалось, что смерти Ларионовой предшествовала короткая отчаянная борьба ее с кем-то, следы которой остались у нее на теле в виде ссадин. Получив затем страшный удар по голове чем-то тяжелым, она впала в бессознательное состояние и, по мнению врачей, могла быть еще живой задушена веревочной петлей.
При осмотре довольно заметные ссадины были обнаружены и на теле Ларионова, ввиду чего на него пало подозрение в убийстве жены. Тем не менее он вначале настаивал на том, что покойная жена сама наложила на себя руки, и только потом, привлеченный к уголовной ответственности, сознался в нечаянном убийстве ее.
По его словам, в роковую ночь на 27 октября Ларионова шутила с ним и, стоя на коленях на краю кровати, начала вдруг щекотать его. Он не выдержал щекотки и, отбиваясь от жены, толкнул ее в грудь. От этого толчка она сорвалась навзничь с кровати и ударилась головой об острый угол сундука. Увидев, что жена осталась неподвижно лежать на полу, он бросился к ней на помощь и, к своему ужасу, заметил, что она уже не дышит.
Ларионов страшно перепугался. Что делать? В комнате лежала мертвая жена с разбитой головой, и его могли бы заподозрить в убийстве. Чтобы выпутаться из грозившей беды, он решил инсценировать самоубийство своей жены. С этой целью он накинул на шею женщины веревку и подвесил ее к гвоздю, а затем через несколько минут перерезал веревку.
При первом разборе этого дела в Санкт-Петербургском окружном суде присяжные заседатели не поверили объяснению Ларионова и признали его виновным в нанесении жене смертельных повреждений. Он был приговорен к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские отделения на четыре года.
Осужденный подал кассационную жалобу, и правительствующий сенат, отменив решение присяжных и приговор, определил передать дело Ларионова снова в тот же суд для рассмотрения при другом составе присяжных заседателей.
Вторично дело слушалось в конец осени 1900 г. Защищал подсудимого помощник присяжного поверенного Маргулиес, со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Завадский.
Подсудимый и на этот раз упорно держался своего прежнего объяснения, которое шло вразрез с мнением врачебной экспертизы, которая считала важной уликой против Ларионова ссадины и синяки прижизненного происхождения на теле покойной жены, а также и его собственные ссадины на руках. По мнению экспертов, это было несомненным доказательством того, что между мужем и женой перед ее смертью происходила отчаянная борьба.
Со своей стороны защита доказывала, что прижизненный характер ссадин и кровоподтеков у Ларионовой более чем сомнителен, так как большинство их не имело кровяных сгустков, у самого же Ларионова ссадины могли произойти и от ожогов, обычных по его службе.
Товарищ прокурора на основании заключения экспертизы поддерживал против Ларионова обвинение в убийстве в состоянии запальчивости и раздражения.
Защитник М. С. Маргулиес в своей речи указывал на то, что происшедшая в жизни Ларионовых тяжелая драма есть только дело непредвиденного злого рока, что подсудимый здесь ни при чем и его чистосердечному признанию следует верить.
«Подвергаясь в течение года тщательным судебным опросам, он ни на йоту не изменил своих показаний, и экспертиза ничего существенного не могла в них опровергнуть. Помимо того, одно уже отсутствие мотивов к преступлению есть, без сомнения, серьезное доказательство невиновности Ларионова», — убеждал присяжных заседателей Маргулиес.
После детального анализа неправильных и односторонних выводов экспертизы защитник выразил надежду, что здравый смысл присяжных заседателей более, чем научные авторитеты, поможет разобраться в данном деле и Ларионов выйдет из суда оправданным.
Присяжные заседатели признали Федора Ларионова виновным только в том, что он неосторожно столкнул свою жену с кровати и, когда она впала в обморочное состояние от повреждения головы, он, сочтя ее мертвой, чтобы скрыть несчастный случай, затянул ее петлей, отчего и последовала смерть.
Ввиду данного Ларионову снисхождения окружной суд приговорил его лишь к аресту при полиции на два месяца.
ЗВЕРСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В конце зимы 1900 г. на Смоленском поле, около Петербурга, был случайно найден труп мальчика лет четырнадцати. Труп лежал на свалке, недалеко от полотна Николаевской железной дороги, и был почти весь занесен снегом. При медицинском осмотре на голове мальчика было найдено пять ран с раздроблением черепа. Обе челюсти оказались сломанными, нижняя губа рассечена.
На предварительном следствии выяснилось, что несчастный был сыном подрядчика Пухова и сделался жертвой зверского преступления. Проживая у отца, Минай Пухов вел крайне предосудительный образ жизни, занимался мелкими кражами, неоднократно убегал из дому и бродяжничал до тех пор, пока полиция не водворяла его обратно к отцу. В конце 1899 г. он был задержан в Витебской губернии и выслан по этапу в Петербург. На этот раз подрядчик Пухов решительно отказался принять сына. После смерти матери Миная он женился вторично, и мальчик мешал ему.
Минай поселился у бабушки Ю. Каблановой, проживающей за Невской заставой. Во второй половине января 1900 г. она послала внука с одной поденщицей, искавшей работы, указать ей квартиру крестьянина Федорова, жившего в Смоленском селе. Мальчик проводил поденщицу до квартиры, но домой так и не возвратился.
Спустя некоторое время Кабланова узнала, что после своего исчезновения внук заходил однажды вечером в квартиру запасного рядового И. Лукина и пил там водку. Вскоре после этого к ней наведалась любовница Лукина, Анисья Иванова, и когда разговор зашел о пропавшем мальчике, гостья проговорилась, что он действительно был недавно у Лукина и тот угощал его водкой. По ее словам, она была недовольна этим и упрекнула любовника, зачем он тратится на угощение всякого встречного.
«Молчи, дура баба, — ответил на это Лукин. — Минай может нам пригодиться».
Основываясь на этих показаниях, сыскная полиция заподозрила в убийстве мальчика как самого Лукина, так и проживавшего у него на квартире 17-летнего парня С. И. Павловского, который не имел определенных занятий и промышлял кражами. Подозрение это подтвердилось. Допрошенный в полиции Павловский признался, что он знает о последних минутах жизни убитого. Согласно его объяснению, Минай Пухов встретился с ним в конце января 1900 г. в какой-то чайной, и оба они зашли на квартиру Лукина. Тот давно уже питал злобу к Минаю за то, что он оговорил его в совершении одной кражи, тем не менее не подавал вида. Напротив, он очень радушно принял мальчика, поднес ему водки, а затем предложил отправиться вместе с ним на Смоленское поле для кражи дров. Минай согласился, и все трое двинулись в путь.
Уходя из дому, Лукин захватил с собой «на всякий случай» и трехфунтовую железную гирю с привязанной к ней веревкой. Придя в поле, он подал эту гирю Павловскому и решительно сказал:
— Ударь Пухова!
Не желая убивать мальчика, Павловский нарочно промахнулся.
Поняв, в чем дело, испуганный Минай бросился бежать. Озверевший Лукин, прихватив гирю, погнался за ним, крича:
— Теперь не уйдешь от меня!
Мальчик поскользнулся на обледеневшем снегу, упал и был настигнут преследователем, который несколькими ударами гири раздробил ему голову.
Возвращаясь домой, убийца под угрозой смерти приказал своему спутнику молчать о происшедшем.
Вечером в тот же день любовница Павловского спросила его, куда делся мальчик.
— Не знаю, — ответил он.
— А мне Иван сказал, что вы убили его, — возразила на это Анисья и высказала опасение, что, может быть, мальчика не совсем добили и он жив.
Сам Лукин при допросе в полиции первоначально отрицал свою вину, но затем, после очной ставки с Павловским, сознался в преступлении и подтвердил его рассказ.
На следствии, однако, Лукин снова отказался от своего признания.
Анисья Иванова также не признавалась в укрывательстве преступления, говоря, что узнала об убийстве мальчика только лишь в сыскной полиции.
Дознанием по этому делу было установлено, что в 1899 г., летом, Минай Пухов был задержан полицией по подозрению в одной краже и выдал всех участников преступления, в том числе и Лукина. Когда после этого вся преступная компания была препровождена в Александро-Невскую часть, выданные Пуховым воры жестоко избили его, и только Лукин не принимал в этом участия, сказав, что он доносчику «подкинет на воле».
Лукин и его компаньоны были привлечены к уголовной ответственности и весной 1891 г. предстали перед Санкт-Петербургским окружным судом.
Председательствовал С. В. Карчевский. Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора А. А. Горемыкин. Защищали подсудимых присяжный поверенный Плансон (Анисью Иванову) и Гейдатель (Ивана Лукина).
На суд было вызвано свыше 20 человек свидетелей.
Обвиняемые держались спокойно, равнодушно слушая свидетельские показания.
Главный обвиняемый — Иван Лукин, мужчина 37 лет, с хладнокровным, жестким выражением лица, обрамленного небольшой русой бородкой.
Павловский представлял собой обычный тип фабричного, молодого парня, хорошо знакомого со столичными соблазнами. Одно время он работал на Невском судостроительном заводе, но затем оставил службу и перешел на квартиру к Лукину. Кроме убийства мальчика он обвинялся еще и в краже с взломом.
Третья подсудимая — Анисья Иванова — женщина лет за 30, с острыми чертами лица. С Лукиным она уже давно сошлась и имела от него четверых детей.
Свидетельские показания, в общем, были неблагоприятны только для Лукина. По словам знавших его лиц, он очень вредно влиял на окружавшую его молодежь и считался руководителем многих мелких краж. Занимаясь хищением чужого имущества, он не брезгал в то же время прибегать и к шулерству, обыгрывая попадавшихся на его удочку простаков.
Особенно заинтересовало всех показание крестьянки Каблановой — бабушки убитого мальчика.
По ее словам, исчезнувший внук еще до обнаружения преступления привиделся ей во сне и сказал: «Бабушка, молись не за здравие, а за упокой, я у Лукина убит и в мусоре зарыт». Этот странный сон вскоре еще раз повторился. К ее ужасу, вещий сон не замедлил подтвердиться, и несчастный мальчик действительно был найден убитым.
Со своим отцом мальчик не ладил, и вообще не сладко ему жилось в семье. По показанию одной свидетельницы, мачеха мальчика как-то говорила даже: «Не найдется ли мазурик, который бы за 50 рублей убил Миная?» Недолюбливая пасынка, она нередко отказывала ему в куске хлеба, а отец жестоко бил его.
После продолжительного совещания присяжные заседатели, оправдав Анисью Иванову, признали остальных двух подсудимых виновными в убийстве мальчика без предварительного соглашения и заслуживающими снисхождения. Кроме того, Павловский был признан виновным и в одной краже с взломом.
Суд приговорил их к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы: Ивана Лукина — на пятнадцать лет и Сергея Павловского — на шесть лет и восемь месяцев.
ПОДДЕЛКА АККРЕДИТИВОВ

В 1900 г., летом, банкирский дом Вавельберга в Петербурге получил из-за границы извещение об уплате по его аккредитивам берлинским банкирским домом «Мендельсон и К0» и Германским банком какой-то Ольге Барановой 40 000 марок.
При проверке оказалось, что никакого счета на имя Барановой в конторе Вавельберга не было и, следовательно, предъявленные за границей аккредитивы были подложные.
Подозрение в преступлении пало на служившего у Вавельберга брауншвейгского подданного Густава Лихтенштейна, который вел аккредитивную корреспонденцию, и бланки аккредитивных писем при отсылке заграницу проходил через его руки. Получая в месяц 100 рублей жалованья, он вел сравнительно широкую жизнь, играл в клубах, понаделал долгов, и зимой 1899 г. по иску портного на его жалованье был даже наложен арест.
В начале 1900 г. Лихтенштейн познакомился с француженкой Юлией-Марией Жакэ и вступил с ней в близкие отношения. Француженка в это время не имела определенных занятий и, квартируя в меблированных комнатах, жила, по-видимому, на средства Лихтенштейна. Тем не менее она нуждалась в деньгах и, занимая однажды пять рублей у артистки «Альказара» Арлеты Альмес, откровенно призналась, что ей нечего есть. В конце концов она была вынуждена обратиться за помощью во французское посольство и благотворительное общество. Ей выдали 25 рублей для уплаты за квартиру и билет 3-го класса до Парижа. Однако француженка, бывшая беременной, продала кому-то этот билет, объяснив артистке Альмес и содержательнице комнат Жолнирович, что ей нужно ехать не в Париж, а в Берлин для получения денег Лихтенштейна.
Сам же Лихтенштейн говорил своим знакомым, что Жакэ собирается уехать из Петербурга в провинцию, так так нашла место гувернантки.
В мае 1900 г. Густав Лихтенштейн уволился из конторы Вавель-берга, а 14 июня француженка выехала за границу, предупредив Альмес, что вышлет на ее имя 500 рублей для Лихтенштейна.
Через два дня после этого в Бреславский учетный банк в Берлине явилась дама, лет тридцати, прекрасно говорившая по-французски, и, назвавшись Ольгой Барановой, предъявила к оплате аккредитив банкирской конторы Вавельберга от 2 июня на 25 000 марок. Усомнившись в подлинности аккредитива, директор банка отказался выдать деньги. Но банкирский дом «Мендельсон и К0» и Германский банк поддались обману и выплатили по аккредитивам 25 000 и 15 000 марок.
В тот же день незнакомка просила банкирский дом «Дельбрак, Лео и К0» в Берлине перевести по телеграфу 500 рублей в Петербург на имя Арлеты Альмес.
16 июня артистка Альмес получила в Петербурге срочную телеграмму из Берлина о переводе на ее имя 500 рублей. Артистка отправилась в контору «Лионский кредит» с Лихтенштейном, но последний в контору не вошел, а ожидал ее в кондитерской на Невском проспекте.
Получив от Альмес 500 рублей, Лихтенштейн выхлопотал заграничный паспорт, но побег за границу не удался — 20 июня он был арестован.
На его квартире при обыске были найдены несколько циркуляров банкирского дома Вавельберга на французском, датском и немецком языках с подлинными подписями совладельцев дома И. Берсона и И. Шебеко, а также срочная телеграмма из Берлина от 16 июня следующего содержания: «Принимаем предложение, приезжайте немедленно. Пэрман».
Сначала Лихтенштейн объяснил, что телеграмма эта была прислана неким Пэрманом, к которому он должен был поступить на службу, но потом признался, что телеграмму прислала Жакэ, дабы он мог скорее получить заграничный паспорт.
Привлеченный к ответственности, Густав Лихтенштейн не признал себя виновным в подлоге аккредитивов. По его словам, Юлия Жакэ забеременела от какого-то высокопоставленного лица и выехала в Берлин, где один принц обещался уплатить ей около 4000 марок. Так как Лихтенштейн, по его объяснению, желал в то время отправиться на парижскую выставку, то Жакэ предложила ему 500 рублей на дорогу и выслала их через знакомую артистку. Найденные же у него циркуляры банкирского дома Вавельберга он будто бы взял без всякого преступного замысла, желая иметь лишь образец циркулярного извещения.
Несмотря на все принятые сыскной полицией меры, француженку Юлию Жакэ разыскать не удалось.
В 1901 г., 29 ноября, Лихтенштейн предстал перед Санкт-Петербургским окружным судом. Защищал его присяжный поверенный С. П. Марголин, со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Бибиков.
Подсудимый — молодой человек лет тридцати пяти, с резкими чертами худощавого лица. По-русски он не говорил и давал свои объяснения через переводчика на французском языке. Не признавая себя виновным, он поддерживал свое первоначальное показание.
На судебном следствии выяснилось, что Лихтенштейну было поручено однажды переслать во Французский национальный банк несколько аккредитивных бланков и образцы подписей лиц, заведовавших банкирским домом Вавельберга. Бланки банк получил, но образцов подписей в пакете не оказалось — они где-то исчезли.
Порядок выдачи заграничных аккредитивов в конторе Вавельберга был настолько примитивен, что сами служащие критиковали его, находя возможным получение денег за границей по аккредитиву путем обмана.
Когда стало известно о ловкой проделке таинственной незнакомки в Берлине, служащие конторы Вавельберга тут же решили, что в данном деле замешан кто-нибудь из их среды.
По справкам оказалось, что перед отъездом Жакэ за границу Лихтенштейн сам написал телеграмму от имени Пэрмана.
Исчезнувшая Юлия Жакэ одно время подвизалась у Омона, в Москве, на открытой сцене, а затем, перекочевав в Петербург, сделалась постоянной посетительницей «Альказара». Чем она занималась в Петербурге — остается тайной. Известно только, что незадолго до отъезда за границу она рассказывала знакомым о своей беременности и говорила, что сама не знает, кто отец ее будущего ребенка.
Товарищ прокурора нашел, что история о каком-то высокопоставленном лице и принце — не более как мифическая сказка из «Тысячи и одной ночи», и настаивал на обвинении Лихтенштейна.
Присяжный поверенный Марголин указал суду на редкую особенность данного процесса: в нем нет главного виновника. Сомневаясь, действительно ли была берлинская незнакомка Юлией Жакэ, защитник признавал, что она могла состоять в преступной компании с совершенно другим лицом, а не с подсудимым, против которого нет ни одной прямой улики.
Лихтенштейн в своем последнем слове заявил, что он лишь случайная жертва несчастно сложившихся обстоятельств.
Ознакомившись с обстоятельствами преступления, присяжные заседатели вынесли ему обвинительный вердикт и дали снисхождение. Август Лихтенштейн был приговорен к лишению всех особенных прав и преимуществ и к заключению в тюрьму на один год.
ОБМАН ЖЕНЫ

Летом 1899 г. один из адвокатов проездом в Петербург случайно познакомился в вагоне с молодой девушкой — воспитанницей какого-то московского института. Пассажирка назвалась дворянкой Марией Масловой и, узнав, что он юрист, попросила у него на всякий случай визитную карточку. Через несколько дней она навестила адвоката и объяснила, что ей крайне нужен юридический совет по одному уголовному делу.
По ее словам, проживавший в Петербурге ее дядя, дантист Крамер, вызвал ее из Москвы к себе, и она поселилась в его семье. Однажды он попросил ее оказать ему услугу. Она заключалась в том, чтобы девушка подписала у нотариуса одну деловую бумагу за жену Крамера, так как та очень больна и не может выходить из дому.
Уступая просьбам дяди, девушка зашла вместе с ним в нотариальную контору и подписалась на каком-то документе именем и фамилией своей тетки. Но когда Крамер начал упрашивать ее никому не говорить об этом, то у девушки зародилось сомнение, хорошо ли она сделала, согласившись на просьбу родственника.
Адвокат посоветовал ей рассказать обо всем родным.
Вернувшись в Москву, Маслова переговорила со своим двоюродным братом. Он догадался, что Крамер намеревается присвоить себе капитал жены, положенный ею на хранение в банк, и немедленно известил об этом тетку.
Госпожа Крамер обратилась за разъяснением в государственный банк и, к своему удивлению, узнала, что ее деньги, в сумме 7250 рублей, будут полностью удержаны по исполнительному листу коммерческого суда. Только тогда г-жа Крамер догадалась о мошеннической проделке и обратилась с заявлением к прокурору.
Предварительное следствие установило, что 5 августа в контору нотариуса Анисимова явился дантист Крамер в сопровождении молодой дамы и, выдавая ее за свою жену, попросил написать от ее имени доверенность. Ему выдали эту доверенность, и молодая дама всюду, где нужно было, расписалась Анной Крамер.

БАЗУНОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в Москве в 1860 г. По окончании курса Санкт-Петербургского университета вступил на поприще адвокатуры. С 1883 г. — помощник присяжного поверенного, в 1889 г. — присяжный поверенный. С 1901 г. — член совета присяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной палаты. Из выдающихся дел, где он выступал защитником, известны процессы Мироновича, Звездочетова, братьев Норманских, Комиссионного банка, Дмецова-Ефимьева, дело о братоубийстве Ступай и многие другие. Приобрел видное положение в мире адвокатуры. (Данные приведены на 1910 г.)
17 августа оба они снова пришли в нотариальную контору, и Крамер принес для засвидетельствования заявление от имени жены о признании ею какого-то иска правильным. Молодая спутница по-прежнему назвалась его женой, и ходатайство Крамера было удовлетворено. В тот же день в Санкт-Петербургский коммерческий суд от племянника Крамера, доктора Владимира Фалька, поступило прошение о взыскании с Анны Крамер 15 000 рублей по представленному им векселю. Вексель этот оказался выданным Фальку Крамером будто бы по доверенности жены. Перед рассмотрением прошения Фалька в суд было доставлено и заявление от Анны Крамер о том, что она признает иск по векселю. Коммерческий суд определил взыскать с нее в пользу Фалька 15 000 рублей с процентами и судебными издержками. В первых числах сентября Крамер взял у жены под каким-то предлогом выданную ей из государственного банка сохранную расписку, и она вместе с исполнительным листом по иску Фалька была представлена в государственный банк для получения вклада Анны Крамер. Когда же последняя заявила прокурору о противозаконных действиях мужа, то доктор Фальк поспешил прекратить взыскание по своему векселю. На допросе госпожа Крамер заявила, что ни доверенности, ни заявления она мужу никогда не выдавала и все ее подписи на этих бумагах являются подложными. Привлеченная в качестве обвиняемой дворянка Маслова оправдывалась тем, что она подписывалась за тетку только по неведению и не желая огорчать любившего ее дядю отказом. Что она подписывала, Крамер не говорил ей, ссылаясь на то, что она ничего не понимает в деловых бумагах. Сам дантист рассказал, что лет пять тому назад он познакомился с Анной Казан. После его настойчивых просьб девушка согласилась выйти за него замуж, но предварительно поставила условие, чтобы он внес на ее имя в государственный банк известную сумму денег. Вклад этот она обещала возвратить ему на другой или третий день после свадьбы. Крамер согласился исполнить ее желание. Они стали мужем и женой. Однако прошло некоторое время, а он все не мог получить свои деньги обратно. Вскоре он убедился, что жена нисколько не любит его и намеревается расстаться с ним. Поэтому он решился на обман, чтобы возвратить свой вклад. С этой целью он выдал племяннику фиктивный вексель для предъявления к взысканию и уговорил племянницу подписаться на некоторых бумагах за жену. Чтобы как-то вознаградить племянника за услугу, он дал ему взаймы 500 рублей. Доктор Фальк не признал себя виновным и объяснил, что 13 августа он был вызван дядей из Москвы под предлогом определения его на должность военного врача в Петербурге. Когда он приехал к Крамеру, то тот отправился с ним в нотариальную контору и попросил его взять вексель на 15 000 рублей, написанный на его имя. Фальк изумился, прочитав, что вексель выдается теткой, и заметил дантисту, что она ему ни копейки не должна. «Да ты ничего не понимаешь в финансовых операциях, — в ответ на это сказал Крамер. — Неужели ты не доверяешь своему дяде, от которого никогда ничего худого не видал?» Доводы эти были убедительны для Фалька, и он начал действовать по указаниям родственника. При дальнейшем дознании выяснилось также, что дантист просил однажды у своей знакомой, госпожи Мазуровской, разрешения написать на ее имя сохранную расписку на билеты, подаренные им жене, с тем чтобы госпожа Мазуровская потребовала от него эти билеты обратно и взяла их из государственного банка. Тем не менее, несмотря на обещанное вознаграждение в 500 рублей, она не согласилась на предложение Крамера. Жена дантиста вопреки его заявлению продолжала настаивать на том, что хранящийся в банке капитал составляет ее неотъемлемую собственность и был передан ей Крамером в виде свадебного подарка. Без этого обеспечения она и не вышла бы за него замуж, так как чувствовала к нему антипатию. Уже вскоре после свадьбы он стал грубо обращаться с ней и потребовал свой подарок обратно. Когда она наотрез отказалась исполнить его требование, к мужу приехали племянник и племянница и он начал вести с ними какие-то таинственные переговоры. Осенью 1901 г. дело это слушалось в Санкт-Петербургском окружном суде с участием присяжных заседателей. Защищали подсудимых: С. Крамера — присяжный поверенный Базунов, М. Маслову — присяжный поверенный Нестор. Со стороны обвинительной власти выступал товарищ прокурора Зиберт. Все обвиняемые производили благоприятное впечатление своим внешним интеллигентным видом. Сильно волновался только Крамер, дававший свои объяснения подавленным, тихим голосом. Встреча на суде с женой, донесшей на него прокурору и являвшейся главной свидетельницей по этому делу, видимо, действовала на него самым угнетающим образом. Владимир Фальк, одетый в мундир военного врача, и Мария Маслова, симпатичная молодая женщина, недавно вышедшая замуж, держались вполне спокойно и в своих показаниях обрисовывали дядю с самой хорошей стороны. По их словам, он очень любил свою родню и при всяком удобном случае охотно помогал деньгами. Свой противозаконный поступок Крамер объяснил неудачно сложившимися для него семейными обстоятельствами. Жена явно не любила его и обнаруживала к нему пренебрежение, но это, однако, не помешало ей всецело присвоить себе деньги, которые он перед свадьбой дал ей для обеспечения их будущей совместной жизни. Когда ему потребовались деньги, она наотрез отказалась дать их, пользуясь тем, что они были положены в банк на ее имя. Потеряв надежду добром получить свой капитал, он обратился за советом к знакомому юристу, и тот будто бы посоветовал ему обманным способом добиться возвращения денег. — Позвольте, какой же это юрист мог посоветовать вам такие вещи?! — прервал подсудимого председательствующий. — Быть может, это не юрист? — Нет, он юрист и состоит на государственной службе. — Но кто же он такой? Откройте нам его имя. — Я не могу этого сделать, — смущенно ответил Крамер. Жена Крамера, красивая, молодая женщина, объяснила, что еще до свадьбы знала будущего мужа как беспринципного человека, у которого слова расходились с делом. Не чувствуя к нему любви, она долго не соглашалась на брак, их свадьба состоялась лишь летом 1899 г., да и только потому, что Крамер согласился обеспечить ее вкладом в банк на ее имя свыше 7000 рублей. Выходя за него замуж, она надеялась облагородить его своим женским влиянием, но надежды ее не оправдались. Муж в первые же дни после свадьбы потребовал от нее возвращения денег и, потерпев неудачу, стал грубо обращаться с ней. Однако на суде выяснилось, что деньги мужа не пошли ей на пользу. Отданный в государственный банк капитал заключался в акциях и выигрышных билетах по номинальной стоимости на сумму до 7300 рублей. Взяв обратно эти бумаги, жена Крамера реализовала их и, выручив около 15 000 рублей, открыла аптекарский магазин. Однако дела в магазине пошли из рук вон плохо, и в результате от капитала осталось одно лишь приятное воспоминание. После этого жена опять сошлась с мужем, тем более что у них был ребенок, и потому она желала прекратить уголовное преследование против мужа, но было уже поздно. На суде она заявила, что ничего не имеет против мужа, и просила присяжных заседателей простить его. Товарищ прокурора в своей речи совершенно отказался от обвинения Масловой, поддерживая его главным образом против Крамера и отчасти против его племянника, который, по его мнению, не мог не знать о преступных замыслах дяди. Защита, со своей стороны, ходатайствовала об оправдании всех подсудимых и в отношении Крамера сослалась на то обстоятельство, что все данное дело возникло исключительно на почве ненормальных семейных отношений и от проступка Крамера нисколько не пострадали общественные интересы. После краткого совещания присяжные заседатели вынесли всем трем подсудимым оправдательный вердикт.
РЕДКИЙ ПРОЦЕСС

В конце 1889 г. при введении в Лифляндской губернии положения о преобразовании крестьянских присутственных мест секретарь курляндского губернского акцизного управления Иосиф Коссацкий был командирован для исполнения обязанностей комиссара по крестьянским делам в Аренсбургский уезд.
В это время началось объединение мелких крестьянских волостных обществ в более крупные. Вновь образованные волости по предложению Коссацкого стали строить дома для волостных правлений и судов. Когда строительство было закончено, Коссацкий взял на себя обязанность закупки и поставки, конечно за счет волостей, всех предметов устройства и меблировки этих домов. Он, в частности, приказал устроить при каждом волостном правлении комнату, в которой могли бы останавливаться и в случае надобности ночевать приезжающие должностные лица. Комнаты эти были снабжены кроватью, умывальником, зеркалом и другой необходимой для проживания в них мебелью. Снабжение волостных правлений предметами обстановки осуществлялось Коссацким в период времени с 1892 г. по 15 октября 1896 г. Все были довольны деятельностью Коссацкого, и он получил благодарность «за блестящее устройство волостей по новому распределению».
В 1896 г. Коссацкого назначили начальником Эзельского уезда, и его заменил комиссар по крестьянским делам Бабанов, который вскоре донес лифляндскому губернатору генерал-майору Суровцеву, что Коссацкий при снабжении волостей предметами обстановки, очевидно, присвоил себе значительные суммы волостных денег. По заявлению было произведено административное расследование, выяснившее, что Коссацкий растратил общественных денег на сумму около 3000 рублей.
Обнаружилось также, что ни одно волостное общество не давало ему полномочий на приобретение обстановки для волостных домов и он чуть ли не насильно заставлял брать покупаемые им вещи.
Обыкновенно он говорил: «Вы обязаны принять вещи и уплатить деньги», и никто не осмеливался ослушаться его, тем более что он был всем известен как очень строгий начальник, не терпел возражений и угрожал за непослушание арестом или удалением от должности. За малейшую ошибку он строго наказывал. Требуя от подчиненных ему должностных лиц беспрекословного повиновения и исполнения приказаний, Коссацкий не только ругал осмелившихся не соглашаться с ним всевозможными бранными словами, но и налагал на них штрафы. Иногда он вызывал провинившихся телеграммой за их собственный счет или за счет волости в Аренсбург и сажал под арест.
Наконец, когда Коссацкий присутствовал на сходе выборных, то он никому не давал говорить, грозя арестом.
Все трепетали перед Коссацким, и никто не смел жаловаться на него высшему начальству. Люди вздыхали про себя, что «видно Бог послал им притеснителя», и платили требуемые суммы.
Во всех действиях Коссацкого по поставке вещей волостным правлениям видна была одна главная цель — извлечь для себя возможно большую выгоду, иначе говоря,присвоить себе как можно больше волостных денег. Этой цели он достигал двояким образом: покупал за счет волостей в магазинах разные вещи лично для себя и брал с волостей за купленные предметы больше, чем сам платил за эти предметы торговцам.
При производстве следствия по делу о растрате судебным следователем была затребована от губернского правления копия формулярного списка о службе Коссацкого. В этом списке значилось, что Коссацкий по окончании полного курса в классической гимназии и затем в таксаторских межевых классах поступил на государственную службу 18 февраля 1872 г. помощником производителя люстрационных работ в Виленской губернии. При допросе же Коссацкого в качестве обвиняемого следователь из разговора с ним вынес убеждение, что он человек малообразованный и познания его исключают всякую возможность допустить, что он окончил курс в классической гимназии или вообще получил среднее образование. Так как в формулярном списке не указывалось, какую именно гимназию и межевые классы окончил Коссацкий, то Васильев предложил ему указать, в какой гимназии он получил образование. Этот вопрос застиг Коссацкого врасплох. Он сильно смутился и затем стал изворачиваться, но так и не дал определенного ответа. Тогда следователь стал собирать сведения о личности Коссацкого, и результат получился совершенно неожиданный.
Оказалось, что его мать, дочь кузнеца, была крепостной графа Балицкого. После смерти мужа она осталась с двумя малолетними сыновьями, из которых старший был Иосиф. Не имея никаких средств к существованию, она служила кухаркой у разных лиц и, между прочим, при гродненской богадельне. В ту же богадельню она впоследствии поступила в качестве призреваемой и, наконец, 1 августа 1897 г. умерла в гродненской окружной больнице. Иосиф Коссацкий сначала воспитывался при матери, а потом по ее просьбе бывший директор гродненской гимназии Болванович взял его к себе в «лакейчики». Тот же Болванович поместил мальчика в гимназию, но затем Иосиф украл у него золотые часы и был исключен из первого класса гимназии.
После этого он поступил кучером к гродненскому землемеру Яновичу. Кроме кучерских обязанностей он исполнял и другие простые работы по хозяйству: бороновал поле, был на посылках разного рода и т. д. Заметив, что у мальчика есть способности, Янович стал приучать его к межевому делу и брал с собой на землемерные работы. В марте 1865 г. Коссацкий подал инспектору межевания казенных земель прошение о приеме его в корпус межевщиков ведомства государственных имуществ и был зачислен учеником в этот корпус. Однако уже в 1867 г. он был уволен со службы по неспособности к межевому делу. Будучи возвращен на казенный счет в Гродно, он стал заниматься частной практикой межевого дела, выдавая себя за землемера, и брал с крестьян деньги, ложно обещая нарезать им землю.
3 июля 1870 г. временным отделом министерства государственных имуществ по поземельному устройству государственных крестьян Коссацкий был определен на службу межевым учеником в состав межевых чинов Гродненской губернии и командирован в распоряжение производителя люстрационных работ в Белостокский уезд. В составленном в июле месяце того же года формулярном списке о службе Коссацкого значится, что он получил домашнее воспитание и частно занимался практикой по межевой части. В 1871 г. его назначили исполняющим должность межевщика, а затем перевели для занятий межевыми работами в г. Вильну. С II января по 28 февраля 1871 г. Коссацкий находился в отпуске в Петербурге. В это время департамент общих дел государственных имуществ затребовал от старшего производителя люстрационных работ в Виленской губернии полный формулярный список Коссацкого. Требование это было получено 10 марта, а 11 марта Коссацкий уже представил свидетельство об окончании им Сокольского уездного училища. Свидетельство это, как выяснилось позже, было подложным. На основании представленных сведений об образовании Коссацкий был произведен в первый классный чин, а в 1876 г. за выслугу лет — в чин губернского секретаря.
В том же году он оставил службу по министерству государственных имуществ, так как к тому времени успел приобрести обманным путем восемь домов в Друскениках, приносивших ему около 3000 рублей годового дохода. Дома эти принадлежали его двоюродному дяде Иерониму Коссацкому, и после смерти его перешли к родному брату последнего, Ивану Коссацкому, страдавшему запоями. Пользуясь этой слабостью Ивана, Иосиф уверил его, что покойный Иероним остался должен разным лицам около 35 000 рублей. Под предлогом спасения от продажи как наследственных домов в Друскениках, так и принадлежавшего самому Ивану Коссацкому небольшого имения Иосиф убедил дядю выдать ему купчую крепость на те восемь домов и закладную в 10 000 рублей на имение. Иван Коссацкий согласился на это, и ловкий племянник сделался полным хозяином всего имущества дяди, выпросив еще 3000 рублей у него, 2000 рублей у его дочери под предлогом устройства домов в Друскениках. Догадавшись наконец, какую злую шутку сыграл с ним племянник, Иван Коссацкий возбудил против него уголовное преследование по обвинению в мошенничестве. Закладная на имение гражданским судом была признана недействительной, но дома в Друскениках так и остались собственностью Иосифа Коссацкого, пока наконец в 1887 г. не были проданы с публичного торга за его долги, общая сумма которых к тому времени равнялась 21 782 рублям.
Не стесняясь в средствах для добывания денег, Коссацкий любил пожить на широкую ногу, часто кутил и выписывал целыми бочками заграничные вина. Родные и знакомые знали его как недобросовестного человека, который, занимая деньги в долг, никогда не отдавал их. С крестьянами деревни Эйсымонты он уговорился вести их судебное дело о пастбище и взял с них вперед 500 рублей. Однако дела вести не стал и денег не возвратил. Заняв у бывшего мирового посредника Резвсякова 2500 рублей под поручительство землемера Антона Церебилко, Коссацкий не отдал занятой суммы, так что поручителю пришлось выплачивать за него долг в течение нескольких лет по частям. Нередко Коссацкий путем обманных действий избегал уплаты за приобретенные в лавках товары. Так, он, купив у одной неграмотной еврейки шторы, выдал ей под видом долговой расписки подписанное им самим удостоверение, что деньги за шторы уплачены сполна. Бывало, что он нанимал лучшего извозчика, а затем, чтобы не платить ему, скрывался от него через проходной двор. Несколько раз возбуждались против него дела за обман и мошенничество, но ему как-то удавалось выходить сухим из воды. Постоянно его преследовали кредиторы, и он выдумывал разные уловки, чтобы скрываться от них, в частности выдавал себя за своего брата Александра.
Еще во время своей службы по ведомству министерства государственных имуществ Коссацкий познакомился в Гродно с мещанкой Валерией Орловской, владевшей мастерской модных платьев, и в конце 1872 г. вступил с ней в сожительство. У них родилось трое детей, и при крещении первых двух младенцев Коссацкий выдал их за своих законных детей, а последнего ребенка по соглашению со своим братом Александром велел записать в церковные книги как его сына.
Во второй половине 1876 г. Коссацкий заказал у ювелира серебряный знак отличия «24 ноября 1866 года», учрежденный для награждения лиц, принимавших участие в трудах по поземельному устройству государственных крестьян, и стал носить его. На самом же деле никакого знака отличия ему пожаловано тогда не было.
Не расходясь окончательно с Валерией Орловской, Коссацкий летом 1880 г. познакомился в Друскениках с дочерью преподавателя полоцкого кадетского корпуса Элеонорой Зейн, которой он был известен как местный домовладелец и инженер. Он сделал ей предложение и обвенчался 25 января 1881 г. Все это время Коссацкий носил установленный для инженеров знак, выдавал себя перед всеми родственниками и знакомыми невесты за инженера и при вступлении в брак велел записать себя в церковные книги инженером.
Осенью 1881 г. Коссацкий подал богородскому уездному предводителю дворянства заявление о желании баллотироваться в участковые мировые судьи. К этому заявлению были приложены удостоверение исправника о том, что ему принадлежит восемь домов, и подложное удостоверение старшего производителя инженерных работ о его звании, возрасте, вероисповедании, образовании и семейном положении. В этом удостоверении было записано, что Коссацкий окончил курс наук в институте инженеров путей сообщения со званием гражданского инженера и состоит ныне на службе по министерству государственных имуществ. На основании этих документов Коссацкий был допущен к баллотировке и на очередном собрании получил 19 голосов из 37 и определением правительствующего сената был утвержден в должности участкового мирового судьи в 1-й участок Богородского уезда Московской губернии. Через год, однако, богородский съезд мировых судей потребовал от Коссацкого представления формулярного списка о его прежней службе, и, встревоженный этим, он подал прошение об отставке.
Во время службы в должности мирового судьи он однажды вместе с женой поехал в Богородск и остановился у частного поверенного Островицкого. Тут у жены Коссацкого были похищены 1000 рублей денег, и Коссацкий заподозрил в этой краже служанку. Позвав ее в отдельную комнату, он стал добиваться от нее признания в краже и требовать возвращения денег. Прислуга уверяла, что она денег не брала. Это разозлило Коссацкого до такой степени, что он начал бить женщину, а затем схватил со стола нож. Размахивая им, он поранил служанку в руку, и против него было возбуждено уголовное преследование.
Кроме того, Коссацкий обвинялся также в мошенничестве, присвоении чужих денег, растрате и прочем, но дела эти обыкновенно прекращались за примирением сторон или же по недостатку улик.
После увольнения с должности мирового судьи Коссацкий по рекомендации одной дамы поступил правителем дел в управление казенной Жабинко-Пинской железной дороги, но через год был уволен как сомнительная личность. Во время службы он именовал себя инженером, хотя никаких документов в подтверждение этого обстоятельства не представил.
10 мая 1886 г. Коссацкий подал управляющему акцизными сборами Курляндской губернии прошение о принятии его на службу по акцизному ведомству и был определен сверхштатным чиновником курляндского акцизного управления. При прошении Коссацкий представил засвидетельствованную нотариусом копию подложного аттестата о прежней своей службе, в котором значилось, что он окончил полный курс в классической гимназии и получил специальное образование в таксаторских межевых классах. Потом оказалось, что таких классов в России никогда не существовало.
При курляндском акцизном управлении Коссацкий был сначала помощником секретаря, а потом секретарем и получил назначение на должность комиссара по крестьянским делам. Во время своей службы он постоянно получал высшие чины за выслугу лет и в 1898 г. был произведен в надворные советники.
Несмотря на женитьбу, Коссацкий своей бывшей сожительницы и ее детей не бросал и постоянно снабжал их разными подложными документами. В этих документах он именовал Орловскую то своей женой, то вдовой не существовавшего никогда землемера Коссацкого и т. п. Под указанной фамилией Орловская в последнее время проживала в Риге, а сын ее служил под фамилией Коссацкого писцом в канцелярии.
В конце концов самозванство Иосифа Коссацкого разоблачилось, и он предстал перед судом. Дело это слушалось в Риге осенью 1901 г. и привлекло многочисленную публику.
Подсудимый, высокий пожилой человек с проседью, сознался только в подделке документов.
По словам свидетельницы В. Орловской, она вступила в любовную связь с Коссацким в 1872 г.
«Мы жили с ним вместе в одной квартире, — объяснила она. — Заработки были малые. Мы очень нуждались, хотя я и не гнушалась никакой черной работой. Первые двое детей были записаны в метрические книги как законные наши дети, причем я именовалась законной женой. Я хранила у себя печати и бланки разного рода, которыми Коссацкий пользовался для различных целей. Потом бланки я сожгла, а печати передала ему. Он выдавал фальшивые документы мне и нашим детям. Затем он женился и прислал мне из Богородска удостоверение, подписанное им как мировым судьей, с его судейской печатью о том, что будто бы я его законная жена. В 1887 г. я без ведома Коссацкого переехала в Ригу, чтобы определить детей в приюты и учебные заведения. Вида на жительство я не имела и потому не могла получить прописки в полиции. О своем затруднительном положении я уведомила Коссацкого письмом, и он вручил мне четыре документа: один на имя вдовы землемера Николая Коссацкого и три свидетельства, где удостоверялось, что наши дети произошли от какого-то землемера.
— Вот я и сделал вам виды, — сказал он при этом.
— Да ведь бумаги не настоящие! — боязливо заметила я.
— Молчи, иначе нельзя, — возразил он. — Сиди смирно. Называй себя вдовою. Никто спрашивать не станет, и все будет хорошо.
Уходя из квартиры перед отъездом в Митаву, он еще раз повторил: «Сиди смирно. Мне лучше будет и тебе тоже».
Не видя другого выхода из своего положения, я прописалась по подложным документам и своих детей поместила сначала в Мариинский приют, а затем и в учебные заведения».
— Почему же вы не заявляли о преступлениях Коссацкого? — следует вопрос прокурора.
— Я была в постоянном страхе, и у меня не раз являлось желание пойти к губернатору и заявить обо всем. Однажды я сказала об этом и Коссацкому. Он ответил: «Если скажешь, я застрелюсь, а ты будешь нищая, да еще с подложными документами».
Интересно было также показание владельца аренсбургской банкирской конторы, господина Papa.
Свидетель вел денежные дела с Коссацким приблизительно около пяти лет. Первоначально Коссацкий обратился в банкирскую контору с просьбой одолжить ему денег для поездки в Ригу. Так как он оказался исправным плательщиком, господин Рар охотно стал вести с ним дальнейшие денежные дела. Деньги в контору вносились разными волостями на имя Коссацкого, но своего личного счета он не имел. Дела велись на большие суммы. По просьбе клиента Рар переводил деньги в разные рижские магазины и выдавал самому Коссацкому более или менее значительные денежные суммы. Деньги же эти погашались теми суммами, которые по приказанию Коссацкого различные волости вносили в банкирскую контору.
Переводя по указанию Коссацкого платежи разным лицам, банкир не имел никаких сведений о том, за что именно производилась уплата денег; равным образом не было известно, какими именно волостями и в каком количестве будут внесены деньги на погашение произведенных платежей. Крестьяне аккуратно переводили указанные Коссацким суммы, и он часто брал у банкира авансы.
В общем, многочисленными свидетельскими показаниями, бесспорно, подтверждалась виновность подсудимого.
Основываясь на судебном следствии, товарищ прокурора Ф. К. Бом поддерживал обвинение против Коссацкого.
Защищали подсудимого присяжные поверенные С. П. Марголин и В. Е. Беккер.
«Господа судьи! — начал свою речь С. П. Марголин. — Еще в 1868 г. правительствующий сенат предложил прокурорам вносить в обвинительные акты лишь такие события, которые имеют прямое отношение к делу. В данном случае это не соблюдено. В обвинительном акте, прочитанном в этом зале, упомянут и подчеркнут ряд фактов, совершенно не связанных с теми деяниями, которые ныне вменяются в вину подсудимому. Наряду с этим в обвинительный акт внесены некоторые подробности, имеющие своей единственной целью оскорбить подсудимого. Кому нужно знать, что мать его была кухаркой, дед кузнецом, а сам он кучером и лакеем? Затем вашему вниманию были предложены многочисленные легенды из прошлого подсудимого. Весь этот материал почерпнут из нечистого источника. Несмотря на это, господин прокурор уделяет этим непроверенным обстоятельствам особое внимание. Упоминалось также о прекращенных делах. Излишне объяснять, что под этими делами подразумеваются обвинения, отброшенные за их недоказанностью. И вот теперь, через десять лет, вся эта ветошь находит гостеприимный приют в обвинительном акте. Господа судьи! Подсудимый защищает и оберегает оставшийся незапятнанным уголок своей души. Его угнетает, как всякого человека, все несправедливое и выдуманное.
Теперь я хочу остановиться на судебном материале, имеющем прямое отношение к настоящему делу. Прокурор изобразил подсудимого грубым притеснителем крестьян, угнетавшим их долго и безнаказанно. Однако подробный допрос свидетелей на суде показал, что это не совсем так. Большинство свидетелей не подтвердили грубого обращения с ними подсудимого. Не подтвердились и взятки. Насколько я мог уяснить, до Коссацкого волостные здания никуда не годились. Весьма естественно, что чиновник, любящий порядок и благоустройство, счел своим долгом придать приличный вид волостным домам. Не буду отрицать, что способ, им избранный, был неудачен. Но в этом крае, очевидно, существовала, а может быть, и теперь существует особого рода система все решать за крестьян. По мнению чиновников, крестьяне необразованны, темны и своих нужд не сознают. Поэтому считается уместным присылать в волости адресные книги, брошюры, календари и тому подобные вещи без согласия крестьян. Им говорят, что это необходимо, и сходы выборных беспрекословно утверждают эти расходы. Таким образом, ничего экстраординарного Крссацкий не делал, а только следовал издавна установившемуся обычаю. Говорят, что крестьяне не одобряли его действий. Насколько можно заметить, среди крестьян замечалось два течения. Громадное большинство было довольно Коссацким и действия его одобряло. Меньшинство же протестовало против покупок исключительно из экономических соображений. Теперь эти вопросы выдвигаются только потому, что под ними скрывается подозрение в воровстве. В этом узел и центр тяжести дела».
Останавливаясь на этой стороне дела, защитник обратил внимание суда, что он хранил в течение долгого времени глубокое молчание насчет одного свидетеля — письмоводителя Кана.
«Мы не хотели тревожить его тени, — продолжал С. П. Марголин, — но господин обвинитель оказал нам неоценимую услугу. Допрашивая свидетелей по поводу письмоводителя Кана, он выяснил, что это был человек опытный и влиятельный, знавший местные языки и пользовавшийся своей властью для корыстных целей. Кан также покупал вещи и действовал нечистоплотно. Мы не хотели говорить об этом, но Кана выдвинуло обвинение, и теперь всем известно, что у него было факсимиле Коссацкого, что он приобретал вещи и скрывал их цену от Коссацкого. Обвинение также не обратило внимания на то, что крестьяне, уплатив за приобретенные вещи известную цену, не несли дальнейших расходов. Но ведь вещи не переплывали сами на остров Эзель, их приходилось перевозить, они портились и ломались. Ремонт производился за счет Коссацкого. Эти расходы даже не были известны крестьянам. Если исходить из того, что Коссацкий действовал как частное лицо, то для него не было никакой необходимости запасаться счетами и оправдательными документами. Покупались вещи в период времени с 1891 по 1896 г. В феврале 1899 г. на голову Коссацкого совершенно неожиданно свалилось предписание губернатора дать подробный отчет по поводу купленных вещей. Войдите в его положение. Ни книг, ни записей нет, кое-какие отрывочные воспоминания — и больше ничего. В волостях также нет записей. Многое из купленного испортилось, выброшено за негодностью и кое-что украдено или заменено менее ценным.
Поэтому я думаю, что предъявленное подсудимому обвинение в присвоении крестьянских денег является просто недоразумением. Коссацкий искал власти, чинов, мундира, благоволения начальства, орденов, но никогда не стремился к наживе. При его способностях ему открывалось широкое поприще по коммерческой части. Но он хотел во что бы то ни стало состоять на службе у правительства, быть частицей власти. Подсудимому и в голову не приходило, что его могут заподозрить в присвоении чужих денег. Когда же это подозрение возникло, он решил оправдать себя путем ложной отчетности. Теперь эта ложная отчетность обнаружена, и отсюда делаются выводы о воровстве».
Далее защитник коснулся юридической стороны обвинения.
«Для того чтобы данное преступление назвать преступлением по должности, — заявил Марголин, — необходимо, чтобы оно соответствовало двум условиям: во-первых, чтобы расходование общественных сумм входило в круг обязанностей комиссара по крестьянским делам и, во-вторых, чтобы указываемые здесь суммы были вверены Коссацкому по службе. По положению о преобразовании крестьянских присутственных мест Прибалтийских губерний, утвержденному 9 июля 1889 г., в обязанности комиссаров входят: а) надзор за волостными должностными лицами, наложение на них взысканий и удаление от должности с приданием суду;
б) производство ревизии волостного общественного управления;
в) распоряжения о присоединении в случае надобности волостных обществ, имеющих не более 200 лиц, к другим обществам и разрешение соединения меж ту собой обществ по взаимному их согласию; г) разрешение созыва чрезвычайных общих волостных сходов и распоряжение о созыве в случае надобности схода выборных; д) разрешение выдачи ссуд из хлебозапасных магазинов; е) утверждение раскладочных росписей казенных податей и т. д.
Нигде не говорится о деньгах, которые вверялись бы комиссарам. Где же здесь растрата вверенных по должности денег? Где пользование своей властью для сокрытия этой растраты? Коссацкий мог похитить, силой отнять принадлежащие крестьянам деньги, но присвоить вверенные ему по должности деньги не мог, так как они комиссару не вверяются».
Далее защитник перешел к обвинению в подлогах.
«Одни из подлогов по давности уже умерли; другие неправильно квалифицированы. Необходимо принять во внимание, что Коссацкий — потомственный дворянин и что для приобретения прав состояния подлоги были ему не нужны. Вместе с тем ясно, что он стремился повысить свое служебное положение. Куда же, спрашивается, отнести ту копию с формуляра, никогда не существовавшего, которую он представил господину Случевскому, управляющему акцизными сборами Курляндской губернии? Разве господин Случевский вправе был ограничиться представленной ему копией при приеме Коссацкого на службу? В соответствующем документе ясно указано, какие именно документы должны быть затребованы от просителя при приеме его на государственную службу. Этих требований ни управляющий акцизными сборами, ни губернатор не выполнили.
Если бы Коссацкий представил свою визитную карточку, на которой было бы обозначено, что он инженер, архитектор или технолог и по этой карточке его приняли бы на службу, то неужели его тоже обвиняли бы в подлоге? Между тем представленные Коссацким документы ничем не были убедительнее такой карточки.
Наконец, пользующийся подложными документами чаще всего не соответствует тому положению, которое он занимает в силу представленных документов. В ином свете рисуется деятельность Коссацкого. Во многих отношениях он нисколько не уступал лицам, имеющим в своем распоряжении настоящие дипломы и аттестаты. Он целый год справлялся с нелегкими обязанностями мирового судьи и не получил никаких нареканий. Занимая должность комиссара, подсудимый объединил волости, выстроил здания волостных правлений, избавил крестьян от обременительной для них почтовой повинности и выхлопотал сложение недоимок на сумму 68 000 рублей. Он первый придумал вспомогательную кассу для семейств рыбаков, осуществил проект постройки дамбы, лежавший многие годы без движения, и тем обогатил крестьян, участвовавших в работах по ее сооружению.
Приглядитесь к деятельности Коссацкого, и вы убедитесь, что он живой человек. Он сразу понял нужды крестьянства и, минуя канцелярские занятия, прежде всего ответил потребностям жизни. С первых же дней своей службы он устраивает школы, заботится о борьбе с проказой. Да, этот человек принес немало пользы! Конечно, он совершил преступления, но эти преступления возникли в далекие годы молодости, когда жизнь кипела, била ключом. Она манила его к славе, власти, хотя бы ценой преступления. Он бросился в омут — и что же нашел? Ежеминутно он чувствовал и сознавал, что ни чины, ни мундир, ни власть ему не принадлежат, что каждую минуту все может быть отнято. Все, знавшие его действительное положение, тянули с него деньги. Все рвали с него, каждый сколько кто мог. Пятнадцать лет он жил под страхом, что все построенное им здание вот-вот разрушится. Какая ужасная судьба! Примите во внимание, что положение среднего русского чиновника на этой окраине не из завидных, что климат острова Эзель разрушил здоровье Коссацкого. Прочтите медицинское заключение, и вы увидите, что над Коссацким витает призрак смерти. Тяжелый недуг его медленно убивает. Куда же он пойдет из суда, больной, поруганный? Постановите же приговор мягкий и милостивый, насколько это возможно по свойству ваших прав».
После С. П. Марголина слово предоставили другому защитнику, дополнившему его речь по некоторым пунктам.
Решением судебной палаты Иосиф Коссацкий был приговорен к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к отдаче в исправительные арестантские отделения на один год и шесть месяцев.
INFO
ББК 67.3 Нб2 Никитин (Азовец) Н.В. Н62 Преступный мир и его защитники. — М.: Воениздат, 2003. — 215 с., ил. — (Редкая книга). ISBN 5-203-01920-7
Н. В. Никитин (АЗОВЕЦ) ПРЕСТУПНЫЙ МИР И ЕГО ЗАЩИТНИКИ
Редактор Н. Л. Коршунова Художественный редактор Е. В. Поляков Технический редактор Н. Я. Богданова Корректор Г. В. Казнина Компьютерная верстка Г. Г. Дюкина
Лицензия ЛР № 020872 от 8 июля 1999 г.
Сдано в набор 12.08.02. Подписано в печать 24.01.03. Формат 60x88/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс. Печ.л. 13,5. Усл. печ. л. 13,23. Уч. изд. л. 12,43. Тираж 5000 экз. Изд. № C/01/411. Заказ № 1075.
Воениздат, 123308, Москва, ул. Зорге, д. 1.
Отпечатано с готовых диапозитивов на Книжной фабрике № 1 МПТР России. 144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25. Тел. /095/ 917-91-41 e-mail: knigist@mail.ru
…………………..
Scan by Vitautus & Kali FB2 — mefysto, 2023


Последние комментарии
6 минут 52 секунд назад
1 час 13 минут назад
2 часов 54 минут назад
2 часов 55 минут назад
2 дней 21 часов назад
2 дней 21 часов назад