Веймар 1918—1933: история первой немецкой демократии [Генрих Август Винклер] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Генрих Август Винклер Веймар 1918–1933: история первой немецкой демократии


Посвящается нашим варшавским друзьям Брониславу и Ханне Геремек, Ежи и Барбаре Хольцер
Учиться на опыте Веймара Предисловие к русскому изданию
В этой книге речь пойдет о предыстории катастрофы всемирно-исторического масштаба: о гибели первой немецкой демократии, Веймарской республики, и ее смене диктатурой Гитлера. Хотя 30 января 1933 г. — день, в который Адольф Гитлер был назначен канцлером, выступает финалом повествования, это еще не означает, что такой конец истории Веймарской республики был предопределен. Историк все время должен задавать себе вопрос, перед каким выбором стояли тогдашние акторы — и почему они поступили так, а не иначе. Веймарской республике так никогда и не удалось выйти из тени поражения Германии в Первой мировой войне, которому она была обязана своим возникновением. Когда Германская империя в октябре 1918 г. трансформировалась из конституционной монархии в парламентскую, это была ее далеко не первая, но последняя уступка идее демократии. С момента образования империи в 1871 г. все ее взрослое мужское население при выборах депутатов рейхстага пользовалось всеобщим и равным избирательным правом. Подобным участием населения в политической жизни не могла тогда похвастаться даже такая «образцовая либеральная монархия», как Великобритания. Но до октября 1918 г. в Германии не было правительства, ответственного перед парламентом. Запоздалая конституционная реформа должна была смягчить западные демократии, победившие в войне, по отношению к побежденной Германии. Это ожидание так и не оправдалось в том числе и потому, что Германия упорно отказывалась признать свою главную роль в развязывании Первой мировой войны. Разновременная демократизация Германии — раннее введение демократического избирательного права, поздняя парламентаризация — наложила свой стойкий отпечаток на весь ход немецкой истории после 1918 г. Поскольку Германия к концу Первой мировой войны уже была частично демократической страной, в 1918–1919 гг. речь могла идти только о большей степени демократии: о введении избирательного права для женщин, демократизации избирательного права в федеральных землях, округах, городах и общинах в интересах полного осуществления принципа парламентской ответственности власть имущих. Именно по этой причине немецкая революция 1918–1919 гг. не относится к великим или «классическим» революциям мировой истории. Политика «tabula rasa» — радикального общественного переворота, который пережила Франция после 1789 г. и, в высшей степени иным образом, Россия после 1917 г., отнюдь не была реальной и уж ни в коем случае ответственной альтернативой той политике, которую немецкая социал-демократия — решающая политическая сила Германии — осуществляла с момента падения монархии в ноябре 1918 г. Без готовности к «классовому компромиссу», договоренности между умеренными силами рабочего класса и буржуазии, парламентская демократия Веймара вообще не могла бы существовать. Социал-демократы действовали так, чтобы уберечь Германию от всеобщего хаоса и кровавой гражданской войны по образу и подобию России. Подавляющее большинство немцев придерживалось того же мнения, что и влиятельные политики СДПГ, Фридрих Эберт и Филипп Шейдеман. Общественная поддержка политики компромисса была сильна в 1918–1919 гг., однако уже в ходе первых выборов в рейхстаг в июне 1920 г. три «Веймарские партии» — социал-демократы большинства, католическая партия Центра и леволиберальная Немецкая демократическая партия, которые в 1919 г. совместными усилиями добились принятия Веймарской имперской конституции — утратили большинство в парламенте. С этого момента правительства парламентского большинства могли формироваться только при помощи партий, по различными причинам голосовавших против принятия конституции. Еще одним не менее судьбоносным следствием поражения «Веймарских партий» стали первые прямые выборы рейхспрезидента весной 1925 г. При этом правым политикам удалось осуществить свой замысел: победу одержал их кандидат, бывший кайзеровский генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург. Тем самым было положено начало консервативной трансформации Веймарской республики. Спустя пять лет, в марте 1930 г., прекратило свое существование последнее правительство парламентского большинства — кабинет Большой коалиции, в который вошли представители партий самого широкого спектра — от социал-демократов до близкой предпринимателям Немецкой народной партии Густава Штреземана. Камнем преткновения для правительства стал спор по вопросу санации системы страхования по безработице. Вскоре после этого Веймарская республика перешла к своей так называемой «резервной конституции»: управлению с помощью чрезвычайных постановлений рейхспрезидента на основании статьи 48 Конституции. С помощью этого авторитарного средства должны были быть разрешены социальные конфликты распределения, в которые Германия оказалась ввергнута в результате мирового экономического кризиса — конфликты, которые далеко выходили за рамки готовности к компромиссу партий, правивших до марта 1930 г. Поражение парламентской демократии дало мощный импульс наиболее радикальным противникам Веймарской системы справа и слева: национал-социалистам даже в еще большей мере, чем коммунистам. Гитлер стал начиная с 1930 г. главным благоприобретателем разновременности немецкого процесса демократизации. С одной стороны, он мог апеллировать к узаконенному еще со времен Бисмарка притязанию народа на участие в управлении государством в форме всеобщего избирательного права, поскольку в полуавторитарной системе президентских правительств позднего Веймара это право все больше сводилось к фикции. С другой стороны, он использовал широко распространенную неприязнь в отношении западной демократии, якобы «ненемецкой» формы государственного устройства, которую страны-победительницы навязали побежденным немцам в 1918 г., чтобы воспрепятствовать их возрождению. Гитлер пришел к власти не в результате триумфальной победы на выборах, но без его больших электоральных успехов он никогда бы не стал рейхсканцлером. В конце концов решающую роль в назначении лидера самой большой политической партии рейхсканцлером сыграло влияние «старых властных элит» во главе с помещиками Остэльбии на дряхлого рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга. Гитлер должен был в качестве младшего партнера консерваторов, старого властного слоя кайзеровской империи, обеспечить им поддержку «национально» настроенных масс и гарантировать таким образом их собственное господство. Однако новый канцлер и не думал о том, чтобы оправдать возложенные на него ожидания. Его партнеры по январю 1933 г. вскоре оказались в положении обманутых обманщиков. В январе 1933 г. закончилась не только короткая история первой немецкой демократии. Национал-социалисты после своего прихода к власти последовательно порвали и с гораздо более старыми традициями немецкого правового государства. Диктатура Гитлера знаменовала собой апогей отторжения немцами нормативного проекта Запада — идей Американской революции 1776 г. и Французской революции 1789 г. В культурном плане Германия всегда была частью Запада: принимала участие в ранних средневековых процессах разделения властей, частичного разделения светской и духовной власти, а также власти князей и сословий; она активно участвовала в великих эмансипационных процессах раннего Нового времени от Реформации до Просвещения. Однако традиционные элиты Германии остались невосприимчивы к политическим следствиям Просвещения: представления о неотъемлемых правах человека, идеи народного суверенитета и представительной демократии не укоренились здесь до 1918 г. Когда же они с опозданием наконец-то утвердились в Германии, это произошло под знаком военной катастрофы, дискредитировавшей эти ценности в глазах многих немцев. Потребовалось еще более тяжелое поражение — крушение Германского рейха в 1945 г., — чтобы начался процесс глубокого изменения взглядов. В западной части Германии, в которой оккупационные силы предоставили немцам возможность самостоятельно извлечь урок демократии из гибели Веймара, этот шанс был использован: конституция ФРГ 1949 г. представляет собой ответ на все то, что в конституции 1919 г. невольно внесло свой вклад в крушение первой немецкой демократии. Фундаментальные государственные нормы, в том числе основные права граждан и сущность правовой демократии, равно как и федеративный строй, были теперь защищены даже от волеизъявления большинства, имеющего право внесения изменений в конституцию, так называемой «вечной оговоркой»[1]. Последовательно был реализован принцип представительной демократии, зато больше не предусматривалась президентская «резервная конституция», а позиция бундесканцлера была усилена за счет «конструктивного вотума недоверия»: бундестаг может теперь отправить канцлера в отставку, только избрав его преемника. Кроме того, основной закон создал Федеральный конституционный суд в качестве хранителя конституции, который в духе ultima ratio может защитить демократию посредством роспуска воинственных антиконституционных партий. Дважды это уже случилось: в 1952 г. была запрещена неонацистская Социалистическая имперская партия, в 1956 г. — просталинская Коммунистическая партия Германии. С момента своего объединения в октябре 1990 г. теперь уже вся Германия представляет собой западную демократию. Опыт Веймара глубоко врезался в коллективную память немцев. Первое ученичество в делах парламентаризма продолжает оказывать свое воздействие. Тем не менее 1918–1933 гг. несут свой политический урок не только немцам. На конкретном примере они показывают, что демократия это больше, чем просто господство большинства. Во времена кризисов демократия может отстоять свои позиции только тогда, если она располагает работоспособными институтами, задача которых состоит в том, чтобы воспрепятствовать политическому злоупотреблению властью, включая злоупотребление властью большинством граждан. Однако прежде всего демократия предполагает наличие широкого и глубокого конституционного консенсуса, или, если использовать термин политолога и публициста Дольфа Штернберга, «конституционного патриотизма». Под этим понимается убеждение в том, что основные ценности демократической конституции, во главе с идеями неотъемлемых прав человека, господства закона, разделения властей и представительной демократией, стоят того, чтобы их защищать. Там, где элиты и большинство населения не разделяют это убеждение, даже самая демократическая конституция не в силах оказать свое позитивное воздействие. Тот, кто хочет учиться на опыте Веймара, должен принять этот вывод в расчет.Берлин, октябрь 2011 г.Генрих Август Винклер
Предисловие к немецкому изданию
Немногие главы немецкой истории взывают столь бурные дискуссии, как 14 лет между Германской империей и «Третьим рейхом». Веймарская республика стала грандиозной лабораторией классического модерна, эпохой культурного пробуждения, освобождения от пустых условностей, великим триумфом художественного и культурного авангарда, обращенного к миру. Однако с первой немецкой республикой связаны и другие воспоминания: о попытках насильственного свержения власти, галопирующей инфляции, массовой безработице и политическом радикализме, кризисе и падении демократии, которая в глазах многих немцев с самого начала была опорочена несмываемым пятном национального позора, став детищем поражения Германии в Первой мировой войне. То, что последовало вслед за Веймаром, было столь ужасно, что мы должны причислить падение первой немецкой республики к величайшим катастрофам XX века. Именно поэтому за любыми рассуждениями о Веймарской республике неизбежно стоит вопрос о том, как могли произойти события 1933 года? В итоге изучение истории Веймарской республики неизбежно вызывает весьма печальные чувства. Исходить из факта поражения Веймарской республики еще не значит смириться с его неизбежностью. Напротив, вопрос о причинах крушения неразрывно связан с проблемой свободы действий и альтернатив: насколько открытыми были в прошлом ситуации выбора? Ответ можно найти, если только мы подойдем к изучению нашей темы, максимально опираясь на источники, — настолько, насколько это вообще возможно. Одновременно такая постановка вопроса вынуждает нас сконцентрироваться лишь на том, что существенно при ответе на него. По этой причине данная книга не может и не должна выступать в роли «всеобщей истории» Веймарской республики, она задумана не в качестве энциклопедии, а как история определенной проблемы. На первом плане в ней находится политика. Веймар был не только предысторией «Третьего рейха», но и продолжением истории Германской империи. Они неотделимы друг от друга, но Веймар не растворяется в них. Веймар для немцев был также первым большим шансом учиться парламентской демократии, и в этом отношении он стал предысторией для «старой» Федеративной Республики Германии — второго периода ученичества немцев в делах демократии. Критическое отношение к Веймару было определяющим не только для немецкого государства со столицей в Бонне, но и для второго наследника Германского рейха — для Германской Демократической Республики, хотя здесь оно было совершенно иного рода. Единая Германия с 1990 г. вновь стала тем, чем раньше была только Веймарская республика, или по меньшей мере, чем она должна была стать по мысли ее отцов-основателей: демократическим немецким национальным государством. Голоса сомневающихся в том, что Германия сможет сочетать в себе оба признака и стать одновременно и национальным государством, и демократией, продолжают раздаваться как внутри страны, так и за ее пределами. Не потому ли, спрашивают некоторые, Боннская республика стала такой успешной демократией, что она все больше и больше воспринимала себя как «постнациональное», ориентированное на универсальные ценности сообщество, патриотичное лишь по отношению к своей конституции? Действительно, объединенная Германия не может больше считать себя «постнациональным» государством. Однако она больше не является и классическим национальным государством, поскольку с самого начала своего существования была интегрирована в наднациональное сообщество, следовательно, речь идет о постклассическом национальном государстве. Конфликт между демократией и нацией, отягощавший Веймарскую республику, не обязательно должен повториться. Он и не повторится при условии постоянного обращения к опыту первой республики, если вся Германия усвоит то, что Юрген Хабермас входе «спора историков» в 1986 г. назвал великим интеллектуальным достижением послевоенного времени: «безоговорочная открытость Федеративной республики по отношению к политической культуре Запада». Задача этой книги — вписать Веймарскую демократию в контекст истории немецкого национального государства, этому подчинено все ниженаписанное. 14 лет первой германской республики были драматическим временем. Историк не должен пытаться лишить их этого драматизма. Точно также историк не должен отказываться от признания того, что в истории могут быть трагические ситуации, когда действующие лица, при всех их лучших побуждениях, например убежденные сторонники демократии и правового государства, больше не могут выбирать между «верными» и «неверными» решениями, а только лишь между тем, что кажется им большим или меньшим злом. Последствия выбора могут быть фатальными, но говорить об этом — не фатализм. Тот, кто ретроспективно задается вопросом об открытости исторических ситуаций, не может честно исключать того, что в конкретном случае они могут оказаться куда менее открытыми, чем это хотелось бы наблюдателю. Некоторым читателям может показаться старомодной книга, в которой больше повествуется о событиях, чем о структурах. Однако структуры можно до определенной степени разглядеть внутри событий, а повествование может также обернуться анализом. Правда, в обоих случаях следует предполагать, что все изложенное в книге направляется стремлением найти ответ на заданный вопрос: как могли случиться события 1933 г.? Попытка ответить на него предпринимается только в конце книги. Насколько она убедительна — решать читателю.Глава I Противоречивое наследие
В марте 1921 г., ровно через два с половиной года после краха Германской империи, теоретик социал-демократии Эдуард Бернштейн, которому исполнился тогда 71 год, закончил свою книгу «Немецкая революция: ее происхождение, ход и последствия». Книга была его попыткой объяснить себе и современникам, почему революция в Германии пошла по менее радикальному пути, чем все великие революции в истории. Бернштейн назвал две основные причины умеренного характера немецкой революции. Первой стала степень общественного развития Германии. Чем менее развиты общества, гласил первый тезис Бернштейна, тем легче они переносят меры, направленные на радикальные изменения. «Однако чем разнообразнее внутреннее устройство общества, чем изощреннее разделение труда и сотрудничество всех его членов, тем выше опасность, что при попытке радикального переустройства его формы и содержания за короткое время, да еще и с применением насилия, жизнеспособности этого общества будут нанесены тяжелейшие повреждения. Независимо от того, отдавали ли себе в этом отчет ведущие деятели социал-демократии теоретически, но они осознали это исходя из реального опыта, а затем соответствующим образом направляли свою практику революции». Второй причиной замедления революции Бернштейн назвал уже достигнутую Германией степень демократии: «Какой бы отсталой ни была Германия в важнейших вопросах политической жизни из-за продолжающегося существования полуфеодальных учреждений и могущества военных, все же в области государственного управления она достигла такой ступени развития, при котором уже простая демократизация имеющихся учреждений означала большой шаг к социализму. Зачатки этого процесса проявились еще до революции. Элементы демократии, которые удалось создать в империи, в отдельных землях и на местном уровне, под влиянием представителей рабочих, проникнувших в законодательную власть и систему управления, оказались действенным рычагом поддержки законов и мер, лежавших в русле социализма, так что кайзеровская Германия могла сравниться в этих областях даже с политически развитыми державами»{1}. Если коротко сформулировать основной тезис Бернштейна, Германия не была готова к радикальному обновлению, поскольку, с одной стороны, была слишком развита индустриально, а с другой — слишком демократична. Обратимся к первой части этого двойного аргумента. Все «классические» революции Запада — Английская XVII века, Американская 1776 г. и Французская 1789 г., на деле произошли еще до массового перехода к индустриальному способу производства, т. е. состоялись преимущественно в аграрных обществах. То же самое можно сказать и о великих восточных революциях, русской и китайской. В аграрных обществах большинство населения может длительное время самостоятельно обеспечивать себя важнейшими для жизни ресурсами. Радикальная смена государственного аппарата в таких обществах возможна без возникновения экономического и социального хаоса. Иначе обстоит дело в сложных индустриальных обществах с разделением труда. Существование большинства населения здесь настолько зависит от услуг государства и муниципалитетов, что распад общественных служб целиком парализует жизнь общества. Следствием этого становится, как удачно выразился современный историк Рихард Лёвенталь, враждебный революции «антихаос-рефлекс» индустриального общества{2}. Не обязательно было числиться сторонником Социал-демократической партии Германии большинства под руководством Фридриха Эберта, чтобы уже в конце 1918 г. прийти к тем же выводам, что и общепризнанный критик Маркса Эдуард Бернштейн, который в 1917 г. вышел из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в знак протеста против одобрения ею военных кредитов и временно присоединился к Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ). Так например, газета «Друг народа», орган НСДПГ в Брауншвейге, писала 23 ноября 1918 г.: «Экономическая жизнь организована наподобие машины. Все части находятся во внутренней связи друг с другом… Организм цивилизованного народа невероятно сложен. Он не может преодолеть различного рода перебои, не распавшись через непродолжительно время»{3}. В том же духе высказывался в 1920 г. Генрих Штрёбель, ведущий представитель правого крыла независимых социал-демократов. «Диктатура советов и немедленная полная социализация были в Германии абсолютно исключены. Факт того, что крайне пролетарски настроенные левые вообразили себе, что смогут в точности повторить в Германии русский образец, был следствием губительного непонимания экономических и политических возможностей стран. В аграрной России, где лишь десятая часть населения существовала за счет промышленности, даже долгосрочный паралич и разруха индустриального производства не смогли довести страну до катастрофы. Рабочие, лишившиеся своих мест, нашли убежище в деревне или в Красной армии. Между тем в Германии за счет промышленности и торговли живут две трети населения — и как они смогли бы существовать, куда могли бы податься эти 40 миллионов человек, если бы опрометчивая, непродуманная социализация производства привела в ступор всю индустриальную систему?»{4} Таким образом, с точки зрения критически настроенных современников, тот факт, что Германия принадлежала к высокоразвитым промышленным странам, с самого начала очертил границы революции. Вместе с тем именно индустриализация стала предпосылкой для революции, состоявшейся в 1918–1919 гг. Характерное для Германской империи противоречие между прогрессивным общественным состоянием и отсталой политической системой погрузило страну в долгосрочный кризис задолго до 1914 г. Не будь этого противоречия, дело никогда не дошло бы до попытки революционного разрешения кризиса. Коренное противоречие Германской империи вытекало уже из самой логики ее основания. В 1848–1849 гг. провалилась попытка либералов и демократов создать единую и одновременно свободную Германию. «Революция сверху», которою Бисмарк провел между 1866 и 1871 гг., стала ответом на провал революции снизу. Основание империи принесло Германии столь желанное единство. Однако Бисмарк не мог и не хотел предоставлять немцам свободу в духе парламентской системы и, следовательно, политического господства либеральной буржуазии. Одержав в 1866 г. победу над Австрией, он выполнил те либеральные требования, которые были совместимы с интересами правящей элиты старой Пруссии — династии, аристократии, армии и высшего чиновничества. Либеральная буржуазия могла свободно реализовывать себя в сфере культуры и промышленности, а также в существенной мере влиять на законодательство. Однако центр государственной власти, собственно управление страной, был для этого слоя в бисмарковской Германии закрыт. В гражданской сфере управления вторая Германская империя была ограничена конституцией: распоряжения монарха нуждались в министерской визе. Однако военная власть короля Прусского, бывшего одновременно Германским императором, не подчинялась конституционному требованию санкции министерской подписи. Таким образом, в конституционную действительность кайзеровской империи вторгался изрядный элемент абсолютизма. Оба фактора, отсутствие ответственности рейхсканцлера перед парламентом и внеконституционная особая роль короля как верховного главнокомандующего, делали кайзеровскую империю авторитарным государством, качественно отличавшимся от парламентских стран Северной и Западной Европы. Однако понятие «авторитарное государства» не дает адекватную картину политической системы Германии. Всеобщее, равное и прямое избирательное право для мужчин, которое Бисмарк ввел в 1867 г. в Северогерманском союзе, а в 1871 г. — и во всей империи, делало Германию в определенном смысле даже более демократической страной, чем сама родина парламентаризма — Англия. Что касается избирательного права, то массы достигли в империи Бисмарка большей степени участия в политической жизни, чем в любой из парламентских монархий. Частичная демократизация кайзеровской империи — всеобщее равное избирательное право для мужчин без парламентской системы правления — стала вторым звеном в тезисе Бернштейна. Поскольку в Германии уже существовало гарантированное право на политическое участие, то в 1918 г. речь могла идти только о расширении этого права, но не об его ограничении. Призыв к «диктатуре пролетариата» мог найти плодотворную почву в полицейском государстве вроде царской России. Однако в стране, где уже полвека рейхстаг избирался посредством прямого равного голосования, под этим лозунгом можно было собрать в крайнем случае лишь меньшинство рабочих. Расширение политических прав участия, по мнению влиятельных социал-демократов, означало замену прусской трехклассной системы выборов всеобщим и равным избирательным правом, предоставление права голоса женщинам и парламентаризацию империи. Уже в 1893 г. Карл Каутский, ставший немного позже ортодоксальным противником Бернштейна в полемике о ревизии марксизма, видел во введении парламентской системы английского образца единственную причину, которая могла бы оправдать при определенных обстоятельствах революцию в Германии. Для ведущего теоретика немецкой социал-демократии историческая задача пролетариата состояла в том, чтобы наверстать то, что было малодушно упущено немецкой буржуазией, а именно создать действительно парламентский режим правления. Тем не менее от понятия «диктатура пролетариата» марксист Каутский также не собирался отказываться. «Для диктатуры пролетариата я не могу представить никакую иную форму, чем сильный парламент по английскому образу, с социал-демократическим большинством, пользующимся поддержкой сильного и сознательного пролетариата. Борьба за реальный парламентаризм станет, по моему мнению, решающим сражением социальной революции, поскольку парламентское правление означает в Германии победу пролетариата, в ином случае — его поражение»{5}. Левые либералы, объединившиеся в 1910 г. в Прогрессивную народную партию, подобно социал-демократам, также стремились к парламентаризации кайзеровской империи. Но хотя в последнем кайзеровском рейхстаге, избранном в 1912 г., СДПГ образовала сильнейшую фракцию, для перехода к парламентскому способу правления у нее не было даже простого большинства, не говоря уже о двух третях голосов, необходимых для изменения конституции. Обе консервативные партии были резкими противниками перераспределения власти в пользу рейхстага. В свою очередь, национал-либералы по меньшей мере не стремились принципиально оспаривать существующее разделение властей, а католическая Партия Центра заняла в конституционной системе ключевую позицию и боялась ее потерять в случае формальной парламентаризации. Таким образом, не могло быть и речи о прогрессирующей парламентаризации Германской империи до 1914 г. Со времен Бисмарка политический вес рейхстага увеличился, однако для превращении конституционной монархии в монархию парламентскую отсутствовала важнейшая предпосылка: парламентское большинство, которое этого действительно хотело бы. В определенном смысле даже социал-демократы были сторонниками парламентаризма только лишь на бумаге. До тех пор пока они не располагали абсолютным большинством мест в рейхстаге, а от этого они были весьма далеки даже после большого успеха на выборах 1912 г., социал-демократы могли бы составить основу для правительства парламентского большинства только вместе с центристскими буржуазными партиями, Прогрессивной народной партией и Центром. Однако коалиция с ними противоречила представлению о классовой борьбе — центральной составляющей части официальной партийной доктрины. Отступи руководство партии или фракция в рейхстаге от этой максимы, в итоге социал-демократов ждал бы распад. Конституционная система кайзеровской империи как в зеркале отразилась в системе политических партий. Поскольку они были освобождены от правительственной ответственности, ничто не вынуждало их идти на компромиссы друг с другом. Партии удовлетворялись тем, что защищали интересы своего электората парламентскими методами, господствуя в мировоззренческом отношении. В результате такой ориентации партии только усиливали сегментацию немецкого общества — его расщепление на социал-демократическую, католическую среду, различные буржуазные слои, среднее сословие и сельских жителей. Все эти группы были в большей или меньшей степени отделены друг от друга. Границы этих групп не совпадали с классовыми границами. Социал-демократическая среда была в основном пролетарской, однако далеко не все рабочие были социал-демократами. Католическая среда выступала для самой себя социальным микрокосмом, в котором находили себе место католики — представители всех социальных слоев. Для двух вышеназванных сред было характерно особенное внутреннее сплочение, поскольку и социал-демократы, и католики преследовались при Бисмарке как «враги империи», и до самого конца ее существования подвергались различным видам дискриминации (социал-демократы в большей степени, чем католики). В неприятии социал-демократии буржуазное общество было едино. Утрируя, можно утверждать, что буржуазия первоначально проявила себя как «класс» только благодаря этому противопоставлению. Кроме того, существовали и другие, куда более старые, разделительные линии, продолжавшие действовать в вильгельмианском обществе: конфессиональные границы, противоречия между городом и деревней, «образованными» и «простыми» людьми, теми, кто имел право бросить и принять вызов на дуэль, и прочим населением. До 1914 г. немецкое общество было классовым обществом, а также обществом культурного партикуляризма{6}. Придать внутреннюю сплоченность этому раздробленному обществу должна была идея единства нации. Вплоть до образования империи национальные лозунги были боевым кличем либералов и демократов. С точки зрения либеральной буржуазии, а также и молодого рабочего движения, выступать за немецкое единство значило выступать за свободу и прогресс и против интересов многочисленных династий и их сторонников среди дворянства. После основания империи свободолюбивый блеск национальных лозунгов стал стремительно тускнеть. Поначалу, во времена «культуркампфа», они использовались для изоляции католиков, затем, с принятием в 1878 г. закона о социалистах, для борьбы с социал-демократами, и, наконец, в 1879 г., когда были утверждены протекционистские пошлины на ввоз стали и зерна, для опровержения либерального учения о свободной торговле. Быть националистом впредь в первую очередь означало быть противником интернационализма. В течение нескольких лет понятие «национальный» превратилось из либерального и демократического в, скорее, «правый» и консервативный лозунг. Либеральные националисты пытались помешать использовать «свой» лозунг не по назначению, целиком сделав ставку на немецкую внешнюю политику. Германия, по их расчетам, не могла стать великой державой без внутренней модернизации, что должно было привести к ослаблению прусского юнкерства и усилению немецкой буржуазии. Среди католиков вошла в моду склонность к другой разновидности компенсаторного национализма: не желая считаться немцами «второго сорта», многие из них старались быть особенно хорошими патриотами. Одни лишь социал-демократы, казалось, не обращали внимания на то, что их называют «людьми без роду и племени», продолжая исповедовать идею интернациональной солидарности трудящихся с той же решимостью, что и учение о классовой борьбе{7}. Так продолжалось до 4 августа 1914 г. В этот день социал-демократы вместе с прочими фракциями рейхстага проголосовали за предоставление имперскому правительству военных кредитов. Нельзя сказать, что депутаты от СДПГ, в отличие от последних предвоенных дней, вдруг неожиданно убедились в миролюбии Германской империи. Более того, даже убежденные сторонники выдачи военного кредита не сомневались в том, что Германия после убийства в Сараево наследника австрийского престола подтолкнула Австро-Венгрию к войне с Сербией, развязав тем самым общеевропейскую войну. Однако когда война стала свершившимся фактом, социал-демократы не видели альтернативы политике «классового мира» внутри страны и поддержке военных мероприятий империи. Тот факт, что к противникам Германии относилась Россия, облегчил социал-демократам принятие этого решения, ведь еще со времен революции 1848–1849 гг. царская Россия, по мнению Маркса, Энгельса и левых сил в целом, была главной силой европейской реакции. Ненависть к России сочеталась с надеждой на внутренние реформы в Германии. Национальная солидарность, как ожидало партийное руководство, по крайней мере должна была устранить имевшиеся препятствия на пути к социальному и политическому равноправию рабочих{8}. Кроме того, решение от 4 августа 1914 г. с предельной очевидностью также продемонстрировало, в какой мере рабочие, приверженные социал-демократии, уже были интегрированы в существующее общество. Оказалось, что идея международной солидарности пролетариата — это одно дело, а чувство общности с собственным народом — совсем другое. Растущие зарплаты, социальные улучшения, право участия в политической деятельности — все это имело не меньшее значение, чем дискриминация, которой все еще подвергались социал-демократы. В 1914 г. германским рабочим уже было что терять, кроме своих цепей, и соответственно большинство из них проявило готовность внести вклад в победу отечества. Конечно, и в 1914 г. среди социал-демократов нашлись люди, выступившие против новой патриотической линии партии. Большинство диссидентов еще до войны принадлежали к левому или, как Роза Люксембург и Карл Либкнехт, к крайне левому крылу партии. Однако к первым критикам официального курса относились также представители «марксистского центра», например Гуго Гаазе, бывший вместе с Фридрихом Эбертом председателем СДПГ, и Карл Каутский, и даже «правый» Эдуард Бернштейн. Карл Либкнехт, убежденный в вине Германии в развязывании войны, первым из депутатов рейхстага от социал-демократов проголосовал 2 декабря 1914 г. против военных кредитов. В декабре 1915 г. его примеру последовали еще 19 парламентариев. После очередного «нарушения партийной дисциплины», на что большинство ответило их исключением из фракции, оппозиция сорганизовалась как Социал-демократическое трудовое содружество, ставшее зародышем НСДПГ, основанной в апреле 1917 г. Противники военных кредитов могли апеллировать к тем идейным позициям, которые до 1914 г. были бесспорными для II Интернационала. Они имели все основания рассматривать тезис об «оборонительной войне» как обман общественности и, в свою очередь, определять ее как империалистическую. Раз за разом представители социал-демократов большинства давали повод для упреков в отступлении от убеждений довоенной поры и даже в дрейфе в сторону буржуазного национализма. Тем не менее оценка голосования 4 августа 1914 г. как «предательства» была ошибкой. Патриотические настроения захватили большую часть депутатов от СДПГ и их сторонников. Еще раньше, чем это сделала фракция в рейхстаге, о сотрудничестве с правительством заявила Генеральная комиссия Свободных профсоюзов. Если бы СДПГ отклонила военные кредиты, ей пришлось бы столкнуться не только с расколом внутри партии, массированными репрессиями со стороны государства и бойкотом со стороны общественного мнения. Проголосовав против, социал-демократы объективно бы встали на сторону военных противников Германии, и таким образом, спровоцировали бы опасность гражданской войны. От шага в эту пропасть партию спас инстинкт самосохранения{9}. Чем дольше продолжалась война, тем яснее становилось, что для Германии речь шла отнюдь не об обороне. Сторонники пангерманизма вместе с представителями тяжелой промышленности призывали к захвату все больших территорий в Европе и Африке, и того, что из этих призывов становилось частью официальной политикой, было бы более чем достаточно, чтобы обеспечить господство Германии на европейском континенте. Только когда начала таять вера в германскую победу, умеренные силы попытались создать внутренний фронт против сторонников экспансионистской захватнической политики. Среди умеренной буржуазии сторонником мира зарекомендовал себя депутат от Партии Центра Матиас Эрцбергер, в первые годы войны сам бывший убежденным аннексионистом, теперь пытавшийся сформировать парламентское большинство для заключения компромиссного мира. В июле 1917 г. социал-демократы, Центр и Прогрессивная народная партия приняли совместную резолюцию, требовавшую заключения мира без «насильственных уступок территории, политического, экономического и финансового принуждения». Эта «мирная резолюция» положила начало тесной совместной работе трех партий, располагавших в рейхстаге большинством мест. По этой причине их не могло игнорировать ни гражданское руководство рейха, ни Верховное военное командование (ОХЛ). Против нового парламентского большинства сразу же мобилизовались сторонники «войны до победного конца». Основанная в 1917 г. Немецкая отечественная партия, поддержавшая программу территориальных завоеваний и заручившаяся серьезной поддержкой со стороны военного руководства, очень быстро разрослась в массовое движение. Одновременно все более радикальными становились настроения уставшего от войны рабочего класса. Первая массовая забастовка произошла в апреле 1917 г. Она стала эхом «Февральской революции» в России, в действительности состоявшейся по григорианскому календарю в марте 1917 г. Ее участники выступали против всего, что уже давно угнетало рабочих: материальных лишений, принявших голодной «брюквенной» зимой 1916–1917 гг. экстремальные формы; становившегося все более очевидным разительного неравенства в распределении тягот войны; затягивания давно назревших реформ, как, например, демократизации прусского избирательного права. «Стихийные» забастовки весны 1917 г. оказались тревожным сигналом для профсоюзов. Инкорпорация профсоюзов в военную экономику, получившая юридически обязательную форму в результате принятого в декабре 1916 г. закона «О патриотической вспомогательной службе», по мнению многих рабочих ставила под сомнение способность профсоюзов представлять их интересы{10}. Как и апрельская стачка 1917 г., массовая берлинская забастовка января 1918 г., в которой участвовали рабочие военной промышленности, была определенным образом связана с событиями в России. После Октябрьской революции большевики стремились заключить мир, что давало обеим центрально-европейским державам, Германии и Австро-Венгрии, шанс закончить войну на востоке. Когда 12 января в ходе мирных переговоров в Брест-Литовске, под давлением большевиков проходивших в публичном режиме, генерал Макс Гофман, ударив кулаком по столу, заявил, что Германия и так уже является победителем и этот факт стоит учитывать, он, помимо собственной воли, дал сигнал к массовому выступлению пролетариата. В Берлине стачка проходила под влиянием так называемых «революционных старост» металлообрабатывающей промышленности, бывших в основном сторонниками НСДПГ. Забастовка, в которой в конце января 1918 г. только в столице приняло участие около полумиллиона рабочих, была, с одной стороны, протестом против войны, растущего влияния Немецкой отечественной партии и тяжелого продовольственного положения, с другой — выражением поддержки российским рабочим и Октябрьской революции. СДПГ большинства делегировала в забастовочный комитет трех своих лидеров — Фридриха Эберта, Филиппа Шейдемана и Отто Брауна — с целью как можно скорее прекратить забастовку. 3 февраля этого удалось достичь: после массовых арестов и призыва тысяч участников в армию, революционные старосты прекратили бесперспективную акцию{11}. После январской стачки стало очевидно, что круг сторонников политики «классового мира» среди рабочих продолжает сужаться. Рейхсканцлер граф Гертлинг, консервативный представитель Партии Центра, внес свою лепту в стремительную поляризацию общества, не став опровергать заявление Отечественной партии о том, что он поддерживает ее цели. Действительно, политика, которую правительство проводило на Востоке после подписания мира, навязанного России в Брест-Литовске, полностью соответствовала по духу взглядам правых националистов. Близость Гертлинга к позиции радикальных аннексионистов выставляла в сомнительном свете в том числе и СДПГ, тесно сотрудничавшую с партией канцлера в рейхстаге. В этой ситуации в выигрыше оказалась НСДПГ, популярность которой в рабочей среде возрастала{12}. Что касалось оценки событий в России, то обе социал-демократические партии не слишком расходились в ней. Социал-демократы большинства сначала приветствовали захват власти большевиками в ноябре 1917 г., поскольку это приближало заключение мира. Однако после того, как 19 января 1918 г. сторонники Ленина разогнали избранное путем свободного волеизъявления Учредительное собрание, мнение СДПГ стало однозначным: то, что делают большевики, это не социализм и демократия, а путчизм и анархия. Их политика привела к кровопролитной гражданской войне, начавшейся в России весной 1918 г. Впредь одной из первоочередныхзадач социал-демократов большинства стало стремление избежать подобной судьбы для Германии. Представители правого крыла независимых социал-демократов относились к большевикам не менее критично, чем партия большинства. Диктатура пролетариата, гласил вердикт Каутского, может быть полезной только в случае, когда большинство народа обладает властью над меньшинством. Марксизм показал путь примирения диктатуры пролетариата с демократией. Зато диктатура меньшинства всегда оказывается реакционной и вызывает контрреволюцию. Даже в группе «Спартак», составлявшей крайне левое крыло НСДПГ, мнения о действиях большевиков разделились. Роза Люксембург и Карл Либкнехт, находившиеся во время русской революции в заключении, в первых своих высказываниях об октябрьских событиях были сдержаны. После роспуска Учредительного собрания у Розы Люксембург появился повод упрекнуть Ленина и Троцкого в том, что, устраняя демократию, они уничтожают живой источник революции. Два других основателя союза «Спартак», Клара Цеткин и Франц Меринг, напротив, встали на сторону Ленина, равно как и не являвшиеся членами НСДПГ «левые радикалы» из Гамбурга и Бремена. Для них насильственная акция большевиков от 19 января 1918 г. стала весьма желанным вкладом в процесс разрушения демократических иллюзий у немецкого пролетариата{13}. Наибольшее отвращение к войне питали в 1917–1918 гг. представители рабочего класса, однако общее недовольство уже давно захватило и другие слои немецкого населения. Уже в августе 1917 г. баварский министр фон Бреттрейх утверждал, что среднее сословие «в настоящее время демонстрирует наихудшее настроение из всех слоев общества». В государственных учреждениях возросло количество жалоб на ущемление интересов ремесленников при поставках сырья и на общий спад количества заказов и сбыта. Также поступали жалобы на нехватку кредитных средств, рост задолженности по квартплате, недостаток рабочей силы, регулирование цен и установление штрафов за их взвинчивание. Летом 1918 г. плохие настроения политизировались. По замечанию религиозного философа Эрнста Трельча, в августе 1918 г. даже «патриотически настроенные» и «верующие в войну» крестьяне и сыроделы Альгау испытывали «прямо-таки фанатичную ненависть, распространявшуюся на весь офицерский корпус, как воплощение всех несправедливостей и привилегий». В свою очередь, 23 сентября 1918 г. на совместном заседании фракции и партийного комитета СДПГ баденский депутат рейхстага Оскар Гек сообщил, что в южной Германии наблюдается «чудовищное ожесточение против Пруссии, но не против прусского народа, а против юнкерства и военной касты. Всеобщее настроение таково: Пруссия должна погибнуть, а если она не погибнет, то из-за Пруссии погибнет вся Германия»{14}. На том же заседании 23 сентября, где депутат Гек описывал настроения к югу от Майна, Фридрих Эберт, председатель социал-демократов большинства, сделал практические выводы из падения авторитета старых властей. Он поставил своих товарищей по партии перед четкой альтернативой: «Если мы не стремимся сегодня прийти к соглашению с буржуазными партиями и правительством, то тогда мы должны дать возможность событиям течь свои чередом, применить революционную тактику, действовать на свой страх и риск и вручить судьбу партии в руки революции. Тот, кто наблюдал за событиями в России, не может, исходя из интересов пролетариата, желать повторения у нас чего-то подобного. Напротив, мы должны грудью броситься на брешь. Мы должны понять, получим ли мы достаточно влияния, чтобы добиться осуществления наших требований, и, если это возможно, увязать их в единое целое с делом спасения страны, и наш проклятый долг и наша обязанность заключается в том, чтобы сделать это». Для Эберта вопрос «правительство большинства или революция» был теперь всего лишь риторическим. Русский пример, по его мнению, окончательно лишил почвы опцию «революция». Тот, кто начнет сейчас еще одну революцию, должен принимать в расчет, что она пойдет по тому же пути, что и в России, и закончится насилием, гражданской войной и хаосом. Кто этого не желает, должен сделать ставку на политику мирных реформ. Осуществить последние в Германии можно было только путем создания правительства парламентского большинства или, говоря языком марксизма, путем классового компромисса с умеренными слоями буржуазии. До войны социал-демократия отклонила бы такую тактику как немарксистскую. Однако с учетом политики, проводившейся партией после 1914 г. и особенно начиная с 1917 г., переход к открытому правительственному союзу с буржуазным центром казался уже почти логичным следствием ранее принятых решений. Партийное руководство довольно быстро убедило в этом комитет и фракцию в рейхстаге, которые поддержали идею значительным большинством голосов{15}. Как и СДПГ, центристские партии видели в участии социал-демократов в правительстве единственный шанс предотвратить революционное обострение внутреннего кризиса и одновременно необходимую предпосылку для того, чтобы добиться заключения приемлемого мира. Однако СДПГ не собиралась входить в правительство графа Гертлинга ни при каких обстоятельствах. Вместо этого она потребовала внести изменения в конституцию в интересах парламентаризации. Это требование поддержала Прогрессивная народная партия, но отклонила Партия католического Центра. Лишь под угрозой распада межфракционного комитета, состоявшего из депутатов этих трех партий, Партия Центра, к которой принадлежал Гертлинг, дала понять, что в случае крайней необходимости готова пожертвовать рейхсканцлером. Гертлинг, лишившись таким образом поддержки парламента, сделал выводы и подал в отставку, принятую кайзером 30 сентября{16}. Последовавший за этим переход к первому в истории Германии парламентскому правительству не был, разумеется, исключительной заслугой только партий парламентского большинства. Решающее значение имело, скорее, то, что в конце сентября 1918 г. к выводу о необходимости парламентаризации пришел первый генерал-квартирмейстер Эрих Людендорф, возглавлявший с 1916 г. вместе с генерал-фельдмаршалом фон Гинденбургом Верховное военное командование. Военное положение центрально-европейских держав стало тем временем безнадежным. После 8 августа 1918 г., «черного дня» Амьена, Людендорф осознал, что превосходящие силы противника уже невозможно разбить; 14 сентября Австро-Венгрия на свой страх и риск предложила западным державам начать мирные переговоры. 29 сентября другой союзник, Болгария, приняла условия перемирия, предложенного Антантой. В тот же день Людендорф убедил Вильгельма II, что Германия как можно скорее должна отправить предложение о перемирии и начале мирных переговоров президенту США Вильсону. Но ответственность за это, по его мнению, должно было взять на себя не Высшее военное командование, а правительство, сформированное наиболее крупными фракциями рейхстага. Свое выступление в пользу парламентаризации Людендорф связал с легендой об «ударе ножом в спину». «Я просил Е. В. (Его Величество) допустить теперь до работы в правительстве также те круги, которым мы главным образом обязаны столь плачевным положением. Таким образом, мы желаем, чтобы эти господа пожаловали в министерства. Теперь им придется заключить тот мир, который требуется. Пусть сами расхлебывают кашу, которую они нам заварили»{17}. Преемник Гертлинга, принц Макс Баденский, ранее не выступал ни в поддержку парламентской системы, ни как сторонник мирной резолюции июля 1917 г. Его кандидатура была предложена политиками из Прогрессивной народной партии, и в итоге, поскольку от поста рейхсканцлера отказались все остальные кандидаты, получила вынужденное согласие межфракционного комитета. Социал-демократам принятие этого решения далось тяжелее всех. Председатель фракции Филипп Шейдеман, еще 23 сентября решительно выступавший за правительство парламентского большинства с участием СДПГ, уже 2 октября заявил, что не стоит требовать от социал-демократов согласиться с тем, чтобы кабинет возглавил принц, и что совершенно излишне в столь трудных обстоятельствах брать на себя ответственность, которую партия едва ли в состоянии нести. Лишь Фридриху Эберту удалось, апеллируя к сознанию ответственности социал-демократии, убедить большинство фракции согласиться на вхождение в кабинет во главе с принцем Максом{18}. Иное решение в тот момент было едва ли возможно. Участвуя в правительстве, СДПГ могла надеяться избежать двойной опасности: угрозы военной диктатуры и революции, которая могла последовать в ответ на диктатуру, а также найти путь к достижению компромиссного внутреннего мира. Решение социал-демократов сводилось к попытке не просто достичь мира, пока Германия остается монархией, но достичь его при главе государства, правившем страной в данный момент. Успех такой попытки на деле зависел от целого ряда внутриполитических и внешнеполитических факторов, на которые СДПГ и ее буржуазные союзники либо не могли воздействовать, либо могли оказывать лишь весьма незначительное влияние. Первым официальным актом нового кабинета, образованного 3 октября 1918 г., стала нота президенту Вильсону, направленная под сильным давлением со стороны Верховного военного командования уже в ночь на 4 октября. В ней Германия просила о переговорах по вопросу заключения перемирия. Американский президент зарекомендовал себя благодаря своими знаменитыми «14 пунктами», обнародованным в январе 1918 г., в качестве защитника справедливого мира. Его многочисленные заявления давали основание надеяться, что Германия во главе с ответственным перед парламентом правительством сможет рассчитывать на более выгодные условия мира, чем прежнее авторитарное государство. И если канцлер и правительство не спешили поддаваться давлению военных, то только по одной вполне убедительной причине: слишком поспешная просьба о перемирии была равносильна собственноручному признанию неотвратимости поражения, которое неизбежно ослабило бы боевой дух армии и придало решимости Антанте в стремлении сдвинуть линию фронта еще ближе к границам Германии. Окончательный ответ американского госсекретаря Лансинга от 23 октября 1918 г., являвшийся результатом длительных переговоров американцев с союзниками, разрушил остававшиеся у немцев иллюзии: США требовали военной капитуляции рейха и практически прямым текстом отречения императора. Верховное военное командование в ответ осуществило новый поворот: ссылаясь на принципы военной чести, оно объявило требование капитуляции неприемлемым и в телеграмме от 24 октября, направленной командующим войсками, призвало действующую армию продолжать сражаться, что в сложившейся ситуации означало вести войну до неизбежного поражения Германии. Правительство было выну>вдено дать самый резкий отпор этому целенаправленному вызову со стороны военных. 25 октября принц Макс настоятельно потребовал от кайзера покончить с «двоевластием путем кадровых изменений в Верховном военном командовании» или отправить в отставку самого рейхсканцлера. Вильгельм II принял половинчатое решение. 26 октября Людендорф был отправлен в отставку, однако Гинденбург, второй глава ОХЛ, остался на посту. В тот же день рейхстаг внес изменения в конституцию 1871 г., необходимые для преобразования Германии в парламентскую монархию. 28 октября закон об изменении имперской конституции вступил в силу. Но парламентская система пока стояла на глиняных ногах. Отставка Людендорфа не прекратила двоевластия гражданского правительства и военного руководства. Приказ по армии от 24 октября был лишь прологом дальнейших попыток расстроить переговоры о перемирии, нанося тем самым смертельный удар по парламентской монархии. 29 октября, спустя день после того, как Вильгельм II подписал закон, вносивший изменение в конституцию, он по совету Гинденбурга покинул Берлин и отправился в ставку Верховного военного командования в бельгийском Спа. «Смысл этого шага не может вызывать сомнений, — полагает историк Вольфганг Зауэр. — В первый момент, возможно, это была всего лишь инстинктивная реакция, которая привела к тому, что в минуту опасности гогенцоллерновская монархия обратилась к своим военным истокам. Но одновременно этот шаг обозначал, что старая власть разрывала с таким трудом налаженные отношения с парламентом и предпринимала безрассудную попытку восстановить старую военную монархию». Еще более решительный вызов бросило гражданскому правительству военно-морское командование. Приказ о выходе флота в море, отданный 30 октября, был согласован с кайзером, но не с рейхсканцлером. Каков бы ни был результат этого шага в военном плане, хотя битва на море с английским флотом была чревата поражением, политический смысл этого поступка был однозначен: военно-морское командование стремилось ликвидировать смещение внутреннего центра власти и восстановить господствующее положение военных, на которое, как они полагали, у них имелось историческое право. Можно спорить о том, была ли парламентаризация Германии в октябре 1918 г. «революцией сверху». Поскольку парламентское большинство активно участвовало в этом повороте, не стоит видеть в изменениях конституции только лишь исполнение указаний Людендорфа. Однако столь же очевидно, что этот влиятельный деятель из среды немецких военных внес свой решающий вклад в такое развитие событий. В этом отношении изменения государственного устройства можно трактовать как противоречивый результат парламентского стремления к реформам, с одной стороны, и как инициированную ОХЛ «революцию сверху» — с другой. Попытки военного и морского командований пересмотреть результаты подобного развития начались в тот момент, когда стало ясно, что парламентаризация будет иметь значительно более серьезные последствия, чем представлялось Людендорфу в конце сентября. Деятельность по меньшей мере некоторой части военных с конца октября сводилась к попытке организации контрреволюционного переворота. Фрондеры надеялись, что с кайзером во главе они еще раз смогут изменить судьбу Германии. Если пока не удавалось выиграть войну с внешним миром, то надо было выиграть хотя бы войну гражданскую, которую они повели бы как борьбу против угрозы «большевизации» Германии{19}. Умеренные круги среди военных делали ставку на то, что правительство и парламентское большинство также считают неизбежной решительную борьбу с большевизмом, и в этом будут единодушны с ОХЛ. На заседании кабинета 5 ноября вюртембергский генерал Вильгельм Грёнер, преемник Людендорфа в ОХЛ, по своей натуре не склонный к крайним мерам, заявил, что он и Гинденбург полагают, что «самый худший враг, которому должна противостоять армия — это ослабление отчества под чуждыми влияниями, это угроза большевизма». Возражений не последовало. Социал-демократ Филипп Шейдеман, вошедший в правительство в качестве статс-секретаря без портфеля, даже подчеркнул, что он также очень хотел бы, чтобы фронт продолжал сопротивление, оставаясь боеспособным, и что большевизм кажется ему теперь большей опасностью, чем внешний враг. Но в отличие от Грёнера, Шейдеман, а вместе с ним социал-демократы, придерживались между тем мнения, что борьба с большевизмом может быть теперь успешной только в случае отречения кайзера. Вильгельм II считался главным препятствием к заключению мира не только среди рабочих. Шейдеман 31 октября на заседании военного кабинета[2] в узком кругу констатировал, что защитников кайзера уже нет ни среди буржуазии, ни среди крестьянства, но особо его поразила позиция чиновничества. «Я никогда не мог бы подумать, что эти люди смогут так легко переметнуться». Правда, председатель фракции Партии Центра Адольф Грёбер сообщил все на том же заседании о резолюции своей партии в поддержку кайзера и династии, однако его соратник по партии Карл Тримборн, являвшийся с начала октября статс-секретарем имперского бюро внутренних дел и, поскольку рейхсминистр не был назначен, руководителем этого ведомства, поддержал Шейдемана, заметив, что в обществе в высшей степени усилились голоса, требующие отречения. Внутри парламентского большинства под влиянием американской ноты от 23 октября на отречении кайзера, а также кронпринца, запятнавшего свою политическую репутацию, особенно настаивали социал-демократы и Прогрессивная народная партия. На заседании межфракционного комитета 5 ноября Эберт заявил, что единство внутри страны теперь обеспечивает уже не монархия, а демократия. По его мнению, время для добровольного ухода кайзера еще не было упущено, однако обстоятельства требовали того, чтобы монарху слегка помогли: «Пустив дело на самотек, мы пойдем навстречу гибели». Депутат от Прогрессивной народной партии Отто Вимер также высказался за добровольную отставку Вильгельма и его старшего сына. Особенно такое решение приветствовалось бы на юге Германии. Однако в Пруссии, по словам Вимера, имелся риск серьезного сопротивления, «которое возникнет тем скорее, если за ним будут стоять военные круги. Не стоит недооценивать этой возможности. Все это может повлечь за собой гражданскую войну. И мы должны сегодня избежать этого при любых обстоятельствах». Для социал-демократов выдвижение требований об отречении Вильгельма II и отказе кронпринца от престола было частью реалистической политики. Таким образом, очередная программная цель — учреждение республики — откладывалась до недалекого будущего. 5 ноября «Форвартс», центральный орган СДПГ, обосновывала разумный монархизм СДПГ трезвым взглядом на ближайшее время. СДПГ является, писала «Форвартс», в «своей основе демократической партией, которая, однако — смотри Бебеля — до сих пор никогда не придавала решающего значения тому, какую форму принимает репрезентативная власть. Не самая приятная перспектива для молодой республики — возможно тридцать лет быть вынужденной сражаться с донкихотствующими роялистами, что будет создавать бесконечные преграды на пути внутреннего развития страны». И еще 6 ноября Эберт заверил преемника Людендорфа в том, что он, как и Шейдеман, является убежденным республиканцем, «однако вопрос: монархия или республика — имеет для них пока только теоретическое значение. На практике они могли бы удовлетвориться и монархией с парламентской системой. Поэтому он настоятельно советовал генералу Грёнеру использовать последнюю возможность для спасения монархии и незамедлительно предпринять шаги для наделения одного из принцев регентскими полномочиями»{20}. Пока в Берлине все еще спорили об отречении кайзера и спасении монархии, революция давно была в полном разгаре. С 29 октября в военно-морском флоте участились случаи уклонения от службы. Все больше матросов отказывались рисковать своей жизнью во имя дела, которое теперь воспринималось как удар по миротворческим усилиям парламентского большинства. Во флоте, который практически не принимал участия в военных действиях после Ютландской битвы в мае 1916 г., первые мятежи начались уже летом 1917 г. Совместная жизнь в ограниченном пространстве, монотонность службы, вызывающие недовольство различия жизненных условий матросов и офицеров формировали климат фрустрации и агрессивности. «На флоте дела очень плохи, поскольку люди частично на службе вот уже семь лет и живут на кораблях как в преисподней», — оценил ситуацию Шейдеман 4 ноября на заседании военного кабинета. Подготовка к выходу флота в море стала искрой, приведшей к взрыву всего накопленного недовольства{21}. Первого ноября восстание перекинулось с кораблей на сушу, в Киль. Попытка правительства принца Макса локализовать движение с помощью двух посланников, статс-секретаря Конрада Хаусмана от Прогрессивной народной партии и референта по делам флота социал-демократической фракции рейхстага Густава Носке, провалилась. Носке, который 7 ноября дал свое согласие на избрание губернатором Киля, удалось в определенной степени стабилизировать ситуацию в городе. Однако распространения мятежа он предотвратить не мог. Если 4 ноября в руках восставших матросов был только Киль, то два дня спустя они захватили власть еще в пяти городах — Любеке, Брунсбюттеле, Гамбурге, Бремене и Куксхафене. 7 ноября в Брауншвейге к большому числу прибывших из Киля матросов присоединились местные пехотные полки и взяли город под свой контроль. В тот же день 200 кильских матросов добрались до Кёльна, где 8 ноября был создан Совет рабочих и солдатских депутатов, которому подчеркнуто готовый к сотрудничеству обер-бургомистр Кёльна Конрад Аденауэр сразу же предоставил в ратуше помещение для работы. К этому времени уже была свергнута первая немецкая династия — Виттельсбахи. Бавария, где ненависть к Пруссии и прусскому милитаризму была наиболее сильна, первой из немецких земель перешла от монархии к республике. Днем 7 ноября после совместной демонстрации обеих социал-демократических партий тысячи солдат и горожан, во главе с видным членом баварской НСДПГ Куртом Эйснером и руководителем радикального крыла Баварского крестьянского союза Людвигом Гандорфером, направились к казармам на западе и северо-западе Мюнхена. Расквартированные там солдаты присоединились к процессии и вместе с ней участвовали в захвате многочисленных общественных зданий. В пивном зале «Матезер» был образован солдатский и под руководством Эйснера рабочий совет. Королевская семья по предложению министра внутренних дел покинула баварскую столицу. Поздним вечером Эйснер открыл в ландтаге учредительное заседание баварского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравших его президентом. В обращении к населению, появившемся утром следующего дня, Эйснер объявил Баварию республикой, сообщил о выборах Конституционного национального собрания и провозгласил окончание братоубийственной войны между двумя социалистическими партиями{22}. «Физиономия революции начала вырисовываться, — записал в своем дневнике 7 ноября либеральный дипломат граф Гарри Кесслер. — Постепенный захват: ее власть с помощью восставших матросов расползается от побережья как масляное пятно. Они изолировали Берлин, который скоро станет островом. Все совсем не так, как это было во Франции, здесь революция движется из провинции в столицу, с моря на сушу — стратегия викингов». Спустя сутки в сводке прусского военного министерства события описывались следующим образом: «9 утра: сильные беспорядки в Магдебурге, час пополудни: в расположении исполняющего обязанности командующего 7 армейским корпусом грозят разразиться беспорядки. 5 часов пополудни: ГалленЛейпциг стали красными. Вечер: Дюссельдорф, Гальтерн, Оснабрюк, Люнебург — красные; Магдебург, Штутгарт, Ольденбург, Брауншвейг, Кельн — красные. 7 часов пополудни: исполняющий обязанности командующего 18 армейским корпусом во Франкфурте на Майне смещен с должности»{23}. С вечера 7 ноября на столе у военного кабинета в Берлине лежал ультиматум социал-демократов. Правление СДПГ и ее фракция в рейхстаге требовали, во-первых, снятия запрета на собрания НСДПГ, который ввел главнокомандующий в Бранденбургской марке и губернатор Берлина генерал фон Линзинген. Во-вторых, они требовали максимальной лояльности со стороны полиции и военных, в-третьих, переустройства прусского правительства в духе парламентского большинства, в-четвертых, усиления социал-демократического влияния в правительстве рейха и, в-пятых, отречения кайзера и отказа кронпринца от престола. Принц Макс Баденский расценил ультиматум как расторжение «пакта», заключенного, как он полагал, утром того же дня с Фридрихом Эбертом. На вопрос о том, будет ли он сражаться на стороне принца против социальной революции, Эберт, по крайней мере по словам канцлера, ответил, что если кайзер не отречется, то социальная революция неизбежна: «Однако я не хочу этого, так как я ненавижу революцию как смертный грех». Конечно же, вечером 7 ноября Эберт думал также, как и утром. Однако становилось все очевиднее, что дальше не будет возможности придерживаться старой социал-демократической позиции, делавшей различие между монархией и монархом. Восстание масс погребло под собой подобную изощренную тактику и вынудило СДПГ выступать более радикально. Принц Макс Баденский поначалу хотел ответить на социал-демократический ультиматум своей собственной отставкой, однако его еще раз удалось удержать от этого шага: вечером 7 ноября Шейдеман выступил с заверениями в военном кабинете, что социал-демократы не пойдут на разрыв до подписания перемирия. Буржуазные партии были раздосадованы таким образом действий СДПГ, однако быстро смирились с неизбежностью. Центр и Прогрессивная народная партия со своей стороны теперь также требовали отречения императора, и даже национал-либералы дали понять, что приветствовали бы подобный шаг с его стороны. Ключевую роль СДПГ подчеркнул не названный по имени ведущий депутат Прогрессивной народной партии, заявивший в «Берлинер Цайтунг ам Миттаг»: «Сейчас Германией невозможно управлять без социал-демократов. Они абсолютно необходимы для образования большинства, иначе революция пойдет не упорядоченным и мирным путем, а по пути большевизма со всеми ужасами гражданской войны». Вечером 8 ноября Вильгельм II все еще оставался кайзером Германии и королем Пруссии. Тем не менее социал-демократы теперь уже публично заявили о том, что Шейдеман признал в военном кабинете еще днем ранее: «Партия не желает пока выходить из правительства до заключения перемирия». (На перемирие можно было рассчитывать лишь через несколько дней, так как немецкие переговорщики покинули Берлин 6 ноября и пока еще не достигли штаб-квартиры союзных войск.) Продлевая срок действия своего ультиматума, СДПГ могла сослаться на определенные успехи, достигнутые ею в результате переговоров с правительством и партиями большинства: имперским законом вводилось всеобщее равное избирательное право для Пруссии и всех немецких земель на основе пропорциональных выборов; гарантировалась немедленная парламентаризация Пруссии, так же как и усиление социал-демократического влияния в имперском правительстве. Кроме того, был отменен недавний призыв в армию, вызвавший общественное возмущение{24}. Когда утром 9 ноября 1918 г. газета «Форвартс» вышла с этими заявлениями правления партии и фракции СДПГ в рейхстаге, революция уже достигла столицы. Население возмутил арест 8 ноября одного из руководителей движения «революционных старост» Эрнста Доймига, а также введение по приказу главнокомандующего в Бранденбургской марке постов безопасности на крупных предприятиях. Вечером 8 ноября через своих доверенных лиц руководство СДПГ узнало о том, что и берлинские рабочие готовы теперь выйти на улицы. Вслед за этим в 9 часов утра следующего дня секретарь берлинского отделения партии Отто Веле объявил от имени СДПГ всеобщую забастовку и призвал рабочих к «решительному бою под старыми общими знаменами». Спустя час Шейдеман объявил о своей отставке с поста статс-секретаря. В это же время на свое заседание собралась социал-демократическая фракция рейхстага. Эберт сообщил, что уже состоялись переговоры с независимыми социал-демократами и представителями рабочих. СДПГ собиралась в ходе акции действовать совместно с рабочими и солдатами: «Социал-демократия должна захватить правительство, целиком и полностью, также как в Мюнхене, однако по возможности без кровопролития». Непосредственно после заседания фракции планировалось провести переговоры с представителями солдат и рабочих, а затем потребовать у правительства «передать нам власть». В случае отказа акция должна была быть продолжена. После обмена мнениями, в котором приняли участие практически все присутствовавшие представители рабочих, социал-демократическая фракция рейхстага целиком согласилась с предложениями правления партии. В отличие от социал-демократов большинства независимые социал-демократы 9 ноября были способны лишь на ограниченные действия: их председатель Гуго Гаазе находился в Киле, а без него партия не решалась на какие-либо действия в противовес партии большинства. «Революционные старосты», находившиеся на левом фланге НСДПГ, запланировали крупную рабочую акцию только на 11 ноября, хотя Карл Либкнехт настаивал на более раннем сроке. Таким образом, социал-демократы большинства утром 9 ноября получили возможность заполнить организационный и стратегический вакуум, и они воспользовались этим шансом. Двойной удачей стала для СДПГ ситуация в войсках. За исключением трех батальонов егерей, 9 ноября в Берлине не было никаких регулярных частей, а Наумбургские егеря — батальон, всего за несколько дней до описываемых событий переведенный в столицу и считавшийся особенно верным кайзеру, — сами предложили, чтобы кто-нибудь из правления социал-демократической партии разъяснил им сложившееся положение. Это пожелание с большим успехом выполнил Отто Веле. Его призыв к солдатам выступить на стороне народа и социал-демократической партии был принят с воодушевлением. Новость о том, что Наумбургские егеря перешли на сторону восставших, убедила принца Макса в невозможности сохранить правительство. В Спа это известие также возымело свое действие. Около 11 часов утра канцлеру сообщили по телефону, что кайзер решил отречься. Когда через полчаса официального заявления Вильгельма II так и не последовало, канцлер сообщил о намерении кайзера и короля отречься от престола посредством телеграфного агентства Вольфа. Одновременно канцлер сообщил, что будет оставаться на своем посту столь долго, пока не прояснятся вопросы, связанные с отречением кайзера, отказом кронпринца от престолонаследования и введением регентства. Он заявил, что намерен предложить регенту назначить депутата Эберта рейхсканцлером, а также представить проект закона о немедленных всеобщих выборах в конституционное национальное собрание, которое затем окончательно установит государственную форму правления для немецкого народа. Однако для попытки спасти монархию'с помощью регентства было уже слишком поздно. Около 12 часов 35 минут у принца Макса и собравшихся вокруг него статс-секретарей появилась делегация СДПГ, возглавляемая Эбертом, потребовавшая, на основании утреннего решения фракции, передачи власти. Этот шаг, как заявил Эберт, был необходим, чтобы сохранить покой и порядок и избежать кровопролития. Независимые социал-демократы поддерживали в этом вопросе СДПГ большинства и заявили о том, что они, возможно, также войдут в новое правительство. Против включения в правительство представителей буржуазных партий не было никаких возражений, пока перевес социал-демократии был гарантирован. На замечание канцлера о том, что еще необходимо урегулировать вопрос регентства, председатель СДПГ ответил, что теперь для этого уже слишком поздно. Вслед за этим принц Макс выступил с предложением, согласно которому Эберту надлежало занять пост рейхсканцлера. Согласно записям принца Макса, Эберт, немного подумав, ответил: «Это тяжелая обязанность, но я возьму ее на себя». Помимо поста рейхсканцлера социал-демократы хотели сами назначить преемников прусского военного министра и главнокомандующего Бранденбургской марки, которому Берлин был подчинен в военном отношении. Но когда присутствовавший на переговорах военный министр Пруссии Шойх, указав на необходимость обеспечения снабжения полевых войск и продолжающиеся переговоры о перемирии, заявил, что остается на посту, Эберт выразил свое согласие. Шойх со своей стороны согласился с тем, чтобы ему, по предложению Шейдемана, был назначен в качестве комиссара помощник статс-секретаря из числа социал-демократов. Их представитель также должен был быть прикомандирован к генералу, которого Шойх предполагал назначить на пост главнокомандующего Бранденбургской марки. Без подписи этого социал-демократа не мог быть отдан ни один приказ. Шейдеман охарактеризовал такой вариант приемлемым. Так же как и Шойх, о своей готовности остаться на посту заявил статс-секретарь министерства иностранных дел Зольф. После краткого внутреннего совещания между канцлером и статс-секретарями последовала процедура, которую Эберт в своем первом обращении к немецкому народу описал следующим образом: «Бывший рейхсканцлер принц Макс фон Баденский передал мне с согласия всех статс-секретарей отправление обязанностей рейхсканцлера». Политика, которую социал-демократы проводили 9 ноября, полностью отвечала лозунгу, выдвинутому Шейдеманом еще за три дня до этого: «Сегодня необходимо возглавить это движение, иначе в империи разразится анархия». На самом деле СДПГ, конечно же, не превратилась за одну ночь из правительственной партии, какой она была с начала октября, в партию революционного движения. Напротив, она продолжала оставаться в большей степени силой порядка. Для СДПГ речь все еще шла об «руководящей идее», приверженность которой Эберт выразил 5 ноября на заседании межфракционного комитета: «Как нам сохранить рейх и порядок в экономике?» Ради достижения этой цели социал-демократы сделали все возможное, как заверял два дня спустя членов военного кабинета Шейдеман, «чтобы не дать массам уклониться в сторону». 9 ноября, однако, терпение масс было окончательно исчерпано. Теперь оставалось лишь направить движение рабочих и солдат в то русло, которое не шло бы в разрез с главной идеей Эберта. После того как социал-демократам не удалось предотвратить революцию, им оставалось только обуздать ее и постараться, чтобы она, подобно русской революции, не захлебнулась в хаосе и гражданской войне. Этот руководящий принцип определял действия Эберта и других ведущих социал-демократов как 9 ноября 1918 г., так и в дальнейшем{25}.Глава II Обузданная революция
Когда Филипп Шейдеман днем 9 ноября 1918 г. провозгласил с балкона рейхстага «Германскую республику», он не был уполномочен на это Фридрихом Эбертом. Только что назначенный «рейхсканцлер» предпочел бы передать вопрос выбора между республикой и монархией конституционному Национальному собранию. Однако Шейдеман был твердо уверен в том, что те капли монархического мира, которыми принц Макс Баденский «помазал» партийного лидера социал-демократов, могли впечатлить разве что военных и высший слой чиновничества, но никак не широкие народные массы. Революционно настроенные солдаты и рабочие ожидали от вождей социал-демократии демонстративного разрыва с ненавистным «прусским милитаризмом». Провозглашение республики стало для них сигналом к действию. Эффект был настолько сильным, что даже Карл Либкнехт не смог его ослабить, провозгласив с балкона Берлинского замка, через два часа после Шейдемана, «свободную социалистическую республику Германия»{26}. Своим отъездом в Спа, воспринятым большинством как побег, Вильгельм II нанес тяжелый, даже смертельный удар по монархическим чувствам немцев. За пределами Пруссии мало кто испытывал преданность последнему Гогенцоллерну, и даже в старопрусских областях лишь консервативное меньшинство воцерковленных лютеран продолжали хранить верность своему сюзерену, несмотря на его падение. В остальных немецких землях расставание с монархией также давалось верующим протестантам труднее, чем католикам, поскольку бывший государь одновременно являлся «зиттиэ ер1зсори5» — главой евангелической церкви. Однако поначалу еще остававшиеся поборники монархии, как лютеране, так и католики, были ошарашены. Военное поражение Германии ранило их сильнее, чем провозглашение республики, а отречение династии не оставляло им другого выбора, как смириться с новым государственным строем до лучших времен{27}. Для огромного большинства немцев надежды на справедливый мир и внутриполитическое обновление были связаны с республикой. Слова Шейдемана — «Вся эта старинная прогнившая рухлядь рассыпалась в прах, милитаризм повержен!» — адекватно отражали ощущения 9 ноября. Князья и генералы проиграли по всем статьям, они отвечали за разочарования и лишения проигранной войны, они воплощали собой общество, разделенное на тех, кто «сверху», и тех, кто «снизу», и давно уже трещавшее по швам. Очевидно было, что наконец пришло время перестать повиноваться прежним властителям и сделать народ хозяином собственной судьбы. И чем бы на самом деле ни была демократия, она постепенно брала верх над авторитарным государством, и, что в данном случае было самое важное, она могла послужить мостом к демократическим нациям Запада, с которыми теперь предстояло вести переговоры об условиях мира. Все, что было справедливо для страны, было справедливо также для фронта и тыла: монархия и здесь лишилась своих активных сторонников. Офицеры, планировавшие 9 ноября возвращение на родину во главе с кайзером для усмирения революции, или, как они говорили, для усмирения «большевизма», были в безнадежном меньшинстве. Подавляющее большинство поддерживало Грёнера, сумевшего убедить Гинденбурга, что план «выступления против отечества» означает не только начало гражданской войны, но и продолжение войны с Антантой, а следовательно, является абсолютно бесперспективным. Грёнер был также тем, кто утром 9 ноября сказал правду, глядя в лицо Вильгельму II: «Войска вернутся на родину в спокойствии и порядке под руководством своих командиров и генералов, но не по приказу Вашего Величества, поскольку они больше не поддерживают Ваше Величество!» В своем неприятии гражданской войны Грёнер был един с Эбертом, который во время своего «рейхсканцлерства» заверял чиновников и все учреждения, что новое правительство взяло на себя ведение дел, «чтобы защитить немецкий народ от гражданской войны и голода, и чтобы добиться выполнения его справедливых притязаний на самоопределение». Обращение Эберта к чиновникам с призывом оставаться на занимаемых ими должностях убедительно свидетельствовало о его главном приоритете в ситуации распада старого государственного устройства и военного поражения: «Сбой системы порядка и организации в эти тяжелые часы превратит Германию в жертву анархии и ужаснейших бедствий». Таким образом, для Эберта было важно прежде всего сохранить рабочий режим публичных учреждений, или, говоря словами предшественника Эберта на посту рейхсканцлера, принца Макса фон Баденского, «при любых обстоятельствах предотвратить распад правительственной машины» и «спасти ту часть законности и преемственности, которую еще можно спасти»{28}. Объединенные общей задачей предотвратить хаос и гражданскую войну, социал-демократические лидеры и трезвомыслящие представители старой военной и гражданской власти в целом пришли к консенсусу. Однако решить эту задачу можно было, лишь защитив сотрудничество новых властителей и старой элиты от угрозы слева. Массовой поддержки, которой располагали социал-демократы большинства, было явно недостаточно, чтобы избежать схода с рельсов паровоза революции, как это, по мнению СДПГ, произошло годом ранее в России. Было совершенно не ясно, поможет ли воспрепятствовать такой возможности даже пакт с НСДПГ. Ясно было только то, что у попытки договориться с НСДПГ не было никакой разумной альтернативы. На поддержку со стороны профсоюзов новое правительство могло надеяться лишь в том случае, если оно продемонстрирует свою готовность прекратить борьбу между двумя течениями социал — демократии. Противоречие между оппозиционными и «правительственными» социалистами в последние месяцы войны только усиливалось и стало тем временем причинять вред уже чисто человеческим отношениям: депутаты от независимых даже прекратили здороваться с членами правления социал-демократической партии. Однако 9 ноября 1918 г. стало не до личных обид. После того как ранним утром, еще до решающего заседания социал-демократической фракции рейхстага, влиятельные представители обеих партий провели первые переговоры о создании общего правительства, Эберт после полудня предложил независимым «создать кабинет, состоящий в равных долях из представителей большинства и независимых, в котором члены буржуазных партий могли бы оказывать содействие социал-демократам в качестве отраслевых министров». Это означало участие в правительстве буржуазных партий парламентского большинства, однако не могло быть и речи об их равноправии с обеими социал-демократическими партиями, которым предназначалась руководящая политическая роль в государстве и которые со своей стороны должны были отправлять власть на паритетных началах{29}. Партия социал-демократии большинства не выставляла никаких персональных условий, Эберт не собирался препятствовать вхождению в кабинет даже Карла Либкнехта. У независимых, напротив, обнаружились сильные предубеждения против трех политиков — кандидатов в правительство от партии большинства: Эберта, Шейдемана и депутата рейхстага Отто Ландсберга. Из важных условий, которые выдвигали независимые в связи со своим вхождением в правительство, для партии большинства было неприемлемо в первую очередь только одно: Либкнехт и «революционные старосты» требовали, чтобы вся исполнительная, законодательная и судебная власть была сосредоточена исключительно в руках уполномоченных, избранных от всего трудящегося населения и солдат. На это СДПГ ответила заявлением, которое может рассматриваться как ее политическое кредо: «Если под этим требованием подразумевается диктатура части одного класса, за которой не стоит народное большинство, то мы вынуждены отклонить такое требование, поскольку оно противоречит нашим демократическим принципам». Столь же однозначно отреагировала партия большинства на требования независимых о неучастии в правительстве представителей буржуазии в качестве отраслевых министров. СДПГ отклонила это унизительное требование, указав на то, что в противном случае могут возникнуть существенные, если не катастрофические, проблемы спродовольственным обеспечением населения. Согласие было достигнуто только в середине дня 10 ноября, после возвращения из Киля председателя НСДПГ Гуго Гаазе. Под его сдерживающим влиянием независимые отозвали условия, неприемлемые для социал-демократов большинства. Они согласились с тем, что представители буржуазных партий могут получить ряд министерств, при условии, что те станут лишь техническими сотрудниками чисто социалистического кабинета, и к каждому из них в качестве контролера будет приставлено по представителю от обеих социал-демократических партий. Что касается вопроса о конституционном собрании, созыва которого требовали социал-демократы большинства, НСДПГ собиралась принять решение позже, после «стабилизации созданных революцией обстоятельств». Наиболее проблемным для СДПГ был следующий пункт требований независимых: «Политическая власть передается в руки советов рабочих и солдатских депутатов, которые следует как можно скорее созвать со всей страны на всеобщий съезд». Несмотря на радикальность тезиса и его «русское» звучание, социал-демократы большинства могли надеяться, что получат большинство на всегерманском съезде советов, и смогут, таким образом, по крайней мере удерживать в жестких рамках конфликты между правительством и временным эрзацем парламента. Решающее значение имело то, что независимые, в принципе, не отвергали идею конституанты и уже не требовали ничего, что сводилось бы исключительно к «диктатуре пролетариата». В результате руководители СДПГ посчитали оправданным и необходимым пойти навстречу смягченным требованиям НСДПГ. Еще до того как было формально провозглашено создание нового кабинета, так называемого «Совета народных уполномоченных», членам правительства от НСДПГ уже пришлось принять свое первое политическое решение. Они согласились на условия перемирия, предложенные Антантой, обсуждавшиеся 10 ноября в 12 часов на общем заседании, на котором присутствовали трое вошедших в правительство социал-демократов и статс-секретари прежнего правительства. На следующий день германская делегация во главе с Матиасом Эрцбергером подписала перемирие в Компьенском лесу. Первая мировая война закончилась в 11 часов утра 11 ноября 1918 г. «Совет народных уполномоченных» (предложенный независимыми термин «народные комиссары», заимствованный у большевиков, был онемечен по предложению Ландсберга) состоял из шести членов. От партии социал-демократов большинства в него вошли Фридрих Эберт (родился в 1871 г. в Гейдельберге, квалифицированный шорник, с 1893 г. редактор бременской партийной газеты, а с 1913 г. — преемник Августа Бебеля на посту председателя СДПГ), председатель фракции в рейхстаге Филипп Шейдеман (родился в 1865 г. в Касселе, по профессии печатник, затем редактор) и адвокат Отто Ландсберг (родился в 1869 г. в верхнесилезском Рыбнике, депутат рейхстага с 1912 г.). НСДПГ представляли Гуго Гаазе, адвокат из Кенигсберга (родился в 1863 г. в Восточной Пруссии, в Алленштейне, с 1911 г. сопредседатель СДПГ вместе с Бебелем, затем, с 1913 по 1916 г., — вместе с Эбертом), Вильгельм Диттман из Ойтина (родился в 1874 г., столяр, позже секретарь партии, после берлинской стачки металлистов в январе 1918 г. приговорен к 5 годам заключения) и, наконец, в качестве доверенного лица «революционных старост», Эмиль Барт (родился в 1879 г. в Гейдельберге, по профессии рабочий-металлист). Двое из народных уполномоченных, Гаазе и Ландсберг, происходили из еврейских семей. Все народные уполномоченные, кроме Гаазе, иудея по вероисповеданию, считали себя диссидентами, т. е. не принадлежали ни к одной религиозной конфессии. Эберт и Гаазе были номинально равноправными председателями Совета народных уполномоченных, однако реальное руководство с самого начала было сосредоточено в руках Эберта. Политические решения 9 и 10 ноября принимались руководством обеих социал-демократических партий. «Революционные старосты», левый авангард металлистов столицы, поначалу были совершенно деморализованы происходившими событиями. Только в ночь на 10 ноября двум лидерам «старост», Эмилю Барту и Рихарду Мюллеру, на собрании спонтанно созданных берлинских солдатских советов удалось провести решение, согласно которому на следующий день на всех фабриках и во всех казармах столицы назначались выборы в новые советы солдатских и рабочих депутатов, которые 10 ноября в 17.00 должны были провести общее собрание в цирке Буша и избрать там временное правительство. За столь короткое время было невозможно провести выборы надлежащим образом, к тому же 10 ноября пришлось на воскресенье. И снова это был Отто Веле, кто своими решительными действиями обеспечил партии фору. Он распорядился напечатать листовки, призывавшие берлинских солдат принять участие в выборах солдатских советов. После этого Велсу удалось убедить 148 избранных солдатских представителей поддержать политическую линию социал-демократов большинства, что прежде всего означило формирование правительства на паритетной основе. Газета «Форвартс» обратилась к берлинским рабочим 10 ноября с лозунгом, выражавшим общее настроение. Заголовок партийного органа СДПГ гласил: «Недопустим братоубийственной борьбы!» В цирке Буша, где собралось около 3000 солдатских и рабочих депутатов, радикалы не обладали большинством. Собравшиеся поддержали Эберта, объявившего о создании Совета народных уполномоченных. Напротив, выступление Либкнехта, содержавшее острые выпады в сторону Эберта, вызвало сильные протесты, особенно со стороны солдат, которые пришли на собрание по призыву Велса. Скандал разразился, когда Барт призвал избрать Комитет действия и предложил список его членов, составленный «революционными старостами». Эберт заявил, что такой комитет будет излишним, а если его все же изберут, то его состав должен формироваться только на паритетных основаниях, как и правительство. Когда вслед за этим сторонники Союза «Спартак» выступили с личными угрозами в адрес Эберта, последний покинул собрание, а затем заручился в рейхсканцелярии поддержкой прусского военного министра Шойха, пообещавшего при необходимости защитить новое правительство. Серьезная угроза для свежеиспеченного Совета народных уполномоченных возникла, когда Гаазе, взбешенный атакой радикалов, сообщил в цирке Буша, что не может в сложившихся обстоятельствах войти в правительство. Чтобы заставить отступить «революционных старост», солдатские представители предъявили им ультиматум, угрожая, что в случае если паритетный принцип не будет соблюден, они сами создадут правительство. Подавляющим большинством собрание избрало, наконец, Комитет действия Совета рабочих депутатов, состоявший из 14 членов: по семь представителей от социал-демократии большинства и от независимых. Большинство членов Комитета действия Совета солдатских депутатов, также состоявшего из 14 человек, были беспартийными. Оба комитета вместе образовали «Исполнительный совет рабочих и солдатских советов Большого Берлина», который конституировался на следующий день под председательством Рихарда Мюллера из числа «революционных старост». В свою очередь, по предложению Мюллера, Совет народных уполномоченных был утвержден Исполнительным советом в составе, согласованном вскоре после полудня. По окончании собрания в цирке Буша обе социал-демократические партии еще раз недвусмысленно подтвердили все предварительные договоренности, достигнутые ими несколькими часами ранее. Руководители социал-демократов большинства вечером 10 ноября имели все основания быть удовлетворены ходом дел. Все говорило в пользу того, что в спорных случаях правительство сможет одержать верх над Исполнительным советом рабочих и солдатских советов Большого Берлина, который до созыва всегерманского съезда советов стремился контролировать народных уполномоченных. Поскольку рабочие и солдатские советы не только в Берлине, но и в других частях страны в основном выступали в поддержку правительства народных уполномоченных и действовали в русле политической линии социал-демократов большинства, то развитие двоевластия в Германии по русскому образцу 1917 г., где радикальные советы противостояли Временному правительству, выглядело совершенно невероятным. Немецкие советы рабочих и солдатских депутатов образца 1918 г. в отличие от русских сами не стремились к власти и в большинстве своем хотели лишь получить контроль над старыми органами власти на переходное время, до выборов легитимных демократических народных представительств. Так, во всяком случае, было не только в тех местных советах, где перевес имела СДПГ, но и в тех, где большинство принадлежало умеренному крылу НСДПГ. Германские рабочие и солдатские советы 1918 г. сами рассматривали свое образование по большей части как временную меру, а не как модель будущей «чистой» демократии{30}. Важнейшей опорой власти социал-демократов большинства в критические часы 9 и 10 ноября была поддержка, которой они заручились у революционных солдат. Тот факт, что поддержку Эберту 10 ноября также выразил прусский военный министр Шойх, оставленный на своей должности в качестве «министра-профессионала», имел, скорее, символическое значение. То же самое можно сказать и о предложении генерал-квартирмейстера Грёнера о создании антибольшевистского «союза», якобы прозвучавшем вечером того же дня в его окутанном легендами телефонном разговоре с Эбертом. Последнему была необходима помощь Верховного военного командования в деле возвращения войск домой. Однако «союз» для борьбы с большевизмом Грёнер и Эберт не могли, заключить уже потому, что к 10 ноября 1918 г. ОХЛ совершенно не располагало требуемым военным потенциалом. Решающее значение имела, без сомнения, позиция солдатских советов, которые в ноябре 1918 г. были намного более склонны прислушиваться к Эберту и Велсу, чем к Грёнеру и Гинденбургу{31}. Мастерство, с которым социал-демократы большинства 9 ноября привлекли на свою сторону солдат, сыграло большую роль в предотвращении кровопролития. Уже в полдень того же дня главнокомандующий Бранденбургской марки отдал приказ войскам не применять оружие. Немного позже берлинская полиция, которую считали особенно преданной кайзеру, также получила от своего президента фон Оппена приказ «не стрелять». Свой пост Оппен предал независимому социал-демократу Эмилю Эйхгорну. Днем 9 ноября еще шли бои в районе Марсталь и университета, где в демонстрантов стреляли несколько офицеров, укрывшихся в укреплениях. Потери революционных рабочих и солдат в день свержения старой власти составили пятнадцать человек убитыми{32}. Небольшое число жертв показывает, сколь мала была поддержка кайзеровской Германии даже среди ее, казалось бы, самых надежных защитников. Через день после отречения кайзера и провозглашения республики в Берлине, казалось, возобновилась нормальная жизнь. В воскресенье 10 ноября, как записал в своем дневнике Эрнст Трельч, граждане как обычно отправились гулять в Грюневальд: «Никаких элегантных туалетов, одни лишь мещане, некоторые одеты нарочито просто. Все слегка приглушено, как у людей, судьба которых решается где-то там далеко, однако они спокойны и довольны тем, что все так хорошо вышло. Трамваи и поезда метро ходят как обычно: залог того, что все касающееся непосредственных жизненных потребностей обстоит в порядке. На всех лицах написано: зарплаты будут выплачиваться как и раньше»{33}. Для народных уполномоченных рутина правительственной работы началась 11 ноября 1918 г. Позже, выступая на заседании конституционного Национального собрания в Веймаре 6 февраля 1919 г., Фридрих Эберт, оглядываясь назад, описал обстоятельства, с которыми столкнулись социал-демократы большинства при выполнении своей задачи: «Мы были в прямом смысле слова конкурсными управляющими старого режима: все склады были пусты, все запасы иссякли, все кредиты просрочены, моральные принципы повержены. При поддержке Центрального совета рабочих и солдатских депутатов мы задействовали все свои лучшие силы, чтобы побороть опасности и нужду переходного времени. Мы не предвосхищали Национальное собрание. Однако в ситуации острой нужды и нехватки времени мы обязаны были приложить все усилия, чтобы выполнить неотложные требования рабочих. Мы сделали все, чтобы вновь оживить экономическую жизнь… Если достигнутый результат не отвечал нашим желаниям, то следует справедливо оценить обстоятельства, которые этому препятствовали»{34}. Таким образом, правящие социал-демократы ощущали себя не отцами-основателями демократии, а всего лишь конкурсными управляющими кайзеровской Германии в течение десяти недель между свержением монархии и выборами Национального собрания. Будучи демократами, они полагали, что не имеют права на коренные изменения государственных основ без мандата доверия немецкого народа. Время бедствий между войной и миром ни в коей мере не казалось им подходящим для претворения в жизнь социализма. Не желая нанести вред идее социализма опрометчивыми экспериментами, они считали необходимым сначала справиться с насущными потребностями момента, а это значило прежде всего возрождение экономики и сохранение единства рейха. Однако и в достижении этих целей можно было добиться успеха, по мнению социал-демократов большинства, лишь в том случае, когда правительство будет иметь возможность опираться на неоспоримый мандат доверия народа. Таким образом, все говорило за то, чтобы по возможности ограничить период нахождения у власти революционного временного правительства и как можно скорее, примерно в январе 1919 г., провести выборы в конституционное Национальное собрание. Среди народных уполномоченных, представлявших независимых социал-демократов, умеренные, Гаазе и Диттман, выступали за существенно более поздний срок выборов — апрель или май следующего года. Формально такое решение обосновывалось тем, что весной 1919 г. в выборах смогли бы принять участие солдаты, пока еще находившиеся на Восточном фронте, и военнопленные. Более глубокие причины, заставлявшие правое крыло независимых оспаривать сроки выборов, предложенные социал-демократами большинства, изложил 18 ноября в партийной газете «Фрайхайт» Рудольф Гильфердинг, один из ведущих теоретиков НСДПГ. Переходное правительство, по его мнению, должно было со всей энергией начать «вершить дела, которые убедили бы пролетариат в том, что теперь уже не может быть движения вспять, но только вперед. Демократия должна укорениться настолько, чтобы реакция была невозможной, а управление страной не должно служить ареной контрреволюционных устремлений. Но прежде всего нужно доказать, что мы не только демократы, но и социалисты. Сегодня есть шанс без затруднений осуществить ряд важных социалистических переходных мер, и они должны быть проведены, с тем чтобы и здесь была созданы оборонительные рубежи, которые были бы не по зубам любому капиталистическому контрнаступлению». Следовательно, взгляды Гильфердинга можно интерпретировать следующим образом: демократия требовала превентивного решительного вмешательства в политику и экономику, которое следовало предпринять, опираясь на революционное право, поскольку невозможно было с уверенностью рассчитывать на то, что на выборах в национальное собрание большинство выступит за необходимые социалистические преобразования. Близкий политический соратник Гильфердинга, Карл Каутский, напротив, не считал, что для создания социального базиса демократии следует перенести выборы на более поздний срок. Наоборот, их затягивание, по его мнению, могло даже ослабить привлекательность социализма. Со стороны левого крыла партии сопротивление позиции умеренных было гораздо резче. «Революционные старосты» вообще не желали слышать ни о какой конституанте, где, по их мнению, буржуазия обязательно должна была получить политический перевес. Они выступали за единоличное господство советов, и следовательно, рабочего класса. Еще более однозначно за «диктатуру пролетариата» ратовала группа «Спартака»{35}. До сих пор ведутся жаркие дискуссии о том, была ли свобода действий народных уполномоченных на самом деле настолько ограниченной, как утверждали Эберт и его соратники. Очевидно, что политика в духе левых радикалов спровоцировала бы военную интервенцию союзников. Между социал-демократами большинства и «старыми элитами», с одной стороны, и американцами и англичанами — с другой, установился определенный антибольшевистский консенсус, выразившийся, в частности, в том, что, согласно соглашению о перемирии, немецкие войска с одобрения союзников продолжали оставаться в Прибалтике, за которую шла борьба, с целью предотвратить там переход власти к большевикам. Французы выступали с особой позицией, поскольку определенная доля «хаоса» в империи казалась им подходящим аргументом для того, чтобы подкрепить свои притязания на немецкие территории по левому берегу Рейна. Однако ничто не говорит в пользу того, что демократизация военной сферы и бюрократии или национализация некоторых ключевых промышленных производств в Германии, т. е. политика умеренных независимых, привела бы к враждебной активизации союзников{36}. Напротив, весьма вероятно, что в случае, если бы Совет народных уполномоченных сознательно стал затягивать выборы в Национальное собрание, дело могло бы дойти до опасной поляризации внутриполитической ситуации. Впрочем, более поздняя дата выборов совершенно не требовалась для того, чтобы использовать время до их проведения для общественно-политических реформ. Противники демократии по-прежнему располагали сильными позициями во власти, и вполне уместным было полагать, что они лишь ждут подходящего повода для их расширения. Следовательно, умеренные независимые социал-демократы имели серьезные причины для того, чтобы сформулировать две основные задачи Совета народных уполномоченных: решение неотложных насущных проблем и заботливое укрепление будущей демократии{37}. Разногласия по поводу срока выборов мешали Совету народных уполномоченных, но не настолько, чтобы парализовать работу правительства. Представители СДПГ и умеренные независимые, как правило, всегда могли договориться о решении самых неотложных задач. Независимые также отнюдь не делали ставку на конфронтацию с буржуазными статс-секретарями, которые весьма слабо контролировались «заместителями» из обеих социал-демократических партий и могли ощущать себя настоящими руководителями ведомств. Например, статс-секретарь министерства иностранных дел Вильгельм Генрих Зольф знакомил с документами прикомандированного к нему Карла Каутского только в тех случаях, когда сам считал это целесообразным. Важные решения принимались им помимо Каутского и без участия Гаазе, формально ответственного в Совете народных уполномоченных за внешнюю политику. Так, например, они ничего не знали о тайном обращении Зольфа к странам Антанты 13 ноября, в котором тот просил страны-победительницы сделать ясное и определенное заявление о том, что в случае если верх одержат дезорганизующие радикальные силы, то они не остановятся перед военным вторжением в Германию{38}. Во главе имперского ведомства внутренних дел народные уполномоченные поставили 1 ноября леволиберального берлинского правоведа, статс-секретаря Гуго Пройсса, одновременно получившего задание составить проект имперской конституции. Тем самым с самого начала было ясно, что конституция эта будет лишена специфического социал-демократического отпечатка. В важнейшем вопросе об экономической демобилизации обе социал-демократические партии также отказались от выдвижения на ведущую роль человека из собственных рядов: статс-секретарем соответствующего нового министерства стал, как было решено еще кабинетом принца Макса, профессиональный военный, подполковник Йозеф Кёт. Обе социал-демократические партии выставили из своих рядов всего по одному статс-секретарю: «правый» социал-демократ большинства Август Мюллер занял пост главы экономического ведомства, а умеренный независимый Эммануэль Вурм — ведомства продовольствия. Среди социал-демократов обоих направлений не было достаточного количества компетентных лиц, готовых в 1918 г. занять все командные высоты в государстве и экономике, хотя бы уже потому, что в течение последних десятилетий они не имели возможности занимать какие бы то ни было публичные посты. Следовательно, народные уполномоченные были вынуждены обращаться за помощью к «буржуазным» экспертам. В том случае, когда эти эксперты приветствовали демократические реформы или были убежденными сторонниками парламентской системы, совместная работа с ними, как правило, не вызывала проблем. Сложнее складывались отношения с чиновниками высокого ранга, приверженными мировоззрению старой системы. Таким был статс-секретарь министерства иностранных дел Зольф. 13 декабря он подал свое заявление об отставке, за четыре дня до этого став причиной скандала, отказавшись пожать руку народному уполномоченному Гаазе, поскольку тот, по словам бывшего советского полпреда Иоффе, знал о финансовой помощи НСДПГ из России. На эти средства якобы финансировалась немецкая революция{39}. Однако подобного рода отставки были все же исключением. Чиновники, прокуроры и судьи оставались на своих постах даже в тех случаях, когда была широко известна их приверженность старому режиму и враждебность по отношению к демократическому строю. Королевские ландраты[3] продолжали занимать свои посты в Пруссии, как будто бы не было 9 ноября 1918 г. Если местные советы рабочих выражали недовольство нелояльным поведением ландратов, то их жалобы, как правило, отклонялись или просто игнорировались министром внутренних дел, социал-демократом большинства Вольфгангом Гейне. Даже в тех случаях, когда консервативные ландраты сами просили об отставке, Гейне настоятельно рекомендовал им оставаться на посту в интересах поддержания порядка. Прошло еще целых восемь месяцев после ноябрьской революции, прежде чем старые органы самоуправления, сформированные на основе трехклассного избирательного права, были заменены новыми. Для сохранения определенной преемственности в области гражданского управления были серьезные причины. Германия погрузилась бы в хаос, если бы революционные правительства уволили со всех постов значительное количество чиновников, судей и прокуроров. Поскольку обе рабочие партии не располагали необходимым персоналом для замещения освободившихся мест, новым властям не оставалось ничего другого, как настоятельно потребовать от прежних должностных лиц продолжать исполнять свои обязанности. Однако новые власти совсем не были заинтересованы в том, чтобы на ключевых постах оставались радикальные монархисты. Несколько показательных отставок оказали бы предупреждающее воздействие на чиновников, не спешивших с признанием республики. Впрочем, не только новая власть зависела от старой бюрократии. Однако верно было и обратное: лишение должности влекло за собой для чиновника неприятные социальные последствия. В результате вполне возможно было осуществить ограниченную демократизацию государственной службы осенью 1918 г. Но она не состоялась, поскольку правящие социал-демократы'не посчитали ее первоочередной задачей{40}. То же самое можно сказать и об отношениях социал-демократов с вооруженными силами. Уже в первую неделю своей деятельности Берлинский исполнительный совет начал разрабатывать планы создания добровольного народного ополчения. 16 ноября их обсуждали в Совете народных уполномоченных, однако конкретных решений принято не было. Лишь 6 декабря правительство приняло предложенный тремя днями ранее проект Эберта о создании добровольного народного ополчения. Оно поначалу должны было состоять из 11 000 человек, в основу его организации был положен принцип выборности командиров. Однако вместо того, чтобы самим озаботиться проведением этого закона в жизнь, народные уполномоченные подключили к этому прусское военное министерство, которое со своей стороны привлекло ОХЛ. Результат усилий этих двух ведомств едва ли мог кого-то удивить: закон остался существовать исключительно на бумаге. Халатность народных уполномоченных стала лишь одной из причин того, что в Германии, в противоположность Австрии, не было создано лояльных республиканских военных формирований. Однако была и другая причина. В отличие от Австрии рабочее движение в Германии было политически расколото. Противостояние между социал-демократами большинства и независимыми оказывало негативное воздействие на любые планы по созданию народного ополчения. Совершенно невозможно было предсказать, выступят ли добровольческие войска, сформированные из сторонников обеих социал-демократических партий, сплоченными рядами, если речь зайдет о сопротивлении путчистской акции крайне левых. 10 ноября «Форвартс» призвала рабочих не дать втянуть себя в «особую борьбу». Вооруженное столкновение со сторонниками «революционных старост» или «спартаковцами» вылилось бы в братоубийственную войну, и уже поэтому не стоило переценивать готовность социал-демократов к подобному противостоянию. Кроме того, нужно учитывать и общий антимилитаристский настрой рабочего класса: после четырех лет войны не многие были склонны к тому, чтобы даже на время вновь стать солдатом. Однако что бы там не препятствовало созданию народного ополчения, невозможно объяснить военно-политические решения народных уполномоченных только лишь желаниями или антипатией рабочих. 11 ноября революционное правительство выполнило просьбу Грёнера и отправило ОХЛ телеграмму, в которой потребовало «отдать приказ по действующей армии о том, что военная дисциплина, спокойствие и строгий порядок должны соблюдаться в войсках при любых обстоятельствах, что приказы командования должны безоговорочно выполняться до самого увольнения, и что само увольнение военнослужащих из армии может произойти только по приказу военного начальства». Командиры должны были сохранить оружие и знаки отличия. Там, где были созданы солдатские советы или советы уполномоченных, они должны были «безоговорочно» поддерживать офицеров при наведении дисциплины и порядка. В более подробной форме это распоряжение было подтверждено на следующий день постановлением народных уполномоченных. Таким образом, еще раз признавалась неограниченная власть офицеров, а солдатские советы были вытеснены на второстепенные роли. ОХЛ могло быть довольно: народные уполномоченные собственноручно одобрили восстановление дореволюционного порядка в армии. Солдатские советы, напротив, восприняли столь очевидную поддержку «прусского милитаризма» как брошенный им вызов. Они также не оспаривали необходимость дисциплины в период возвращения и демобилизации войск, хотя, с их точки зрения, восстановление прежнего порядка не могло этому способствовать. На Конгрессе полевых и солдатских советов, проходившем 1 и 2 декабря в Бад Эмсе, собравшиеся единогласно потребовали проведения реформ, которые с их точки зрения были необходимы для преодоления авторитарной военной системы: отмены обязательного отдания чести во внеслужебное время, закрытия офицерских казино, одинаковых условий питания для офицеров, военных чиновников и рядовых, права участия солдатских советов в решении всех экономических и социальных вопросов в войсках, а также в вопросах дисциплинарных взысканий и разборе жалоб. Все вопросы прохождения военной службы должны были регулироваться «в постоянном контакте с солдатскими советами». Верховное военное командование выступило в ответ с решительным протестом, который увенчался успехом. 14 декабря Эберт заявил о своем принципиальном согласии с позицией Грёнера и Гинденбурга, однако одновременно указал на трудности, связанные с общей оппозиционностью солдат. Такое отступление со стороны Эберта продемонстрировало, что уже через месяц после свержения монархии Верховному военному командованию удалось стать полноправным партнером правительства. При таком положении дел оппозиционные настроения среди солдат могли только усиливаться. Социал-демократы большинства были близки к тому, чтобы потерять ту поддержку со стороны солдатских советов, позволившую им 10 ноября победить в борьбе с радикальными силами рабочего движения{41}. Наряду с чиновничеством и офицерским корпусом к «старым элитам», с которыми правящим социал-демократам приходилось работать осенью 1918 г., несмотря на возможные идеологические угрызения совести, относились также предприниматели. Одной из важнейших задач народные уполномоченные считали инкорпорацию в экономическую жизнь миллионов возвращавшихся с войны солдат. Этого можно было добиться только совместными усилиями государства, предпринимателей и профсоюзов. Для промышленников-работодателей сотрудничество с рабочими организациями означало одновременно социальную страховку от двух опасностей: социализации с одной стороны, и государственного дирижизма — с другой. Такого же взгляда придерживались и Свободные профсоюзы, ориентировавшиеся на социал-демократов. Договариваясь с предпринимателями, они рассчитывали улучшить свои позиции как по отношению к государству, так и по отношению к новоиспеченным советам, воспринимавшимся профсоюзами как нежелательные конкуренты. Первые переговоры представителей электротехнической, а затем и тяжелой промышленности с профсоюзами прошли уже в октябре 1918 г. Обе стороны были едины во мнении, что предстоящая демобилизация потребует активного взаимодействия организаций работодателей и работников. Создание Имперского ведомства экономической демобилизации[4] стало результатом совместных усилий профсоюзов и промышленников, так же как и учреждение на паритетной основе совместных экспертных комиссий, приданных новому ведомству. На переговорах глав организаций, которые велись до 9 ноября 1918 г., идее широкомасштабного «содружества» труда и капитала противостояли только два препятствия: во-первых, профсоюзам никак не удавалось принудить работодателей существенно сократить продолжительность рабочего дня, а во-вторых, отказаться от так называемых «желтых», лояльных работодателям, рабочих союзов. Политический переворот заставил предпринимателей до некоторой степени пойти навстречу профсоюзам в этих спорных вопросах. 15 ноября было подписано «соглашение Штиннеса — Легина», названное по фамилиям двух главный переговорщиков — промышленника Гуго Штиннеса и председателя генеральной комиссии Свободных профсоюзов Карла Легина. В этом документе предприниматели признавали профсоюзы в качестве компетентных представителей рабочего класса. Они гарантировали возвращающимся с фронта солдатам их прежние рабочие места, соглашались с урегулированием условий труда посредством заключения тарифных договоров с профсоюзами и созданием рабочих комитетов на предприятиях, где было занято не менее 50 человек. Соглашение устанавливало максимальную продолжительность рабочего дня не более 8 часов, признавало недопустимым снижение заработной платы по причине сокращения рабочего времени. Организационные рамки будущего сотрудничества труда и капитала должна была выработать образованная на паритетных началах и по паритетному же принципу профессионально структурированная организация «Центральное трудовое содружество промышленных и ремесленных союзов работодателей и работников Германии» (сокращенно ЦАГ)[5]. Казалось, благодаря соглашению Штиннеса — Легина профсоюзы достигли целей, о которых давно мечтали. Это относилось прежде всего к признанию их в качестве партнеров в переговорах о тарифах, а также к введению восьмичасового рабочего дня и полной компенсации потерь в заработной плате по причине временной нетрудоспособности. Но в договоре были и подводные камни. Предприниматели занесли в протокол, что восьмичасовой рабочий день в Германии будет официально узаконен лишь тогда, когда 8-часовой рабочий день будет официально признан всеми цивилизованными странами, что будет зафиксировано в специальном международном соглашении. Что касается «желтых» союзов, то 5 ноября Легин сам заверил работодателей, что если эти организации смогут самостоятельно просуществовать без помощи и финансовой поддержки в течение шести месяцев, можно будет вести переговоры о привлечении их к работе ЦАГ. Для работодателей уступки профсоюзному лагерю значили гораздо меньше в сравнение с выгодами, которые должно было принести участие в ЦАГ. Главным достижением было то, что соглашение от 15 ноября 1918 г. являлось эквивалентом договора против социализации. Признав предпринимателей в качестве партнеров, профсоюзы одновременно принимали существующий экономический и общественный порядок. И действительно, для Свободных профсоюзов образца 1918 г. ничто не было более чуждым, чем идея обобществления ключевых промышленных производств. Профсоюзы действовали в качестве представителей экономических интересов работников, однако одновременно они делали «высокую политику» исходя из ограниченного понимания своих задач. В определенном отношении они связали руки и Совету народных уполномоченных. Даже если бы правительство стремилось проводить активную политику обобществления, у него не было бы возможности проводить ее вопреки сопротивлению профсоюзов{42}. В Совете народных уполномоченных на быстрой социализации важнейших отраслей промышленности настаивали независимые социал-демократы. Представители социал-демократов большинства расценивали изменения отношений собственности как опасность для экономического восстановления страны, однако не желали, чтобы их упрекали в предательстве принципов социализма. Выходом из этой дилеммы им казалось решение, принятое народными уполномоченными 18 ноября, согласно которому отрасли промышленности, «созревшие по развитию для социализации, должны были быть незамедлительно обобществлены». Но прежде предполагалось созвать «комиссию видных экономистов, для того, чтобы с привлечением практиков из рядов рабочих и предпринимателей определить все детали». В комиссию по социализации были приглашены наряду с представителями обеих социал-демократических партий и профсоюзов некоторые «буржуазные» ученые, среди них — экономист Йозеф Шумпетер. 5 декабря комиссия под председательством Карла Каутского провела свое первое заседание. Однако о продуктивной работе комиссии не могло идти даже речи. Статс-секретарь экономического ведомства Август Мюллер, которому было поручено «направлять» ее деятельность, был ярым противником социализации в любой форме. В конце декабря он назвал возможное огосударствление угольной промышленности преступлением и глупостью. Проявляя крайнюю пассивность при распределении помещений, сотрудников и денежных средств, Мюллер по мере сил пытался затруднить работу комиссии. Во многом из-за подобного рода административных помех эксперты смогли представить предварительный отчет о социализации угольной отрасли только в середине февраля 1919 г.{43} Рассуждать о масштабной социализации немецкой экономики в конце 1918 г. могли лишь безответственные доктринеры. Ни у рабочих партий, ни у профсоюзов, ни у государственной бюрократии не было персонала, способного занять места капиталистических предпринимателей и их менеджеров. Широкомасштабная экспроприация неизбежно привела бы к развалу народного хозяйства. Экономически оправданной могла считаться социализация лишь одной области промышленности — угольной, где законы рынка уже во многом не действовали, а государство, владевшее многочисленными шахтами, имело опыт управления отраслью. Важен был и политический аргумент в пользу социализации угольной отрасли, абсолютно ключевой для тогдашней Германии. Владельцы шахт проявили себя не только непримиримыми противниками профсоюзов, но и упорными врагами демократизации кайзеровской империи. Обобществление угольной отрасли, следовательно, означало бы прорыв фронта антиреспубликанских сил. Отложив в долгий ящик вопросы обобществления, народные уполномоченные от СДПГ тем самым также отказались от возможности укрепления парламентской демократии. Также ожесточенно, как и представители рейнско-вестфальской тяжелой промышленности, против любого вида демократизации в кайзеровской империи была настроена только одна социальная группа: остэльбские юнкеры. Свержение монархии означало для них резкое сокращение их политического влияния. Однако угроза социальному могуществу юнкеров в 1918–1919 гг. была гораздо меньшей, чем для шахтовладельцев. Сельскохозяйственные рабочие и малоземельные крестьяне не выступали с требованием экспроприации юнкерских хозяйств, и ни правительство рейха, ни прусское революционное правительство не задумывались над пересмотром отношений собственности в сельском хозяйстве. Правящие социал-демократы не проводили радикальную аграрную реформу, сдерживаемые страхом того, что решительные меры могут нанести вред продовольственному снабжению. Действительно, передел крупных латифундий в пользу мелких крестьян и наемных работников мог быть связан с непредвиденными рисками. Однако в случае необходимости было допустимым решение в духе «государственного капитализма»: Пруссия, Мекленбург-Шверин и Мекленбург-Штрелиц могли бы сами стать собственниками крупных имений и передать их в управление квалифицированным арендаторам. Между тем в 1918 г. возможность такого решения даже нигде не обсуждалась. Аграрные вопросы не были сильной стороной социал-демократии. В теории, как и прежде, действовал принцип, согласно которому в сельском хозяйстве, как и в промышленности, более рациональным было крупное производство, а не мелкое хозяйство, у которого в результате не было шансов на выживание. На практике подобный подход оправдывал в 1918 г. сохранение существующего положения дел на востоке от Эльбы. Под давлением «Военного комитета немецкого сельского хозяйства», в котором были представлены прежде всего крупные землевладельцы, Совет народных уполномоченных подтвердил 12 ноября, что гарантирует «сельскому населению» свою «защиту от любых самовольных посягательств на их собственность и производственные отношения». Несколько позже народные уполномоченные дали согласие на создание общих советов крупных землевладельцев, средних и мелких крестьян и наемных сельскохозяйственных рабочих. По сути дела, этот шаг был не чем иным, как гарантией существующих отношений собственности на селе и вел к долгосрочной политической нейтрализации еще слабого движения сельскохозяйственных рабочих. В отношениях между самостоятельными фермерами и наемными работниками дело не дошло до создания «трудового содружества» по примеру соглашения Штиннеса — Легина. Аграрии отказывались предоставить монополию на представительство интересов сельскохозяйственных рабочих двум имевшимся сельскохозяйственным профсоюзам — социал-демократическому и христианскому. Однако одно революционное достижение на счету сельскохозяйственных рабочих все же имелось. Временный распорядок сельскохозяйственных работ от 24 января 1919 г. разрешал им то, что было запрещено в кайзеровской империи: право на участие в профсоюзе и оплату труда по тарифному договору. Однако права сельскохозяйственных рабочих были гарантированы в меньшей степени, чем социальные завоевания промышленных рабочих. Уже весной 1919 г. Ландбунд Померании принял меры, чтобы разгромить профсоюзы сельскохозяйственных рабочих полувоенными средствами. Вскоре были получены еще более явные доказательства того, что в обществе власть юнкеров не была сломлена в результате Ноябрьской революции{44}. Если бы все пошло по плану Фридриха Эберта, то во всех областях политики до выборов Национального собрания должен был бы действовать единый принцип: не подменять торопливыми действиями Национальное собрание, а направить все силы на решение безотлагательных злободневных вопросов. Эберт был в состоянии добиться проведения такой линии в Совете народных уполномоченных. Однако ему недоставало влияния заставить придерживаться подобного курса еще одно правительство в Берлине — прусский кабинет, также состоявший на паритетных началах из представителей социал-демократов большинства и независимых. Наибольший вес среди прусских министров за короткое время приобрел независимый социал-демократ Адольф Гофман, деливший пост министра по делам культов с куда как менее деятельным представителем СДПГ Конрадом Хенишем. Гофман, радикальный атеист, получивший после публикации своей антиклерикальной книги о десяти заповедях прозвище «Гофман — десять заповедей», начал свою деятельность на посту министра заявлением о том, что в Пруссии будет введена единая школа, свободная от политической и церковной опеки, а церковь будет последовательно отделена от государства. В конце ноября 1918 г. Гофман издал два распоряжения, согласно которым ликвидировались остатки церковного надзора за народными школами, а преподавание религии исключалось из списка школьных предметов. Своими антицерковными распоряжениями Гофман развязал очень короткий, но ожесточенный «культуркампф». Протесты последовали как со стороны евангелической, так и католической церквей; в Рейнской области и в Верхней Силезии министерский антиклерикализм способствовал распространению настроения «порвать с Берлином», направленного против Пруссии, но отчасти и против рейха. Для Партии Центра противодействие политики Адольфа Гофмана стало тем пламенным лозунгом, которого до сих пор ей не хватало. На правом фланге политического спектра в выигрыше от мобилизации воцерковленных протестантов оказалась монархистская Немецкая национальная народная партия (ДНФП), наследница консервативных партий кайзеровской империи. В первый день нового 1919 г. по призыву Центра и евангелических кругов Берлина передпрусским министерством по делам культов собралось около 60 000 человек, выражая свой протест против школьной и церковной политики самой большой из немецких федеральных земель. Социал-демократам большинства, слишком поздно и лишь отчасти дистанцировавшимся от Гофмана, пришлось считаться с тем, что их политика вызывает сопротивление не только слева, но и справа, и из центра{45}. Поначалу протесты справа не затрагивали самого Фридриха Эберта. Председатель Совета народных уполномоченных считался самым сильным противником крайне левых, а следовательно, естественным союзником сил, стоявших справа от социал-демократов большинства. В начале декабря высшие офицеры и чиновники разработали план, согласно которому Эберт, опираясь на военных, временно становился рейхспрезидентом с диктаторскими полномочиями, что позволило бы ему распустить рабочие и солдатские советы во главе с Берлинским исполнительным советом. Шестого декабря вооруженные солдаты запасного батальона пехотного полка «Кайзер Франц», матросы народной морской дивизии, а также члены студенческой самообороны прошли маршем к рейхсканцелярии и устроили овацию Эберту. Оратор от демонстрантов потребовал провести выборы в Национальное собрание уже в декабре, раскритиковал бесхозяйственность Берлинского исполнительного совета и в заключение провозгласил Эберта президентом республики. Эберт попытался осторожно утихомирить демонстрантов. Несколько часов спустя, когда те же самые демонстранты предприняли попытку путча против исполнительного совета, дело дошло до перестрелки между солдатами и «спартаковцами», из которых 16 человек было убито и 12 тяжело ранено. Спустя четыре дня, 10 декабря, на основании договоренности Эберта с ОХЛ, в Берлин вошли гвардейские части. По мнению Грёнера, только фронтовые соединения были в состоянии разоружить гражданское население и очистить столицу от «спартаковцев». Кроме того, участие гвардейцев должно было подчеркнуть притязание ОХЛ на то, чтобы быть важным фактором внутриполитического порядка. Надежды, которые связывал Грёнер с вводом войск, в действительности не оправдались: стремление солдат вернуться домой было столь велико, что десять дивизий, вошедших в Берлин, потеряли боеспособность и практически не годились для проведения «зачистки». Однако важной психологической победой военных стала речь Эберта, произнесенная им 11 декабря перед возвращавшимися домой войсками. Ее апогеем стала судьбоносная фраза, оправдывающая, казалось бы, легенду об «ударе кинжалом в спину»: «Враг вас не одолел»{46}. С 16 по 21 декабря 1918 г. в Берлине состоялся Первый всеобщий съезд советов рабочих и солдатских депутатов. Это отвечало решению Берлинского исполнительного совета, считавшего себя лишь временным верховным органом немецких рабочих и солдатских советов. Уже в самом начале работы съезда СДПГ смогла без опасений констатировать, что она располагает большинством среди 514 делегатов: около 300 делегатов от местных и региональных советов причисляли себя к СДПГ и примерно 100 относились к НСДПГ. Остальные либо склонялись к леволиберальному лагерю, либо были беспартийными. Не получили мандаты Роза Люксембург и Карл Либкнехт — два ведущих члена группы «Спартак». Предложение пригласить их в качестве гостей с совещательным голосом было отклонено большинством делегатов в самом начале работы съезда. Так как социал-демократы располагали солидным большинством, то важнейший вопрос съезда — о дате выборов в Национальное собрание — был фактически решен уже до его открытия. Выборы были назначены на максимально ранний срок. Ни сторонники «чистой советской власти», ни те, кто выступали за отсрочку выборов, не имели шансов повлиять на это решение. Не помогло и то, что председатель Берлинского исполнительного совета Рихард Мюллер, который еще 19 ноября на собрании берлинских советов рабочих сделал многократно цитировавшееся заявление: «Путь к национальному собранию лежит только через мой труп», и получил с тех пор насмешливое прозвище «Мюллертруп», вновь выступил с предупреждением: «Стремление буржуазных кругов как можно скорее созвать Национальное собрание лишит рабочих всех плодов революции». Решительное выступление Эрнста Доймига из числа «революционных старост» за «чистую систему советов» и самоуправление трудящегося народа также не смогло повлиять на мнение делегатов. 19 декабря участники съезда 344 голосами против 98 приняли решение, которое Доймиг заранее назвал «смертным приговором» революции: они отклонили его предложение закрепить систему советов как основную опору конституции будущей социалистической республики и признать за рабочими и солдатскими советами полномочия высшей законодательной и исполнительной власти. Зато 400 голосами против 50 было принято предложение социал-демократа большинства Макса Коен-Ройса провести выборы в Национальное собрание 19 января 1919 г., что было значительно раньше 16 февраля — срок, на котором после долгих прений 29 ноября остановился Совет народных уполномоченных. Нельзя назвать несправедливыми упреки левых радикалов в адрес консервативных сил в том, что те рассчитывали в результате скорых выборов Национального собрания положить конец революции и добиться по меньшей мере частичной отмены ее результатов. Однако «чистая советская система» в том виде, как ее предлагал Доймиг, основывалась на иллюзии. Он исходил из предположения, что в высокоразвитом индустриальном обществе, в котором существует разделение труда, возможна долгосрочная мобилизация масс с целью постоянного контроля над теми, кому выдан мандат народного доверия. Поскольку очень немногие представители рабочих располагали для этого свободным временем, можно было предположить, что «чистая система советов» вскоре должна была превратиться во власть привилегированного меньшинства над подавляющим большинством. Что еще хуже, отказ от «буржуазного» принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную делал систему правления советов практически неконтролируемой. И хотя некоторые сторонники «чистой советской власти» испытывали отвращение к партийной диктатуре, имея перед глазами пример России, где под прикрытием видимости власти советов установилась большевистская диктатура, одна только их вера в прямую демократию не могла уберечь Германию от прихода к власти абсолютно антидемократического режима. Ссылки на устрашающий пример Советской России возымели именно тот эффект, которого Коен-Ройс, содокладчик Доймига, добивался своей страстной речью в поддержку Национального собрания. Подобный же результат вызвало обращение этого оратора от социал-демократии большинства к теме предполагаемых внутри- и внешнеполитических последствий введения власти советов в Германии. Однако решение в пользу парламентской системы и против советов очевидно было бы принято и без блестящего выступления Коен-Ройса. Поскольку немецкий народ уже полвека обладал на уровне рейха всеобщим равным избирательным правом для мужчин, огромное большинство рабочих не могло себе даже представить, что демократическая революция может отменить это демократическое завоевание. Революция должна принести больше демократии, а не меньше — в этом заключалась воля подавляющего большинства депутатов первого немецкого Съезда советов. Результаты голосования Съезда по важнейшим вопросам были чрезвычайно благоприятны для социал-демократов большинства. Однако по прочим проблемам делегаты занимали позиции существенно «левее» политической линии, которую представляли народные уполномоченные от СДПГ. Так, большинство делегатов выступили за предложение, согласно которому правительство должно было незамедлительно начать процесс обобществления всех созревших для этого отраслей промышленности, особенно горной. Еще более неприятными были для Эберта «Гамбургские пункты», список предложений по военной политике, разработанный Гамбургским солдатским советом и единогласно одобренный съездом. Резолюция съезда предусматривала, что военное командование осуществляется Советом народных уполномоченных под контролем Центрального совета рабочих и солдатских советов, который еще предстояло избрать. В «знак разрушения милитаризма и уничтожения бездумного подчинения» в армии отменялись знаки различия, а также запрещалось носить оружие во внеслужебное время. Солдаты должны были сами выбирать своих командиров, ответственность за соблюдение дисциплины возлагалась на солдатские советы. Наконец, регулярная армия должна была быть распущена и в ускоренном темпе сформировано народное ополчение. Принимая «Гамбургские пункты», съезд отреагировал прежде всего на упущения со стороны правительства. Если бы народные уполномоченные поддержали умеренные требования, выдвинутые полевыми и солдатскими советами 1 декабря в Бад Эмсе, то дело просто не дошло бы до лихорадочного принятия решений на съезде советов. Ряд разделов «Гамбургских пунктов» были непродуман и невыполним, прежде всего в том, что касалось выборов командиров и отмены всех знаков различия. Однако со стороны лидеров социал-демократов не последовало ни попыток внести необходимые поправки, ни усилий придать этим решениям характер обычной директивы, требующей дополнительных разъяснений. Корректировки последовали только задним числом под ультимативным давлением ОХЛ, в результате чего изменилась сама суть «Гамбургских пунктов». Решение съезда советов теперь имело силу только лишь для резервных частей и частей гарнизонной и караульной службы, но не для действующей армии. В положении о применении решения, изданном 19 января 1919 г., в том числе допускалось создание республиканского народного ополчения, однако в отличие от «Гамбургских пунктов» пояснялось, что командование войсками остается исключительно в руках офицеров. В законе о создании временного рейхсвера, принятом Национальным собранием 6 марта 1919 г., не осталось и следа от военно-политических решений съезда советов. Принимая решение в отношении «Гамбургских пунктов», народные уполномоченные от социал-демократов большинства продемонстрировали свои слабые стороны в качестве руководителей страны. В свою очередь, — их коллеги от НСДПГ оказались на съезде советов «генералами без армии». 18 декабря социал-демократы большинства предложили передать законодательную и исполнительную власть Совету народных уполномоченных впредь «до дальнейшего урегулирования Национальным собранием». Избираемый съездом Центральный совет должен был, в свою очередь, опекать народных уполномоченных и обеспечить за ними «парламентский контроль». В чем должен был состоять «парламентский контроль», Гаазе разъяснил, отвечая на вопрос своего товарища по партии: Центральному совету должны представляться на рассмотрение все законы, а наиболее существенные из них — обсуждаться с ним. Делегаты от независимых социал-демократов, однако, хотели большего, а именно — «исключительного права» Центрального совета отклонять или поддерживать законы еще до их утверждения. Социал-демократы большинства, напротив, отстаивали политическое право народных уполномоченных на свободу действий и угрожали отставкой своих уполномоченных, статс-секретарей и прусских министров в случае, если съезд примет предложение независимых. После того как съезд большинством голосов поддержал Гаазе и его трактовку «парламентского контроля», радикальное левое крыло независимых добилось во фракции бойкота выборов в Центральный совет. Как следствие, в Центральный совет Германской социалистической республики, состоявший из 17 членов, были избранны исключительно представители социал-демократической партии большинства. В результате Центральный совет мог в еще меньшей степени играть роль противовеса правительству, чем Берлинский исполнительный совет. Внутренняя разобщенность независимых стала очевидна всем сторонним наблюдателям. Решениеясобственной фракции народные уполномоченные от НСДПГ были лишены опоры для своей дальнейшей деятельности. Открытый раскол между партнерами по правительству, сформированному 10 ноября 1918 г., стал неизбежным{47}. Последним поводом к распаду коалиции послужили так называемые «рождественские бои в Берлине», ставшие драматическим апогеем накалявшегося в течение двух недель конфликта вокруг народной морской дивизии. Этот конфликт из-за невыплаченного матросам жалованья и занятого ими Городского замка перерос 23 декабря в открытую борьбу за власть между Советом народных уполномоченных и воинским подразделением, все больше переходившем на левые радикальные позиции. 24 декабря, после гибели двух матросов в бою с лояльными правительству солдатами из республиканской солдатской обороны, революционные матросы осадили здание правительства и заняли центральную телефонную станцию рейхсканцелярии. Кроме того, они штурмовали городскую комендатуру и арестовали в Марстале, месте своей дислокации, среди прочих Отто Велса, занимавшего пост коменданта города. Узнав в ночь на 24 декабря, что с Велсом плохо обращаются охранники и его жизни угрожает опасность, Эберт по секретной, неподконтрольной восставшим телефонной линии позвонил в прусское военное министерство и попросил о вооруженной помощи. Грёнер, со своей стороны, также дозвонился из ставки ОХЛ в Касселе по неизвестной восставшим телефонной линии до Эберта и попросил его предоставить ему необходимые полномочия, чтобы провести военную операцию против матросов. После этого трое народных уполномоченных от СДПГ отдали соответствующий приказ прусскому военному министру. Около 8 утра воинские подразделения под командованием генерала А. Лекуи начали артиллерийский обстрел Городского замка и района Марсталь, создав непосредственную угрозу для жизни Велса и тех, кто был захвачен вместе с ним. На короткое время замок перешел к частям Лекуи, однако после того, как на помощь матросам поспешили силы безопасности полицай-президента Эйхгорна, Красная солдатская самооборона и вооруженные рабочие, замок был отвоеван восставшими обратно. После этого Эберт отдал приказ о прекращении огня. Результатом действий подразделений генерала Лекуи стало военное поражение солдат и политическое поражение правительства. Народным уполномоченным пришлось возобновить переговоры с восставшими солдатами, чтобы освободить Велса и добиться очищения Городского замка и Марсталя. За это пришлось заплатить высокую цену. Правительство пообещало, что Народная морская дивизия будет сохранена в том же составе и целиком войдет в состав республиканской солдатской обороны. Кроме того, матросы настояли на том, чтобы Веле сделал заявление об уходе с поста коменданта города. Призыв о помощи, направленный народными уполномоченными от СДПГ военным, был обусловлен необычайной сложностью положения: в данной ситуации обращение к войскам было неизбежным. Однако весьма легкомысленно с их стороны было не согласовать заранее все детали акции с прусским военным министром и, таким образом, полностью довериться военным. Политический союз Эберта и Грёнера был окончательно закреплен только в рождественские дни 1918 г. На совместном заседании Совета народных уполномоченных и Центрального совета от 28 декабря 1918 г., где обсуждались события 23–24 декабря, Гаазе высказал справедливый упрек своим коллегам из СДПГ в том, что они без необходимости предоставили военным карт-бланш. Уполномоченные Газе, Диттман и Барт вышли из правительства после того, как Центральный совет утвердительно ответил на вопрос независимых социал-демократов: санкционировал ли он указания военному министру Пруссии. Сколь бы справедлива ни была критика, с которой Гаазе выступил против совместных действий Эберта, Шейдемана и Ландсберга, с одной стороны, и Грёнера и Шойха — с другой, следует признать, что и сами народные уполномоченные от независимых несли полную меру вины за то, что не было создано сильных и надежных войск республиканской самообороны, отчего на защиту Совета народных уполномоченных могла встать лишь регулярная армия. За несколько недель до случившегося не только уполномоченные от социал-демократов большинства, но и от независимых демонстрировали пассивность в военно-политической сфере. В том числе последние ничего не сделали на Съезде советов, чтобы удержать фракцию НСДПГ от бойкота выборов в Центральный совет. Именно это решение, а не военное поражение 24 декабря, стало настоящей причиной развала коалиции двух социал-демократических партий. Вместо трех народных уполномоченных от независимых в Совет народных уполномоченных 29 декабря вошли еще два представителя СДПГ: квалифицированный машиностроитель и многолетний руководитель Центрального рабочего секретариата Свободных профсоюзов Рудольф Виссель, 1869 года рождения, уроженец Геттингена, которому была поручена сфера социальной и экономической политики, и бывший годом старше его Густав Носке из Бранденбурга, квалифицированный работник деревообрабатывающей промышленности, затем редактор партийной газеты, сделавший себе имя в качестве референта фракции рейхстага по проблемам военно-морского флота. Носке стал ответственным за военную сферу и в этом качестве должен был принимать ответственные политические решения сразу после своего вступления в должность. После создания правительства, целиком состоящего из членов социал-демократической партии большинства и назначения Носке, исполнительная власть существенным образом сдвинулась вправо. У части берлинского пролетариата рождественские бои вызвали не менее явное полевение. В глазах многих рабочих введение войск подтверждало заявления группы «Спартак» о том, что социал-демократические народные уполномоченные перешли на сторону контрреволюции. Похороны павших матросов стали массовым политическим митингом радикальных сил пролетариата Берлина. Плакаты ясно свидетельствовали о том, кого демонстранты считали виновными в развязывании противостояния за Городской замок и Марсталь: «Мы обвиняем в смерти матросов Эберта, Ландсберга и Шейдемана!»{48} Через два дня после распада правительственной коалиции в Берлине начался учредительный съезд Коммунистической партии Германии. Эта партия сформировалась из двух различных политических движений: во-первых, из группы «Спартак», составлявшей ранее радикальное левое крыло НСДПГ, и, во-вторых, из представителей «Интернациональных коммунистов Германии», вышедших из леворадикальных кругов Гамбурга и Бремена, связанных через Карла Радека, большевистского эксперта по Германии, с Лениным. Радек, с 19 декабря нелегально находившийся в Берлине в качестве представителя советского руководства, был в числе тех, кто склонил интернациональных коммунистов к объединению со «спартаковцами». Вождям «спартаковцев» — Карлу Либкнехту, Розе Люксембург и Лео Иогихесу — отделение от НСДПГ далось нелегко. Однако после неудачной попытки склонить товарищей по партии выйти из состава Совета народных уполномоченных и провозгласить лозунг «Вся власть советам!», предпринятой 15 декабря на общем собрании берлинских независимых социал-демократов, сомнения в отношении образования самостоятельной партии практически исчезли. Большинство делегатов учредительного съезда КПГ были квалифицированными рабочими и интеллектуалами, прежде всего это относилось к молодому поколению, и этот социально-возрастной состав был характерен для новой партии в целом. Сторонники КПГ в большинстве своем были тесно связаны с социал-демократической традицией, однако наряду с этим среди них были люди, пришедшие в политику только благодаря революции, что прежде всего было характерно для Берлина. Они особенно близко воспринимали радикальноутопические настроения, характеризовавшие партийный съезд. Руководители партии, прошедшие школу марксизма, мало что могли противопоставить этой тенденции. Карл Либкнехт, охотно шагавший нога в ногу вместе с «массами», вообще к этому не стремился. Только Роза Люксембург дала отпор ультралевым силам. «Я убеждена, — призывала она галдевших делегатов, — что вы сами хотите умерить свой радикализм, чтобы можно было действовать удобнее и проще. Это доказывают в особенности ваши призывы “голосуй быстрее”». Роза Люксембург смогла настоять на внесение в программу партии следующих слов: «Союз “Спартака” возьмет на себя власть только в результате ясной и однозначной воли большинства пролетарских масс Германии и никак иначе, чем на основании сознательного согласия масс со взглядами, целями и методами борьбы союза “Спартака”». Однако на практике на партийном съезде царил «дух фанатического утопизма», как написал позднее в своей «Истории Германской республики», изданной в 1935 г., историк Артур Розенберг, сам бывший до 1927 г. членом КПГ. Это выразилось прежде всего в позиции по важнейшему спорному вопросу: выборам в Национальное собрание. Несмотря на приверженность системе советов, партийные лидеры выступили за участие в этих выборах, усматривая в них средство обучения и воспитания масс. Однако делегаты съезда 62 голосами против 23 согласились с предложением о бойкоте выборов конституанты, внесенным Отто Рюле из Пирны. Розенберг замечает, что такое решение стало «косвенным призывом к авантюрам путчистского толка», что не имело ничего общего с программой Розы Люксембург. Однако и Люксембург, и Либкнехт подчинились решению большинства и стали, таким образом, заложниками движения, которое они из лучших побуждений считали выражением аполитичного радикализма. «Революционные старосты», представители высококвалифицированных рабочих, воздержались от вхождения в новую партию прежде всего из-за доктринерского антипарламентаризма КПГ. Коммунисты, казалось, избрали наилучший путь к тому, чтобы превратиться в секту, оторванную от рабочих масс{49}. 4 января 1919 г. произошло событие, давшее толчок так называемому «восстанию “Спартака”»: прусский министр-президент Хирш оправил в отставку полицай-президента Берлина Эмиля Эйхгорна, принадлежавшего к левому крылу НСДПГ. После того как за день до этого ушли в отставку представители независимых в прусском правительстве, последовавшие примеру трех народных уполномоченных от НСДПГ, Хирш поначалу попытался склонить Эйхгорна к добровольному уходу. Однако тот не был готов к такому шагу и был отправлен в отставку. Учитывая роль Эйхгорна в рождественских боях, это увольнение запоздало. Ни одно правительство не может доверить столичную полицию человеку, лично участвовавшему в попытке свержения этого правительства. Радикальные левые смотрели на дело иначе, восприняв отстранение Эйхгорна от должности как намеренную провокацию. Еще вечером 4 января руководство берлинской организации НСДПГ совместно с «революционными старостами» решило провести на следующий день демонстрацию протеста против отстранения Эйхгорна. Соответствующее воззвание подписали также члены Центрального комитета КПГ. Демонстрация 5 января намного превзошла ожидания организаторов как по числу участников, так и по их боевому настрою. Однако в тот же день события вышли из-под контроля. Пока революционные старосты, члены берлинского отделения НСДПГ и руководства коммунистической партии еще совещались в здании Берлинского полицай-президиума о дальнейших шагах, вооруженные демонстранты заняли типографию газет «Форвартс» и «Берлинер Тагеблатт», а также здания издательств Моссе, Шерля и Ульштейна, типографию Бюксенштайна и телеграфное бюро Вольфа. Во время обсуждения ситуации в полицай-президиуме как гром среди ясного неба прозвучало сообщение командира Народной морской дивизии Дорренбаха, как выяснилось совсем скоро — ложное, что не только его подразделение, но и все берлинские войска выступают в поддержку «революционных старост» и готовы к вооруженному свержению правительства Эберта — Шейдемана. На основании этого и некоторых других также ложных сообщений о том, что у протестующих теперь была вооруженная поддержка, Карл Либкнехт заявил в конце концов, что «при таком положении вещей должен быть не только отражен удар, нацеленный против Эйхгорна, но и возможно, и безусловно необходимо осуществить свержение правительства Эберта— Шейдемана». Несмотря на протесты Рихарда Мюллера и Эрнста Доймига, большинство собравшихся выступило за удержание захваченных зданий, за призыв берлинских рабочих к генеральной стачке и продолжение борьбы с правительством до победного конца{50}. Январское восстание части берлинских рабочих с самого его начала никто не возглавлял. Центральный комитет КПГ не планировал свержение правительства, скорее, к нему призывали сторонники «революционных старост» и коммунистов, причем первые были куда многочисленнее. Однако после того, как были захвачены здания редакций газет и типографии и восставшие преступили черту применения насилия, ни одна из революционных групп не хотела теперь показаться менее радикальной, чем остальные. Из вождей КПГ первым поддался давлению снизу Карл Либкнехт. Несколько позже капитулировала Роза Люксембург, решительная противница путчистских акций, пойдя на поводу у спонтанного движения масс, которые она всегда считала важнейшей силой исторического развития. Лео Йогихес, напротив, хотел, чтобы партия открыто дистанцировалась от Либкнехта, а Карл Радек заявил 6 января на заседании центрального комитета партии, что призывы к свержению правительства неверны, а через три дня потребовал, чтобы партия вышла из этой бесперспективной борьбы. Народные уполномоченные со своей стороны ответили на действия крайне левых призывом к всеобщей забастовке. Утром 6 января большое количество сторонников СДПГ поспешили в правительственный квартал, чтобы встать в качестве живого щита перед зданием Совета народных уполномоченных. Однако, поскольку в руках радикалов к тому времени кроме «газетного» квартала оказалось также здание главного телеграфа и имперской типографии, правительству и социал-демократам не удалось уйти от организации более жестких форм защиты. Восстание крайне левых было очевидной попыткой сорвать выборы в Национальное собрание, т. е. подчинить большинство воле небольшого меньшинства. Сравнение с Россией напрашивалось само собой. Если большевики в январе 1918 г. разогнали избранное Учредительное собрание, то их немецкие последователи годом позднее лишь собирались заранее сделать невозможным созыв конституанты. Необходимо было отразить столь серьезный удар по демократии, и на силу в случае необходимости нужно было ответить силой. На стороне правительства в начале январского восстания выступили несколько берлинских запасных батальонов, а также части республиканской солдатской обороны и подразделения Шарлоттен-бургской самообороны. К ним присоединились только что созданные отряды «Добровольческой помощи социал-демократической партии». Из этих добровольцев, а также из членов «Группы Либе», названной по имени их командира, 8 января были созданы полки «Либе» и «Рейхстаг». Полную противоположность этим объединениям, ориентированным по преимуществу на социал-демократию, образовали два добровольческих корпуса, укомплектованных по преимуществу сторонниками правых взглядов. Так, «Корпус вольных стрелков Берлина» был сформирован в ответ на призыв правительства от 7 января «Добровольцы вперед!» из состава первой гвардейской дивизии, также как и существенно больший по численности «Добровольческий полк Рейнгарда», получивший свое имя в честь своего командира, полковника Вильгельма Рейнгарда, позже активного национал-социалиста. Поначалу не совсем очевидной была позиция полка «Потсдам», располагавшего тяжелыми пулеметами, легкими полевыми гаубицами и полевыми пушками. Входе январских боев это соединение все сильнее подпадало под влияние гвардейских офицеров и позже стало именоваться «Фрайкор[6] Потсдам». Прочие добровольческие формирования ОХЛ были направлены к Берлину только после 8 января и заняли позиции на подступах к столице. Сказав свою знаменитую фразу: «Извольте! Кто-то же должен быть кровавым псом, я не страшусь ответственности», народный уполномоченный Густав Носке принял на себя 7 января 1919 г. командование правительственными войсками в Берлине и в его окрестностях. Уже тогда стало ясно, что на стороне Совета народных уполномоченных выступают сильнейшие батальоны. Ни одно из военных формирований, которые, по утверждению Дорренбаха от 5 января 1919 г., хотели поддержать восстание, в реальности не перешло на сторону крайне левых. Даже Народная морская дивизия, собственное подразделение Дорренбаха, сохраняла нейтралитет. Поначалу вообще было не ясно, дойдет ли дело до вооруженной борьбы. 6 января правительственный лагерь по предложению правления НСДПГ вступил в переговоры с восставшими. Социал-демократы большинства и умеренные независимые были едины в том, что свобода прессы должна быть восстановлена в полном объеме. Для СДПГ большинства это требование имело жизненно важное значение, поскольку после захвата редакции «Форвартс» партию практически заставили замолчать. Поэтому Эберт заявил, что переговоры бессмысленны, если восставшие незамедлительно не освободят все редакции и типографии. Каутский, в свою очередь, попытался выступить в роли посредника. Он предлагал, чтобы Центральный совет и Совет народных уполномоченных заранее заявили, что переговоры будут рассматриваться ими как провалившиеся, если они не приведут к полному восстановлению свободы прессы. Это предложение было последним шансом предотвратить братоубийственную кровавую войну внутри рабочего движения. Могли ли восставшие пойти на компромисс, предложенный Каутским, было в высшей степени не ясно. Предполагалось, что их встречным требованием станет восстановление Эйхгорна на его посту, что было невыполнимо. Однако в итоге предложение о проведении переговоров даже не было сделано официально. Эберт и его товарищи боялись потерять авторитет, отступив с однажды занятой позиции. Берлинская партийная организация СДПГ, для которой газета «Форвартс» была еще и местным органом печати, также настаивала на жесткой линии по отношению к радикалам. Центральный совет разделял эту точку зрения. 7 января он значительным большинством голосов отклонил предложение Каутского. Таким образом, был брошен окончательный жребий в пользу вооруженного решения конфликта. Утром 11 января полк «Потсдам» начал штурм редакции «Форвартс», при этом были также задействованы полевые пушки. После многочасового обстрела захватчики сдались. Пять парламентеров, пришедших вести переговоры о сдаче, были взяты в плен, отведены в драгунские казармы на Бель-Альянс-Штрассе и там расстреляны по законам военного времени. Такая же судьба постигла трех рабочих, выступавших курьерами восставших. Главный виновный в этих расстрелах, майор фон Штефани, был оправдан после 13 месяцев следствия. В тот же день, когда была отбита редакция «Форвартс», правительственные войска заняли и другие захваченные мятежниками здания, в которых размещались издательства газет. Тогда же, 11 января, по приказу Носке в направлении Берлина вступил добровольческий корпус под командованием генерала фон Лютвица, сформированный ОХЛ. Поскольку восстание было окончательно подавлено уже 12 января, не было никакого военного смысла вводить фрайкор в Берлин 15 января. Одними из его первых жертв стали Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Оба были убиты офицерами 15 января. На день позже пресса сообщила, что Либкнехт был застрелен при попытке к бегству, а Роза Люксембург — убита толпой. Ее тело, брошенное в Ландверканал, было обнаружено лишь четыре месяца спустя. Несколько офицеров, непосредственно участвовавших в убийствах, были оправданы в мае 1919 г. военным судом. Еще двум соучастникам преступления были вынесены мягкие приговоры, один из них сумел избежать заключения, скрывшись за границей. Военные, среди них капитан Вальдемар Пабст, отдававшие приказы об убийствах, заседая в отеле «Эден», остались безнаказанными. Хотя эти неправосудные приговоры военного суда вызвали резкую критику, в том числе со стороны ряда видных социал-демократов, Носке, как министр рейхсвера, в конце концов утвердил приговор. Убитые коммунистические лидеры несли существенную долю ответственности за кровь, пролитую в январских боях. Карл Либкнехт вопреки всем доводам ^разума выдвинул лозунг свержения правительства. Роза Люксембург в своих последних статьях для органа коммунистической партии «Роте Фане» резко выступала против переговоров восставших с правительством. Когда «массы» начали действовать, полемика Розы Люксембург с левым радикалами прекратилась. Январское восстание было попыткой путча со стороны радикального меньшинства. Если бы его непосредственная цель — свержение правительства Эберта — Шейдемана — была достигнута, это привело бы к кровавой гражданской войне во всей Германии и интервенции союзников. Таким образом, правительство вынуждено было выступить против этого восстания, и мало что говорит в пользу того, что имелась возможность заставить восставших сдаться посредством переговоров. И все же было бы разумно дать шанс Каутскому выступить в роли посредника, поскольку последствия насильственного подавления восстания были предсказуемы: возросла опасность контрреволюции, опиравшейся на регулярные войска и добровольческие корпуса, а трещина между умеренной и радикальной частями рабочего движения угрожала превратиться в пропасть. Вне Берлина во время январских боев также произошел ряд крупных демонстраций и несколько кровопролитных столкновений между сторонниками восставших и правительственными войсками. Однако попытка коммунистического переворота произошла в одном лишь Бремене. Там 10 января КПГ при поддержке НСДПГ провозгласила создание Советской республики. Было объявлено о прекращении власти сената, восставшие воспрепятствовали созыву избранного четырьмя днями ранее совета рабочих депутатов, в котором у СДПГ было абсолютное большинство, и, что немаловажно, планировалось оказать поддержку восставшим в Берлине. Следствием этого стал политический и административный хаос. Когда 16 января банки закрыли правительству Советской республики все кредиты, ему пришлось уступить и гарантировать выборы Бременской конституанты. 28 января был подготовлен проект постановления о выборах в народное представительство Бремена. Хотя Советская республика в Бремене к этому времени находилась уже в стадии полного распада, Носке решил на примере Бремена преподать урок всем остальным. Он отклонил все предложения о посредничестве и 4 февраля отправил в ганзейский город «Дивизию Гестенберг». Разумеется, Носке не хотел той кровавой бани, которую устроила в Бремене военщина. Однако народный уполномоченный от СДПГ к тому моменту уже настолько усвоил военно-стратегический образ мысли «своих» генералов, что вся внутренняя политика стала для него полем сражения. В итоге долгосрочным результатом бременского эпизода стало отнюдь не представление о том, что «чистая система советов» ведет к хаосу в управлении, а ненависть к «белому террору» и его зачинщикам{51}. В отличие от Бременской советской республики движение за социализацию, зарождавшееся на Рейне и Руре, поначалу не имело прямого отношения к январским боям в Берлине. Первое недвусмысленное доказательство того, что не только активисты рабочего движения, но и «простые» рабочие хотели использовать революционную ситуацию для обобществления средств производства датируется 21 декабря 1918 г. В этот день собрание бастующих горняков в Хамборне, сегодня это район Дуйсбурга, потребовало от народных уполномоченных немедленной социализации угольной промышленности. Правда, в последующие дни и для хамборнских шахтеров на передний план вышли другие, более жизненные вопросы: требование повышения заработной платы и сокращения продолжительности рабочих смен. Только 9 января 1919 г. вопрос о социализации горной промышленности вновь оказался на повестке дня рабочих Рура и на этот раз надолго. Эссенский совет рабочих и солдатских депутатов, куда входили в равном числе представители СДПГ, НСДПГ и КПГ, создал на таких же паритетных основаниях совместный комитет представителей трех рабочих партий, так называемую «Комиссию девяти». Она, в свою очередь, призвала рабочих и административный персонал шахт единодушно провести социализацию горной промышленности в Рейнско-Вестфальской индустриальной области. 11 января «Комиссия девяти» заняла здание Угольного синдиката и Горнодобывающего союза, чтобы поставить под своей контроль деятельность шахтовладельцев и оптовую торговлю углем. Призыв к социализации угольной промышленности был для правительства сигналом тревоги. Он свидетельствовал, что значительная часть рабочего класса, вплоть до членов социал-демократической партии большинства, была недовольна прежней политикой народных уполномоченных. С 9 ноября мало что изменилось в соотношении сил внутри общества. Предприниматели, как и прежде, были хозяевами предприятий, а влияние генералов вновь усиливалось. Подавление берлинского январского восстания дало дополнительную почву для опасений наступления контрреволюции. Поэтому призыв к рабочим самим взять в свои руки преобразование экономики и общества находил в начале 1919 г. больше одобрения, чем в первые послереволюционные недели. Намечалась вторая волна революции, которая обещала быть более радикальной, чем первая{52}. Если политические силы справа от социал-демократии и были в чем-то согласны между собой, так только в том, что необходимо любыми силами переломить дальнейшее полевение ситуации. После 9 ноября политическое превосходство рабочего движения казалось столь подавляющим, что для буржуазии не было важнее цели, чем сдерживать влияние социалистов. Шансы добиться этого сильно возросли, если бы удалось преодолеть унаследованную от прежних времен раздробленность буржуазного политического лагеря. Однако по-настоящему концентрация сил удалась лишь тем, кто осенью 1918 г. имел больше всего оснований полагать, что их приперли к стене, а именно консерваторам. 24 ноября 1918 г. была основана Немецкая национальная народная партия (ДНФП), созданная на фундаменте Немецкой консервативной партии и Свободной консервативной партий времен кайзеровской империи. ДНФП также усилилась за счет христианских социалистов, немецких народников и других антисемитских групп. В объявлении об основании партии националисты еще избегали открыто провозглашать свою приверженность монархизму; более того, они заявили, что готовы и полны решимости «работать на почве того государственного устройства, в котором царит право и порядок», и характеризовали парламентскую форму правления как «единственно возможную после последних событий». Они выступали в целом за частнособственническую экономику, однако в определенных случаях готовы были поддержать и «формы производства с общим хозяйствованием». ДНФП имела наиболее серьезную опору в протестантских областях старой Пруссии. Это была партия крупных остэльбских землевладельцев и крайне правового крыла представителей тяжелой промышленности. Ее сторонниками были прежде всего монархически настроенные интеллектуалы, крестьяне, мелкие ремесленники, а также националистически настроенные служащие и рабочие. В либеральном лагере сравнимого по масштабу объединения партий не произошло. 16 ноября 1918 года в «Берлинер Тагеблатт» был опубликован призыв к созданию Немецкой демократической партии (ДДП), который подписали 60 человек, среди них прежде всего журналисты и профессора во главе с главным редактором самой газеты Теодором Вольфом и социологом Альфредом Вебером, братом еще более знаменитого Макса Вебера. В обращении однозначно говорилось о приверженности новой партии к республиканской форме правления и демократическому обновлению общества, рекомендовалось даже «поддержать идею социализации монополизированных областей экономики», и объявлялась борьба любым формам террора, как «большевистского», так и «реакционного». Прогрессивной народной партии, к которой принадлежали некоторые из подписавших воззвание, было легко встать на подобную политическую платформу. Однако чтобы начать объединение либеральных сил сначала было необходимо договориться по крайней мере с большинством членов Национально-либеральной партии. Расширение в этом направлении потерпело неудачу, с одной стороны, потому что у «демократов», группировавшихся вокруг Вольфа, имелось стойкое предубеждение против председателя фракции национал-либералов в рейхстаге Густава Штреземана, до 1917 г. бывшего сторонником аннексии Германией больших территорий, а с другой — из-за антипатии самого Штреземана клевым настроениям, распространенным в окружении Вольфа. Поэтому к официально основанной 20 ноября 1918 г. Немецкой демократической партии присоединились лишь некоторые, в основном «левые» национал-либералы, но не основные силы партии. Наследницей Национально-либеральной партии стала Немецкая народная партия (ДФП) во главе со Г. Штреземаном, формирование которой завершилось 15 декабря 1918 г. От ДДП она отличалась более сильным акцентом на национальном вопросе, острым размежеванием позиции с социал-демократами и требованиями в пользу крестьянских хозяйств. Что касается социализации, то ДФП в своем предвыборном обращении от 15 декабря заявила о готовности «согласиться на передачу годных для этого отраслей производства под управление и в собственность общества, если в таком случае будет обеспечен более высокий всеобщий доход и улучшатся жизненные условия работников». Вопрос о форме государственного устройства ДФП оставляла открытым. Однако то, что ее симпатии были скорее отданы монархии, чем республике, знал практически каждый. Обе либеральные партии были схожи по своему социальному составу: они обращались прежде всего к образованным слоям, предпринимателям, ремесленникам и торговцам, чиновникам и служащим. ДФП пользовалась серьезной, в том числе и солидной финансовой поддержкой тяжелой промышленности, в то же время ДДП заручилась содействием ведущих предприятийэлектротехнической промышленности и торговли, а также некоторых банков. Она была партией либеральной еврейской буржуазии, ей симпатизировали некоторые берлинские и межрегиональные печатные издания: «Фоссише Цайтунг», «Берлинер Тагеблатт» и «Франкфуртер Цайтунг». На первых выборах в истории Веймарской республики политический католицизм уже не был представлен единой партией. 12 ноября 1918 г. отделение Центра в Баварии выделилось в самостоятельную Баварскую народную партию (БФП). Основание БФП было своего рода превентивным шагом федералистских сил против возможного усиления централизма как следствия коалиции Партии Центра с социал-демократами и левыми либералами, и в целом — защитой от политической линии Матиаса Эрцбергера. В Баварии вызывало опасение также нараставшее усиление «левого» крыла Центра, представленного рабочими и наемными служащими, которое тем самым ослабляло вес консервативных, особенно крестьянских слоев избирателей. БФП, таким образом, видела свое место существенно правее Центра. Программа партии не оставляла никакого сомнения в том, что БФП не согласна с тем политическим «состоянием», которое было достигнуто в результате мюнхенских событий 8 и 9 ноября. Однако она все же признавала, что новый порядок вещей стал «свершившимся историческим фактом», который можно изменить только правовым и законным путем. Подчеркнуто федералистская программа БФП содержала резкие нападки в адрес «односторонней, безоглядной прусской гегемонии» и требовала, чтобы Берлин не становился Германией, а Германия — Берлином. Главная задача новой партии была сформулирована в виде лозунга «Бавария — баварцам». «Материнская партия» БФП, Центр, первые недели после революции обсуждала вопрос возможности своей трансформации в межконфессиональную, открытую также и для протестантов, христианскую народную партию, но в итоге осталась партией католиков всех сословий. Антиклерикальная культурная политика Адольфа Гофмана в значительной степени способствовала тому, что верх внутри партии одержали непримиримые силы. Она обусловила особую резкость выпадов Центра в ходе предвыборной борьбы по отношению к социал-демократам. Приверженность республиканскому строю выражалась центристами весьма сдержанно. «Старый порядок в Германии насильственно свергнут, прежние носители государственной власти отчасти устранены, отчасти парализованы», — говорилось в обращении рейхскомитета Центра от 30 декабря 1918 г. «Новый порядок придется создавать на основании свершившихся фактов; однако этот порядок не может после свержения монархии приобрести формы социалистической республики, но должен стать демократической республикой»{53}. Еще до начала выборов в учредительное Национальное собрание имелись некоторые признаки того, что буржуазные партии сумеют показать хорошие результаты, а социал-демократическим партиям не удастся получить большинства. Так, на выборах в ландтаги шести федеральных земель, прошедших с 9 ноября 1918 по 19 января 1919 г., обе социал-демократические партии лишь в двух случаях получили мандатов больше, чем буржуазные. На выборах в Анхальте 15 декабря СДПГ получила 22 места, ДДП — 12 и ДНФП — 2; в Брауншвейге, где выборы прошли на неделю позже, СДПГ досталось 17 мест, НСДПГ — 14, в то время как буржуазные партии вместе получили 29 мест. В Мекленбург-Штрелице 15 декабря сложилась патовая ситуация: СДПГ, единственная рабочая партия, прошедшая в ландтаг, получила 21 мандат, ровно столько же, сколько в сумме все буржуазные партии. На выборах в баденское Национальное собрание 5 января сильнее всех выступила Партия Центра, СДПГ заняла второе, ДДП — третье место, в то время как НСДПГ мандатов не получила. Неделю спустя прошли выборы в ландтаги Баварии и Вюртемберга. В Баварии БФП получила относительное большинство, вторыми стали социал-демократы большинства, а НСДПГ министра-президента Курта Эйснера получила всего три мандата. В Вюртемберге сильнейшей стала СДПГ большинства, следом за ней шли ДДП и Центр. В Бадене 36 депутатов от СДПГ большинства противостояли 71 представителю буржуазии, в Баварии были выбраны 101 «буржуазный» парламентарий и 55 социалистов; в Вюртемберге соотношение было соответственно 94 к 56{54}. Революционное правительство страны — Совет народных уполномоченных, состоявшее между тем только из представителей социал-демократов большинства, к моменту, когда заканчивался переходный период и вскоре должен был быть созван парламент, имело полное право занести себе в актив ряд важных достижений. Значительное число солдат из тех восьми миллионов, которые в конце войны еще несли службу, вновь включилось к январю 1919 г. в производственный процесс; из почти трех миллионов человек, работавших в военной промышленности, многие нашли другие виды занятости. Если в феврале 1919 г. насчитывалось еще около 1,1 млн безработных, получавших пособие, то в апреле их было уже только 830 000. Экономическая демобилизация была проведена в сжатые сроки благодаря целому ряду принудительных мер. Предприниматели обязывались восстановить на производстве всех работников, занятых на их предприятиях до 1 августа 1914 г. Чтобы достичь этой цели, разрешалось в случае необходимости растягивать работу. Обратной стороной обязательств по восстановлению солдат на рабочих местах стала необходимость увольнять работников, материальное положение которых напрямую не зависело от их трудовой деятельности. В первую очередь пострадали женщины. Народные уполномоченные также повысили границу годового дохода для обязательного медицинского страхования, ввели социальное обеспечение безработных и сделали первые шаги на пути введения государственного посредничества в деле трудоустройства. Они демилитаризовали арбитраж в промышленности, созданный по Закону о патриотической вспомогательной службе в декабре 1916 г. Арбитраж оставался в ведении комитетов, созданных на паритетной основе, где. равноценно были представлены работодатели и работники, но теперь комитет мог выбирать третейских судей из числа гражданских лиц, а не офицеров. Имперское министерство труда получило полномочия, в соответствии с запросом одной из сторон объявлять договоры о тарифах обязательными для обеих сторон. Рабочие комитеты, предусмотренные законом о вспомогательной службе для предприятий, где трудилось не менее 50 рабочих, теперь были обязательными и для более мелких предприятий с количеством более 20 работников. Ни одна из этих мер не была «социалистической» в узком смысле слова. Все они вписывались в представление о буржуазном социальном реформизме. Указы народных уполномоченных были мотивированы желанием сделать по возможности плавным переход от военной экономики к мирной и, таким образом, погасить революционные волнения. Этой приоритетной цели были подчинены не только изменения отношений собственности, но и старые социалистические идеалы, например, женская эмансипация: массовые увольнения работниц в ходе экономической демобилизации противоречили принципу равенства мужчин и женщин. В определенной мере в качестве компенсации женщинам были предоставлены равные политические права: программа народных уполномоченных от 12 ноября 1918 г. гарантировала «всем лицам мужского и женского пола, достигшим 20 лет», равное, тайное, прямое и всеобщее избирательное право. Выборы основывались на принципе пропорционального представительства. Таким образом, социал-демократы стремились устранить несправедливость действовавшей до этого мажоритарной системы: при перебаллотировке при равном количестве голосов во втором туре выборов у буржуазных кандидатов были, как правило, намного лучшие шансы, чем у кандидатов от политически изолированной социал-демократии. Столь же несправедливым было распределение избирательных округов, благоприятствовавшее сельским регионам в ущерб большим городам. Закон о выборах от 30 ноября 1918 г. устранил это искажение, предусмотрев соотношение: один депутат на 150 000 жителей. 38 избирательных округов, на которые был поделен рейх, конечно же, были весьма различны по величине, и в зависимости от числа населения они отправили в Национальное собрание разное количество депутатов{55}. Один из 38 избирательных округов был включен в закон исключительно формально: Эльзас и Лотарингия были оккупированы французами, и никто не мог рассчитывать, что эти области, аннексированные в 1871 г., останутся у Германии. Кроме того, пока не был подписан мирный договор, в высшей степени неясной оставалась судьба заселенных преимущественно поляками Познани, Восточной Пруссии и Верхней Силезии, где 19 января 1919 г. также должны были пройти выборы. Зато совершённо очевидно было, что не произойдет присоединения к рейху Германской Австрии, за которое 12 ноября 1918 г. единогласно высказалось Временное Национальное собрание в Вене. Когда 25 ноября 1918 г. на рейхсконференции немецких земель в Берлине австрийский посол официально сообщил о желании его страны войти в состав рейха, статс-секретарь министерства иностранных дел Зольф заявил протест, ссылаясь на проведение мирных переговоров. Никто из народных уполномоченных не поддержал австрийскую инициативу, и на то были веские причины: присоединение Австрии означало увеличение территории рейха, что было бы расценено странами Антанты как враждебный акт и вызвало бы с их стороны соответствующий ответ. Уже непосредственно перед выборами в Национальное собрание стало ясно, что исторический противник Австрии, Пруссия, сохранится как самостоятельная земля, и Германия не станет унитарным государством. Гуго Пройсс, которого правительство уполномочило написать проект конституции, планировал централизованное государственное устройство, против чего сразу же, совершенно не в духе социал-демократической доктрины, выступили новые правительства отдельных земель, в большинстве своем состоявшие из социал-демократов большинства и независимых. В Баварии традиционное стремление к независимости совпало здесь с желанием Эйснера уступить центральному правительству как можно меньше полномочий. Намерение Пройсса разделить Пруссию, самую большую из немецких земель, на несколько мелких, нашло поддержку лишь у одного из Народных уполномоченных — Фридриха Эберта. Большинство видных социал-демократов были противниками территориального переустройства Германии и особенно раздела Пруссии. Учитывая сепаратистские устремления Рейнской области, поддерживаемые Францией, они хотели сохранить Пруссию как наиболее существенную объединяющую силу между востоком и западом рейха. Пауль Хирш, социал-демократ и министр-президент Пруссии, заявил 25 января 1919 г., что Пруссия должна сохраниться как государство, чтобы конфессиональные противоречия не привели к созданию на востоке и западе рейха самостоятельных республик. Кроме того, увеличение количества немецких земель, по его мнению, могло послужить только интересам Франции{56}. За подобными соображениями скрывался невысказанный страх того, что раздел Пруссии может стать первым шагом на пути к распаду рейха. У подобных опасений были основания. Поскольку Франция не отказывалась от своих претензий на территории западнее Рейна, а возрожденная Польша стремилась получить максимально широкий выход к Балтийскому морю, единство Германии оказывалось под угрозой с двух сторон. Мелкие немецкие земли, очевидно, могли оказать меньшее сопротивление внешнему давлению, чем «великая Пруссия». Однако сколь бы ни были весомы внешнеполитические аргументы в пользу сохранения Пруссии, они не вели к решению внутренних проблем, которые создавала эта формация. Пруссия включала в себя почти три пятых населения и территории страны. Однако поскольку персональная связь руководства федеральной земли и правительства рейха осталась в прошлом, гегемония республиканской Пруссии была теперь гораздо менее очевидна, чем Пруссии монархической. Находясь у истоков республики, можно было только предсказать, что гармоническое развитие отношений между рейхом и самым большим из немецких государств крайне важно для обеих сторон, однако оно не было подкреплено какими-либо институциональными гарантиями{57}. Высокая степень преемственности, наложившая свой отпечаток на переходное революционное время между свержением монархии и выборами Национального собрания, объяснялась, что также показал пример Пруссии, как внутри-, так и внешнеполитическими причинами. Свобода действий Народных уполномоченных была столь же ограничена международными политическими обстоятельствами, как и социальным развитием и политическими традициями Германии. В таких условиях не мог состояться тотальный разрыв с прошлым, как того требовали левые радикалы. Воля большинства предначертала осуществление парламентской демократии, и на пути к этой цели волей большинства пренебречь было невозможно. Социал-демократ Макс Коен-Ройс выразил суть проблемы на Первом Съезде советов, когда он заявил делегатам, что «невозможно добиться больше социализма, чем того пожелает большинство народа»{58}. Однако немецкое общество могло оказать зимой 1918–1919 гг. достаточно поддержки некоторым коренным реформам. Ни в военной сфере, ни в области гражданского управления существовавшие отношения не должны были сохраниться в той мере, как это случилось на самом деле, а с социализацией угольной промышленности в первые месяцы после революции смирились бы даже центристские буржуазные партии. Если эти меры не были приняты, то только потому, что они казались правящим социал-демократам или не срочными, или слишком опасными. Будучи марксистами, они усвоили, что история порождает общественный прогресс в результате внутренней необходимости. Одновременно они были плодом германской кайзеровской империи. Социал-демократы усвоили идеи правового государства и конституционной системы в такой степени, которая делала осуществление революции в их глазах почти абсурдным. Когда в ноябре 1918 г. им в руки нежданно-негаданно свалилась государственная власть, главной заботой социал-демократов стала демократическая и правовая легитимация нового режима. Напротив, мысль о том, что столь желанная демократия требует общественных преобразований, не стала для них определяющей. Именно поэтому остались нереализованными шансы, пусть и ограниченные, открывавшиеся для демократизации германского общества в результате переломных событий 1918–1919 гг.Глава III Угнетенное большинство
На выборах в Национальное собрание 19 января 1919 г. социал-демократы большинства получили 37,9 % голосов и стали самой представительной партией с существенным отрывом от остальных. Однако даже вместе с НСДПГ, получившей 7,6 %, они не обеспечили себе большинства мандатов. По сравнению с последними выборами в рейхстаг, прошедшими в 1912 г., когда социал-демократы получили 34,8 % голосов, СДПГ большинства могла записать себе в актив существенный, но отнюдь не решающий прирост числа сторонников. Впечатление большого скачка вперед могло возникнуть, только приплюсовав к ее голосам также голоса, поданные за НСДПГ. Самой успешной буржуазной партией стала ДДП, получившая 18,5 % голосов, т. е. на 6,2 % голосов больше, чем ее предшественница — Прогрессивная народная партия, в 1912 г. В выигрыше оказались также обе католические партии, Центр и БФП, вместе они сумели получить 19,7 %, тем самым превысив на 3,3 % долю голосов, отданных в 1912 г. за партию Центра. Проигравшей стороной стали немецкие националисты, получившие 10,3 % голосов, что было существенно хуже результатов консервативных, аграрных и антисемитских партий, которые на последних выборах в рейхстаг получили в целом 15,1 %. Показательным стало также снижение количества проголосовавших за праволиберальные силы: если в 1912 г. Национал-либеральная партия получила 13,6 %, то Немецкая народная партия Штреземана в 1919 г. набрала лишь 4,4 %. Социал-демократы большинства были обязаны приростом голосов в первую очередь сельским областям Остэльбии, завоевав здесь прежде всего симпатии сельских наемных работников — группы, к которой социал-демократы и профсоюзы эпохи вильгельмианской империи едва ли могли получить доступ. Независимые социал-демократы располагали менее выраженными зонами поддержки, находившимися к северу от Майна, большей частью в центральной Германии. НСДПГ была сильна в промышленных городах со старыми социал-демократическими традициями, где во время войны местное партийное руководство и газеты поддерживали левую оппозицию. В двух избирательных округах с такими характерными чертами независимым удалось даже опередить социал-демократов большинства: в Лейпциге и Мерзебурге. В административном округе Мерзебург, где НСДПГ достигла своего лучшего по всей стране результата в 44,1 %, находилось одно из важнейших германских оборонных предприятий — недавно построенные заводы Лейна. Наряду с фактором «левой традиции» свою роль при распределении голосов в пользу НСДПГ также сыграла концентрация рабочих на новом огромном предприятии. Высокий процент голосов, полученных Партией Центра, невозможно объяснить, не принимая во внимание непроизвольную услугу, оказанную католической партии прусским министром по делам культов Адольфом Гофманом: католическое сообщество, которому уже давно угрожали центробежные тенденции, сплотилось, отвечая на его антицерковную политику. Немецкая национальная народная партия также имела повод быть благодарной Гофману. Потери консервативного лагеря, без сомнения, были бы более существенными, если бы множество прусских избирателей евангелического вероисповедания не были вынуждены повернуть вправо из-за прусской школьной и церковной политики. Прирост голосов, полученный Немецкой демократической партией, отчасти также объяснялся тем, что ее праволиберальный конкурент, ДФП, была основана лишь в середине декабря 1918 г. и не располагала к моменту выборов надежными местными организациями в большинстве регионов Германии. Еще большую роль сыграло то, что многие избиратели серьезно рассчитывали на коалицию СДПГ и ДДП и, голосуя за леволиберальную партию, стремились усилить буржуазный элемент в будущем правительстве. ДДП действовала с тем же расчетом, приписав СДПГ в ходе избирательной борьбы намерение передать в общественную собственность все средства производства, а сама набирала голоса в качестве защитницы частной собственности. Эта тактика имела особый успех среди самостоятельных предпринимателей, ремесленников и торговцев, однако также оказалась притягательной для «нового среднего класса» чиновников и служащих, которые дорожили разграничением с рабочими, занятыми физическим трудом. Число пришедших на выборы — 83 % было несколько ниже, чем на выборах в рейхстаг в 1912 г., в которых участвовало 84,9 %. Однако одновременно выросло и количество тех, кто имел право голоса. После введения избирательного права для женщин и снижения возрастного избирательного ценза с 25 до 20 лет число избирателей увеличилось почти на 20 миллионов человек, т. е. на 167 %. Самая решительная сторонница избирательных женских прав, социал-демократия, не получила от этого особого выигрыша: в тех округах, где голосование проводилось раздельно в зависимости от пола, за СДПГ голосовало гораздо больше мужчин, чем женщин. Например, в Кельне за СДПГ проголосовало 46,1 % мужчин и только 32,3 % женщин. В преимущественно католических областях в 1919 г. выигрыш от женских голосов получили прежде всего Центр и БФП, в евангелических — ДДП и ДНФП{59}. 6 февраля 1919 г. в Веймаре Национальное собрание собралось на свое учредительное заседание. Выбор места проведения стал прежде всего вотумом недоверия сотрясаемому кризисами Берлину, где, по мнению народных уполномоченных, пока не было возможности вести бесперебойную парламентскую деятельность. Однако в пользу выбора этого тюрингского города были и позитивные причины. Веймар располагался в центре Германии, и Эберт надеялся этим укрепить идею немецкого единства. Кроме того, как он заявил на заседании кабинета 14 января, «во всем мире будет положительно воспринято, если мы свяжем строительство новой Германии с духом Веймара»{60}. По результатам выборов перспективным мог быть только один вариант правительственной коалиции: возобновление сотрудничества трех партий, имевших большинство в старом рейхстаге, которые уже в октябре 1918 г. образовали первый коалиционный кабинет — правительство принца Макса Баденского. Теоретически существовали еще две возможности: правительство меньшинства из двух социал-демократических партий и «социал-либеральная» коалиция СДПГ и ДДП. Первому варианту мешали серьезные противоречия между социал-демократами большинства и независимыми, а также неготовность буржуазного центра поддержать чисто социалистическое правительство. Во втором случае социал-демократы имели бы очень серьезный перевес над левыми либералами. Именно поэтому ДДП уже 1 февраля, в ходе первых консультаций с СДПГ, предложила в качестве еще одного партнера по коалиции партию католического Центра. 8 февраля Партия Центра, создавшая единую фракцию вместе с Баварской народной партией, приняла решение войти в правительство вместе с СДПГ и ДДП. Для социал-демократов большинства решение в пользу «Веймарской коалиции» с левыми либералами и Центром означало подтверждение того курса, который они выбрали в июле 1917 г., вынеся решение в поддержку мирной резолюции рейхстага. Поскольку они добивались парламентской демократии, то теперь пришло время сотрудничать с умеренными силами буржуазии. Борьба с «буржуазией» по всем фронтам, которую НСДПГ поставила условием своего участия в правительстве, была несовместима ни с демократическими устремлениями социал-демократии большинства, ни с требованиями парламентской демократии. Никто не понимал этого лучше, чем Эдуард Бернштейн, который в начале 1919 г. вновь вступил в свою старую партию, а потом в течение нескольких недель состоял в обеих социал-демократических партиях, чтобы дать сигнал к воссоединению партии большинства и НСДПГ. «Республика, — писал он в своей книге о немецкой революции, вышедшей в 1921 г., — может вести борьбу с определенными буржуазными партиями и классами, но не со всеми, иначе ее положение окажется шатким. Она может вынести выпавшее ей бремя, только лишь заинтересовав в своем существовании и в своем успешном развитии значительную часть буржуазии. Даже если бы социал-демократы получили численное большинство на выборах в Национальное собрание, привлечение буржуазно-республиканских партий в правительство стало бы требованием самосохранения республики. Одновременно это было жизненной необходимостью для Германии как нации»{61}. Первым важным решением Национального собрания стало принятие 10 февраля 1919 г. проекта закона, предложенного на рассмотрение статс-секретарем министерства внутренних дел Гуго Пройссом, о временной власти в рейхе, т. е. о временной конституции. На следующий день подавляющим большинством голосов парламентарии избрали временным рейхспрезидентом Фридриха Эберта. Глава социал-демократов большинства, будучи председателем Совета народных уполномоченных, заслужил уважение и в буржуазных кругах. В свою очередь, Эберт надеялся, что, занимая высший пост в республике, он сможет олицетворять ведущую государственную роль социал-демократии и одновременно обеспечить необходимое, по его мнению, сотрудничество умеренных сил рабочего движения и буржуазии. Эберт не был человеком смелого ума, не говоря уже о харизме, его публичные речи были скорее прямодушными, чем зажигательными. Но его отличала трезвость мыслей, трудолюбие и упорство — «буржуазные» добродетели, облегчавшие центристским партиям возможность отдать ему свои голоса и положиться на то, что он будет на своем посту беспристрастен в отношении партийных симпатий и антипатий. Однако многие консервативные граждане воспринимали как наглость то, что преемником кайзера стал бывший подмастерье шорника, учившийся только в начальной школе. Широкие знания и самообразование, которым всю жизнь занимались Эберт и другие ведущие социал-демократы, не брались в расчет: с самого начала президентства ему пришлось мириться с чванством тех, кто категорически отрицал способность людей «из народа» занимать высокие государственные посты. Уже 11 февраля, в первый день своего пребывания в новой должности, Эберт дал поручение сформировать правительство бывшему народному уполномоченному Филиппу Шейдеману. В отличие от Эберта Шейдеман был блестящим оратором, умевшим вдохновлять и впечатлять как огромные массы, так и небольшие собрания. Опытный парламентарий, Шейдеман предпочитал избегать конфликтов, как правило, он выступал в поддержку начинания только тогда, когда был уверен в успехе. В качестве премьер-министра рейха, как гласил его титул, он был скорее модератором, чем руководителем. Подобный стиль работы Шейдемана импонировал партнерам по коалиции: первый глава правительства, сформированного парламентским путем, практически не давал им поводов для недовольства{62}. Важнейшим внутриполитическим вызовом для кабинета Шейдемана стало забастовочное движение, сотрясавшее Германию в первые месяцы 1919 г. Для подавляющего большинства рабочих война стала причиной резкого сокращения реальных доходов. Рабочие считали само собой разумеющимся, что социальные завоевания, связанные с соглашением Штиннеса — Легина, прежде всего восьмичасовой рабочий день, были лишь первым шагом к дальнейшему улучшению их положения. Первоочередным для них было ощутимое увеличение оплаты труда — требование, по поводу которого профсоюзы и предприниматели, как правило, быстро приходили к соглашению, поскольку и те и другие видели в этом средство сдерживания социального недовольства. Поскольку повышение зарплат сопровождалось постоянным ростом цен, работодатели вполне мирились со своими уступками. Инфляционное действие спирали «зарплаты — цены» осознавали все участники процесса. В апреле 1919 г. один референт из демобилизационного ведомства, в компетенции которого находилось повышение цен, отмечал, что текущий высокий уровень зарплат сам по себе не несет никакого риска: «Повышение выплат само себя корректирует, поскольку таким же образом понижается покупная цена денег»{63}. И все же, чем бы ни заканчивались переговоры о росте зарплат и сокращении рабочего времени между сторонами коллективного договора, результаты оставались, как правило, значительно ниже ожиданий работников. Особенно высоким был уровень недовольства среди шахтеров, которые, как занятые на особо трудных работах, сравнительно мало выиграли от введения восьмичасового рабочего дня. Зимой 1918–1919 гг. они стали первыми знаменосцами «социализации», которая однако трактовалась ими в высшей степени по-разному в зависимости от политической ориентации. Синдикалистское направление, базировавшееся в Хамборне, выступало за то, чтобы рабочие непосредственно руководили шахтами, в то время как для сформированной 9 января в Эссене «Комиссии девяти» на первом месте стоял контроль над шахтами — неважно, частными или государственными — выборными советами рабочих. С требования введения советской системы в сфере экономики, т. е. всеобъемлющего контроля над промышленностью со стороны производственных советов, в январе 1919 г. началась вторая фаза революции. На первой фазе речь шла прежде всего о политической демократизации — цели, приверженность которой наряду с рабочими выражали также широкие слои буржуазии. На второй фазе революции ее базис сузился до промышленного пролетариата, требования стали более материальными и радикальными. Движение за советскую систему в экономике отстаивало цели, не нашедшие поддержки большинства на выборах в Национальное собрание. Там, где решающее слово принадлежало синдикалистам и коммунистам, забастовки в поддержку социализации протекали зачастую с применением крайнего насилия. Таким образом, конфликт рабочих с коалиционным кабинетом Шейдемана был неизбежен. Правительство ответило на беспорядки и «дикие» забастовки введением фрайкоров — новых добровольческих корпусов, возглавляемых молодыми офицерами. Они формировались зачастую из участвовавших в войне студентов и представляли собой в политическом отношении крайне правые подразделения для борьбы с «большевизмом». Так, 14 февраля по приказу командующего VII армейским корпусом в Мюнстере генерала Ваттера фрайкор Лихтшлаг занял после кровопролитных боев Хервест-Дорстен, где за четыре дня до этого левыми радикалами был убит консервативно настроенный начальник канцелярии. Всеобщая стачка, начавшая затем по призыву коммунистов и левых радикалов, достигла своего апогея 20 февраля, когда в ней участвовало уже более половины рурских горняков. Лишь несколько дней спустя акция стала сходить на нет. Намного больший масштаб приобрела следующая всеобщая стачка в Рурской области, прошедшая в апреле. Незадолго до этого между профессиональными союзами горняков и работодателями было заключено соглашение о постепенном сокращении рабочих смен: сначала с 8 до 7,5 часов, ас 1921 г. — до 6 часов. Однако надежды профсоюзов на умиротворяющее воздействие достигнутых договоренностей не сбылись. 24 и 25 марта произошли кровавые столкновения рабочих и полиции в Виттене, 11 человек было убито и множество ранено. Виттенские беспорядки инициировали волну забастовок на территории между Бохумом и Дортмундом. Бастующие требовали признания советов рабочих и солдатских депутатов, немедленного исполнения военно-политических решений Съезда советов, незамедлительного введения шестичасовой рабочей смены и разоружения полиции как в Рурской области, так и по всей Германии. 30 марта в Эссене была созвана конференция шахтерских делегатов, полностью контролировавшаяся НСДПГ и КПГ. Подавляющим большинством голосов делегаты постановили выйти из профсоюзов и основать «Всеобщий союз шахтеров», основанный на системе советов. Место эссенской «Комиссии девяти» занял Центральный совет шахт. Кроме того, единогласно было принято решение провести бессрочную всеобщую забастовку. 1 апреля бастовали более трети, а 10 апреля — уже три четверти всех рабочих коллективов. Для правительства Шейдемана складывалась крайне опасная ситуация. Угольная промышленность была ключевым сектором германской экономики; длительная всеобщая забастовка шахтеров привела бы к экономическому коллапсу всего рейха. 31 марта кабинет ввел в Рурской области военное положение и объявил о введении войск. Затем правительство постановило, что бастующие рабочие не будут получать никаких прибавок за счет продуктового импорта; тем же, кто согласится на действующие рабочие смены продолжительностью 7,5 часа, напротив, надбавка на питание увеличивалась. 7 апреля правительство рейха и правительство Пруссии направили в Рурскую область в качестве государственного комиссара Карла Северинга, редактора социал-демократической газеты «Фольксвахт» в Билефельде, депутата рейхстага с 1907 г. и члена Национального собрания. Мастерство, с которым квалифицированный слесарь, а затем секретарь профсоюза выполнил свою задачу, во многом способствовало тому, что всеобщая забастовка закончилась в конце апреля. Со 2 мая 1919 г. добыча угля в Рурской области вновь шла в обычном режиме. Рейнско-вестфальский индустриальный район весной 1919 г. был лишь одной из многих неспокойных территорий рейха. Другим очагом напряженности стал средненемецкий горнодобывающий регион вокруг Галле и Мерзебурга. В отличие от Рурской области здесь движущей силой борьбы за социализацию с самого начала стали социалисты, а именно левое крыло НСДПГ. На деле требования местных организаторов были ближе к позиции «Комиссии девяти»: выборные производственные советы должны были иметь равное с руководством предприятий влияние в вопросах оплаты труда и увольнений. Помимо этого, они требовали предоставить советам неограниченный доступ ко всем производственным, хозяйственным и торговым операциям предприятия. Спорные дела между производственными советами и администрацией предприятий подлежали компетенции региональных советов рабочих депутатов. Социализация, о которой мечтало левое крыло НСДПГ, означала по меньшей мере сначала не изъятие собственности у предпринимателей, а лишение их власти. В середине февраля в Веймаре состоялись переговоры между шахтерами центральной Германии и правительством рейха. Их результаты, по мнению Вильгельма Коенена, неформального главы движения за введение производственных советов, оказались настолько неудовлетворительными, что Коенен заявил о провале переговорного процесса. 23 февраля конгресс горняков в Галле, половина участников которого были членами НСДПГ, и по одной четверти — СДПГ и КПГ, принял решение о проведении всеобщей забастовки. На следующий день в Саксонии, Тюрингии и Анхальте началась стачка. К рабочим с угольных и калиевых шахт присоединились трудовые коллективы больших химических фабрик и электростанций, а также железнодорожники. 27 февраля на пике движения бастовали три четверти рабочих центрального региона. После этого кабинет Шейдемана отдал правительственным войскам приказ занять Галле. Не удовлетворившись этой военной акцией, правительство одновременно начало пропагандистское наступление. Были приготовлены два обращения к бастующим под заголовками «Социализация на марше» и «Социализация началась!». В них правительство обещало в первые мартовские дни предпринять быстрые и радикальные шаги на пути к демократизации экономики, в том числе законодательное введение производственных советов и социализацию угольных и калиевых синдикатов. Тем самым кабинет также отреагировал на отчет созданной в ноябре 1918 г. комиссии по социализации, высказавшейся в середине февраля 1919 г. большинством голосов за социализацию угольной промышленности. 3 марта начались переговоры с бастующими. Правительство пошло на уступки, более существенные, чем обещания, данные горнякам в середине февраля: принципиально уже одобренные производственные советы должны были быть законодательно закреплены в конституции, их сфера деятельности не ограничивалась лишь горной промышленностью и им предоставлялись более широкие права на получение информации. В качестве компенсации предпринимателям, участвовавшим в переговорах, было гарантировано исключительное право на руководство предприятиями. Производственный совет, по мнению правительства, должен был иметь доступ ко всем хозяйственным делам предприятия, но только до тех пор, пока от этого не страдала производственная и коммерческая тайна. Что касается приема на работу и увольнений, то профсоюзы и союзы работодателей должны были договориться о принципах, которых затем были обязаны придерживаться как руководство предприятий, так и производственные советы. Собрание делегатов забастовщиков приняло это предложение с незначительным перевесом голосов. Всеобщая забастовка в центральной Германии завершилась 8 марта{64}. В Берлине, где всеобщая забастовка началась 4 марта, противостояние, напротив, только усиливалось. От забастовок в Рурской области и в центральном регионе ситуация здесь отличалась в двух отношениях. Во-первых, в Берлине забастовки проходили скорее под политическими, чем под экономическими лозунгами, во-вторых, социал-демократы большинства здесь были в большей мере, чем где бы то ни было, задействованы в забастовке, направленной против политики правительства, во главе которого стояли их товарищи по партии. Но в немецкой столице речь о «социализации» не могла идти уже потому, что здесь не было промышленности, считавшейся «созревшей» для этого шага. Требования берлинских забастовщиков были направлены на признание советов рабочих и солдатских депутатов, незамедлительное проведение в жизнь «Гамбургских пунктов», т. е. военно-политических решений Съезда советов, создание революционной рабочей самообороны и установление политических и экономических отношений с Советской Россией. После переговоров 7 марта с правительством в Веймаре из единого фронта забастовщиков вышли социал-демократы большинства и Свободные профсоюзы. Они обосновали свое решение тем, что за день до этого общее собрание советов рабочих и солдатских депутатов постановило распространить забастовку на жизненно важные предприятия, на которых 3 марта был введен категорический запрет на забастовку. 8 марта из руководства стачки вышли также представители НСДПГ. «Всеобщая стачка», по сути таковой теперь не являвшаяся, оказалась полностью в руках коммунистов и все больше приобретала черты локальной гражданской войны. 3 марта прусское коалиционное правительство под руководством социал-демократов ввело военное положение в полицейском округе Берлина, городском районе Шпандау и в округах Телтов и Нидербарним. Министр рейхсвера Густав Носке был наделен исключительно властными полномочиями в отношении этой территории. 9 марта он издал пресловутый приказ, не подкрепленный действующим законодательством: «Каждый, кто будет задержан с оружием в руках, сражаясь против правительственных войск, подлежит расстрелу на месте». Основанием для него стало сообщение о том, что в Лихтенберге «спартаковцами» были убиты 60 полицейских. Хотя эта информация была сразу же опровергнута, указание министра рейхсвера оставалось в силе до 16 марта. Всего жертвам берлинских мартовских боев стали около тысячи человек, в том числе 26 невооруженных матросов и бесчисленные невиновные граждане. Погиб также председатель КПГ и редактор газеты «Роте Фане» Лео Иогихес, который не принимал участия в боях, однако был арестован, а потом расстрелян одним из полицейских{65}. Помимо Рурской области, центральной Германии и Берлина, массовые забастовки прошли в первые месяцы 1919 г. в Верхней Силезии, Вюртемберге и Магдебурге. В Мангейме и Брауншвейге были даже провозглашены советские республики, в обоих случаях продержавшиеся у власти не более суток. Более серьезный след как в сознании современников, так и в памяти потомков оставили обе Мюнхенские советские республики, которые, как ни один другой эпизод немецкой революции, вызвали страх того, что теперь и в Германии наступят «русские порядки» и ввергнут сначала Баварию, а потом и всю страну в кровавую мясорубку гражданской войны. Вторая фаза баварской революции началась с политического убийства. 21 февраля 1919 г. студент-юрист и уволенный в отпуск лейтенант граф Антон Арко-Валлей застрелил министра-президента Курта Эйснера. Председатель баварской НСДПГ как раз направлялся в ландтаг, где собирался сделать заявление о своей отставке с поста главы правительства. Этот шаг давно назревал после сокрушительного поражения независимых социал-демократов на выборах в ландтаг 12 января. Однако правые круги, к которым принадлежал граф Арко, ненавидели Эйснера не только потому, что тот несколько недель занимал свой пост вопреки воле большинства избирателей, но и за то, что он был евреем-литератором из Берлина и пацифистом. Но самый большой вызов он бросил «национальной» Германии, когда опубликовал в выдержках баварские документы о развязывании мировой войны, где руководство рейха представало в самом невыгодном свете. Однако при этом Эйснер опустил важные пассажи, что вызвало подозрение в манипуляции также и у трезвомыслящих людей и в значительной степени лишило публикацию документов ее общественного значения. Покушение на Эйснера сразу же повлекло за собой еще одно преступление. Мясник Алоиз Линднер, коммунист и член совета рабочих депутатов, в отместку за убийство выстрелил в ландтаге в Эрхарда Ауэра, председателя баварского отделения СДПГ большинства, тяжело ранив его, а также нанес смертельное ранение одному из секретарей военного министерства, попытавшемуся остановить убийцу. В развязавшейся далее перестрелке, вероятно, также от пули Линднера погиб депутат от БФП. В тот же день, 21 февраля, Исполнительный комитет Мюнхенского совета рабочих депутатов объявил о введении военного положения и решил провести трехдневную всеобщую стачку. На 22 февраля было созвано всеобщее Мюнхенское собрание советов. Оно, в свою очередь, избрало Центральный совет Баварской республики, состоявший из представителей СДПГ большинства, НСДПГ, КПГ и крестьянских советов. Председателем Центрального совета стал аугсбургский учитель и левый социал-демократ Эрнст Никиш. Несмотря на острое противодействие со стороны крайне левых, Центральный совет решительно заявил о признании прав ландтага и гарантировал его новый созыв. Когда 28 февраля Съезд баварских советов, созванный Центральным советом, большинством голосов отклонил провозглашение социалистической республики, некоторые левые радикалы, среди них коммунист Макс Левиен, вышли из Центрального совета. Однако Съезд столкнулся также с сопротивлением со стороны социал-демократов большинства. Крупнейшая рабочая партия отказалась участвовать в работе временного правительства, назначенного Съездом советов, настаивая на том, что дееспособный кабинет может быть сформирован только свободно избранным народным представительством, т. е. ландтагом. В конце концов Съезд советов был вынужден смириться с этим решением. 17 марта на основании договоренностей между партиями ландтаг избрал бывшего министра по делам культов Йоханнеса Гофмана из СДПГ новым министром-президентом. Гофман сформировал кабинет из политиков обеих социал-демократических партий, Баварского крестьянского союза, а также из беспартийных специалистов, который мог рассчитывать на поддержку БФП и ДДП. 18 марта ландтаг принял закон о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий, а деятельность самого ландтага была отсрочена на неопределенное время. Несколько дней казалось, что внутренний кризис, начавшийся убийством Эйснера, преодолен. Однако договоренности, которые руководство НСДПГ заключило с СДПГ, не нашли никакой поддержки среди основной партийной массы, не говоря уже о самой баварский столице, где у независимых было наибольшее число приверженцев.Неожиданные морозы, грянувшие в Мюнхене 22 марта, усилили бедствия безработных и добавили аргументов агитаторам от крайне левых. Одновременно пришла новость из Будапешта, ободрившая радикалов: коммунисты под руководством Белы Куна вместе с социалистами учредили в Венгрии советскую республику, полностью порвавшую с буржуазным парламентаризмом и нацеленную на построение социалистического общества. 3 апреля в присутствии Эрнста Никиша аугсбургские советы первыми высказались за советскую республику Баварию, которая должна была вступить в союз с Советской Россией и Венгрией и начать «полную социализацию». На следующий день Центральный совет в Мюнхене выступил против созыва ландтага, уже запланированного на 8 апреля, и пригрозил всеобщей забастовкой во всей Баварии. В отсутствие министра-президента Гофмана, уехавшего в Берлин, кабинет поддался натиску советов. 4 апреля на собрании членов мюнхенской СДПГ выяснилось, что и среди социал-демократов большинства уже есть сторонники лозунга «Советской республики». Даже два члена кабинета, министр внутренних дел Зегитц и военный министр Шнеппенхорст, выступили за компромисс с левыми радикалами. На переговорах с НСДПГ и КПГ поздним вечером 4 апреля Шнеппенхорст, дабы избежать изоляции СДПГ, высказался даже за учреждение Советской республики и совместные действия трех рабочих партий. Самыми решительными сторонниками провозглашения Баварской Советской республики были не коммунисты, а независимые социал-демократы и анархисты. Мюнхенское отделение КПГ, возглавлявшееся с начала марта 1919 г. выходцем из России Евгением Левине, отклонило создание Советской республики рука об руку с СДПГ. Сами социал-демократы большинства не смогли прийти к единому мнению. Чрезвычайный окружной партийный съезд, прошедший 5–6 апреля, заявил о согласии с образованием Советской республикой в том случае, если ее поддержат все три рабочие партии. Земельная конференция СДПГ 6 апреля в Нюрнберге, напротив, отклонила 47 голосами против 6 учреждение Советской республик как по политическим, так и экономическим причинам. В консультациях находившихся в баварской столице членов Центрального совета в ночь с 6 на 7 апреля видные функционеры СДПГ уже не участвовали. Собрание членов Центрального совета постановило провозгласить Советскую республику и назначило одиннадцать временных «народных уполномоченных». В воззвании, подписанном Никишем, объявлялось о роспуске ландтага — «бесплодного порождения уже устаревшей буржуазно-капиталистической эпохи» — и сообщалось об отставке правительства Гофмана. Для защиты Баварской Советской республики от контрреволюционных посягательств извне и изнутри должна была сразу же быть создана Красная армия: «Баварская Советская республика следует примеру русского и венгерского народов. Она немедленно вступает в братские отношения с этими народами. Напротив, она отклоняет любое сотрудничество с достойным презрения правительством Эберта — Шейдемана— Носке — Эрцбергера, которое под знаменем социалистической республики продолжает вершить империалистические, капиталистические и милитаристские делишки позорно провалившейся кайзеровской империи. Баварская советская республика призывает все братские немецкие народы пойти тем же путем!» Первая Мюнхенская Советская республика, продержавшаяся всего одну неделю, стала трагикомическим фарсом. Она с самого начала была обречена на поражение, поскольку находилась в преимущественно консервативном окружении, а соотношение сил как в Баварии, так и во всей Германии было не в ее пользу. Создание республики стало возможным из-за перегрева политического климата в Мюнхене после убийства Эйснера благодаря скорее интеллектуальной, чем пролетарской радикальности, царившей в мюнхенской НСДПГ и среди анархистов, и, наконец, из-за оппортунизма видных баварских социал-демократов. Благодаря сделанным ими заявлениям и воззваниям, Советская республика в течение нескольких дней сама превратилась в предмет всеобщих насмешек. Так, анархист Сильвио Гезель, ставший народным уполномоченным по финансам, пообещал преодоление капитализма посредством введения «свободных денег»[7]; ответственный за внешнюю политику член НСДПГ д-р Франц Липп объявил о разрыве дипломатических отношений с рейхом и отправил Ленину телеграмму с выражением солидарности пролетариата Верхней Баварии. Сколь бы комичным ни казался режим швабингских[8] литераторов, он вырос из путча против избранных государственных органов, и потому должен был быть ликвидирован. Правительство Гофмана, перебравшись в Бамберг, поначалу попыталось вернуть себе власть собственными, баварскими силами. На вербное воскресенье 13 апреля части Республиканской солдатской самообороны по договоренности с правительством предприняли попытку свергнуть режим советов. В ходе боев были убиты двадцать человек и ранены более сотни. Сражение закончилось победой имевшей численное преимущество Красной армии. Казалось, Советская республика была спасена. Однако уже вечером 13 апреля власть в Мюнхене захватили коммунисты, в первые дни не поддержавшие «иллюзорную» Советскую республику и ставшие ее «советниками» только с 11 апреля. Они приписали себе главную роль в разгроме «путча» правительственных войск и истолковали этот частный успех как доказательство того, что контрреволюция повержена и Бавария может стать оплотом центральноевропейской и даже мировой революции. «Сегодня, наконец, в Баварии утверждена диктатура пролетариата!» — было сказано в воззвании нового Исполнительного совета производственных и солдатских советов Мюнхена под руководством Евгения Левине. «Солнце мировой революции взошло! Да здравствует мировая революция! Да здравствует Баварская Советская республика! Да здравствует пролетариат!.. Да здравствует коммунизм!» Мюнхенские коммунисты во главе с Левине действовали на свой страх и риск, без указаний из Берлина или Москвы. Центральный комитет КПГ выступил против ультрарадикальных элементов в собственных рядах еще 11 апреля, заявив, что спасение германского пролетариата может прийти только благодаря Германской, а не баварской, вюртембергской или брауншвейгской Советской республике. Начав действовать, Левине получил благословение Ленина. В телеграмме, направленной в Мюнхен 27 апреля, вождь большевиков всем сердцем приветствовал советскую республику в Баварии. Ленин также хотел знать подробности некоторых деталей захвата власти. Особенно его интересовало, «уплотнили ли буржуазию в Мюнхене для немедленного вселения рабочих в богатые квартиры», «взяли ли заложников буржуазии» и все ли банки захвачены. Бамбергское «правительство в изгнании» после событий 13 апреля осознало, что собственно баварских сил для ликвидации Советской республики недостаточно. Правительство Гофмана получило поддержку от министра рейхсвера Носке и от вюртембергского фрайкора. Всего формирования, выступившие против баварской Красной армии, насчитывали более 35 000 бойцов. Против таких сил защитники Советской республики не имели никаких шансов. Кроме того, экономическое положение в Мюнхене день ото дня ухудшалось. Баварская столица была практически полностью отрезана от внешнего мира военной блокадой; десятидневная всеобщая забастовка, к которой 14 апреля призвало новое советское правительство, парализовала промышленное производство. 25 апреля пришлось запретить потребление молока, запасы продовольствия были практически исчерпаны. Чтобы подтвердить свою платежеспособность, Исполнительный совет приказал открыть все денежные сейфы и банковские ячейки. Когда и этого отказалось недостаточно, бумажная фабрика в Дахау получила заказ напечатать банкноты Баварского государственного банка в сумме нескольких миллионов марок. Дахау был отбит у «белых» подразделением Красной армии под командованием писателя Эрнста Толлера 16 апреля. Эта победа в значительной степени способствовала поддержанию иллюзий у коммунистических руководителей относительно фактической расстановки сил. Но когда два дня спустя австрийский фольксвер подавил коммунистическое восстание в Вене, разрушив надежды на построение революционной оси Мюнхен — Вена — Будапешт, в правительстве второй советской республики произошел раскол. Умеренные, среди них — независимые социал-демократы Эрнст Толлер, Эмиль Меннер и Густав Клингель-хофер, теперь настаивали на переговорах с правительством Гофмана. Они добились также того, что 27 апреля собрание мюнхенских производственных и солдатских советов выразило недоверие Исполнительному комитету и принудило его уйти в отставку. В ответ коммунисты вышли из Комитета действия, «парламента» Советской республики. Его возглавил Толлер, сразу же попытавшийся установить контакт с правительством в Бамберге. Однако по указанию Носке, правительство отказалось идти на какие-либо уступки и настаивало на безоговорочной капитуляции Советской республики. Столь же непреклонным был «комендант» Мюнхена и главнокомандующий Красной армией, двадцатишестилетний матрос Рудольф Эгельхофер. Заручившись поддержкой КПГ, он объявил, что командование Красной армии будет защищать пролетариат от «белой гвардии», чего бы то ни стоило. Последовавшая развязка была ужасной. 30 апреля, вероятно, по приказу Эгельхофера в здании гимназии имени принца Луитпольда красноармейцами были расстреляны десять заложников, члены немецкого народнического[9] Общества Туле. Бойцы фрайкора, вступившие в Мюнхен вскоре после этого, получили сведения об этом преступлении в преувеличенном искаженном виде и учинили акцию кровавого возмездия. Мужчин, застигнутых с оружием в руках, зачастую расстреливали на месте без какого-либо допроса. Были убиты также 53 русских военнопленных, несших караульную службу в Красной армии, 12 жителей Перлаха, в большинстве члены социал-демократической партии, на которых донесли их политические противники, 21 член католического Союза подмастерий Св. Иосифа, которых по ошибке приняли за «спартаковцев». Когда 3 мая Мюнхен был полностью «освобожден», выяснилось, что в ходе боевых действий всего было убито 606 человек, из них 38 со стороны правительственных войск и 335 гражданских лиц. Из вождей советов бежать удалось только Максу Левиену. Эгельхофер и писатель-анархист Густав Ландауэр, народный уполномоченный по народному просвещению первой Советской республики, были убиты солдатами фрайкора. Евгений Левине был обвинен в государственной измене и, несмотря на впечатляющую защитную речь, приговорен к смерти. Казнь Левине 5 июня 1919 г. вызвала бурю протестов и двадцатичетырехчасовую всеобщую забастовку в Берлине. Толлер был приговорен к пяти годам, писатель-анархист Эрих Мюзам, вместе с Ландауэром составлявший текст провозглашения первой советской республики — к пятнадцати годам заключения. Эрнст Никиш отделался двумя годами{66}. Обе Мюнхенские Советские республики стали для большей части населения Германии своеобразным зловещим предзнаменованием. Впервые левым радикалам удалось подчинить своей власти, диктатуре небольшого меньшинства, крупный немецкий город в течение нескольких недель. Вполне закономерно, что широкие слои населения и особенно буржуазия приветствовали вступившие в Мюнхен добровольческие корпуса как освободителей, а случаи насилия восприняли равнодушно, а иногда и с одобрением. Ненависть к марксизму и большевизму приняла в Мюнхене начиная с весны 1919 г. необычайно фанатичные формы, которые нельзя было встретить ни в одном другом крупном немецком городе. Еврейское происхождение Эйснера, Толлера, Мюзама и Ландауэра, и тот факт, что оба вождя коммунистов — Левиен и Левине — были эмигрировавшими из России евреями, дали мощный толчок и без того сильному антисемитизму. Даже правительство Гофмана в своем обращении от 9 мая охарактеризовало свергнутых правителей как «бессовестных чужеземцев». Самый талантливый антисемитский агитатор, Адольф Гитлер, начинавший свою политическую карьеру летом 1919 г. как доверенное лицо командования Баварской группы рейхсвера, нашел в послереволюционном Мюнхене идеальную почву для распространения своих политических идей{67}. Поражением второй Баварской Советской республики закончилась вторая фаза революции 1918–1919 гг. Ее начало ознаменовалось недовольством результатами первого этапа. Многие рабочие не желали удовлетвориться тем, что принесли им политические изменения ноября 1918 г.: некоторыми социальными завоеваниями на почве капиталистического общественного устройства и перспективами парламентской демократии. Призыв к социализации ключевых отраслей промышленности и к широкому участию рабочих в решении производственных и внепроизводственных вопросов стал общим знаменателем советского движения, о котором в узком смысле слова можно говорить лишь начиная с января 1919 г. Требование «чистой советской системы», политического порядка на основе принципа «Вся власть советам!» даже весной 1919 г. поддерживало меньшинство рабочих. И лишь меньшинство внутри этого меньшинства считало, что рабочий класс уже достаточно радикально настроен и что пробил час пролетарской революции. Поражение второй Мюнхенской Советской республики было прежде всего крушением этих крайне левых сил, но еще ни в коем случае не концом движения за производственные советы или пролетарского радикализма. Левые коммунистические, синдикалистские и анархистские тенденции в некоторых слоях немецкого рабочего класса были все еще сильны. Поэтому мюнхенское поражение означало лишь временное прекращение попыток насильственного свержения власти со стороны левых, начало которым положило январское восстание в Берлине. Центральное руководство КПГ имело теперь возможность оправдывать свое негативное отношение к локальным и региональным советским республикам, обращаясь к опыту мюнхенских событий. После убийства Лео Йогихеса все больший вес в руководстве партии приобретал Пауль Леви, считавший себя душеприказчиком Розы Люксембург. Адвокат из состоятельной буржуазной еврейской семьи, блестящий аналитик и вдохновенный оратор, он видел в левых радикалах, склонных к путчизму, самую большую проблему КПГ. Размежевание с этими элементами он считал единственным шансом сделать КПГ массовой революционной партией и оставить позади НСДПГ, которая до сих пор была единственной партией, извлекавшей для себя пользу из растущего недовольства рабочих. Своего первого успеха Леви добился на нелегальной всегерманской конференции, состоявшейся в Берлине в середине июня 1919 г.: КПГ резко размежевалась с синдикализмом, поскольку тот не признавал необходимости строительства строго централизованной пролетарской партии и стремился к организации локальных путчей, что было неприемлемо для компартии{68}. НСДПГ, бывшая по сравнению с КПГ политическим гигантом, тем не менее испытывала несравнимо большие внутренние противоречия, чем коммунистическая партия. Наиболее серьезную роль в поляризации мнений весной 1919 г. сыграли споры вокруг советской системы. На Берлинском «революционном съезде партии» в марте Эрнст Доймиг, решительный сторонник «чистой советской системы», добился включения в «Программный манифест» пункта, в котором система советов как боевая организация пролетарской революции и диктатуры пролетариата называлась необходимым условием осуществления социализма. Зато в своих актуальных партийных требованиях, написанных рукой умеренного председателя партии Гуго Гаазе, НСДПГ настаивала лишь на «включении системы советов в Конституцию» с целью гарантировать им «полноправное участие» в законодательной деятельности, государственном и муниципальном управлении, а также в работе предприятий. Противоречие между этими двумя толкованиями системы советов были столь очевидны, что делегат Клара Цеткин, недавно примкнувшая к КПГ и все еще не вышедшая из НСДПГ из тактических соображений, иронически заметила, что «сосуществование системы советов и парламента» похоже на бракосочетание кролика с карпом{69}. Менее противоречивыми выглядели попытки примирить систему советов и парламентскую демократию, предпринятые социал-демократами большинства и Свободными профсоюзами. Обе организации весной 1919 г. пришли к пониманию того, что определенные уступки идее советов неизбежны, если требуется сдержать процесс радикализации рабочего движения. В апреле к руководству Свободных профсоюзов пришла группа молодых функционеров во главе с председателем профсоюза работников деревообрабатывающей промышленности Теодором Лейпартом, считавших вредной прежнюю конфронтацию между профсоюзами и советами. Они стремились предложить новую идею: интегрировать производственные советы в профсоюзы и создать общими усилиями «производственную демократию». Социал-демократы большинства на своем первом послевоенном партийном съезде в июне 1919 г. в Веймаре выработали руководящие принципы, предусматривавшие создание экономических советов наряду с политическим парламентом. Экономические советы должны были иметь право законодательной инициативы и экспертной деятельности, но не право вето на решения парламента. Таким образом гарантировался абсолютный приоритет всенародного представительства, а отказ от «чистой советской системы» не мог быть сформулирован более однозначно. Поэтому если для производственных и экономических советов вырисовывалось некое будущее, имеющее подсобой правовую основу, то дни местных советов рабочих и солдатских депутатов были сочтены. Эти советы, созданные на заре революции, рассматривались сначала лишь как эрзац будущего народного представительства. Однако и после формирования парламентов земель все еще не была решена одна из главных задач, которую ставили перед собой советы, а именно: демократизации армии и гражданского управления. Ради решения этой задачи, очевидно, полагая, что у народных представителей не хватит необходимой энергии, даже умеренные рабочие и солдатские советы потребовали весной 1919 г. долгосрочных гарантий своих прав конституцией. Подобное двоевластие местных рабочих и солдатских советов, с одной стороны, и демократически избранных общинных и окружных советов — с другой, исключалось уже по финансовым соображениям. В Пруссии уже вскоре после выборов в законодательное земельное собрание 26 января 1919 г. многие органы общинного самоуправления и городские собрания депутатов отказались финансировать расходы местных советов. В свою очередь, министр внутренних дел социал-демократ Гейне регулярно отклонял их жалобы по этому поводу. Контрольные функции советов Гейне терпел лишь до середины июня 1919 г. и только в округах. Только к этому времени, через восемь месяцев после Ноябрьской революции, окружные комитеты, созданные на основе старой избирательной системы, были легитимно заменены на новые, демократические. Центральный совет Германской социалистической республики, еще в феврале 1919 г. заявлявший о необходимости сохранения советов рабочих депутатов до тех пор, пока не произойдет демократизация власти, уже осенью смирился с неизбежным. После того как министр финансов Пруссии сообщил, что в бюджете на 1920 г. не предусматриваются средства для советов, Центральный совет отказался от давно запланированных новых выборов депутатов — теперь уже навсегда. Осенью и зимой 1919 г. почти все еще оставшиеся советы распались. «Чистые» солдатские советы исчезли уже весной 1919 г., в ходе демонтажа кайзеровской военной машины. Между тем во многих местах утвердились возникшие в конце 1918 г. так называемые «гражданские советы»: совместные комитеты буржуазных союзов, часто отвечавшие на забастовки рабочих «контрзабастовками» — закрытием предприятий, магазинов и медицинских практик{70}. Дело социализации, ради которого рабочие массы бастовали весной 1919 г., не преуспело при правительстве Шейдемана. Рейхсминистр экономики социал-демократ Рудольф Виссель перенял у своего статс-секретаря Вихарда фон Меллендорфа представления о «коллективной экономике», носившие резко консервативные, даже авторитарные черты. Меллендорф стремился к «народному хозяйству, которое планомерно ведется на благо народа и контролируется обществом». В этой системе принципиально сохраняется частная собственность на средства производства, однако ее должна была ограничивать система корпоративного самоуправления и публичного контроля. Меллендорф и Виссель собирались также «ограничить» рабочих важнейших секторов экономики, которые де-факто должны были быть лишены права на забастовку, поначалу сроком на один год. Идея «коллективной экономики» в трактовке Висселя и Меллендорфа вызвала в коалиционном кабинете сопротивление как со стороны социалистов, так и со стороны либералов. Министр продовольствия социал-демократ Роберт Шмидт заявил, что социализм в смысле Эрфуртской программы СДПГ 1891 г. означает не только контроль над производством, но и переход владения из частной собственности в общественную. Совершенно другого плана были возражения представителя ДДП рейхсминистра финансов Георга Готейна. Для него «регулируемая плановая экономика» Висселя сводилась к «увековечиванию принудительной экономики в капиталистическо-цеховых формах». Определенную конкретизацию проект «коллективной экономики» получил после принятия в марте и апреле 1919 г. Национальным собранием двух законов, подготовленных имперским министерством экономики — об угольной и калийной промышленности. Оба закона не затрагивали прав частной собственности, а превращали эти отрасли, уже в высокой степени картелированные, в принудительные синдикаты. Как в Угольном, так и в Калийном имперском советах предприниматели были представлены существенно сильнее, чем рабочие. При такой конструкции было маловероятно, что в сфере ценовой политики будут приняты какие-либо решения не в пользу предпринимателей. Оба закона в любом случае не уменьшали политической власти горнопромышленников. Столь же мало мог что-либо изменить в общественном соотношении сил предложенный СДПГ закон о социализации, принятый Национальным собранием 13 марта 1919 г., несмотря на голоса против со стороны правых партий. В соответствии с его положениями рейх имел право за соответствующую компенсацию переводить в «общественное хозяйствование» определенные годные для этого предприятия. Однако закон не предусматривал обязательного обобществления какой-либо отрасли. Доклад Комиссии по социализации угольной отрасли, представленный в середине февраля 1919 г. и являющийся одним из самых проработанных документов, порожденных дебатами по проблеме социализации, правительство Шейдемана направило в Национальное собрание лишь после того, как оно уже одобрило оба законопроекта Висселя, т. е. когда вопрос о социализации был уже фактически решен. В этом документе большинство экспертов обосновывало свою поддержку идеи обобществления угледобывающей отрасли не только тем, что уголь составляет основу всей промышленной жизни, но и тем, что благодаря своему монопольному положению угольная промышленность обладает властью, уже давно требующей общественного вмешательства. Однако Комиссия трактовала «социализацию» не как огосударствление, скорее, она планировала сделать собственником предприятий угольной отрасли самостоятельное хозяйствующее образование — Германское угольное общество. В контрольный орган, Угольный совет, должны были, по предложению комиссии, входить в равных пропорциях представители руководства предприятий, рабочих, рейха и «потребителей», к последним относились промышленные покупатели угля. Из 25 представителей рейха 10 предполагалось избирать парламентом, причем чиновников не могло быть более 5 человек. Комиссия считала, что статус Угольного общества как самостоятельного юридического лица будет иметь для Германии особое преимущество: в этом случае в отличие от государственной собственности угольное общество не могло считаться «общественным имуществом», которое Антанта, согласно договору о перемирии, рассматривала в качестве гарантий по своим репарационным требованиям. Посредством такой конструкции эксперты надеялись лишить силы один из стандартных аргументов противников социализации. Обобществление угольной промышленности в том виде, к которому стремилась Комиссия по социализации, могло бы существенно изменить соотношение сил в немецком обществе. Модель, предложенная экспертами, отличалась в положительную сторону от синдикалистских и бюрократических решений; она обеспечивала общественный контроль над важнейшим сектором немецкой экономики, не угрожала его производительности и учитывала претензии работников на участие в управлении предприятиями. Если бы эта модель была воплощена, то одна из властных элит, отрицательно настроенная по отношению к новому демократическому государству, потеряла бы свое влияние. Менее вероятно то, что таким решением, не имеющим ничего общего с рабочим самоуправлением, удовлетворилась бы радикальная часть пролетариата. Однако все свидетельствовало о том, что республика могла увеличить поддержку в рабочей среде, лишив главных врагов рабочих хотя бы части власти{71}. Провал социализации угольной промышленности произошел в первую очередь не оттого, что эта идея не нашла поддержки большинства в Национальном собрании. Коалиция СДПГ с умеренными буржуазными партиями вряд ли распалась, если бы социал-демократы выступили с предложениями Комиссии по социализации как со своими собственными. Важнее было то, что социал-демократы и Свободные профсоюзы не считали, что время изменений в отношениях собственности уже пришло. Сначала восстановление экономики, потом социализация: такой последовательности придерживалась крупнейшая политическая партия в Германии даже тогда, когда стало очевидно, что время работает против социализации угольной промышленности. Укрепление власти собственников шахт усилило правый фланг промышленного лагеря, а это, в свою очередь, способствовало усилению крена влево в рабочем движении. В проигравших оказались умеренные силы как среди буржуазии, так и внутри рабочего класса, на сотрудничестве которых основывалась не только Веймарская коалиция, но и республика в целом.Глава IV Проблемный мир
Моральный разрыв с прошлым кайзеровской империи удался в 1918–1919 гг. в столь же малой степени, как и в сфере экономики. Хотя шанс для этого предоставлялся исключительный: правда о развязывании Первой мировой войны стала доступна широкой публике уже весной 1919 г. В ноябре 1918 г. народные уполномоченные поручили независимому социал-демократу и помощнику статс-секретаря министерства иностранных дел Карлу Каутскому, а также представителю социал-демократического большинства Максу Кварку, занимавшему аналогичную должность в имперском бюро внутренних дел, собрать и опубликовать все германские документы, относящиеся к возникновению войны. Несмотря на разрыв между СДПГ большинства и НСДПГ в начале января 1919 г., Эберт специально просил Каутского направить все свои усилия на издание документов. После того как Кварк оставил свой пост, Каутский занимался подготовкой публикации в одиночку. Незадолго до завершения Каутским этого труда, 22 марта 1919 г., кабинет Шейдемана в отсутствие Эберта рассматривал вопрос о вине Германии в развязывании войны. Как отмечал ранее рейхспрезидент, на парижских мирных переговорах потребуется четкая позиция Германии по этому вопросу. После отказа Англии передать экспертизу вопроса нейтральной стороне, Германии придется осуществить ее самостоятельно. При этом было необходимо, по мнению Эберта, «как можно серьезнее осудить грехи старого правительства», а позицию нового изложить в специальном меморандуме. Кроме того, Эберт предложил создать специальный Государственный суд, который мог бы установить степень вины в развязывании войны отдельных высокопоставленных лиц. Большинство министров согласились с рейхспрезидентом, за одним характерным исключением. Министр финансов Ойген Шиффер, ранее член партии национал-либералов, в ноябре 1918 г. перешедший в ДДП, предостерег коллег, заявив, что «признание вины отнимет у нашего народа остатки самоуважения, а противников превратит в триумфаторов». Шиффер назвал войну «превентивной» и не усматривал никакой вины Германии в том, что она пыталась вырваться из враждебного «окружения», которое «через год или два накинуло бы нам петлю на шею». Публикация немецких документов о начале войны, полагал он, «лишь навредит нам как внутри страны, так и за ее пределами». Ответ социал-демократа Эдуарда Давида, рейхсминистра без портфеля, был не менее показателен. Он заявил, что союзники и так уже знают обо всем том, что в этих документах наиболее серьезно компрометирует Германию. Однако «если мы вместе с Шиффером признаем превентивный характер войны, то мы признаем все, в чем нас упрекает Антанта». Премьер-министр Филипп Шейдеман не посчитал нужным принять участие в этой дискуссии. 18 апреля 1919 г. кабинет вновь рассматривал вопросы о вине Германии в развязывании войны. Досье, собранное Каутским, было уже представлено в распоряжение правительства, и теперь нужно было решить, как им распорядиться. Документы министерства иностранных дел не оставляли сомнений в том, что во время июльского кризиса 1914 г. руководство рейха оказывало давление на Австро-Венгрию, чтобы та объявила войну Сербии, и таким образом, правительство Бетмана — Гольвега несло главную ответственность за развязывание Первой мировой войны. Рейхсминистр юстиции Йоханнес Белл, представитель Центра, выступил в своем докладе против публикации этих документов, поскольку они, по его словам, рисовали одностороннюю картину, невыгодную для Германии. Документы, по мнению Белла, касались лишь короткого предвоенного периода, а события в целом можно было понять лишь в связи со всей предысторией войны, политикой изоляции со стороны Англии, реваншистской политикой Франции, панславистской и великосербской политикой. Давид, содокладчик Белла, напротив, выступил за публикацию документов, полагая, что в сложившихся обстоятельствах может помочь лишь «полная ясность и правда». По его мнению, необходимо было указать на то, что люди, участвующие теперь в работе правительства, не знали об этих материалах ни в начале войны, ни в ходе мирового конфликта и что современная Германия уничтожила старую политическую систему полностью. Впрочем, и по его мнению, в предыстории войны имелись некоторые смягчающие моменты, которые если и не оправдывали превентивную войну, то по крайне мере ее объясняли. В итоге кабинет вновь не пришел к единому мнению. Шейдеман, не вмешивавшийся в дебаты, рекомендовал в конце заседания, несмотря на возражения Давида, «в настоящее время воздержаться от публикации документов». Тем не менее 11 июня 1919 г. подборка немецких ведомственных документов была опубликована. Однако «Белая книга по вопросу ответственности виновных в развязывании войны», изданная министерством и ностра иных дел, как обоснованно отметил Каутский, была «чем угодно, но не попыткой разрыва с политикой свергнутого режима». Более подробные, восходящие к досье Каутского, «Германские документы о начале войны» вышли в свет лишь в конце 1919 г. — слишком поздно для того, чтобы повлиять на оценку немцами условий мира или даже на сами мирные условия. Попытка решить вопрос виновности в развязывании войны юридическим путем также провалилась. Правительственный законопроект, предусматривавший создание чрезвычайного Государственного суда, был отклонен конституционным комитетом Национального собрания 16 августа 1919 г. Вместо этого было предложено создать специальную следственную комиссию, которая в основном должна была заняться выяснением причин начала войны, ее продолжения, а также причин поражения Германии. Пленум принял это предложение 20 августа. Однако надежды на то, что следственная комиссия сумеет лишить исторические спорные вопросы политической взрывоопасности, не оправдались. 18 ноября 1919 г. Гинденбург в своих показаниях перед этой комиссией процитировал некоего английского генерала, оставшегося безымянным, вложив ему в уста те слова, которые он хотел произнести от своего имени: немецкая армия была поражена ударом в спину. Таким образом получила свое классическое воплощение легенда об «ударе кинжалом в спину»{72}. Непредвзятое и откровенное изучение участия Германии в развязывании войны требовало в начале 1919 г. огромного мужества. Те, кто выступали за публикацию немецких документов, как правило надеялись впечатлить Антанту столь честной позицией и добиться более мягких условий мира. Противники публикации опасались противоположного эффекта: легитимации самими немцами «карательного» мирного договора. На самом деле для союзников ответ на вопрос об ответственности центральноевропейских держав за войну был очевиден, и ничто не свидетельствовало о том, что признание Германией вины могло бы повлиять на мирные условия. Однако в долгосрочной перспективе Германия, демонстративно порвавшая с прежней политической системой, могла надеяться на позитивную реакцию стран-победительниц. Опорные точки для усилий такого рода появились уже летом 1919 г.: это были протесты, которыми социалистические партии Италии, Англии и Франции ответили на мирный договор Версаля. Достаточно- тяжело было определить возможные внутриполитические последствия публичного признания Германией своей вины в развязывании войны. Очевидно, что раскрытие сведений о ходе июльского кризиса 1914 г. привело бы к поляризации общественного мнения. Если бы собрание документов Каутского было опубликовано в апреле 1919 г., то правительство рейха и Веймарскую коалицию скорее всего обвинили бы в недостатке патриотизма и даже предательстве немецких интересов. Однако противостояние с радикальным национализмом и без этого было неизбежным, и вопрос о виновности в развязывании войны давал возможность перейти в наступление против сторонников войны и ее продолжения. С другой стороны, партии, находившиеся теперь у власти, в свое время поддержали военные приготовления Германии. Как бы они выглядели, признав, что они не смогли распознать то, что и военное, и гражданское руководство вводило их в заблуждение в течение четырех лет? Что случилось бы, признай они задним числом правоту тех, кто уже сразу после начала войны разоблачал как легенду заявления Германии о том, что война имеет оборонительный характер? Страх перед подобного рода признаниями был немаловажным фактором, удерживавшим большинство действующих лиц от откровенного раскрытия исторической правды. 7 мая 1919 г. в Версале германской делегации были переданы «условия мира союзных и ассоциированных правительств». Немецкая общественность, ни в коей мере не подготовленная правительством страны к очевидным тяжелым жертвам, ответила на мирные условия воплем возмущения. В подавляющем большинстве немцы ожидали «мира Вильсона» — мирного договора под знаком компромисса и взаимопонимания, основанного на праве самоопределения всех народов, включая немецкий. Однако условия мира при первом прочтении выглядели так, будто пером держав-победительниц водил не американский президент, а дух «смертельной вражды». Наиболее тяжелыми среди многочисленных территориальных уступок, которые союзники потребовали от Германии, была потеря территорий на востоке империи. Польше отходила вся Верхняя Силезия, Познань и большая часть западной Пруссии, причем восточная Пруссия оказывалась отрезанной от основной территории страны. Мемельская область поступала в распоряжение Антанты; Данциг был объявлен вольным городом под управлением комиссара Лиги Наций — организации, которую еще предстояло создать. Если бы в основу договора была положена идея права народов на самоопределение, то вопрос о вхождении территорий рейха в состав Польши однозначно решился бы в пользу польского государства только лишь в случае с Познанью. Но право выбирать между Польшей и Германией было поначалу признано только за населением южных районов Восточной Пруссии и территорий западной Пруссии восточнее Вислы, в районе Мариенбурга и Мариенвердера. Для победителей первоочередной задачей было создание жизнеспособной Польши с сильным промышленным потенциалом и прямым выходом к Балтийскому морю. Демократическая легитимация территориальных уступок отступала перед этой задачей на задний план. Менее шокирующими для немцев оказались значительные территориальные уступки на Западе: возврат Эльзаса и Лотарингии Франции весной 1919 г. никем не подвергался сомнению. В случае с районом Ойпен-Малмеди, отошедшем к Бельгии, было даже проведено голосование, хотя итоги плебисцита вряд ли имели отношение к реальности по причине грубой манипуляции. Область Саара, которую стремилась присоединить Франция, сроком на 15 лет передавалась под управление Лиги Наций. После чего ее судьбу должен был решить плебисцит. В отношении Рейнской области Франции также пришлось пойти на уступки: левобережные территории не были отделены от Германии, над ними даже не предусматривался постоянный военный контроль Антанты. Зато условия мира диктовали эшелонированную по зонам оккупацию сроком на 5, 10 и 15 лет в зависимости от зоны и долгосрочную «демилитаризацию» левобережной Германии. На самом севере рейха вновь вступал в силу принцип самоопределения: население северного Шлезвига могло выбирать между Германией и Данией. Зато в другом случае мирный договор опять препятствовал праву на самоопределение: устанавливался запрет на присоединение к рейху Германской Австрии. Чтобы воспрепятствовать нападению Германии на соседей в будущем, страны-победительницы наложили на нее радикальные ограничения в военной сфере. Воинская повинность ликвидировалась, армия сокращалась до 100 000, а флот до 15 000 профессиональных военнослужащих. Германии запрещалось впредь иметь воздушный флот и подводные лодки, равно как танки и химическое оружие. Генеральный штаб распускался. Океанский флот должен был быть, за небольшим исключением, передан победившим странам (это условие не было выполнено, так как военные 21 июня 1919 г. затопили все суда под Скапа-Флоу). Всего в результате мирного договора Германия теряла седьмую часть территории и десятую часть населения. С экономической точки зрения наиболее существенной стала потеря Германией (если также учесть раздел в 1921 г. Верхней Силезии) трети всех угольных и трех четвертей рудных месторождений. К этому следует добавить потерю колоний. Что касается требования о возмещении военных убытков и потерь, то победители не смогли договориться об окончательной сумме репараций. Решение этой проблемы было отложено на будущее. Некоторые репарационные выплаты союзники, напротив, смогли установить сразу. Германия должна была отдать весь свой кабель дальней связи, 90 % торгового флота и 11 % поголовья крупнорогатого скота. В течение десяти лет страна должна была ежегодно поставлять около 40 миллионов тонн угля во Францию, Бельгию и Люксембург и Италию. Обоснование таких репарационных требований было дано в статье 231 «Ответственность за развязывание войны» мирного договора. Германия и ее союзники были названы зачинщиками войны и ответственными за все потери и ущерб, нанесенный союзным и ассоциированным державам{73}. В правительственном лагере поначалу взяли верх те, кто считал условия мира неприемлемыми и собирался заблаговременно заявить об этом публично. Первым из состава правительства Шейдемана высказался беспартийный, но близкий к ДДП министр иностраиных дел граф Брокдорф-Ранцау, позиция которого, доведенная до логического конца, позволяла лишь отклонить условия мира. Либеральный профессиональный дипломат заявил о своей точке зрения еще 7 мая, при передаче условий мира в Версале, сославшись на «силу ненависти», «которая противостоит здесь мне» и резко выступив против тезиса о вине одной Германии в развязывании мировой войны. 12 мая еще на шаг дальше пошел премьер-министр Германии. На митинге Национального собрания в актовом зале Берлинского университета глава правительства задался риторическим вопросом: «Какая рука не отсохнет, заковав себя и нас в такие кандалы?» Товарищ Шейдемана по партии, прусский министр-президент Пауль Хирш, выдвинул лозунг «Лучше умереть, чем стать рабом!», а президент Национального собрания, депутат от Партии Центра Константин Ференбах пригрозил Антанте даже новой мировой войной. «Этот договор… есть увековечивание войны. И теперь я обращаюсь к нашим врагам на понятном им языке, и говорю: Метогеэ ез1о!е, тткл, ех оззШиэ иИог(Помните, враги, из останков [павших] родится мститель). В будущем немецкие женщины станут рожать детей, и эти дети порвут рабские цепи и смоют причиненный нам позор с лица немецкого народа». Некоторое время казалось, что протест против условий мира создал в стране единый фронт, куда вошли представители всех партий, начиная с немецких националистов и заканчивая социал-демократами. В совместном заявлении головных союзов предпринимателей и профсоюзов от 20 мая проект мирного договора в Версале был назван «смертельным приговором немецкой экономической и народной жизни». В нем говорилось, что с незапамятных времен еще не совершалось такого преступления против столь большого, трудолюбивого и благонравного народа, как то, что запланировано в отношении Германии. Былые планы военной экспансии германской промышленности не помешали теперь предпринимательским союзам выступать совместно с профсоюзами против «ограбления наших колоний и всех наших иностранных владений» и заверять, что они ожидали «мира права, свободы и примирения народов»{74}. Внутри правительства прежде всего министры от ДДП стремились убедить коллег отказаться от подписания договора. Они получили поддержку со стороны социал-демократов Отто Ландсберга и Густава Бауэра, министров юстиции и труда, а также главы почтового ведомства Гисбертса, представителя Центра. Сторонники жесткой линии надеялись своим поведением укрепить «тыл» немецкой делегации, пытавшейся в Версаледобиться смягчения условий мира. Для ДДП определенную роль играл также расчет на то, что партия вполне безопасно может позволить себе сказать «нет» договору, поскольку в Национальном собрании и без демократов наберется большинство для принятия условий мира. Противоположную позицию занимал министр без портфеля Матиас Эрцбергер, председатель германской Комиссии по перемирию, а также его коллеги, социал-демократы Давид и Носке. Будучи сторонниками «реалистической политики», они осознавали, что в случае отказа Германии от договора, союзники оккупируют территорию всей страны, которая не сможет даже попытаться этому противостоять из-за слабости своих вооруженных сил. Носке мог сослаться на мнение первого генерала-квартирмейстера Грёнера, полностью совпадающее с его собственным, что придавало аргументам министра рейхсвера дополнительный вес{75}. Таким образом, из правительственных партий только одна — ДДП — заняла по отношению к мирному договору солидарную — отрицательную позицию. СДПГ и Центр были расколоты. Социал-демократическая фракция Национального собрания 12 мая, вопреки рекомендациям выдвинутого на пост председателя партии Германа Мюллера, высказалась подавляющим большинством (против было только 5 голосов) за то, чтобы объявить условия мира неприемлемыми. В Партии Центра друг другу противостояли сторонники Эрцбергера и Гисбертса. С 16 июня противостоящие лагеря в обеих партиях вновь пришли в движение. В этот день союзники дали ответ на встречные предложения, выдвинутые немецкой делегацией 28 мая. По сравнению с условиями мира от 7 мая важным достижением стало согласие на решение вопроса о вхождении Верхней Силезии в состав Германии или Польши путем народного волеизъявления. Что касается Рейнской области, то союзники предусматривали возможность досрочного прекращения оккупации в случае «адекватного» поведения Германии. Однако в сопроводительной ноте союзники однозначно и по всем пунктам отвергли подход Германии к вопросу об ответственности за развязывание войны. По этому пункту германский протест вызвал лишь ужесточение позиции союзников. Германии был дан срок в пять дней, в течение которого она должна была принять или отклонить предложенные условия{76}. Германская мирная делегация во главе с Брокдорф-Ранцау сразу же предложила правительству страны отклонить договор. ДДП, уже 4 июня заявившая, что в случае его подписания выйдет из состава кабинета, 19 июня продолжала настаивать на своей линии. Фракция Центра в тот же день решила большинством в четыре пятых голосов принять договор «при определенныхусловиях, выражая при этом свой протест». Среди социал-демократов за подписание также выступало явное большинство. И хотя 19 июня Шейдеман и Ландсберг пригрозили фракции, что уйдут в отставку, если она не поддержит их вердикт — «неприемлемо», в тот же день на предварительном пробном голосовании 75 депутатов проголосовало «за» и 39 — «против» принятия договора. Значительную роль в пересмотре позиции сыграло сообщение министра рейхсвера Носке о безнадежном военном положении Германии, а также министра продовольствия Роберта Шмидта о не менее отчаянной ситуации со снабжением продуктами питания. За несколько часов до голосования в кабинете министров сложилась патовая ситуация: семь министров выступили сторонниками и столько же противниками подписания договора. На следующем заседании кабинета поздним вечером 19 июня противоречия преодолеть не удалось, и Шейдеману ничего не оставалось делать, как выполнить свою угрозу. Вместе с Брокдорфом-Ранцау и Ландсбергом ранним утром 20 июня он объявил рейхспрезиденту об отставке кабинета{77}. У Шейдемана не было другого выбора, так как он поспешил с отрицательным заключением по вопросу подписания договора. Если бы он настоял на своем, войска Антанты заняли Германию, и целостность страны была бы нарушена. В Рейнской области и Пфальце активизировались сепаратистские движения, которые получали поддержку французских оккупационных сил, а на востоке приходилось считаться с возможностью нападения Польши. И хотя оккупации союзников невозможно было воспрепятствовать силами армии, она тем не менее обязательно привела бы к кровавым столкновениям. Акты насилия со стороны националистически настроенных правых сил были столь же вероятны, как и новые попытки путча со стороны крайне левых. В этом случае борьба с внешним врагом и гражданская война перетекали бы друг в друга, и ввергли бы страну в тот самый хаос, предотвращение которого до сих пор было главной задачей социал-демократов и буржуазного центра. Конечно, подписание мирного договора, в свою очередь, также было связано с огромными внутренними рисками. В восточных провинциях Пруссии на случай, если Германия подчиниться предложенным Антантой мирным условиям, разрабатывались планы создания самостоятельного «восточного государства». Оно, как, например, считал прусский военный министр генерал Рейнгард, а также крайне правый социал-демократ и рейхскомиссар Восточной и Западной Пруссии Август Винниг, могло бы стать очагом будущего национального возрождения всего немецкого государства. Некоторые высокопоставленные военные, как генералы фон Лосберг и фон Белов, не хотели выжидать, а собирались сразу же после принятия мирных условий начать, опираясь на Восток, вооруженную борьбу за освобождение всей Германии. Первый генерал-квартирмейстер Вильгельм Грёнер был решительным противником подобных планов, считая их проявлением военного авантюризма. Однако на пике правительственного кризиса даже Грёнер не мог поручиться за то, что военная фронда не ответит путчем на подписание договора{78}. 21 июня Эберт объявил преемником Шейдемана своего партийного товарища и доверенное лицо: прежнего рейхсминистра труда, а еще ранее — второго председателя генеральной комиссии Свободных профсоюзов, Густава Бауэра, который в предыдущем правительстве был одним из самых незаметных в политическом отношении министров. Сорокадевятилетний Бауэр, выходец из Восточной Пруссии, за несколько недель до этого выступал против подписания мирного договора, однако в конце концов образумился и изменил свою позицию. В его кабинет вошли лишь члены СДПГ и Центра: двух партий, решивших большинством голосов принять, хотя и с оговорками, условия мирного договора. ДДП предпочла поддержать свой недавно приобретенный «национальный» имидж и отказалась войти в новый кабинет, первым шагом которого должно было стать подписание Версальского договора. Из числа известных политиков, кто считал этот шаг неизбежным, четверо получили наиболее важные министерские портфели: Герман Мюллер, за несколько дней до этого избранный социал-демократами председателем партии, стал министром иностранных дел, Густав Носке остался министром рейхсвера, Эдуард Давид занял пост министра внутренних дел, а Матиас Эрцбергер от Центра вошел в кабинет Бауэра как рейхсминистр финансов{79}. Срок ультиматума, продленный Антантой на два дня из-за правительственного кризиса в Германии, истекал 23 июня. 22 июня Национальное собрание провело поименное голосование: 237 депутатов против 138 при шести воздержавшихся высказались за подписание мирного договора. Однако согласие немецкой стороны было дано с молчаливой оговоркой, сформулированной немецким правительством без участия союзников: Германия не признает своей единоличной вины в развязывании войны и отказывается выдавать победителям военных преступников. Еще вечером того же дня последовал ответ союзников. Они настаивали на безоговорочном подписании и отклонили продление ультиматума на 48 часов, о чем просила немецкая сторона. Под впечатлением этого сообщения 23 июня в течение нескольких часов казалось, что в Национальном собрании не удастся заручиться большинством голосов в поддержку безоговорочного принятия мирного договора. На заседании фракции Центра генерал Меркер, ответственный в Веймаре за военную безопасность, заявил, что офицерский корпус в случае принятия договора откажется от поддержки правительства, и в результате нельзя будет поручиться за сохранение внутреннего порядка. После того как Носке, также присутствовавший на заседании фракции Центра, «глубоко потрясенный» подтвердил это сообщение и, в свою очередь, выступил за отказ от подписания, противники договора оказались в большинстве. В пробном голосовании фракции Центра, состоявшемся около полудня, 68 депутатов, включая четырех министров, высказались против, и только 14 — за подписание договора. Подобный результат означал также расторжение новой черно-красной коалиции, созданной исключительно ради формирования германского правительства, способного подписать мирный договор. В этот момент было лишь ясно, что обе социал-демократические фракции — СДПГ и НСДПГ — были полны решимости высказаться за подписание договора. Две правые партии, ДНФП и ДФП, которые ни в малейшей степени не были заинтересованы в том, чтобы самим взять на себя ответственность по управлению страной, теперь стали предпринимать попытки склонить большее число депутатов от Центра к подписанию договора. Немецкие националисты и Немецкая народная партия даже были готовы к тому, чтобы пойти навстречу желаниям Центра и выступить с заявлением, что они признают «патриотические мотивы» тех депутатов, которые хотят выступить за принятие мирного договора. Не меньшую роль в формировании позиции Центра сыграли и два других заявления: попытка Носке несколько сгладить свою пессимистическую оценку положения и телеграмма Грёнера Эберту, в которой первый генерал-квартирмейстер заверил президента, что добиться успеха военным путем невозможно, и если Носке в публичном воззвании объяснит необходимость подписания мира, то существует возможность, что «военные выступят в его поддержку, и тем самым будут предотвращены как любые новые попытки захвата власти внутри страны, так и сражения с внешними силами на востоке». В свете этих заявлений минимальное большинство Партии Центра решилось согласиться на безоговорочное принятие договора. Это спасло правительство Бауэра и гарантировало необходимое большинство голосов для принятия договора в Национальном собрании. В ходе тайного голосования большинство парламентариев подтвердили, что правительство по-прежнему уполномочено подписать мирный договор. Против проголосовали фракции ДНФП и ДФП, большинство ДДП и часть фракции Центра. 28 июня министр иностранных дел Мюллер и министр транспорта Белл поставили свои подписи под договором в Зеркальном зале Версаля{80}. С этого момента ничто так не объединяло послевоенную Германию, как возмущение по поводу «диктата» победителей. Условия Версальского договора оценивались отнюдь не исходя из целей, которые Германия преследовала в ходе войны и добилась в Брест-Литовске. Характер оценок договора определялся в первую очередь теми представлениями о справедливом мире, которые нашли свое выражение в 14 пунктах Вудро Вильсона. Действительно, самый эффективный постулат Вильсона — право народов на самоопределение, последовательно нарушался Версальским мирным договором. Это прежде всего относилось к восточной границе Германии. Однако был ли хоть какой-то шанс сделать Польшу, которой полтора века самым жестоким образом отказывали в государственном существовании, самостоятельным и независимым государством с согласия Германии? Возможно ли было вообще на востоке Центральной и Южной Европы, т. е. в областях национальной чересполосицы, провести в жизнь принцип самоопределения какой-либо нации, не ущемив при этом интересы других? Что же касается права на самоопределение австрийцев, то закономерен вопрос: как бы отреагировали народы стран-победительниц, если бы побежденная Германия, присоединив Германскую Австрию, вышла из войны с существенным приращением территории и населения? Лидеры держав-победительниц испытывали серьезное давление со стороны народов своих стран. Все военные расходы должны оплатить немцы: в этом французских граждан неоднократно заверяло в ходе войны собственное правительство, и теперь пришло время выполнять эти обещания. Репарации, размер которых все еще не был определен, должны были тяжким грузом лечь на Германию, так что «возвращение к нормальной жизни» становилось для немцев невозможным на годы вперед. Однако как во Франции, так и в Англии любое правительство, которое осмелилось бы переложить тяготы последствий войны не на «бошей» и «капустников», а на собственный народ, было бы сразу с негодованием отлучено от власти. От правительств стран Антанты ожидали устройства такого миропорядка, в котором немецкий реванш был бы исключен навсегда. Дальше всех в этом отношении зашло французское правительство. Однако, как уже было отмечено, французам не удалось добиться полной реализации своих целей в результате сопротивления англичан и американцев. Английский премьер-министр Ллойд Джордж хотел поставить заслон французской гегемонии на континенте, а президент Вильсон не желал сверх меры подвергать опасности свое политическое реноме. Германия была обязана англо-американскому сопротивлению тем, что Рейнская область осталась в составе рейха и не была занята оккупационными войсками на длительное время. В обмен на ущемление собственной безопасности Франция должна была получить от Великобритании и США всеобъемлющие гарантии помощи и защиты. Соответствующий договор был ратифицирован в Лондоне Палатой Общин, однако американский Сенат отклонил его, тем самым также аннулировав обязательства Великобритании оказывать содействие Франции. В пакете со всеми версальскими соглашениями американский Сенат отверг также и любимый проект Вильсона — Лигу Наций. «Версальская система» потеряла таким образом свой краеугольный камень: перестраховку со стороны США. Можно было ожидать, что Франция теперь попытается обеспечить свою безопасность со стороны Германии каким-либо другим способом. Германия после Версальского мира чувствовала себя страной, отнесенной к нациям второго сорта. На какое-то время для нее был закрыт доступ в Лигу наций, поначалу остававшуюся ареопагом стран-победительниц и нейтральных государств. Германский суверенитет был ощутимо ограничен, территория уменьшилась, экономическая мощь ослабла, а военный потенциал казался лишь слабым отблеском былого величия державы Гогенцоллернов. Однако рейх продолжал существовать, Германия все еще оставалась страной с самым большим населением к западу от русской границы и экономически наиболее развитой державой Европы. Во внешнеполитическом отношении положение Германии также ни в коем случае нельзя было считать безнадежным. Если Франция стремилась найти своих естественных партнеров в лице Польши и государств «малой Антанты» 1920–1921 годов: Чехословакии, Югославии и Румынии, то у Германии оставался шанс построить особенно тесные отношения со странами так называемой «Межевропы», от Финляндии через Прибалтику к Болгарии. Еще важнее было то, что теперь, после Первой мировой войны, не могло даже быть и речи об «изоляции» Германии, если ее вообще когда-нибудь можно было осуществить. Между западными державами и Советской Россией зияла пропасть: интервенция союзников в поддержку «белых» закончилась лишь в конце 1920 г. Республиканская Германия еще не восстановила дипломатические отношения с Москвой, прерванные правительством принца Макса Баденского 5 ноября 1918 г. в знак протеста против финансирования большевистским правительством германских революционеров. Однако сближение «парий» миропорядка образца 1919 г. было предопределено логикой развития ситуации. Таким образом, перспективы Германии вновь стать великой европейской державой ни в коей мере не были похоронены Версальским договором. Во внутриполитическом плане «Версаль» сразу же стал оружием правых. Заверения со стороны ДНФП и ДФП в том, что парламентское большинство, проголосовавшее за подписание мира, руководствовалось патриотическими соображениями, были быстро преданы забвению. Республиканские силы должны были жить с постоянным укором, что, поставив подпись под договором, они приложили руку к унижению Германии. После того как в мае 1919 г. стали известны мирные условия союзников, не осталось шансов на успеху тех деятелей, кто требовал критического освещения участия Германии в развязывании войны 1914 г. Когда Эдуард Бернштейн в середине июня на съезде СДПГ в Веймаре поставил «вопрос о вине и ответственности» и попросил своих товарищей не делать себя заложниками голосования 4 августа 1914 г., входе которого социал-демократическая фракция рейхстага одобрила военные кредиты, руководство партии и делегаты устроили ему настоящий разнос. В борьбе против «лжи о вине Германии в развязывании войны» объединились представители самых различных течений; министерство иностранных дел поддерживало соответствующие действия, а немецкая историческая наука практически сплоченными рядами пошла на службу якобы хорошему делу. Из опровержения ошибочного тезиса, согласно которому Германия была единственной виновницей развязывания мировой войны, вскоре выросла легенда о немецкой невиновности. Она внесла едва ли меньший вклад, чем ее сестра-близнец — легенда об ударе ножом в спину, в создание специфического националистического климата, в котором развивалась политическая жизнь Веймарской республики{81}.Глава V Конституция, с которой смирились
Когда в конце февраля 1919 г. Учредительное национальное собрание приступило к своей главной задаче — разработке новой имперской конституции, уже были приняты два важных предварительных решения. Во-первых, было решено, что конституция будет носить не социалистические, а, скорее, либеральные черты. Левый либерал и правовед Гуго Пройсс, которому народные уполномоченные поручили 15 ноября 1918 г. разработку проекта конституции, днем ранее в газетной статье подзаголовком «Демократия или авторитарное государство наизнанку» призвал социал-демократов разделить ответственность за новый порядок в Германии с либеральной буржуазией. Обе социал-демократические партии, в свою очередь, преследовали определенные конституционно-политические цели, однако у них не было законченной концепции конституции. Передав Пройссу, новому статс-секретарю имперского бюро министерства внутренних дел, руководство подготовкой конституции, они тем самым признали превосходство либерального лагеря на этом поприще. Во-вторых, можно было заранее предсказать, что конституция будет менее централистской, чем планировалось Пройссом: в «Комитете федеральных земель», который с 27 января 1919 г. обсуждал конституционный проект Пройсса, те земли, в которых у власти стояли социал-демократы, добились проведения пересмотра конституции в федералистском духе{82}. Отношения между рейхом и землями в последующем стали одним из основных пунктов преткновения в ходе парламентских обсуждений конституции. Внутри Веймарской коалиции партия Центра чувствовала себя «хранителем Грааля» федерализма, а СДПГ и ДДП были настроены унитаристски. Однако для социал-демократов на местах обладание государственной властью значило больше, чем идеология. В результате социал-демократическая фракция в рейхстаге не смогла, столкнувшись с сопротивлением социал-демократических министров-президентов, добиться осуществления своей программной цели — усилить рейх за счет земель. Требование СДПГ превратить рейхсрат из представительства правительств земель в представительство ландтагов, было осуществлено в столь же малой мере, как и предложение существенно увеличить компетенцию рейха, к чему стремился конституционный комитет Национального собрания. Правительство рейха не хотело идти на конфликт с важнейшими землями и снова и снова склоняло коалиционные партии к компромиссам. Проект Пройсса, предусматривающий разделение Пруссии на мелкие государства, также не нашел практически никакой поддержки у партийных фракций Веймарской коалиции. О главной причине такой сдержанности мы уже говорили: большинство депутатов осознавали опасность единству рейха, которую могло причинить собой территориальное переустройство. Это касалось прежде всего западной части Германии. Пруссия казалась более способной противостоять сепаратизму, поддерживаемому Францией, чем Рейнская область, входившая в рейх в качестве самостоятельного отдельного государства, как того требовало региональное автономистское движение. В завершение обсуждения конституции в нее были внесены статьи, которые делали коренное территориальное переустройство рейха если не полностью невозможным, то достаточно проблематичным. Тем не менее в конституции содержалась попытка поставить двойной заслон прусской гегемонии. Во-первых, Пруссия, включавшая в себя почти три пятых населения рейха, могла претендовать лишь на две пятых мест в рейхсрате. Во-вторых, определение, согласно которому земли были представлены в рейхсрате членами их правительств, было нарушено в случае с Пруссией, представительство которой состояло из членов правительства лишь на одну половину, а на вторую — из делегатов прусских провинциальных органов управления. Согласно окончательному результату, рейх был более унитарным, чем того хотели федералисты, и более федералистским, чем желали центристы. Земли стали больше, чем просто самоуправляющимися областями, а рейх, в свою очередь, не стал тем унитарным государством, о котором грезил Пройсс. Разъединение прусского и имперского правительств означало определенный шаг на пути лишения самой крупной из немецких земель ее привилегий. Но, с другой стороны, рейхсрат имел в Веймарской республике несравнимо меньший вес, чем бундесрат в кайзеровской империи. Южнонемецкие земли потеряли право на привилегии в военной области, почтовом деле и налогообложении, которые были дарованы им Бисмарком. Урон в первую очередь был нанесен Баварии, однако ничего не говорило в пользу того, что «вольное государство» надолго смирится с таким понижением собственного статуса{83}. Столь же спорными, как отношения между рейхом и землями, были взаимоотношения между парламентом и главой государства. Пройсс хотел видеть во главе рейха сильного президента, напрямую избираемого народом. По согласованию с социологом Максом Вебером, принадлежавшим к его ближайшим консультантам, статс-секретарь имперского ведомства министерства внутренних дел предусматривал для президента роль противовеса рейхстагу. С точки зрения буржуазии, это было необходимо уже потому, что социалистические партии имели все шансы заполучить большинство в парламенте. В предостережении Пройсса об опасности «парламентского абсолютизма» отразилась его надежда, что избранный прямым голосованием рейхспрезидент будет проводить сравнительно более консервативную политику, чем парламентское большинство. От президента, обязанного быть беспристрастным, Пройсс и буржуазные центристские партии ожидали высокой степени способности к интеграции разных политических сил. Это было особенно важно в отношении профессионального чиновничества, которое не должно было становиться заложником партий, а служить государству в целом. Сильный рейхспрезидент как гарант мощного надпартийного государства и государственной преемственности: в этом был смысл конструкции, предложенной Пройссом Национальному собранию 24 февраля 1919 г. Со стороны социал-демократов либеральный «отец конституции» встретил решительное противодействие. На заседании фракции 25 февраля ветеран партии Герман Молькенбур заявил, что такой рейхспрезидент будет являться «заменой кайзера» и обличил «прямо-таки наполеоновский трюк со всенародными выборами президента». В ходе первого чтения проекта конституции на пленуме 28 февраля оратор от социал-демократов Рихард Фишер заявил, что документ дает президенту власть более обширную и менее ограниченную, чем полномочия президентов Французской республики или Соединенных Штатов Америки: «На нас не должна влиять мысль, что сейчас пост рейхспрезидента занимает социал-демократ. Все то, что в старой конституции было создано под канцлера Бисмарка, не должно в настоящей конституции быть создано под рейхспрезидента Эберта. Мы должны считаться с тем фактом, что однажды на этом месте окажется другой человек, из другой, возможно реакционной партии, стремящейся к государственному перевороту. Мы должны остерегаться этого, тем более что история других республик преподносит нам в высшей степени поучительные примеры такого рода»{84}. Подобные опасения, которые в более острой форме звучали также со стороны НСДПГ, не находили отклика у буржуазных партий. Однако даже среди социал-демократов большинства под влиянием столкновений весны 1919 г., рождавших аналогии с гражданской войной, росла склонность рассматривать сильного президента как неизбежность. СДПГ вопреки ее первоначальному мнению примирилась с долгим, семилетним сроком легислатуры президента, и даже согласилась с буржуазными партиями в вопросе о дополнительном расширении его чрезвычайных полномочии в случае бедственной ситуации. В третьем чтении конституции от 30 июля 1919 г. отпало условие, предусмотренное конституционным комитетом еще 18 июня, согласно которому меры рейхспрезидента, принимаемые им в соответствии с 48-й «статьей о чрезвычайных постановлениях», требовали одобрения рейхстага. Вместо этого теперь стало достаточно, чтобы рейхспрезидент незамедлительно поставил рейхстаг в известность о своих действиях. Однако право рейхстага отменять принятые президентом меры не было затронуто этим изменением. Представительная демократия, которую олицетворял собой рейхстаг, ограничивалась не только рейхспрезидентом, избираемым прямыми выборами. В качестве законодателя рейхстаг все больше вступал в конкуренцию с народом. Инициаторами введения процедур «народной инициативы»[10] и плебисцита выступали социал-демократы. Однако и в их рядах высказывались сомнения в необходимости «народного» законодательства: на заседании фракции 2 февраля 1919 г. депутат Рихард Фишер заявил, что народ, выступающий как единое целое, всегда оказывается реакционной силой, и опыт других стран доказывает, что народное волеизъявление всегда выступает против прогрессивных изменений. Однако подавляющее большинство социал-демократов стремилось придерживаться линии всех прежних партийных программ и укоренить в конституции принцип прямого народного законодательства. С несколько меньшим нажимом, чем обе социал-демократические партии, идею народной инициативы и плебисцита поддержала ДДП. ДФП, напротив, отклонила оба новшества как инструменты радикальной демократической политики и в этом совпала во мнении с частью ДНФП. Другая часть немецких националистов рассчитывала на консервативный потенциал народного волеизъявления и выступала за референдум. Партия Центра поначалу не заняла определенной позиции. В результате долгих обсуждений был достигнут компромисс. Требование социал-демократа Вильгельма Кайля о проведении плебисцита для принятия конституции и «народной инициативы» в случае роспуска рейхстага не получили большинства в конституционном комитете. Напротив, согласие было достигнуто по вопросу плебисцита, который должен был проводиться в том случае, если десятая часть избирателей потребует этого в ходе проведения «народной инициативы». Кроме того, закон, принятый рейхстагом, должен был быть вынесен на референдум в случае, если того требовала двадцатая часть избирателей, а до этого треть рейхстага выступила против обнародования закона. В третьем чтении большинство проголосовало за предложение СДПГ, ДДП и Центра, в соответствии с которым решение рейхстага могло быть лишено силы в результате плебисцита только в том случае, если в нем приняло участие большинство избирателей. Это положение должно было помешать рейхспрезиденту выступать в качестве оппонента рейхстага. Ибо вопреки предложениям Кайля, конституционный комитет предоставил рейхспрезиденту (и в случае внесения изменений в конституцию — рейхсрату) право требовать проведения процедуры плебисцита в отношении закона, принятого рейхстагом{85}. Зато рейхстаг был избавлен от еще одного потенциального конкурента на поле законодательства: речь идет о так называемом Экономическом парламенте, который мог бы оспорить существенные права у народного представительства. Соответствующие требования раздавались с разных сторон. Так, на Втором съезде Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Германии, проходившем с 8 по 14 апреля 1919 г. в Берлине, делегаты приняли предложение двух «правых» социал-демократов, Макса Коен-Ройса и Юлиуса Калиски, требовавших создания «Палаты труда», равноправной парламенту. Их собственная партия не поддержала это предложение, однако оно нашло сочувствие у крайне правых. 21 июля 1919 года депутат от Немецкой национальной народной партии и бывший кайзеровский госсекретарь Клеменс фон Делбрюк заявил в Национальном собрании, что в идее советов заложена мысль, на которую откликнулась и его партия. Она созвучна идее формирования палаты, в которой были бы представлены различные профессии и ремесла, и в которой его друзья и он сам уже давно видели «противовес перенапряжению парламентаризма и господству парламента»{86}. Но большинство в Национальном собрании не разделяло идеи создания какого бы то ни было дополнительного законодательного органа. В результате положения, отраженные в 165-й «Статье о советах» Веймарской конституции, ни в коей мере не ограничивали полномочия всеобщего народного представительства. Рабочие и служащие получали право создавать свои советы и входить, наряду с другими важными профессиональными группами, в состав экономических советов, создававшихся на уровне округов и всего рейха. Экономический совет рейха имел право законодательной инициативы и экспертизы проектов законов, однако он не имел права налагать вето на законы. Он был единственным советом из перечисленных в 165-й статье, который в действительности появился на свет на основании декрета от 4 мая 1920 г. Но какого-то реального политического значения Временный экономический совет рейха не получил. Самое существенное в 165-й статье составлял первый пункт: в нем заявлялось о принципе паритета капитала и труда, а сторонам коллективного договора и их договоренностям гарантировалось государственное признание. Это было конкретнее, чем все остальное, что говорилось в конституции по вопросам экономики и общества. По теме «социализации» она содержала диспозитивные нормы, не выходившие за рамки закона о социализации от 23 марта 1919 г. Конституция гарантировала «каждому и представителям всех профессий свободу объединений в интересах соблюдения условий труда и правил функционирования экономики», что однако не означало признания права на забастовки. Если бы это право было закреплено в конституции, то пришлось бы также урегулировать его границы. Но оба вопросы были столь спорными, что законодатели предпочли отказаться от решений, имеющих обязательную силу{87}. И тем не менее Национальному собранию все же пришлось решить несколько в высшей степени спорных вопросов, иначе конституция вообще не вступила бы в силу. Дискуссии вызывало уже само ее название: должна ли была она называться «Конституцией германского рейха» или «Конституцией германской республики»? Обе социалистические партии были за второе название, однако не могли сломить в этом вопросе сопротивление объединенного фронта буржуазных партий. Что касается не менее символического вопроса о государственном флаге, то НСДПГ выступала за красный цвет, в то время как социал-демократы большинства, ссылаясь на наследие 1848–1849 гг., выступали за сочетание черно-красно-золотого. Эти же цвета предпочло большинство Партии Центра и меньшинство демократов. В свою очередь, обе правые партии, большинство демократов и меньшинство Центра хотели сохранить сочетание черно-бело-красного — цветов Бисмарковской империи. В начале июля дискуссия о флаге обострилась настолько, что социал-демократы временно обдумывали возможность того, чтобы проголосовать вместе с независимыми за красный, если невозможно будет добиться решения о черно-красно-золотом. В результате компромисса, поддержанного наконец большинством депутатов во втором чтении, черно-красно-золотой были объявлены цветами рейха. Однако якобы ради лучшей видимости на море были приняты специальные правила для торгового флага: его цветами стали черный-белый-красный с черно-красно-золотым гюйсом в верхнем внутреннем углу. Было очевидно, что кайзеровскую империю оплакивают не только правые, но и часть «веймарских» партий{88}. Острейшие разногласия разгорелись вокруг статьи конституции о школьном образовании. В июле 1919 г. некоторое время даже казалось, что из-за этого может пострадать вся часть конституции, посвященная основным гражданским правам. Социал-демократы стремились прежде всего к тому, чтобы с помощью переустройства школьной системы создать лучшие социальные возможности для низших слоев населения. Первоочередной целью Партии Центра было разрешение конфессиональных школ во всех частях империи; либералы, в свою очередь, стремились повсеместно вытеснить церковное влияния из образования. Единственной точкой соприкосновения между «веймарскими» партиями была заинтересованность в том, чтобы, в принципе, было проведено унифицированное урегулирование школьной системы во всем рейхе. Большинство в конституционном комитете поначалу согласилось с тем, что все дети независимо от их религиозной принадлежности должны посещать общую для всех школу. Решение о том, могут ли быть по предложению лиц, ответственных за воспитание (родителей или опекунов), созданы также конфессиональные школы, было переложено на законодателя. Таким вердиктом, однако, была недовольна Партия Центра, возражения имелись и у социал-демократов. Центр, с 21 июня 1919 г. единственный партнер СДПГ по коалиции, хотел конституционно закрепить конфессиональные школы. Среди социал-демократов депутат Кайль высказал мысль о том, что лучше отклонить конституцию, чем проголосовать за конфессиональные школы. 3 июля СДПГ заявила о готовности к новым переговорам с Центром, однако ее доверенным лицам были даны указания настаивать на результатах прошлых переговоров, и если договоренность не будет достигнута, вообще отказаться от части, касающейся основных прав. Подобный шаг был совершенно немыслим для Центра, поскольку ко второй главной части «Основных прав и обязанностей немцев» относился также раздел о религии и религиозных организациях. Следовательно, социал-демократы должны были уступить, если не хотели распада коалиции. Во втором чтении Национальное собрание поддержало голосами обеих партий достигнутый между СДПГ и Центром компромисс. В соответствии с ним решение о том, должны ли школы в каждой конкретной общине быть для представителей всех вероисповеданий общими, раздельными или светскими, оставалось теперь за лицами, ответственными за воспитание детей, т. е. в первую очередь — за родителями. Однако против этого предложения выступили демократы, и потребовались новые переговоры. Из них наконец родилось решение, принятое в ходе третьего чтения: общинная (неконфессиональная) школа для учеников и учениц всех вероисповеданий впредь становилась правилом; однако по запросу родителей или опекунов ее место могла занять конфессиональная или светская школа{89}. Компромисс в сфере школьного образования обеспечил Веймарской конституции поддержку широкого большинства. 31 июля 1919 г. состоялось окончательное голосование: имперская конституция была принята 262 голосами против 75 при одном воздержавшемся. За конституцию проголосовали СДПГ, Центр и ДДП, против — НСДПГ, ДНФП и ДФП. 11 августа 1919 г. рейхспрезидент Фридрих Эберт подписал конституцию. Три дня спустя она вступила в силу с ее публикацией в «Имперском вестнике законов». Эдуард Давид, министр внутренних дел от социал-демократов, чествовал 31 июля 1919 г. принятие конституции словами о том, что нигде в мире демократия не проведена более последовательно, чем в данном основном законе, а немецкая республика таким образом становится «самой демократичной демократией в мире». К восторженным отзывам Давида побудили прежде всего элементы прямой демократии. Тот же, кто смотрел на Веймарскую республику уже после Второй мировой войны, уже не мог подписаться под столь смелым заявлением. Именно в восхваляемых Давидом элементах плебисцита Веймарской конституции критики были склонны видеть существенную причину ее неудачи. Что касается референдумов и «народной инициативы», то едва ли можно согласиться с такой точкой зрения. Ни одна из «народных инициатив», состоявшихся между 1919 г. и 1933 г., не достигла успеха, в том числе и народная инициатива по плану Янга в 1929 г., значение которой для подъема национал-социализма зачастую переоценивается. Однако можно согласиться, что как раз на этом примере есть возможность наглядно убедиться в демагогической возможности использования процедуры плебисцита. Другая «народная инициатива», по вопросу экспроприации собственности княжеских семейств в 1926 г., приводится сторонниками прямой демократии как доказательство прогрессивности идеи народного законотворчества. Однако далее будет показано, что мобилизация масс, которой достигли инициаторы этого референдума, была для парламентской демократией чем угодно, но не выигрышем. В итоге Веймар по крайней мере не предлагает никаких аргументов в пользу идеи плебисцитарного «ослабления» представительной демократии{90}. Более значимым, чем «народная инициатива» и плебисцит, на весах критики оказывается другой элемент плебисцитарной демократии Веймарской республики — рейхспрезидент, избираемый прямым всенародным голосованием. Мандат, полученный непосредственно от народа, давал полномочиям президента, как бы тот их не использовал, демократическую легитимацию, которая легко могла войти в противоречие и конфликт с легитимацией рейхстага. К конституционным полномочиям президента относилось верховное командование над всеми вооруженными силами империи, право отдавать распоряжение о проведении референдума и распускать рейхстаг, по собственному усмотрению назначать и отправлять в отставку рейхсканцлера, который хотя и нуждался в доверии рейхстага, однако не избирался им, и, наконец, диктаторские полномочия в чрезвычайно неясно прописанном случае, когда «общественная безопасность или порядок в Германской империи серьезно нарушены или если грозит серьезная опасность такого нарушения» (статья 48/П). С точки зрения Национального собрания ситуация, в которой власть парламента целиком передается президенту, могла возникнуть лишь в случае чрезвычайного положения. Однако вводный закон[11] к статье 48, который должен был, насколько возможно, прописать нормы для такого случая, так и не был никогда принят. Таким образом, граница между чрезвычайным положением и нормальным состоянием оставалась весьма нечеткой. Как полагает политолог Эрнст Френкель, отцы-основатели Веймарской конституции заимствовали институт всенародно избираемого президента из Соединенных Штатов Америки, недооценив при этом тот факт, «что отсутствие парламентской системы правления и связанные с этим особенности американской партийной системы внесли свой существенный вклад в то, чтобы сделать конгресс сильным и создать равновесие между плебисцитарными и представительными компонентами американской системы правления». В Германии же плебисцитарные элементы конституции, в первую очередь сильный президент, ослабляли парламент. Опасным было не то, что исполнительная власть в чрезвычайных ситуациях получала широкие полномочия, а то, что речь шла о значительном усилении власти фактически неподконтрольного рейхспрезидента. Веймарская конституция никоим образом не содержала предохранительных мер, которые могли бы защитить правительство от неспособного к созидательной деятельности парламентского большинства. Если парламентская система давала сбой, то место на первом плане тут же занимал рейхспрезидент. Таким образом, это чрезвычайно облегчало партиям «бегство от ответственности». Френкель с резкостью комментирует этот врожденный недостаток нового парламентского порядка: «Отцы-основатели Веймарской конституции все еще никак не могли отказаться от мысли, что глава исполнительной власти призван для того, чтобы символизировать весь народ и защищать общие интересы. Из-за своего непонимания представительных задач парламента они создали плебесцитно-авторитарную конституцию. Народ, который не доверяет функцию представительства своему парламенту, страдает комплексом демократической неполноценности. Конституция, которую называли самой демократической в мире, была продуктом авторитарно-государственного мышления»{91}. К слабостям политической системы Веймара позднейшие критики относили также закрепленное в конституции избирательное право, основанное на принципе пропорционального представительства. Пропорциональные выборы, по распространенному в 1950-е годы мнению, сделали возможным раздробление партийной системы и возвышение национал-социализма, в то время как выборы, организованные по мажоритарному принципу относительного большинства, смогли бы предотвратить и то и другое. На самом деле пропорциональные выборы означали существенный шаг на пути демократизации избирательного права: они гарантировали такое распределение мест в парламенте, которое в большей степени соответствовало воле избирателей, чем мажоритарная система кайзеровской империи, и в особенности исключалась возможность формирования меньшинством избирателей парламентского большинства. Если бы начала парламентской демократии в Веймаре были бы осложнены таким искажениемволи избирателей (вероятно, в пользу левых партий), то это вызвало бы поляризацию, но не стабилизацию в обществе. Раздробления партийной системы можно было бы также избежать, приняв соответствующую запретительную оговорку, которая, правда, противоречила бы представлениям современников о демократии, поэтому речь о ней даже не шла. Идея о том, что выборы по мажоритарной системе относительного большинства могли предотвратить возвышение национал-социалистов — чистая спекуляция. Можно даже допустить, что партия Гитлера после 1930 г. только приветствовала бы такое избирательное право. Ни первый, ни второй тезис нельзя «доказать». Очевидно только то, что невозможно вывести падение Веймарской республики из неверного выбора избирательной системы в 1919 г.{92} Веймарская конституция была компромиссом между различными мировоззренческими лагерями, которые были едины только в том, что смогут разрешить свои антагонизмы лишь в рамках этой конституции. В отношении к общественному строю конституция не могла выбирать между «социализмом» и «капитализмом», но лишь закрепить минимальный консенсус: основой для будущего законодательства стал существующий порядок, покоившийся на частной собственности, которому однако необходимо было придать социальные черты и который можно было бы затем изменять в социалистическом духе при условии достижения соответствующего большинства в органах законодательной власти. Если это решение было настоящим компромиссом, то наряду с ним были и ненастоящие или, как сформулировал в 1928 г. специалист по государственному праву Карл Шмитт в своем «Учении об основном законе», «отсроченные мнимые компромиссы», которые лишь создавали видимость разрешения противоречий. Шмитт относил к этой категории статью об общинной (неконфессиональной) школе для учеников и учениц всех вероисповеданий как об общеобразовательной школе, так же как и положения об отношениях государства и церкви, которые хотя и отказывали в существовании государственной церкви, однако в них не проводилось однозначного разделения между государством и церковью. (Ирония заключается в том, что эти «отсроченные» статьи Веймарской конституции остались единственными, которые действуют до сих пор, поскольку были перенесены в конституцию 1949 г.) С еще большим правом можно применить понятие «отсроченного компромисса» к иллюзорному решению о государственном флаге, которое не только не положило конец спорам вокруг государственных цветов, но, скорее, разожгло их{93}. Когда на последнем этапе Веймарской республики большинство избирателей сделало выбор в пользу партий, не признававших права на существование действующего государства, Карл Шмитт в 1932 г. выступил с критикой «функционалистки-формалистского опустошения парламентского государства». Оно привело к формированию «содержательно индифферентного, нейтрального даже по отношению к своей собственной ценности, не принимающего во внимание любую справедливость, понятию законности». Бессодержательность голой статистики большинства лишила законность всякой убедительной силы; нейтралитет закона стал прежде всего нейтралитетом, не различающим, что такое хорошо, и что такое плохо. Шмитт упрекает господствовавшее тогда государственное правоведение в том, что оно открыло законную дорогу к устранению самой законности; оно дошло в своем нейтралитете до самоубийства. «Любая революционная или реакционная, подрывная, антигосударственная, антинемецкая или безбожная цель допустимы и получают шанс быть достигнутыми законным путем и под защитой закона»{94}. Критика Шмитта била в самое слабое место Веймарской конституции. Но исходя из понимания ситуации в 1919 г. едва ли возможно было представить себе ополчившуюся к обороне демократию, которая предусмотрительно объявляет войну своим врагам. Спустя всего несколько месяцев после крушения кайзеровской империи любая попытка ограничить волеизлияние избирателей конституционными требованиями могла трактоваться лишь как возврат к авторитаризму. Ограничение принципа большинства и воли избирателей, которое предпринял основной закон ФРГ, стали возможны лишь потому, что Парламентский совет уже имел перед своими глазами исторический пример, которого недоставало создателям конституции 1919 г.: опыт краха Веймарской республики{95}. Большинство немцев скорее смирились с Веймарской имперской конституцией, чем приняли ее. Так как она могла быть лишь компромиссной, ни одна из партий, проголосовавших за конституцию, не была ею совершенно довольна. Символом республики она стала только вследствие нападок и преступных посягательств со стороны правых радикалов. Они донесли до сознания партий, на которых опиралась республика, что борьба за конституцию не закончилась с ее принятием, но всего лишь вступила в новую фазу.Глава VI Неудавшаяся контрреволюция
Начиная с лета 1919 г. казалось, что в Германии наступила определенная политическая стабилизация. Подписанием Версальского договора и принятием Веймарской конституции на тот момент были заданы общие внешне- и внутриполитические рамки, внутри которых теперь предстояло развиваться немецкой политике. В результате на первый план вновь выступили наиболее насущные внутренние проблемы нового республиканского строя, которые временно оказались в тени «большой политики». Для кабинета Бауэра повседневность правительственной рутины началась непосредственно сразу же после ратификации мирного договора. Одно из первых важных решений усеченной черно-красной коалиции касалось основного направления экономической политики: 8 июля правительство высказалось против проекта планового и подконтрольного государству народного хозяйства, представленного рейхсминистром экономики, социал-демократом Рудольфом Висселем, на что тот спустя четыре дня ответил отставкой. Его преемник, Роберт Шмидт, был самым рьяным противником Висселя в СДПГ и в противоположность ему — сторонником традиционных представлений о социализме. Так как правовые рамки законов о социализации тем временем уже были заданы, назначение Шмидта ни в коем случае не означало подвижки кабинета влево. В большей степени отставка Висселя устранила барьер, мешавший восстановлению Веймарской коалиции: ДДП, вышедшая 20 июня в знак протеста против Версальского договора из правительства Шейдемана, могла гораздо легче представить себе сотрудничество с обходительным Шмидтом, чем с непримиримым сторонником дирижизма Висселем{96}. В тот же день, 8 июля, когда кабинет отверг проект коллективного народного хозяйства Висселя, рейхсминистр финансов Матиас Эрц-бергер предложил на рассмотрение Национального собрания целый букет важных налоговых законов. Воинствующий политик от партии Центра, родившийся в 1875 г. в одной из деревень Верхней Швабии, по профессии школьный учитель, «Selfmademan» по натуре, он в отличие от большинства членов своей партии был убежденным сторонником унитарного государства. В ходе проведения финансовой реформы, которая по справедливости носит его имя, Эрцбергер заботился также и об укреплении имперского центра. Федеральные земли, чьим «пансионером» рейх был в бисмарковские времена, утратили свое господствующее положение в области общественных финансов еще до войны, а во время войны эта тенденция только усилилась. Эрцбергер был полон решимости продолжить этот процесс, чтобы обеспечить рейху исключительный финансовый суверенитет. Данной цели служили создание единого для всего государства налогово-финансового управления, перевод всего железнодорожного сообщения в компетенцию рейха, равно как и вся совокупность налоговых законов Эрцбергера. «Жертвами» его финансовой реформы стали федеральные земли и местное самоуправление. Так как остававшихся в их распоряжении налоговых поступлений теперь явно недоставало для исполнения стоявших перед ними задач, земли были впредь зависимы от субсидий рейха. Что же касается муниципалитетов, в особенной степени затронутых социальными проблемами послевоенного времени, то они в результате переворота в налоговой системе стали больше, чем когда-либо, зависимы от банковских займов. Наряду с унитарными идеями присутствовали и социальные. Эрцбергер хотел своей финансовой реформой заставить раскошелиться всех дельцов, нажившихся на войне, а также запустить в ход план грандиозного перераспределения средств между богатыми и бедными слоями населения. Из налогов, которые он предложил и принятия которых добился в июле 1919 г., три были полностью направлены на достижение этой цели: военные налоги на доходы и имущество, а также налог на наследство. В декабре 1919 г. последовал единовременный налог на имущество, так называемый имперский чрезвычайный налог — самый спорный из налогов Эрцбергера, вызвавший волну возмущения среди правых партий и имущей буржуазии. Завершал налоговую реформу закон об имперском подоходном налоге, принятый Национальным собранием в марте 1920 г. Закон вводил налоговые ставки, считавшиеся в то время весьма высокими, и которые, как и имперский чрезвычайный налог, способствовали тому, что среди правых Эрцбергер приобрел дурную репутацию социалиста-экспроприатора. Необходимость реформы имперских финансов была неоспоримой. Эрцбергер, вступив в должность министра финансов, столкнулся с почти катастрофическим положением дел. Государственные долги, составлявшие в 1913 г. пять миллиардов рейхсмарок, достигли к тому времени 153 миллиардов, из них 72 миллиарда марок составляли текущие долги, которые должны были быть выплачены в ближайшее время или переведены в разряд долгосрочных обязательств. Кайзеровская Германия финансировала войну в значительной степени за счет займов, успокаивая себя надеждой выплатить их за счет репараций, наложенных на побежденных противников. Кредитная политика рейхсбанка также внесла свой вклад в расстройство национальной валюты: оборот бумажных банкнот вырос с двух миллиардов марок в 1913 г. до 45 миллиардов в 1919 г. Но ожидания Эрцбергера, согласно которым он надеялся обуздать инфляцию или вообще повернуть инфляционные процессы вспять благодаря конфискационному налогообложению, не оправдались. Так как уровень государственных расходов был очень высок, а время до получения новых налоговых поступлений необходимо было как-то прожить, рейх по-прежнему удовлетворял свои финансовые нужды за счет займов. Следствием этого стало дальнейшее обрушение марки. Налоги, в свою очередь, также подталкивали инфляцию. Более высокие налоги на имущество и прибыль производители включали в цену товаров. При уплате налогов предприниматели находились в более выгодном положении, чем лица, жившие на зарплату или оклад, поскольку вычет налогов с последних производился немедленно, а предприниматели в результате более поздней уплаты налогов выигрывали от прогрессирующей инфляции. Таким образом, все усилия Эрцбергера, направленные на достижение социальной справедливости, в значительной степени были перечеркнуты обесцениванием марки. В результате от его финансовой реформы осталась только унификация системы налогообложения и финансового управления. Но и у этого достижения была своя обратная сторона: финансовополитическое ослабление федеральных земель негативно повлияло на их отношение к рейху, а высокая задолженность муниципалитетов — следствие жесткого ограничения Эрцбергером источников их финансирования — стала главной причиной финансовой шаткости Германии во второй половине 1920-х — начале 1930-х годов{97}. Столь же большой взрывной политический потенциал, как и налоговая политика, несло в себе другое реформационное начинание кабинета Бауэра: узаконивание производственных советов. Так как СДПГ и Свободные профсоюзы высказались весной 1919 г. в пользу учреждения производственных советов, то и правительство должно было также заняться этим вопросом. Законопроект, опубликованный после продолжительной подготовки 9 августа 1919 г. в «Рейхсанцайгер», предусматривал введение производственных советов на предприятиях, имеющих не менее 20 работников. Производственные советы должны были среди прочего участвовать в принятии решений о найме и увольнении рабочих, а также получать от работодателей объяснения по поводу всех производственных процессов, затрагивающих интересы рабочих. Кроме того, на крупных предприятиях советы могли также затребовать предоставления им балансовых отчетов, а также калькуляции прибыли и убытков, равно как уполномочивались представлять рабочих в наблюдательном совете. Эти права советов были расценены ДДП, дружески настроенной по отношению к работодателям, как чрезмерные. Один из ведущих политиков этой партии, министр торговли Пруссии Фишбек заявил на внутреннем партийном заседании 5 августа, что законопроект является «совершенно большевистским». Снова войдя в правительство 3 октября 1919 г., ДДП попыталась в меру сил преобразовать этот законопроект в своем духе. В конце ноября противоречия внутри правительства обострились драматическим образом. Рейхсканцлер Бауэр (этот титул он носил с момента вступления в силу Веймарской конституции) стал угрожать своей отставкой в случае, если ДДП не встанет на почву правительственного законопроекта. Центр потребовал от демократов в ультимативной форме либо пойти на уступки, либо выйти из правительства. В конце концов был достигнут компромисс по двум особо спорным вопросам: представителям рабочих мог быть предъявлен и разъяснен баланс предприятия, но не его обоснование; участие производственных советов в наблюдательных советах должно было регулироваться особым законом. Уступки либералам давались СДПГ с большим трудом. 13 января 1920 г. во время второго чтения закона социал-демократы предприняли последнюю попытку вновь изменить ситуацию в свою пользу. 15 января Пауль Лёбе, председатель фракции СДПГ, предостерег своих товарищей по партии, что законопроект ни в коем случае не должен быть отклонен, в противном случае правительство будет расколото. Кабинет действительно еще 25 ноября 1919 г. единогласно принял соответствующее решение. 18 января 1920 г. социал-демократическая фракция при пяти голосовавших против высказалась за одобрение закона о производственных советах в третьем чтении. В тот же день Национальное собрание вопреки голосам ДНФП, ДФП и НСДПГ приняло закон. Второе и третье чтение закона о производственных советах были омрачены кровавыми беспорядками, разыгравшимися 13 января 1920 г. в Берлине перед зданием рейхстага. К маршу на здание рейхстага, которое с конца сентября 1919 г. стало местом заседаний Национального собрания, наряду с «красным» Берлинским исполнительным советом призвало окружное руководство НСДПГ. Независимые социал-демократы ожидали от внепарламентской акции, что она снова наполнит рабочие массы революционным духом. Ее организаторы не планировали штурма здания рейхстага, но ход событий полностью вышел из-под их контроля. Когда отдельные группы демонстрантов попытались проникнуть в здание рейхстага, то берлинская охранная полиция, рекрутированная из бывших солдат и членов фрайкора, попыталась сначала вытеснить их с помощью примкнутых штыков. Первые выстрелы очевидно прозвучали из рядов демонстрантов. Не произведя предупредительных выстрелов в воздух, силы правопорядка ответили незамедлительно: 42 человека были убиты, 105 — ранены. В тот же день рейхспрезидент Эберт ввел военное положение во всех частях рейха, кроме Баварии, Саксонии, Вюртемберга и Бадена. Исполнительная власть в Берлине и провинции Бранденбург была возложена на министра рейхсвера Носке{98}. Вину за кровавую бойню перед рейхстагом, наряду с охранной полицией, в полной мере несла также НСДПГ. Хотя закон о производственных советах в большой степени не отвечал ожиданиям рабочих партий, тем не менее он знаменовал собой первый важный шаг в достижении внутризаводского рабочего контроля. Принимая во внимание шаткость положения большинства в Национальном собрании, со стороны социал-демократов нельзя было ожидать большего. Однако левые независимые стремились именно к этому: доказать, что нужды пролетариата не могут быть удовлетворены в рамках парламентской системы. Жертвы в ходе акции не планировались, но с ними легко смирились: они помогли делу революции, а значит, были оправданы. В НСДПГ в течение 1919 г. наметился явный сдвиг влево. Брожение умов вызвал вопрос об отношении к обоим конкурирующим интернационалам: к «старому», II Интернационалу, который вскоре после завершения войны предпринял попытку обновления, и к новому, Коммунистическому или III Интернационалу, основанному в марте 1919 г. в Москве, в который первой вступила КПГ. Умеренные независимые вокруг Рудольфа Гильфердинга наотрез отказались от присоединения к новому интернационалу, так как тот был только инструментом русских большевиков. Левое крыло во главе с Вальтером Штёкером, генеральным секретарем НСДПГ, выступало за вхождение в III Интернационал. На Берлинской всегерманской конференции партии в сентябре 1919 г. Штёкер защищал политику большевиков от атак Гильфердинга и назвал «прекрасной иллюзией» и «совершенно нереволюционным» стремление добиться диктатуры пролетариата без гражданской войны. Чрезвычайный партийный съезд НСДПГ, состоявшийся в начале декабря 1919 г. в Лейпциге, принял решение о разрыве отношений со II Интернационалом и начале переговоров о вступлении — с Третьим. Окончательный разрыв между умеренными и радикальными силами в НСДПГ стал после этого только вопросом времени{99}. Радикализация независимых социал-демократов наполнила немецких коммунистов большими ожиданиями. Если Пауль Леви, председатель КПГ, беспощадно боролся с левыми радикалами внутри своей собственной партии и в конце концов добился открытого разрыва с ними, то это происходило потому, что тем самым он стремился завоевать на свою сторону те пролетарские массы, которые до поры до времени стояли позади НСДПГ. Радикальные противники Леви слева расценивали действия партийного вождя как некий вид скрытого реформизма и отклонение от прямого пути пролетарской революции. После своего исключения из КПГ в феврале 1920 г. они образовали в апреле свою собственную Коммунистическую рабочую партию Германии (КАПД), ратовавшую за подчеркнуто марксистскую программу: незамедлительную замену буржуазной демократии диктатурой пролетариата. Однако оказалось, что крайне левые силы Германии были больше заняты самими собой, чем борьбой с классовым врагом в лице буржуазии: их энергия прежде всего уходила на споры вокруг того, что в настоящий момент является правильной революционной стратегией и тактикой, а что — нет{100}. Весьма пестрым был также лагерь крайне правых. В феврале 1919 г. по инициативе Пангерманского союза был образован Немецкий оборонительный и наступательный союз (Дейчер Шутц унд Трутцбунд), задачей которого была провозглашена мобилизация масс против демократической республики при помощи антисемитских лозунгов. Евреи подвергались усиленным нападкам уже в последние военные годы, а с момента революции они бичевались «народническими» кругами как закулисные силы, приведшие к поражению и свержению монархии. В октябре 1919 г. Немецкий оборонительный и наступательный союз объединился с другой антисемитской организацией, Немецким народническим союзом (Дейчфёлкишер Бунд), в Немецкий народнический оборонительный и наступательный союз. В том же месяце число его членов преодолело магическую отметку в 100 000. Борьба против «жидовской республики» стала боевым призывом, находившим отклик в первую очередь в рядах мелких предпринимателей, служащих и чиновников. В конце января 1920 г. Оборонительный и наступательный союз объявил в своем письме рейхспрезиденту Эберту, распространявшемся и как листовка, что в случае, если Германия выполнит требование союзников о выдаче «военных преступников», за это поплатятся те «антинароднические и ненемецкие силы», которые широкие народные круги сочтут организаторами данной акции{101}. «Народническое» движение захватило также и Немецкую национальную народную партию. Чтобы сохранить свою политическую респектабельность ДНФП пыталась, отдавая должное антисемитизму, не приобрести репутацию партии радикальных расистов. В октябре 1919 г. президиум партии принял решение объявить войну «тому разлагающему, ненемецкому духу, и неважно, из каких кругов он исходит — из еврейских или каких-нибудь других», а также ополчиться против «засилья еврейства», которое «с момента революции проявляется все более губительным образом как в правительстве, так и в общественности». В апреле 1920 г. это положение было включено в окончательную редакцию партийной программы и дополнено требованием, направленным против эмиграции в Германию восточных евреев: «Пресечь приток иноплеменников через наши границы»{102}. Приоритетным объектом правой пропаганды был рейхсвер. В феврале 1920 г. Носке должен был выступить против одного генерала, который одобрил распространение в войсках листовки Немецкого народнического оборонительного и наступательного союза, содержавшей призыв к суду Линча в отношении «антинациональных и ненемецких сил». Другим признаком антиреспубликанских настроений в рейхсвере был затяжной конфликт по вопросу о флаге. После того как была принята Веймарская конституция, командир 29-го полка рейхсвера, сформированного на базе 4-го гвардейского полка, заявил, что он и его офицерский корпус примут присягу на конституции при следующих условиях: 1. Им будет разрешено ношение прежней черно-бело-красной кокарды; 2. Их не будут принуждать клясться на черно-красно-золотом знамени; 3. На зданиях подразделения никогда не будет поднято черно-красно-золотое знамя. Командир 15-го пехотного полка, полковник Вильгельм Рейнгард, поддержал это заявление. 1 сентября 1919 г. главнокомандующий войсками рейхсвера в Берлине генерал Вальтер фон Лютвиц высказался в отношении Носке таким образом, что можно было понять только как выражение солидарности с фрондерами. Рейхсвер с лета 1919 г. состоял преимущественно из бывших фрайкоров. Эти полувоенные добровольческие союзы были образованы по приказу верховного командования сухопутных войск на рубеже 1918–1919 гг. для ведения приграничных боев на востоке Германии, а также для подавления внутренних беспорядков. Только часть этих фрайкоров была включена в состав рейхсвера на основании закона о предварительном формировании рейхсвера от 6 марта 1919 г. Вне рейхсвера остались также обе морские бригады — II и III, называвшиеся по имени своих командиров бригадами Эрхарда и Лёвенфельда, а также «прибалтийцы» — добровольческие союзы, которые с разрешения союзников сражались в Прибалтике против большевиков. Значительная часть «прибалтийских» подразделений осталась в Эстонии и Латвии и после подавления большевиков, завершившегося в целом к концу мая 1919 г. Они настаивали на выполнении обещания, якобы данного латышским правительством, согласно которому участникам фрайкора предоставлялось право стать латышскими гражданами, а также получить в Латвии земельные наделы. Но латышское правительство и слышать не хотело о подобном обещании, а власти Германии не были в состоянии добиться от него принятия требований фрайкоровцев. Тем временем фрайкоры снова приняли активное участие во вновь вспыхнувшей гражданской войне в Латвии и временами сражались также на стороне белых под командованием полковника Бермонда-Авалова. Когда последние подразделения «прибалтийцев» вернулись в декабре 1919 г. в Германию, они были полны решимости продолжить свою войну здесь — войну против республики, которая, как они считали, предала их. Еще одна часть «прибалтийцев» вернулась в рейх уже летом 1919 г. и поступила на службу к помещикам Померании, Восточной Пруссии и Силезии. Здесь «вольные стрелки» заменили организованных в профсоюзы сельскохозяйственных рабочих, которые в массовом порядке были уволены своими хозяевами после генеральной забастовки в июле 1919 г. Эта забастовка была ответом на осадное положение, введенное 12 июля в Померании командованием II армии в Штеттине по настоянию Померанского Ландбунда, представлявшего интересы крупных землевладельцев. В результате многочисленные имения превратились при активной помощи штеттинской военщины в арсеналы. Опираясь на свои новые вспомогательные войска, латифундисты отказывались соблюдать тарифные договоренности с союзами батраков. В начале сентября 1919 г. министр сельского хозяйства Пруссии социал-демократ Отто Браун имел возможность добиться тарифного урегулирования, прибегнув к декретированию условий оплаты труда сельских наемных рабочих. Но министр внутренних дел Вольфганг Гейне, партийный товарищ Брауна, не придавал значения сообщениям о контрреволюционной активности Померанского Ландбунда и даже не думал о том, чтобы пойти навстречу просьбам Брауна и сместить ландратов, скомпрометировавших себя особо тесными отношениями с Ландбундом. Таким образом «прибалтийцы», без которых владельцы дворянских поместий не смогли бы выдержать курса на конфронтацию, окончательно стали составной частью внутренней политики Германии{103}. Летом и ранней осенью 1919 г. произошли важные изменения в персональном составе верхнего эшелона военного командования. 25 июня в ответ на подписание Версальского мира Гинденбург сложил с себя обязанности верховного главнокомандующего. В тот же день в отставку подал генерал-квартирмейстер Грёнер. 4 июля было распущено верховное командование сухопутных войск. 20 августа рейхспрезидент Эберт возложил отправление верховного командования над всем рейхсвером на министра Густава Носке. Пост командующего рейхсвером в Пруссии занял полковник Вальтер Рейнгард, 13 сентября подавший в отставку с поста министра обороны Пруссии. Свою новую должность Рейнгард в течение короткого времени преобразовал в место командующего сухопутными войсками рейхсвера[12]. На этом посту в его подчинении находился новый начальник войскового управления[13] в министерстве рейхсвера Ганс фон Сект. Между вюртембержцем Рейнгардом и пруссаком Сектом с самого начала установились весьма натянутые отношения: в то время как Рейнгард был полон решимости привить рейхсверу лояльность к Веймарской республике, Сект занял в отношении нового государства весьма сдержанную позицию. Для него главная задача заключалась в таком усилении рейхсвера, чтобы Германия, в свою очередь, вскоре вновь смогла занять подобающее ей место среди великих держав. Поэтому Сект объявил войну всем силам и течениям, способным помещать осуществлению этой цели. К самым опасным силам внутри рейхсвера, с точки зрения Секта, принадлежал Республиканский фюрербунд — объединение социал-демократически ориентированных офицеров и унтер-офицеров, которые отслеживали антиреспубликанские интриги среди военных и предавали их публичности. 28 октября 1919 г. один из его представителей, лейтенант Мюллер-Бранденбург, получил возможность выступить перед социал-демократической фракцией Национального собрания и донести до ее сведения, что именно вызывало недовольство Республиканского фюрербунда в деятельности рейхсвера, а также в политике социал-демократического министра рейхсвера. Из доклада Мюллера-Бранденбурга следовало, что реакции, персонифицированной в лице генерала фон Лютвица, удалось практически полностью прибрать рейхсвер к рукам; республикански настроенные офицеры систематически изгонялись из вооруженных сил; Носке «провел колоссальную работу, но в его окружении присутствуют люди, которые тайком саботируют его усилия». Речь юного офицера нашла живой отклик во фракции. Депутат Катценштейн обвинил Носке в том, что тот «обманул и оболгал» своих товарищей по партии в том, что касалось немецких фрайкоров, сражающихся в Прибалтике. Председатель фракции Лёбе расценивал «весь офицерский корпус как без сомнения контрреволюционный». Депутат Фойгт объяснял нынешнее состояние рейхсвера «нашим пассивным поведением в течение первых месяцев революции и безумным свирепствованием слева». Уклончивый ответ Носке не смог приглушить возмущение присутствовавших. 13 ноября партийное руководство потребовало от социал-демократов — членов правительства, принимая во внимание растушую опасность насильственного выступления реакции, решительно изменить курс военной политики и обеспечить безопасность государства. Но практических последствий акция фракции и руководства партии не имела. Рейхсканцлер Бауэр ополчился против критики, которую он воспринял как персональное оскорбление. На упрек Шейдемана в том, что он, Носке, недооценил реакционную опасность в армии, министр рейхсвера заявил 13 декабря в комитете партии, что по его искреннему убеждению эта опасность становится меньше день ото дня. Правительство также, очевидно, не разделяло мнение Шейдемана и Отто Велса, избранного в июне одним из двух председателей СДПГ, согласно которому усиление антиреспубликанских сил в рейхсвере стало возможным из-за чрезвычайного положения, действовавшего на значительной части территории рейха. И хотя прусское правительство 5 декабря 1919 г. отменило военное положение для Большого Берлина, действовавшее здесь с начала 1919 г., режим чрезвычайного положения сохранялся для Рурской области и даже был усилен 11 января 1920 г. в связи с забастовкой на железной дороге. Спустя два дня после кровавого столкновения перед зданием рейхстага последовал декрет рейхспрезидента, вводивший военное положение в большинстве областей рейха. Сторонники политики твердой руки приблизились к своей цели еще на шаг{104}. Событием, привлекшим к себе в первые месяцы 1920 г. наибольшее общественное внимание, стал процесс об оскорблении достоинства, начатый рейхсминистром финансов Эрцбергером против бывшего статс-секретаря имперского бюро Министерства внутренних дел Карла Гельффериха. Поводом к судебному разбирательству послужила брошюра Гельффериха под заглавием «Эрцбергер прочь!». В ней политик от ДНФП обвинял самого известного деятеля Центра не только в ошибочных политическихдействиях, навредивших Германии, но и в заведомой лжи и постоянном смешении деловых интересов и политики. Ни один из республиканских политиков не был столь ненавистен немецким правым, как Эрцбергер: инициатор мирной резолюции июля 1917 г., человек, подписавший соглашение о перемирии в ноябре 1918 г. и инициатор имперской финансовой реформы 1919–1920 гг., тяготившей имущие слои. Гельфферих, один из лучших умов консервативного лагеря, сознательно пытался своими нападками на Эрцбергера также нанести удар по республике в целом. Успех или неудача в осуществлении его намерений в значительной степени зависели от позиции юстиции. Дважды эта судебная тяжба отходила на задний план под влиянием событий, которые, однако, находились с ней в непосредственной связи. 26 января 1920 г. в Эрцбергера стрелял двадцатилетний кандидат на получение офицерского звания Ольтвиг фон Хиршфельд, когда политик выходил из присутствия 6-го отделения по уголовным делам первого земельного суда в районе Берлин-Моабит. Министр был тяжело ранен в правое плечо, но через короткое время снова стал принимать участие в процессе. Покушавшийся на него фон Хиршфельд был приговорен 21 февраля — не по обвинению в покушение на убийство, а лишь по обвинению в причинении тяжелых телесных повреждений — к 18 месяцам тюрьмы, причем суд учел в качестве смягчающего обстоятельства его «идейный образ мыслей». 22 февраля правые в «Гамбургер Нахрихтен» опубликовали персональную налоговую декларацию Эрцбергера, украденную при содействии берлинских финансовых чиновников. На первый взгляд декларация возбуждала подозрение в сокрытии имущества от уплаты налогов. Общественный отклик на публикацию был настолько негативным, что спустя два дня Эрцбергер был вынужден инициировать следствие в отношении себя самого и на время отказаться от исполнения своих служебных обязанностей. Процесс против Гельффериха вскрыл обстоятельства, достаточные для того, чтобы обвинить Эрцбергера в том, что, будучи депутатом, он неоднократно действовал в пользу тех предприятий, в которых состоял членом наблюдательного совета или был акционером. В ходе ряда трансакций он также к своей выгоде использовал информацию, полученную им в качестве должностного лица. Особенно фатальным обстоятельством для соистца Эрцбергера стало то, что государственные прокуроры в ходе процесса фактически встали на противоположную сторону и в значительной степени восприняли аргументы обвиняемого Гельффериха. 12 марта 1920 г. Гельфферих был признан виновным в клевете и формальном оскорблении и приговорен к денежному штрафу в размере 300 марок или к 30 дням тюремного заключения. Стороной, в действительности проигравшей процесс, стал Эрцбергер. Согласно определению суда, Гельффериху в целом удалось доказать правильность оглашенных им сведений и что он действовал, «движимый патриотическими побуждениями». Что же касается Эрцбергера, то судьи признали его виновным в двух случаях лжесвидетельствования под присягой и в семи случаях смешения личных денежных интересов с политикой. Еще в тот же день Эрцбергер подал в отставку с поста министра финансов. Хотя имперский суд отклонил в декабре 1920 г. его ходатайство о пересмотре вынесенного приговора, тем не менее ему удалось добиться своей реабилитации по двум важнейшим пунктам: по результатам возбужденного им против себя самого расследования по обвинению в лжесвидетельстве процесс так и не был начат из-за недостатка улик, а в августе 1921 г., за несколько дней до убийства, Эрцбергер узнал, что предварительное расследование по обвинению в уклонении от уплаты налогов и противозаконной утечке капитала за границу сняло с него все обвинения. Но политическая карьера Эрцбергера закончилась 12 марта 1920 г. Даже либеральная «Франкфуртер Цайтунг», комментируя его отставку, заявила, что как министр и политический лидер Эрцбергер надолго сошел с общественной арены. «Он не сохранил то, что демократия, более чем какая-либо другая государственная форма, должна требовать от политика в качестве первой предпосылки его общественной деятельности: чистоту приватного образа жизни»{105}. В тот же день 12 марта 1920 г., когда немецкие правые праздновали как свой триумф приговор по делу Эрцбергера-Гельффериха, имперское правительство узнало из уст министра рейхсвера Густава Носке, что согласно достоверным сведениям в неком узком кругу уже некоторое время тайно регулярно велись обсуждения «с целью добиться другого состава имперского правительства». Нынешнее правительство, с точки зрения заговорщиков, было слишком слабым. Нападкам прежде всего подвергались министр сельского хозяйства Пруссии Отто Браун и рейхсминистр иностранных дел Герман Мюллер, политика которых была признана «особенно вредоносной». В качестве требования выдвигались прямые выборы рейхспрезидента и новые выборы в рейхстаг. Двумя неделями ранее, как было зафиксировано в протокольной записи речи Носке, заговорщики обсуждали вопрос о занятии войсками Вильгельмштрассе, т. е. резиденции правительства, и как добиться реорганизации кабинета. «Во главе этого замысла стоят генеральный ландшафтсдиректор[14] Капп и капитан Пабст. Он, министр рейхсвера, счел правильным немедленно ликвидировать находящуюся в процессе формирования организацию. Поэтому он отдал приказ об аресте ее главных участников. В настоящее время циркулируют слухи, согласно которым некоторые части войск, в особенности морская бригада Эрхарда, намереваются осуществить план заговорщиков сегодняшней ночью. Поэтому он отдал сигнал тревоги и приказ о приведении войск в повышенную боевую готовность»{106}. Сведения, которые Носке, наделенный с 13 января 1920 г. также исполнительной властью в Берлине и провинции Бранденбург, сообщил своим коллегам по правительству, соответствовали действительности. С того момента как 10 января 1920 г. вступил в силу Версальский договор, часть рейхсвера взяла курс на конфликт с правительством. Для значительного числа представителей офицерского корпуса была непереносима мысль о том, что рейх может пойти на выполнение требований союзников, и если и не передать «военных преступников» для суда победителям, то тем не менее осудить их немецким судом. Таким же неприемлемым для многих офицеров было предусмотренное Версальским договором сокращение численности немецкой армии до 100 тыс. чел. Срок выполнения этого требования между тем был перенесен союзниками с 31 марта на 10 июля 1920 г., но это ничего не изменило в отрицательной позиции военной фронды. В январе 1920 г. рейхсвер все еще насчитывал, включая фрайкоры, более 250 тыс. солдат и офицеров. Выполнение требований союзников в любом случае означало роспуск фрайкоров, в том числе «прибалтийцев», которыми в то время большей частью была укомплектована упомянутая Носке морская бригада Эрхарда, самая боеспособная единица во всей армии. Того обстоятельства, что в этом вопросе имперское правительство даже не намеревалось отважиться на пробу сил с союзниками, было достаточно, чтобы полностью дискредитировать кабинет Бауэра в глазах фрайкоров. В качестве покровителя фрайкоров выступал генерал рейхсвер-группенкоммандо I в Берлине, фрайхерр фон Лютвиц. 10 марта 1920 г. Лютвиц в ультимативной форме в присутствии Носке предъявил свои требования рейхспрезиденту Эберту: незамедлительный роспуск Национального собрания и выборы рейхстага (аналогичный запрос обеих правых партий был отклонен Национальным собранием днем ранее), назначение министров-«профессионалов» в МИД, министерство экономики и финансов; назначение его, Лютвица, верховным главнокомандующим всего рейхсвера и освобождение от должности лояльного правительству генерала Рейнгарда и в заключение отзыв приказа о расформировании морской бригады, отданного Носке 19 февраля 1920 г. Однако вместо того, чтобы арестовать очевидно склонявшегося к путчу генерала по обвинению в государственной измене, министр рейхсвера удовлетворился тем, что настоятельно рекомендовал подать тому в отставку и отправил Лютвица на следующий день в отпуск. Таким образом, Лютвиц еще 10 марта 1920 г. имел возможность обсудить дальнейшие действия с корветтен-капитаном[15] Эрхардом, командиром носившей его имя морской бригады, а также вступить в контакты с остальными главными заговорщиками. Лютвиц и Эрхард стояли во главе военного крыла правой фронды. Оно состояло, во-первых, из регулярных офицеров рейхсвера, прежде всего представителей прусского дворянства, воспринимавших подписание и выполнение условий Версальского договора не совместимыми с их представлениями о чести, во-вторых — из солдат фрайкоров, которым угрожал роспуск, и которые стремились продлить свое пребывание на военной службе, поскольку не представляли себе возврата к мирной жизни. Гражданское крыло активной группы заговорщиков образовывали политики из числа крайне правых, большей частью происходивших из консервативной протестантской буржуазии старопрусских провинций. Их главной опорой был тот самый слой населения, из которого вышли многие офицеры-путчисты: крупные остэльбские землевладельцы. Прусские помещики смогли спасти свое имущество в годы революции, но с ноября 1918 г. они были изгнаны из правительства, а важнейшее революционное достижение сельскохозяйственных рабочих — право на профсоюзное объединение — воспринималось ими как невыносимая наглость. Координирующим органом заговора было образованное в октябре 1919 г. под патронатом Людендорфа так называемое Национальное объединение в Берлине. Его руководящее ядро, наряду с бывшим генерал-квартирмейстером немецкой армии, составляли: генеральный ландшафтсдиректор Восточной Пруссии Вольфганг Капп, который рассматривался заговорщиками как будущий глава правительства; полковник Макс Бауэр, выступивший в 1917 г. вместе с гросс-адмиралом фон Тирпицем, основателем Немецкой отечественной партии, а позднее ставший одним из членов правления ДНФП; капитан Вальдемар Пабст, во время войны один из близких политических советников Людендорфа, ответственный за убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург, а также ряд политиков от партии немецких националистов, проявивших ранее активность в рядах Немецкой отечественной партии. Целью Национального объединения была подготовка переворота. Целью переворота было установление авторитарного, однако первоначально немонархического режима, который, в свою очередь, должен был проводить активную внешнюю ревизионистскую политику. Между заговорщиками имелись тактические разногласия, прежде всего в отношении социал-демократов и времени выступления. Большинство, к которому однако не относился Капп, считало желательным, чтобы правые социал-демократы, такие как Носке и Гейне, а также прусский министр финансов Альберт Сюдекум и имперский и государственный комиссар Вестфалии, Карл Северинг, вошли в новое правительство. Капп, Людендорф и Бауэр хотели, чтобы переворот осуществился как можно раньше, в то время как Лютвиц, с которым заговорщики поддерживали тесные контакты с октября 1919 г., считал государственный переворот оправданным только в той ситуации, в которой он мог быть уверенным в поддержке армейских командиров. В то время как Капп стремился к новой конституции с сильными сословными чертами, Лютвиц был готов удовлетвориться изменением состава правительства, внеочередными выборами в рейхстаг и при возможности прямыми выборами президента — с Гинденбургом в качестве кандидата от правых. Заговорщики полагали, что могут отказаться от поддержки массовой организации. В определенной степени подобная организация была замещена отрядами гражданской самообороны — полувоенными подразделениями, рекрутировавшими своих членов большей частью из рядов буржуазии. Рейх и федеральные земли рассматривали и поддерживали эти отряды как некий видкомпенсации в условиях демонтажа регулярных вооруженных сил, однако с течением времени они превратились, как правило, в сборища антиреспубликанских сил. Зато неотъемлемой частью психологической подготовки переворота стала интенсивная националистическая пропаганда в обществе. Этой цели служили распространение легенды «об ударе ножом в спину», о чем Гинденбург и Людендорф в октябре 1919 г., в известной степени официально, дали показания перед следственной комиссией Национального собрания, а также организованный протест против выдачи или осуждения немецких «военных преступников» и не в последнюю очередь начатая Гельфферихом кампания против Эрцбергера. После своего столкновения с Эбертом и Носке 10 марта 1920 г. Лютвиц был вынужден начать действовать. Но до 13 марта заговорщики не могли нанести удар, поскольку бригада Эрхарда только к этому дню была технически готова занять правительственный квартал. 13 марта в распоряжении заговорщиков по-прежнему находился «новый рейхсканцлер»: отданный Носке двумя днями ранее приказ об аресте Каппа не был выполнен, поскольку тот был предупрежден чиновниками берлинского полицай-президиума и смог скрыться от ареста, впрочем, как и Бауэр с Пабстом. Но не только невезение превратило оборонительные мероприятия Носке в сплошную неудачу: начальник войскового управления в министерстве рейхсвера Ганс фон Сект слишком поздно известил министра рейхсвера о намерениях генерала фон Лютвица. В сведениях об активности бригады Эрхарда по месту ее базирования в местечке Дёберитц под Берлином, которые Носке получал от рейхсвера, сознательно преуменьшалась опасность ситуации. Прусский государственный комиссар, отвечавший за поддержание общественного порядка, Герберт фон Бергер, отличавшийся крайне правыми взглядами, умолчал перед компетентными учреждениями рейха и Пруссии об известных ему планах путча фон Каппа и Лютвица. 13 марта 1920 г. последовала расплата за халатность, с которой социал-демократические министры Носке и Гейне игнорировали все предупреждения о контрреволюционных акциях. В один момент стало ясно, что военное руководство и гражданская администрация были нашпигованы элементами, которые по крайней мере благосклонно относились к путчу правых{107}. Бригада Эрхарда уже выдвигалась маршем на Берлин, когда Носке около часу ночи 13 марта обсудил сложившуюся ситуацию с военным руководством. Точка зрения министра рейхсвера о необходимости ответить на силу силой была поддержана только командующим сухопутных войск рейхсвера генералом Рейнгардом. Все остальные генералы, в том числе начальник войскового управления генерал фон Сект, расценивали военное сопротивление подразделениям Лютвица и Эрхарда как бесперспективное. Нет доказательств, что в ходе этого совещания фон Сект произнес столь часто цитируемую фразу о том, что «рейхсвер не стреляет в рейхсвер» или «войска не стреляют в войска», но фактическая позиция Секта была ясной. Для него речь шла прежде всего о том, чтобы сохранить рейхсвер в сохранности в качестве внутриполитического инструмента власти. Поэтому он отказался использовать войска против мятежников и фактически занял в борьбе между конституционным правительством и путчистами нейтральную позицию. Берлинская охранная полиция, еще 13 марта перешедшая на сторону путчистов, также отнюдь не стремилась поддержать правительство. Около четырех часов утра имперское правительство собралось на заседание, в котором приняли участие также члены правительства Пруссии и генералы фон Сект и Ольдесхаузен. В настоящих условиях кабинет не видел иного выхода, как отказаться от военного сопротивления и дать приказ об отводе войск из правительственного квартала. Ультиматум Эрхарда, в котором командир морской бригады еще раз повторил требования Лютвица от 10 марта, а также потребовал замены Носке одним из генералов и амнистию для всех участников путча, был отклонен. Зато кабинет не был един по вопросу о том, должны ли члены правительства остаться в Берлине. Рейхспрезидент Эберт, а также принимавшие участие в совещании рейхсканцлер Бауэр и министр без портфеля Эдуард Давид, вошедший в правительство 3 октября 1919 г., рассматривали бегство из Берлина как потерю лица верховной властью и поэтому выступали за то, чтобы остаться в Берлине. Носке и двое из трех политиков ДДП, а именно министр юстиции Ойген Шиффер, одновременно занимавший пост вице-канцлера, и министр внутренних дел Эрих Кох-Везер, считали возможной успешную борьбу против путчистов лишь в случае, если рейхспрезидент и правительство займутся ее организацией вне Берлина. Сторонники второго варианта действий могли предъявить более веские аргументы: после того как законные государственные органы не отважились отдать приказ рейхсверу об оказании сопротивления путчистам, они подвергались в Берлине опасности либо оказаться в изоляции, либо стать жертвами шантажа. В конце концов кабинет остановился на компромиссном варианте: Эберт, Бауэр и большинство министров отправились в Дрезден (Носке считал командующего войсками округа генерала Меркера лояльным правительству), остальные министры во главе с вице-канцлером Шиффером остались в Берлине{108}. Утром 13 марта, когда правительство уже покинуло столицу и Капп установил контроль над рейхсканцелярией, в Берлине появилась листовка, призывавшая пролетариат к единству и провозглашавшая «всеобщую забастовку по всей линии». Подтекстом стояли подписи рейхспрезидента Эберта, рейхсминистров — социал-демократов и председателя СДПГ Отто Велса. Но еще в тот же день министры, осыпанные в Дрездене упреками генералом Меркером, дистанцировались от воззвания. И на самом деле воззвание противоречило всему, что до этого говорили Эберт, Бауэр и Носке. Требование всеобщей забастовки означало крутой поворот в политике, проводившейся до 13 марта 1920 г. Тем не менее Носке заранее ознакомился и одобрил текст воззвания, написанный Ульрихом Раушером, пресс-атташе имперского правительства, как мы знаем благодаря личному свидетельству министра. Что касается остальных министров — социал-демократов и Эберта, то они, очевидно, не были в курсе дела. Зато можно предположить, что Отто Веле знал о призыве к забастовке до опубликования и расценивал его политически правильным{109}. Провозглашение всеобщей забастовки было связано с большими рисками, и все же оно было властным требованием момента. Социал-демократы должны были считаться с тем, что левые радикалы используют забастовку в своих целях и тем самым навяжут СДПГ борьбу на втором фронте. Но если бы экономическая жизнь продолжала течь обычным путем, то, во-первых, у путчистов не было бы причины так быстро начать отступление. Во-вторых, можно предположить, что если бы рабочие своими действиями не придали особый вес призыву рейхспрезидента и правительства, то значительная часть чиновничества пошла бы на поводу у путчистов. В конце концов если бы от СДПГ не последовало призыва к защите республики, то рабочие толпами стали бы переходить к независимым социал-демократам и коммунистам. При подобных обстоятельствах 13 марта какой-либо альтернативы всеобщей забастовке не имелось. Руководство забастовкой осуществлялось, однако, не СДПГ, а Всеобщей федерацией немецких профсоюзов (АДГБ — это было новое название головной организации Свободных профсоюзов с момента их первого послевоенного конгресса в июле 1919 г.). Внутри социал-демократических профсоюзов влияние оппозиционных сил, склонявшихся к НСДПГ, усилилось с ноября 1918 г. до такой степени, что профсоюзное руководство не могло их больше игнорировать. Таким образом, профсоюзы образца весны 1920 г. практически воплощали собой рабочее единство. К тому же они должны были в меньшей степени действовать с оглядкой на правительство, чем СДПГ. Правило, справедливое для социал-демократов, было тем более справедливо для профсоюзов: если бы они не бросили вызов путчистам, то под угрозой оказалось бы единство профсоюзной организации. В результате 13 марта ни АДГБ, ни родственному ей Трудовому объединению свободных союзов служащих (АфА)[16] не потребовалось много времени, чтобы прийти к выводу: провозглашение всеобщей забастовки является неизбежным шагом. Профсоюзы не посчитали нужным согласовать это решение с работодателями, с которыми они официально сотрудничали с ноября 1918 г. Весной 1920 г. отношения между трудом и капиталом уже не были такими гармоничными, как в момент основания ЦАГ. Самый сильный из независимых немецких профсоюзов — Профсоюз немецких металлистов — в октября 1919 г. даже вышел из ЦАГ, чтобы продемонстрировать свою готовность более активно защищать интересы рабочих. Со своей стороны предприниматели, выступая против закона о производственных советах, четко показали, что они не готовы к дальнейшим уступкам организованным рабочим. От предпринимателей не стоило ожидать одобрения всеобщей забастовки даже в том случае, если они, что, как правило, и было, отрицательно относились к путчу правых радикалов. С другой стороны, было маловероятным, что работодатели используют политическую забастовку в качестве повода для роспуска ЦАГ. И все же даже если бы они были готовы поступить именно так, это ничего не изменило бы в линии профсоюзов. Председатель АДГБ, Карл Легин, хотел подстраховать акцию протеста на левом фланге за счет включения НСДПГ в руководство забастовкой. Но соответствующее предложение было отклонено независимыми, которые не хотели действовать заодно с социал-демократами большинства. Зато 16 марта к стачечному комитету, образованному АДГБ и АфА, примкнул Дейче Беамтентбунд — Союз немецких чиновников. Левые радикалы образовали свой собственный орган руководства забастовкой — «Центральный забастовочный комитет Гросс-Берлин», в который, в свою очередь, вошли Берлинская профсоюзная комиссия, КПГ, НСДПГ, «красный» Берлинский исполнительный совет, а также центральное правление производственных советов. Относительно целей всеобщей забастовки у радикалов и умеренных были различные представления. В то время как СДПГ и профсоюзы хотели восстановить в правах легитимный кабинет Бауэра, НСДПГ стремилась к созданию чисто социалистического правительства. Что касается КПГ, то оказалось, что в отсутствие Пауля Леви, отбывавшего наказание, партия оказалась дезориентированной. Сначала 13 марта ее ЦК заявил, что революционный пролетариат «не пошевелит и пальцем для того, чтобы помочь погибающему в стыде и позоре правительству убийц Карла Либкнехта и Розы Люксембург». Но так как повсеместно рядовые коммунисты с самого начала приняли участие во всеобщей забастовке, партия на следующий день приняла новую директиву. В своем втором воззвании КПГ охарактеризовала всеобщую стачку как начало борьбы против военной диктатуры. В циркулярном письме рядовым коммунистам даже напоминалось о том, что они должны не только четко представлять свои собственные главные цели, но и то, что «они являются не единственными участниками этой акции и ограничены в своих действиях целями, которые ставит перед собой в данное время большинство рабочих». Это было не больше и не меньше, чем призыв к единству действий коммунистов, независимых социал-демократов и социал-демократов большинства, т. е. полная противоположность тому, что провозгласила КПГ 13 марта{110}. Активные сторонники, на которых могли опереться Капп и Лютвиц, с самого начала представляли собой лишь небольшую часть немецкого общества. Прежде всего это была консервативная среда Остэльбии, выступившая в марте 1920 г. против своего отстранения от власти. Костяк заговорщиков в старопрусских провинциях составляли крупные землевладельцы, офицеры и должностные лица — выходцы из образованных слоев буржуазии. Большинство предпринимателей в отличие от помещиков рассматривали путч с политической точки как неудачное предприятие, поскольку он должен был привести к тяжелым народно-хозяйственным потрясениям. Этой точки зрения придерживались даже те промышленники, которые финансово поддерживали Национальное объединение по причине его воинствующего антикоммунизма. В рейхсвере также преобладали силы, которые полагали, что непосредственным результатом государственного переворота, осуществленного правыми радикалами, станет массовый приток сторонников в лагерь крайне левых. Риски такой поляризации оценивались реалистически мыслящими генералами рейхсвера как более значительные, чем те преимущества, которые могла принести им военная диктатура. В отношении бюрократии дела обстояли также. Только в восточных провинциях Пруссии значительная часть чиновничества, в том числе многие ландраты, оказала поддержку путчистам. Государственные служащие министерств Пруссии и рейха почти без исключения последовали рекомендации соответствующих помощников статс-секретарей, следовать указаниям только конституционного правительства. Большинство чиновников не считали возможным сотрудничать с Каппом по причине своей служебной клятвы, у многих к этому добавился страх перед усилением «большевизма», меньшинство же сохраняло приверженность идеям республики. Среди чиновников ниже министерского уровня преобладала выжидательная позиция; число противников путча в результате росло по мере того, как его победа становилась все менее вероятной. Что касается обеих правых партий, то среди их сторонников наблюдались как симпатизирующие путчистам, так и высказывавшие опасения. Имперское руководство ДНФП реагировало более сдержанно, чем замешанные в путче северо-восточные земельные союзы партии. По аналогии с ДФП, ориентированной на крупную промышленность, Немецкая национальная народная партия добивалась легализации путча задним числом: согласно запросу обеих партий, отклоненному Национальным собранием еще 9 марта, незамедлительно должны были быть проведены новые выборы. Кроме того, Немецкая народная партия попыталась после 13 марта выступить в качестве посредника между «старым» и «новым» правительствами. Зато позиция Центра и ДДП в отношении режима путчистов была однозначно отрицательной. В цитаделях либерализма — Вюртемберге и Бадене — правительству Бауэра была оказана особенно сильная поддержка. Мятежникам также сильно вредило то, что они выступали как представители одной специфической группы населения рейха — пруссачества. Уже в первые дни путча в некоторых областях империи дело дошло до вооруженных столкновений между рабочими и военными. И в случае с военными подразделениями рейхсвера, подвергшимися нападению, речь не всегда шла о частях, перешедших на сторону Каппа и Лютвица. В Померании и Мекленбурге батраки и фабричные рабочие добывали себе оружие из нелегальных арсеналов землевладельцев. Части рейхсвера, которые здесь, как и почти повсюду в Остэльбии, поддержали путчистов, должны были в ряде случаев смириться с поражением и, таким образом, они не смогли выступить против восставших рабочих в «красных» регионах как в центре, так и на западе рейха. Самые ожесточенные схватки разыгрались в индустриальном районе на Рейне и Руре. Уже 13 марта здесь повсюду были образованы «Комитеты действия», которые после отстранения от власти рейхсвера и охранной полиции переименовывались в «Исполнительные советы». В некоторых городах Рурской области в них входили представители от всех трех рабочих партий, в других — только от НСДПГ и КПГ. В качестве вооруженного крыла «исполнительных советов» выступали местные отряды рабочей самообороны, из которых после первых успешных боев с фрайкорами, вторгшимися в промышленный район, была образована Красная армия Рура. Оружие она сначала добывала из арсеналов местных союзов гражданской самообороны, потом использовали трофейное, захваченное у разбитых ими фрайкоров. 16 марта красноармейцы уничтожили особо ненавистный им фрайкор Лихтшлаг в Дортмунде; спустя два дня они взяли Эссен. 22 марта, спустя неделю после начала вооруженной борьбы, в руках Красной армии Рура была вся Рурская область{111}. В Берлине к этому времени путч Каппа — Лютвица уже закончился провалом. Мятежникам не помогло то, что они смогли опереться на ряд перебежчиков, к которым относились многие чиновники — выходцы из равнинных местностей Остэльбии, а также отвечавший за полицию регирунгсрат Дойе из прусского МВД и берлинские охранные отряды. Всеобщая забастовка в сочетании с отказом министерских чиновников следовать приказам новой власти привели к тому, что призывы «рейхсканцлера» Каппа не находили отклика, а у путчистского правительства была выбита почва из под ног. Уже 15 марта Капп проинформировал самозваного посредника, генерала Меркера, что он готов к заключению соглашения с правительством Бауэра, которое тем временем перебралось в Штутгарт. Тем временем в Берлине ДФП получила со стороны партий парламентского большинства поддержку своего предложения, согласно которому оба «правительства» должны были уйти в отставку, отказавшись от власти в пользу коалиционного кабинета. Безотлагательно должны были состояться выборы в рейхстаг и прямые выборы рейхспрезидента. Точно такие же обещания были даны 16 марта вице-канцлером Шиффером представителю путчистов капитану Пабсту в присутствии и с согласия целого ряда прусских министров, в том числе социал-демократов Хирша и Сюдекума, при условии, что Капп и Лютвиц подадут в отставку со своих постов «рейхсканцлера» и «верховного главнокомандующего». Кроме того, Шиффер дал согласие на скорое преобразование правительства и пообещал добиваться всеобщей амнистии. Но для правительства Бауэра в Штутгарте компромиссы с Каппом и Лютвицем были немыслимы по двум причинам: во-первых, режим путчистов уже потерпел очевидное поражение, поэтому не было никаких оснований для переговоров с ними. Во-вторых, любые договоренности с мятежниками неизбежно должны были радикализировать рабочих. Неуступчивость находившегося в бегах большинства членов правительства в конце концов оправдала себя. Под давлением военных 17 марта сначала в отставку подал Капп, а за ним следом и Лютвиц. Капп обосновывал свой шаг тем, что крайняя нужда отечества требовала теперь «единодушного объединения всех сил против разрушительной опасности большевизма». Лютвиц перед отставкой получил заверения со стороны буржуазных партий с согласия социал-демократа Сюдекума, что его требования проведения новых выборов в рейхстаг, общенародных выборов рейхспрезидента, преобразования правительства и амнистии будут выполнены. Кроме того, Лютвиц вручил свою отставку Шифферу при условии удовлетворения его права на получение пенсии. За исключением Лютвица, большинство видных путчистов покинули Берлин еще 17 марта с фальшивыми паспортами. Капп бежал в Швецию. Морская бригада Эрхарда, оставляя 18 марта столицу, учинила настоящую кровавую бойню. Когда бригада в своей обычной форменной одежде («Черно-бело-красный бант, свастика на шлеме / Бригаду Эрхарда знают все на деле») маршировала к Бранденбургским воротам под звуки «Германия превыше всего», из толпы стали раздаваться протесты. Солдаты тут же в ответ открыли огонь, 12 человек были убиты на месте и 30 ранены. Это была не последняя месть фрайкора за неудачу своего путча{112}. Капитуляция путчистов не означала завершение всеобщей забастовки. Более того, 18 марта АДГБ, АфА и Союз немецких чиновников приняли решение продолжать стачку до тех пор, пока не будут выполнены следующие условия: Носке, на которого была возложена ответственность за измену значительной части рейхсвера, не мог вернуться в Берлин в статусе главнокомандующего войсками; ненадежные военные подразделения подлежали удалению и полному разоружению; реорганизация войск должна была проводиться таким образом, чтобы навсегда исключить возможность военного путча. Три профессиональных союза также потребовали права «решающего участия в переустройстве общественно-политических отношений». Вслед за этим заявлением в тот же самый день последовала программа из девяти пунктов, в которой союзы рабочих и служащих дополнительно требовали наказания всех замешанных в путче лиц, обстоятельной демократизации управления, немедленной социализации горной промышленности и предприятий электроэнергетики, а также создания новой Службы безопасности, контролируемой организованными рабочими и служащими. Согласно этой программе, кроме Носке в отставку должны были подать два члена прусского кабинета министров: министр внутренних дел, социал-демократ Гейне, которому Союз чиновников ставил в вину халатную терпимость в отношении сил реакции, и член ДДП, министр транспорта Озер, который, по мнению союза железнодорожников, не выступил против правительства путчистов с необходимой жесткостью{113}. Переговоры профсоюзов на основе 9 пунктов с представителями партий парламентского большинства, представителями прусского и имперского правительств, состоялись уже 18 марта. Они были омрачены ультимативной угрозой председателя АДГБ Легина: если требования профсоюзов не будут выполнены, то правительство Бауэра не сможет вернуться в Берлин. Против этого заявления протестовала не только ДДП; СДПГ, которая была в общем и целом согласна с содержанием 9 пунктов, дистанцировалась от ультиматума. Рейхспрезидент Эберт, которого проинформировали о ходе переговоров по телефону, тотчас же выразил серьезные сомнения по поводу требуемого профсоюзами права «участия в принятии решений правительством». И все же Эберт выражал желание принять во внимание и поддержать решение, к которому пришло руководство СДПГ: представители коалиции должны взять на себя обязательство решать «персональные вопросы» в ходе формирования правительства «в согласии с профсоюзными организациями рабочих». Спустя два дня, 20 марта, профсоюзы могли записать на свой счет целый ряд достижений: министры Носке и Гейне к тому времени уже подали свои прошения об отставке; буржуазные партии дали свое согласие на предложение социал-демократов, согласно которому части охранной полиции, изменившие конституции, должны были быть распущены и заменены подразделениями, сформированными из лояльного республике населения, а именно из организованных рабочих, служащих и чиновников; в завершение незамедлительно должна была быть созвана комиссия по социализации, чтобы подготовить обобществление «созревших» для этого отраслей экономики. Хотя тем самым были выполнены далеко не все их требования, АДГБ и АфА расценили результаты переговоров как в целом удовлетворительные и объявили о завершении всеобщей забастовки. Но НСДПГ придерживалась другой точки зрения и вынудила правительство пойти на новые переговоры, в ходе которых 22 марта рейхсканцлер Бауэр взял на себя обязательства принять на работу в охранную полицию рабочих, начать переговоры с партиями парламентского большинства об образовании «рабочего правительства» и отменить в Берлине чрезвычайное военное положение. Кроме того, Бауэр обещал, что не последует каких-либо военных действий в отношении вооруженных рабочих Рурской области. На основании этих уступок НСДПГ также присоединилась к призыву, объявлявшему всеобщую забастовку оконченной с наступлением 23 марта{114}. Формирование правительства было завершено 27 марта. На место политически бесцветного рейхсканцлера Бауэра, престиж которого в результате путча еще более уменьшился, пришел прежний министр иностранных дел Герман Мюллер, являвшийся наряду с Отто Велсом одним из двух председателей СДПГ. Мюллер намного превосходил своего предшественника в политическом мастерстве и нравственных качествах. Коренной маннхаймец 1876 года рождения, в качестве торгового служащего он выучил несколько иностранных языков, что пригодилось ему в его политической карьере: задолго до того, как Мюллер формально стал в июне 1919 г. рейхсминистром иностранных дел, он уже являлся своего рода неформальным министром иностранных дел немецкой социал-демократии, ее представителем во время встреч с братскими партиями зарубежного Запада. Кабинет, возглавляемый Мюллером, тем не менее никоим образом не означал новый этап в немецкой политике, на что так надеялись большая часть СДПГ и профсоюзы. Только с большим трудом Мюллеру удалось подвигнуть демократов и Центр занять позицию, которую по крайней мере нельзя было бы трактовать как отказ от договоренностей, заключенных с профсоюзами. Тот, кто ожидал «плавания к новым берегам», должен был в первую очередь испытать разочарование персональными изменениями во главе руководства министерством рейхсвера. После того как Отто Веле отклонил предложение стать преемником дискредитировавшего себя Носке, СДПГ полностью отказалась от притязаний на нелюбимое ведомство. Новым министром рейхсвера стал бывший министр по делам восстановления народного хозяйства Отто Гесслер, относившийся к правому крылу ДДП. Бывший обер-бюргермейстер Нюрнберга и убежденный сторонник Виттельсбахов, он, по его собственным словам, заявил Эберту следующее, когда тот предложил ему пост министра рейхсвера: «В любом случае республика не является для меня кровным делом; в лучшем случае я являюсь республиканцем по велению разума, в то время как теперь повсеместно требуется быть республиканцем по влечению сердца». Ответ рейхспрезидента был поразительным: представленная Гесслером точка зрения показалась ему особенно подходящей для «преодоления трудностей, которые в данный момент связаны с этой должностью». На основании аналогичной точки зрения была также произведена смена верховного командования сухопутных войск: на место Рейнгарда, подавшего в отставку из солидарности с Носке, 2 апреля был назначен человек, который в дни путча ограничился лавированием между правительством и мятежниками: генерал Ганс фон Сект{115}. Предположение, что кабинет Бауэра может быть заменен «правительством рабочих», никогда не основывалось на реалиях. Легин, 17 марта внесший это предложение на рассмотрение НСДПГ, очевидно, хотел в первую очередь смягчить противоречия между руководством и оппозицией в собственных рядах, усилив таким образом солидарность профсоюзов. Для создания чисто социалистического правительства, о котором грезили некоторые левые деятели профсоюзов, отсутствовали самые элементарные предпосылки: у СДПГ и НСДПГ не было политической воли для заключения коалиции, а в рейхстаге — необходимого большинства. Буржуазные партии ни в коем случае не собирались мириться с таким правительством, и в столь же малой степени можно было их принудить впредь делегировать в правительство Веймарской коалиции только рабочих и служащих. Если бы притязание на участие в политике с правом решающего голоса, выдвинутое Свободными профсоюзами в марте 1920 г., было удовлетворено, то Веймар превратился бы в профсоюзное государство — систему, которая никоим образом не соответствовала конституции 1919 г. Когда буржуазные центристские партии и умеренные демократы во главе с Эбертом противостояли подобным требованиям, на их стороне было не только конституционное право, но и неписаные законы парламентской демократии. Но одно дело — стойко держаться конституции, и совсем другое — отказываться делать практические выводы из путча Каппа — Лютвица. Спустя две недели после всеобщей забастовки не было видно, чтобы правящие партии на уровне рейха извлекли поучительный урок из попытки переворота. Решение социал-демократов не назначать на пост министра рейхсвера человека из своих собственных рядов означало отказ от политической ответственности. Тем самым СДПГ установила ориентиры для своего политического развития, которое должно было затруднить отождествление партии с созданной ею самой республикой. Зато в Пруссии, в отличие от рейха, путч Каппа — Лютвица стал важной политической вехой. После краха мятежа социал-демократия самой большой из немецких федеральных земель произвела масштабную смену своего руководящего персонала и тем самым создала предпосылки для того, чтобы Пруссия в течение нескольких следующих лет смогла превратиться в прославленный «бастион» немецкой демократии. На смену безликому министру-президенту Паулю Хиршу пришел бывший министр сельского хозяйства, деятельный восточный пруссак Отто Браун, который, если не принимать во внимание короткие перерывы, оставался во главе прусского государства до 1932 г. Скомпрометированного министра внутренних дел Вольфганга Гейне заменил Карл Северинг, бывший комиссар рейха и Пруссии в беспокойной рейнско-вестфальской индустриальной области. Министр финансов Альберт Сюдекум, относившийся, как и Гейне, к крайне правому крылу СДПГ, который в мартовские дни пошел вместе с Хиршем на прямые контакты с путчистами, очистил свое место в пользу «левого» Германа Людемана. Новых политиков от их предшественников отличали прежде всего целеустремленность и энергия. Эти свойства им были необходимы, чтобы наверстать упущенное за полтора года, прошедшие с момента свержения монархии. В марте 1920 г. только прусские обер-президенты[17] почти все без исключения были членами веймарских партий; из регирунгспрезидентов[18] две трети, а из ландратов — даже свыше девяти десятых были чиновниками еще кайзеровского времени. Во время путча наблюдалось четкое различие между востоком и западом в вопросе лояльности правительству: на западе Пруссии почти все ладраты, даже если иногда и под давлением рабочих, сохранили свою верность конституционному правительству; в Восточной Пруссии, Померании, Бранденбурге и в пограничной области Позен-Вестпройсен почти пятая часть ландратов признала правительство Каппа, сделав об этом личные заявления. Северинг начал проводить давно назревшую демократизацию прусской администрации с увольнения виновных. Из одиннадцати обер-президентов своих должностей лишились трое, из 33 регирунгспрезидентов — также трое, а из 480 ландратов — 88, которые почти все были из восточных провинций. К числу уволенных обер-президентов относился также социал-демократ Август Винниг, который в зоне своей компетенции в Восточной Пруссии задолго до путча наладил связи с радикальными, националистически настроенными правыми, а 13 марта вместе с командующим военными силами округа, генералом фон Эсторффом, заявил о своей поддержке «нового правительства». Следом в отставку был отправлен социал-демократ и обер-президент Силезии Эрнст Филипп, а также его партийный товарищ и полицай-президент Бреслау Фридрих Фойгт — оба по причине недостаточно энергично организованного сопротивления контрреволюционным действиям, осуществлявшимся до 13 марта. Берлинский коллега Фойгта Евгений Эрнст, тоже социал-демократ, должен был уйти со своего поста, поскольку он, с разрешения Гейне, во время путча продолжал отправлять свою должность. Освободившиеся места заняли люди, в чьей готовности решительно встать на защиту республики Северинг не сомневался. Новый министр внутренних дел целенаправленно назначал членов веймарских партий и не в последнюю очередь своих собственных товарищей по СДПГ, на ключевые позиции во вверенном ему ведомстве, в том числе в полицейские управления больших городов. На упрек в том, что он вводит новый тип должностного лица — чиновника с членским партийным билетом — Северинг мог спокойно ответить: именно путч Каппа — Лютвица продемонстрировал, что прежнее чиновничество никоим образом не является стойким приверженцем республики{116}. Полную противоположность Пруссии представляла Бавария. В то время как самая большая из немецких федеральных земель после путча Каппа — Лютвица стала республиканской, вторая по величине земля пережила в марте 1920 г. антиреспубликанский поворот. 14 марта в Мюнхене произошел своего рода баварский вариант путча. По согласованию с монархическими политиками — такими как командующий баварской гражданской самообороной форстрат[19] Эшерих, верхнебаварский регирунспрезидент Риттер фон Кар и мюнхенский полицай-президент Пёнер — командир IV группы рейхсвера генерал Риттер фон Мёль потребовал от министра-президента Баварии социал-демократа Гофмана передать ему исполнительную власть в интересах поддержания спокойствия и порядка. Баварское коалиционное правительство меньшинства в составе представителей СДПГ, Баварского крестьянского союза и беспартийных, в отношении которого БФП и ДДП проводили так называемую политику толерантности[20], подчинилось требованию генерала. Гофман, высказавшийся против, подал в отставку. 16 марта ландтаг большинством в один голос выбрал новым министром-президентом Баварии Густава фон Кара. В новое правительство вошли политики от БФП, Баварского крестьянского союза и ДДП. Социал-демократы перешли в оппозицию и оставались в ней до конца Веймарской республики. Бавария таким образом получила возможность превратиться в некую «ячейку правого порядка» — оплот всех сил, только и стремившихся к тому, чтобы как можно скорее и самым основательным образом устранить ненавистную республику{117}. Преобразование правительств рейха, Пруссии и Баварии еще не завершило главу, начатую путчем Каппа — Лютвица. Кровавая точка была поставлена на Руре. Когда рейхсканцлер Бауэр пообещал 22 марта в ходе переговоров с профсоюзами, СДПГ и НСДПГ, что вооруженные рабочие, прежде всего в Рурской области, не подвергнутся нападению, его партнеры по переговорам не знали, что он обещал это от своего собственного имени, а не от имени правительства. И даже если бы все министры согласились с его точкой зрения, тем не менее было ясно, что правительство рейха не могло оставить эту промышленную область под контролем Красной армии Рура. С того момента как законное правительство снова находилось у власти, «красное» господство над Руром представляло собой, с правовой точки зрения, восстание против конституционной власти. Обещание Бауэра могло таким образом значить только то, что Берлин сначала попытается решить конфликт мирным путем, но в случае, если эта попытка потерпит неудачу, последует применение силы. На пике вооруженной борьбы с путчистами Красная армия Рура насчитывала в своих рядах по меньшей мере 50 000 вооруженных рабочих. Из организованных рабочих чуть больше половины входили в Свободные профсоюзы, значительное меньшинство относилось к синдикалистскому Свободному рабочему союзу (Фрайе Арбайтер-Унион). Что касается их членства в политических партиях, то на первом месте с 60 % лидировала НСДПГ, за которой следовали КПГ с 30 % и СДПГ с 10 %. Когда противники характеризовали бойцов Красной армии Рура как «спартаковцев», это было пропагандистским трюком. Красная армия Рура выступала вооруженным крылом массового пролетарского движения, самого большого из когда-либо наблюдавшихся в Германии и далеко выходившего за пределы группы приверженцев КПГ. Красная армия Рура заняла ратуши и тюрьмы, она проводила реквизиции автомашин, скота и продуктов питания у частных собственников в городе и деревне, подчинила буржуазную прессу «красной» цензуре. У рабочих повстанцев не было единого центра командования. Центральный совет в Эссене не мог добиться распространения своего влияния на всю Рурскую область; относительно умеренный центр в Хагене был независим от него, также как и особенно радикальный, контролируемый синдикалистами исполнительный совет Мюльхайма. Эти советы, в свою очередь, не могли осуществлять никакого контроля над Дуйсбургом, где 26 марта к власти пришли анархисты, от которых в скором времени дистанцировались также и коммунисты. В целом восточная и южная части Рурского района, в которой экономически доминировала металлообрабатывающая промышленность, а политически — НСДПГ, были менее радикальны, чем горнодобывающие области «дикого Запада», цитадели синдикалистов и левых коммунистов{118}. Политические различия внутри повстанческого рабочего движения представляли определенный шанс правительству в Берлине, которое могло попытаться вогнать клин между умеренными и радикальными силами. 21 марта в Рурскую область отправились рейхсминистр почт Гисберте от Центра и министр сельского хозяйства Пруссии Браун от СДПГ с миссией сообщить населению, что из Голландии будет доставлено столь необходимое продовольствие, если индустриальная область освободится от коммунистического господства. Гисберте и Браун представляли рейх и Пруссию на конференции в Билефельде 23 и 24 марта, в которой наряду с исполнительными советами, городскими муниципалитетами и регирунгспрезидентами приняли участие профсоюзы и политические партии — от буржуазных центристов до коммунистов. Целью конференции, как при ее открытии разъяснил Северинг, еще занимавший на тот момент пост комиссара Пруссии и рейха в Рурской области, было достижение соглашения о разоружении Красной армии Рура и организации сдачи оружия. Созданная конференцией комиссия в действительности выработала соглашение о перемирии между рейхсвером и Красной армией Рура. 24 марта эта комиссия приняла «Билефельдское соглашение», повторявшее договоренность, к которой четырьмя днями ранее в Берлине пришли профсоюзы и партии парламентского большинства, но оно также содержало дополнительные пункты. Так, в них оговаривалась масштабная амнистия за нарушения закона, совершенные в ходе отражения путча. Процедура сдачи оружия должна была быть совместно урегулирована исполнительными советами и муниципальным органами. При условии строгого соблюдения этого соглашения рейхсвер не должен был вводить свои подразделения в рейнско-вестфальскую индустриальную область. Билефельдское соглашение было на первый взгляд многообещающей попыткой решить конфликт в Руре мирным путем. Произошел раскол повстанцев, на что Северинг и возлагал надежды: умеренные силы вплоть до НСДПГ и центра в Хагене встали на почву соглашения; Центральный совет Эссена и КПГ потребовали новых переговоров с правительством рейха; исполнительные советы Мюльхайма и Хамборна отклонили перемирие. Такую же позицию заняло боевое руководство Красной армии Рура: оно хотело боевой пробы сил и предпочитало в этом случае почетное поражение якобы гнилому компромиссу{119}. Если бы не хаос, царивший в Дуйсбурге, новое правительство рейха во главе с Германом Мюллером возможно пошло бы на новые переговоры, как того требовал Центральный совет Эссена. Но положение в этом городе было настолько угрожающим, что как правительство, так и Северинг сочли своевременным продемонстрировать неуступчивость. 28 марта правительство ответило на требования Эссена ультиматумом, срок которого истекал в полдень 30 марта. В свою очередь, командующий местными силами рейхсвера генерал-лейтенант фон Ваттер без какой-либо договоренности с Северингом или правительством рейха присовокупил 29 марта к требованиям ультиматума дополнительные условия сдачи оружия и роспуска Красной армии Рура — условия, которые также должны были быть выполнены в срок до полудня следующего дня, что было технически невозможно. Центральный совет Эссена ответил призывом к проведению новой всеобщей забастовки. 29 марта бастовали уже свыше 330 000 рурских горняков, или более ¾ всего персонала. Самовольные дополнения Ваттера сделали очевидным принципиально слабое место «Билефельдского соглашения»: военные не были задействованы в качестве одной из договаривающихся сторон, а следовательно обладали в своих действиях значительной свободой рук. Кабинет Мюллера высказал 29 марта ряд пожеланий в адрес частей, находившихся под командованием Ваттера: Хаген и Бергишесланд не должны были быть, по возможности, затронуты войсками, походдолжен был осуществляться «без провокаций», солдаты должны были носить черно-красно-золотые знаки отличия. Но то что войска, готовые совершить поход в Рурскую область, будут придерживаться этих пожеланий, было в высшей степени сомнительным, так как большей частью это были фрайкоры, которые только что поддержали черно-бело-красный путч Каппа — Лютвица. Фон Сект, между тем назначенный командующим сухопутных войск, был даже готов отправить сражаться против Красной армии Рура морскую бригаду Эрхарда, но потом отказался от этого намерения. Зато морская бригада Лёвенфельда, также относившаяся к путчистским группам «первого призыва», получила возможность внести свой вклад в «борьбу с большевизмом» на территории промышленной области. 31 марта Северинг, между тем назначенный прусским министром внутренних дел, предпринял последнюю попытку предотвратить бессмысленное кровопролитие. В Мюнстере он разъяснил представителям исполнительных советов и партий решения федерального правительства, при этом Северинг нашел понимание у партнеров по переговорам. Заключительное соглашение продлевало срок сдачи оружия и ликвидации вооруженных формирований восставших до 12 часов дня 2 апреля; до этого момента рейхсвер должен был воздерживаться от любого продвижения в пределах области. На общем собрании Исполнительного совета Эссена 1 апреля участвовавшие в нем руководители Красной армии Рура признали продолжение борьбы бессмысленным. Но их армия к тому времени уже распалась на ряд самостоятельных частей, и в Рурской области больше не было авторитетной пролетарской власти, которая могла бы добиться осуществления своих распоряжений. Северинг не преувеличивал, когда писал, оглядываясь назад: «Сообщения о вымогательствах и поджогах, об издевательствах и расстрелах увеличивались в ужасающем размере. Призывы населения, городских муниципалитетов и руководителей политических партий о помощи становились все громче». К вечеру 2 апреля, согласно сообщениям регирунспрезидентов, оружие не было сдано или сдано Красной армией Рура в незначительной степени. Так как Мюнстерские договоренности не были выполнены, рейхсвер начал оккупацию Рурской области{120}. Продвижение военщины сопровождалось насилием и жестокостью, заставившими побледнеть «красный террор». Солдаты бригады Эппа расстреляли 2 апреля близ Пелкума вооруженных рабочих, раненых в предыдущих боях, а также десять санитарокКрасной армии Рура, у которых при себе были пистолеты. Бесчисленное количество красноармейцев было застрелено «при попытке к бегству», то есть предательским выстрелом в спину. Общее число убитых, оплакиваемых рабочими Рура, так и не было никогда точно установлено. Но с большой вероятностью можно полагать, что оно существенно превышало тысячу человек. Большинство из жертв были убиты, уже находясь в плену. Рейхсвер потерял 208 человек убитыми и 128 — пропавшими без вести, охранная полиция — 41 человек убитым. Правительство рейха воспрепятствовало еще большему кровопролитию, ликвидировав военно-полевые суды. Последние к тому моменту вынесли 205 смертных приговоров, из которых 50 были приведены в исполнение. Зато в течение еще долгих месяцев в Рурской области продолжали действовать чрезвычайные военные трибуналы, которых мало интересовали правительственные амнистии. Более коротким по продолжительности было другое следствие рурской акции рейхсвера: на его продвижение в местности, относящиеся к демилитаризованной рейнской зоне, Франция ответила 6 апреля оккупацией всего Майнского района, включая город Франкфурт. 17 мая, вскоре после завершения военной экзекуции в Рурской области, Париж снова отвел свои войска{121}. Восстание пролетариата Рура было последним из массовых движений, начало которым положила «дикая» забастовка[21] 1917 г. Протест радикально настроенных рабочих был в первую очередь направлен против политической и общественной системы, на которую они возлагали ответственность за войну, а также против тех, кто после 1918 г. хотел восстановить эту систему. Массовые движения были также протестом против тех рабочих организаций, которые с течением времени инкорпорировались в существующий общественный порядок. Но профсоюзы и правые социал-демократы, которым адресовалось это обвинение, также имели поддержку со стороны рабочих и гораздо более массовую, чем синдикалисты, коммунисты и независимые социал-демократы. Таким образом, расколото было само рабочее сообщество. Умеренное крыло, опиравшееся на более квалифицированных и поэтому находившихся в лучшем положении рабочих, хотело достичь свои цели путем постепенного улучшения ситуации. Радикальное крыло, в число приверженцев которого входили не только низкоквалифицированные рабочие, но именно они составляли в нем большинство, стремилось к как можно более быстрому и полному изменению общественных отношений. Поражение, нанесенное Рурскому восстанию, подействовало отрезвляюще не только на непосредственно участвовавших в нем рабочих. В последующие годы неоднократно происходили выступления радикальных левых, но это были уже не массовые мятежи, а попытки путча со стороны коммунистов, находившие поддержку у незначительного меньшинства рабочих. Время массовых революционных боев окончилось вместе с подавлением Рурского восстания, а вместе с ним и революционное время в самом широком смысле{122}. Всеобщая забастовка марта 1920 г. показала, что это средство борьбы является обоюдоострым оружием. С одной стороны, она внесла существенный вклад в свержение контрреволюционного режима и в этом смысле была полностью успешной. С другой — забастовка развила собственную динамику, противостоять которой оказались бессильны и профсоюзы, и социал-демократы. Условия для всеобщей забастовки весной 1920 г. были почти оптимальными: в Германии имелась практически полная занятость населения, таким образом бастующие не должны были страшиться, что безработные займут их места. Помимо этого забастовщики, пока стачка была направлена против режима путчистов, были союзниками законной государственной власти. И все же забастовка оставила в памяти профсоюзов весьма горькие воспоминания, которые сыграли свою роль в том, что возможность использования этого средства борьбы даже не рассматривалась всерьез на завершающем этапе кризиса Веймарской республики, не говоря уже о его применении: радикальные левые превратили всеобщую забастовку 1920 г., не считаясь с профсоюзами, в вооруженную борьбу, из которой победителем вышел отнюдь не рабочий класс, а военщина{123}. После победы над Красной армией Рура рейхсвер также должен был отступить на несколько шагов назад. 6 апреля 1920 г. имперское правительство приняло новую процедуру введения военного положения, признававшую приоритет гражданской власти над военной. Таким образом, рейхсвер не мог больше так демонстративно и почти монопольно, как ранее, выступать в роли внутриполитической силы по наведению порядка. Генерал фон Сект, который в июне 1920 г. официально вступил в должность командующего сухопутными войсками вермахта, использовал перераспределение властных полномочий для того, чтобы консолидировать рейхсвер по своему разумению и превратить его в «государство в государстве». Путч Каппа — Лютвица подтвердил его собственную оценку ситуации, согласно которой интересы рейхсвера могли быть достигнуты не в ходе конфронтации с конституционным порядком, а в результате сотрудничества с гражданской исполнительной властью. Формальное признание существующего государственного порядка было, таким образом, с точки зрения Секта неизбежным. В своем приказе от 18 апреля 1920 г. он продемонстрировал, что сделал соответствующие выводы. Командование войсками, заявил Сект, не задается вопросом о политических убеждениях отдельного военнослужащего, «однако в отношении каждого, кто сегодня все еще служит в рядах рейхсвера, я должен быть уверен, что он серьезно воспринял свою клятву и по доброй воле, как честный солдат, стоит на почве конституции. Тот, кто не осуждает провалившуюся попытку мартовского переворота, кто верит, что ее повторение принесет что-нибудь другое, чем новые беды для народа и рейхсвера, должен сам осознать, что для него нет больше места в вооруженных силах». Но действительность в рейхсвере выглядела менее республиканской, чем звучали эти слова. Летом 1920 г. из рейхсвера были уволены рядовые, выступавшие против офицеров с «капповскими» настроениями. Зато офицеры, поддержавшие путч, смогли войти в окончательный состав рейхсвера на основании амнистии августа 1920 г. Военно-морской флот пошел в этом отношении еще дальше: он принял в свой состав бригады Эрхарда и Лёвенфельда и использовал их как основу для формирования кадров. Девиз Секта от ^апреля 1920 г., согласно которому «политическая деятельность любого рода» должна вестись на расстоянии от вооруженных сил, в первую очередь был направлен против политической деятельности республиканцев. Ни рейхсвером, ни военно-морским флотом антиреспубликанские убеждения не воспринимались как нечто негативное{124}. Юстиция также весьма милостиво обошлась с путчистами. Большинство из вождей мятежа и без того с самого начала не могли быть осуждены, поскольку они, следуя примеру Каппа и Лютвица, бежали заграницу. По обвинению в государственной измене перед имперским судом в конце концов предстали только бывший полицай-президент Берлина Трауготт фон Ягов, ставший в правительстве Каппа министром внутренних дел; бывший председатель Союза сельских хозяев, Конрад фон Вайгенхайм, которого Капп намеревался назначить министром сельского хозяйства Пруссии, а также Георг Вильгельм Шиле, политик, представлявший интересы среднего сословия, которого путчисты прочили прусским министром экономики. Приговор был вынесен 21 декабря 1921 г. Осужден был только один обвиняемый — Ягов. По обвинению в содействии государственной измене он был приговорен к пяти годам заключения в крепости, причем суд зачел ему в качестве смягчающего обстоятельства «беззаветную любовь к Родине». В декабре 1924 г. он был помилован и получил свою пенсию, выиграв процесс против прусского государства. Лютвиц, возвратившийся в 1921 г. из Венгрии, также высудил себе пенсию, и даже обратным числом, начиная с дней путча. Внеся залог, он смог избежать предварительного заключения, судебный процесс в его отношении так и не был открыт. Против Людендорфа даже не выдвинули обвинение. Капитан-лейтенант Эрхард, объявления о розыске которого были распространены по всему рейху, смог, укрывшись от властей, подготовить в «образцовой» Баварии новый этап контрреволюции. Капп вернулся из Швеции весной 1922 г. и был взят под стражу. Он умер в июне 1922 г., не будучи осужденным. В 1925 г. преемник Эберта на посту рейхспрезидента Гинденбург издал указ об амнистии, распространявшейся также и на зачинщиков и вождей путча Каппа — Лютвица. Еще незаконченные следственные дела вслед за этим были прекращены, равно как и отменены приказы о взятии под стражу{125}. Обещания, которые имперское правительство дало бастующим рабочим между 20 и 24 марта, были выполнены лишь минимально. Социализация угледобычи не удалась и со второго захода. В течение нескольких месяцев временный Имперский экономический совет и Имперский совет по углю обсуждали два альтернативных проекта, предложенных в конце июля 1920 г. созванной комиссией по социализации. Первое предложение предусматривало немедленную полную социализацию угледобывающей промышленности и передачу ее публично-правовому Угольному объединению; согласно второму предложению, которое было встречным по отношению к первому, предполагался постепенный, в течение 30 лет, перевод отрасли в общественную собственность. Решение было принято в феврале 1921 г.: никакой социализации. Совместная экспертиза министерства иностранных дел и имперского министерства юстиции пришла к выводу, что результатом социализации будет создание государственного имущества, которое может быть привлечено союзниками для покрытия репарационных обязательств. Но даже если бы экспертиза пришла к иному выводу, то едва ли удалось бы получить поддержку большинства в рейхстаге для принятия решения об обобществлении угледобывающей промышленности{126}. Что касается другого обещания правительства рейха — роспуска ненадежных полицейских подразделений, то сначала оно было выполнено только там, где социал-демократы обладали для этого достаточной властью. Однако также имелись веские внешнеполитические причины, которые вынуждали рейх предпринимать действия в этом направлении. 12 марта 1920 г. Межсоюзническая военная комиссия потребовала провести до 10 апреля 1920 г. роспуск отрядов гражданской самообороны, а также созданных рейхсвером добровольческих отрядов. Пруссия, которую возглавлял кабинет из представителей веймарских партий, за два дня до истечения этого срока приняла решение о роспуске гражданской самообороны и создании местной самообороны, подразделения которой должны были формироваться из республикански настроенных рабочих. Аналогичным образом поступило большинство правительств других федеральных земель. Надежда на то, что значительное число рабочих примкнет к отрядам новой местной самообороны, не оправдалась. В результате социальный состав отрядов самообороны изменился лишь в незначительной степени. Более успешной для имперского правительства стала попытка демилитаризировать отряды гражданской самообороны, в результате которой они были преобразованы в отряды местной полевой стражи. Только одна из федеральных земель наотрез отказалась следовать этой линии — Бавария. Конфликт между Баварией и рейхом продлился до весны 1921 г. Без массивного нажима со стороны союзников «победителем» из этого противостояния скорее всего вышел бы не Берлин, а Мюнхен. Но подробнее об этом речь пойдет в другом месте{127}. Спустя несколько недель после путча правительство рейха выполнило требование правых сил: 30 апреля кабинет Германа Мюллера принял решение назначить 6 июня 1920 г. днем первых выборов в рейхстаг. До путча правительство и партии парламентского большинства высказывались за проведение выборов в рейхстаг осенью 1920 г., приводя в числе прочих аргумент, что к этому времени станет ясным государственно-правовое будущее большинства областей, в которых согласно Версальскому договору должно было состояться голосование о государственной принадлежности. В одном случае, в Силезии, такое голосование уже было проведено в феврале-марте 1920 г. В результате на севере области большинство высказалось в пользу Дании, на юге — в пользу Германии. Но проведение границы между двумя государствами тем не менее не последовало. В Западной Пруссии восточнее Вислы, на юге Восточной Пруссии и в Верхней Силезии голосование еще не проводилось. Таким образом, во всех областях, где должно было пройти голосование о государственной принадлежности, выборы в рейхстаг переносились на более поздний срок. Правительство и парламентское большинство смирились с этим отрицательным моментом, поскольку хотели избежать впечатления, что они страшатся вердикта избирателей. Тем более что в государственно-правовом плане противопоставить требованию проведения выборов в рейхстаг было нечего. Национальное собрание давно выполнило ту цель, ради которой оно было собрано — разработка конституции Германии. Оно не было все еще распущено до сих пор только потому, что, по мнению большинства, насущные задачи законодательства не терпели отсрочки. Результаты выборов в рейхстаг от 6 июня 1920 г. принесли Веймарской коалиции горькое разочарование. Несомненными победителями выборов стали обе правые партии и НСДПГ, проигравшими — прежде всего СДПГ и ДДП. Веймарская коалиция утратила свое парламентское большинство — и как выяснилось позже — навсегда. Число голосов, отданных за СДПГ, понизилось с 37,9 %, набранных партией в ходе выборов в Национальное собрание в январе 1919 г., до 21,6 %, в то время как доля НСДПГ выросла с 7,6 % до 18,6 %. КПГ, впервые участвовавшая в выборах, набрала целых 1,7 % голосов. Относительно малы были потери Центра: если в 1919 г. партия католиков получила (без БФП) 15,1 %, то теперь ее доля составила 13,6 %. Доля голосовавших за ДДП понизилась с 18,5 % до 8,4 %, в то время как ДФП прибавила почти в таком же соотношении — с 4,4 % до 13,9 %. Немецкие националисты увеличили свои результаты с 10,3 % до 14,4 %. Более тщательные исследования подтвердили первые впечатления: СДПГ в первую очередь пострадала за счет оттока голосов к НСДПГ, а ДДП — к ДФП. Особенно большим был прирост голосов, отданных за независимых социал-демократов и соответственно потери СДПГ в крупных городах. Но СДПГ должна была также смириться с потерей голосов и в сельской местности, прежде всего в Восточной Пруссии, где выборы были проведены «вдогонку» 20 февраля 1921 г. Сельскохозяйственные рабочие, которые в 1919 г. отдали свои голоса социал-демократам, в значительном числе голосовали в 1921 г. за немецких националистов. Причины перелома настроений в либеральном лагере и миграции избирателей от ДДП кДФП, партии Густава Штреземана, демократ и депутат рейхстага Антон Эркеленц свел к пластичной формуле. В 1919 г., писал он, членский билет ДДП расценивался как «полис страхования жизни в ожидании Варфоломеевской ночи»; в 1920 г. многие люди увидели в членском билете ДФП «страховое свидетельство против дележа имущества». Квинтэссенцией того, что сделали зримым первые выборы в рейхстаг, стали подвижка влево в рабочей среде и подвижка вправо — в среде буржуазии. Политически вознаграждены были те силы, которые до сего времени не участвовали в поддержании классового компромисса, на котором базировалась Веймарская республика. Зато умеренные силы по обе стороны от центра были наказаны за то, что они совершили или, напротив, не совершили с начала 1919 г.: в вину силам слева от центра ставилось то, что правительства Веймарской коалиции дали возможность снова усилиться силам реакции; большинство справа от центра было обвинено во всем, что нанесло ущерб национальной чести иди имущественным интересам. В результатах голосования нашли свое отражение не только мартовские бои, но и Версаль, и налоговые реформы. Принимая во внимание эту поляризацию электората, после 6 июня 1920 г. стало ясно, что нельзя будет и далее править, как прежде. Но нового парламентского большинства, которое могло бы занять место Веймарской коалиции, не предвиделось. Для социал-демократов, все еще самой сильной партии Германии, Большая коалиция, т. е. сотрудничество с ДФП, была неприемлема с самого начала. Штреземан и его партия во время путча Каппа — Лютвица вели исключительно оппортунистическую политику; в избирательную борьбу Немецкая народная партия вступила под крайним антисоциалистическим лозунгом: «От красных цепей в этой стране освободит нас ДФП!» Среди социал-демократов дело дошло бы до восстания, если бы руководство СДПГ образовало коалицию с Народной партией. Правительство парламентского меньшинства Веймарской коалиции, которое могло рассчитывать на 225 мест из 466, в случае своего формирования зависело бы от поддержки БФП и ДФП или независимых социал-демократов. В такой щекотливой ситуации было трудно даже помыслить о демонстрации своего социал-демократического профиля. Таким образом оставался только один выход, который однако скорее всего отвечал моральному настрою партии: СДПГ больше не принимает участия в формировании правительства и освобождает место буржуазному кабинету меньшинства. 25 июня 1920 г. рейхспрезидент Эберт назначил рейхсканцлером бывшего президента Национального собрания Константина Ференбаха — 68-летнего политика из партии Центра, уроженца Шварцвальда и фрайбургского прокурора. В состав кабинета вошли министры от Центра, ДДП и ДФП, а также два беспартийных. Это было первое правительство начиная с октября 1918 г., в котором не была представлена СДПГ и которое тем не менее могло рассчитывать на поддержку социал-демократов. Хотя СДПГ и была теперь исключена из числа партий, несущих правительственную ответственность, она не могла возвратиться к своей «классической» оппозиционной роли. Если республика должна была оставаться управляемой, то социал-демократы должны были поддержать новый буржуазный кабинет. И хотя в результате выборов 6 июня 1920 г. многое изменилось, но проводить политику в Германии против социал-демократии пока все еще было невозможно{128}. Тем не менее немецкое рабочее движение во второй половине 1920 г. занимало во многом более слабую позицию, чем непосредственно сразу же после окончания войны. И хотя попытка насильственного переворота со стороны правых радикалов была отражена, также неудачей закончились все попытки левых реформистов и радикалов изменить итоги революции в свою пользу. Победителями из большой пробы сил весны 1920 г. вышли умеренные правые, которым в акции Каппа — Лютвица не нравились не столько цели, сколько средства их достижения. Однако социалистическое рабочее движение переживало спад в 1919–1920 гг. не только в Германии. В Австрии, где в 1918–1919 гг. революция отличалась большей глубиной, чем в Германии, во время выборов в Национальный совет в октябре 1920 г. социал-христиане превзошли социалистов и те оказались в оппозиции. В Венгрии, где была провозглашена единственная «национальная» Советская республика западнее границ России, уже в августе 1919 г. победили контрреволюционные силы, поддержанные Антантой, а в начале 1920 г. была учреждена «белая» диктатура во главе с правителем Николаусом фон Хорти. В нейтральных и вновь образованных государствах социалистам нигде не удалось прийти к власти. То же самое было справедливо и для стран-победительниц. В Великобритании в результате выборов в декабре 1918 г. у власти осталась либеральноконсервативная коалиция во главе с Ллойд Джорджем. Крупные забастовки начиная с 1918 г. не вызвали серьезных потрясений буржуазного порядка. Во Франции победителем из выборов ноября 1918 г. вышел «Блок националь» в составе правых и центристских партий под руководством Жоржа Клемансо. Самое сильное социальное потрясение послевоенного времени — всеобщая забастовка железнодорожных рабочих в мае 1920 г. закончилась здесь поражением профсоюзов. Неустойчивым было положение в Италии, которая формально относилась к странам-победительницам, но чувствовала себя обделенной союзниками в том, что касалось плодов победы. Выборы ноября 1919 г. сделали социалистов самой сильной партией в стране, но тем не менее не привели их к участию в правительстве. Следствием этого стали социальные беспорядки, стачки и всеобщие забастовки «красного двухлетия» («biennio rosso»), вершиной которого стал захват фабрик рабочими в августе-сентябре 1920 г. Тем временем цель рабочего контроля над производством не была достигнута; профсоюзы, напротив, довольствовались обещанием работодателей и правительства предоставить им право голоса. Этот опыт придавал силы фашистскому движению Бенито Муссолини: очевидно, левые были слабее, чем внушали их шествия и акции. Следствием неудач социалистического рабочего движения была радикализация пролетариата. В Италии большинство социалистов уже осенью 1919 г. на партийном съезде в Болонье добилось вхождения в III Интернационал. В Германии большинство НСДПГ высказалось за аналогичный шаг на партийном съезде в Галле в октябре 1920 г., а во Франции Социалистическая партия большинством в две трети голосов на съезде в Туре в декабре 1920 г. приняла решение о вступлении в Коминтерн и преобразовании социалистической партии в коммунистическую. После того как Коммунистический интернационал на II конгрессе в Москве летом 1920 г. зафиксировал в своем «21 условии» большевистский тип партии и большевистскую схему взятия власти как обязательные для всех коммунистических партий, вступление в III Интернационал означало радикальный разрыв с традициями демократического социализма. Часть марксистского рабочего движения (в Италии и Франции сначала большинство, а в Германии — значительное меньшинство) объявила войну плюралистической демократии и «реформизму» внутри рабочего класса. Моделью, на которую впредь ориентировалось радикальное крыло рабочего движения, стала Советская Россия — единственная страна, которая, как казалось, осуществила успешную социалистическую революцию и поэтому могла рассматриваться альтернативой капиталистической системе. Контрреволюция в самой Советской России к зиме 1919–1920 гг. была в целом разгромлена: когда в ходе польско-советской войны летом 1920 г. красные армии завоевали большую территорию Польши, какое-то время казалось возможным распространение коммунистической идеологии на Центральную Европу. Но польская победа в августе 1920 г. — «чудо на Висле» — перечеркнула надежды большевиков. Зато в собственной стране им удалось утвердить свою власть, что дало им уверенность в том, что мировая революция в конце концов победит, хотя и в более медленном темпе, чем считалось ранее{129}. Немецкая позиция в отношении мировой революции была двойственной. С одной стороны, Советская Россия была центром движения, которое стремилось свергнуть существующий общественный строй, а следовательно, была опасным противником. С другой — она была врагом западных держав, прежде всего Польши, с существованием которой не хотели мириться старые правящие круги Германии. В преддверии Польско-советской войны, в начале февраля 1920 г., генерал фон Сект следующим образом изложил свое кредо: «Только при условии тесных контактов с Великороссией у Германии остаются перспективы возвращения своего статуса великой державы… Ни сейчас, ни когда-либо в будущем Пруссия и Германия не смогут смириться с тем, что Бромберг, Грауденц, Торн (Мариенбург), Познань находятся в польских руках, и теперь как чудо Господне появляется на горизонте помощь для нас в нашей глубочайшей беде. В этот момент никто не может требовать от Германии даже пошевелить пальцем, если над Польшей грянет беда». Во время Польско-советской войны Германия объявила 20 июля 1920 г. о своем официальном нейтралитете. Немного позднее имперское правительство приняло закон, запрещавший провоз оружия и военного снаряжения на Восток. Фактически Германия тем самым поставила себя на сторону противников Польши и ее западных союзников, прежде всего Франции, косвенно выступив в поддержку Советской России. Таким образом, уже летом 1920 г. стали вырисовываться первые очертания дипломатического сотрудничества двух париев мировой политики. Движущей силой этого сближения на стороне Германии выступала та часть властной элиты, воинствующий антикоммунизм которой едва ли был кем-то превзойден внутри страны — руководство рейхсвера{130}.Глава VII Отсроченный кризис
В 1920–1921 гг. Германия переживала специфический период экономического развития: в то время как остальные индустриальные страны испытывали состояние послевоенной депрессии, которую вполне оправданно можно охарактеризовать как мировой экономический кризис, Германия в полной мере воспользовалась возможностями, которые несет с собой фаза высокой конъюнктуры и связанное с ней состояние полной занятости населения. Во Франции уровень промышленного производства вырос в 1920 г. по сравнению с предыдущим годом на 8 %, чтобы в 1921 г. понизиться на 12 %; для США соответствующие цифры составили +3 и —22 %, для Великобритании — 0 и —31 %. Безработица среди организованных в профсоюзы рабочих выросла за тот же период времени с 6,9 до 17 % в Великобритании, с 20,1 до 28,3 % в Швеции и с 11,7 до 23,4 % в Норвегии. В Германии, напротив, уровень промышленного производства вырос в 1921 г. по сравнению с 1920 г. на 45 %, а в следующем году — еще на 20 %, одновременно безработица среди членов профсоюзов сократилась с 4,5 % в 1921 г. до рекордно низкого уровня в 0,9 % в апреле 1922 г.{131} Главной причиной подобной особенности немецкой конъюнктуры была инфляция, которую не следует понимать в данном случае как процесс непрерывного прогрессирующего обесценивания денег. Напротив, присутствовал ряд фаз, существенно отличавшихся друг от друга. Вслед за периодом стремительной девальвации с мая 1919 по февраль 1920 г. — за это время американский доллар, который до войны стоил 4,20 марки, прибавил в стоимости с 12,85 до 99,11 марок — последовал интервал относительной стабилизации, поддержанной соответствующими операциями рейхсбанка, который продлился до июня 1921 г. За один доллар во время этой промежуточной стадии инфляции давали в среднем чуть больше 60 марок. Не вызывает удивления, что состоятельные американцы в расчете на дальнейшее усиление позиции марки организовали течение этих полутора лет в интересах спекуляции приток финансовых средств в Германию. Начиная с августа 1921 г. стоимость марки на мировом рынке вновь стала резко снижаться. Период собственно гиперинфляции начался осенью 1922 г. и достиг своей кульминации годом позже{132}. Мы уже писали здесь о причинах инфляции. Начало ей положило финансирование военных расходов, которое в гораздо большей мере, чем это было у государств-союзников, проистекало за счет займов. Дополнительным фактором стала сомнительная денежная политика рейхсбанка, который уже в августе 1914 г. приравнял краткосрочные и среднесрочные казначейские обязательства, т. е. чистые финансовые векселя, к коммерческим векселям, использовав их наряду с золотом для обеспечения марки. С этого времени для денежной эмиссии, запущенной рейхсбанком, фактически были отменены все границы, займы же теперь могли бы быть погашены только из репарационных платежей государств — противников Германии, в случае их поражения в войне. После немецкого поражения принцип «марка равна марке»[22] замаскировал масштабную экспроприацию средств миллионов вкладчиков, которые в свое время подписались на военные займы. Еще одна причина инфляции крылась в существенном повышении жалованья, заработной платы и социальных выплат после завершения войны. Государство, профсоюзы и в конце концов даже предприниматели видели в этом приросте доходов способ приглушить социальное недовольство и противодействовать политическому радикализму. В отношении периода между весной 1919 г. и весной 1921 г. можно с полной уверенностью говорить о наличии «инфляционного консенсуса», сложившегося между важнейшими общественными группами. Сознательная девальвация сыграла роль премии для немецкого экспорта — главного фактора международного атипичного экономического роста Германии в 1920–1921 гг. Была ли тогда возможна принципиально другая политика — остается весьма спорным. Можно утверждать только одно — сначала инфляция спасла Германию от тяжелой депрессии, сопровождаемой массовой безработицей. Молодая демократия Веймара едва ли пережила бы такой вариант развития событий. Последним фактором, подталкивавшим инфляцию вверх, стали репарации. Они не были, как тогда, очевидно, предполагало большинство немцев, первопричиной инфляции, но стали тяжелым бременем для государственного бюджета, сделав немыслимой «нормальную» мобилизацию денежных средств в, форме налогов. Согласно достоверным оценкам, рейху для выполнения своих обязательств по репарациям в годы инфляции требовалось 10 % национального дохода. Доля репараций в составе совокупных расходов рейха составляла, по подсчетам Карла-Людвига Хольтфрериха, в 1919 г. — 51,4 %, в 1920 г. она сократилась до 17,6 %, чтобы в 1921 г. снова вырасти до 32,7 %, а в 1922 г. — до 69 %. То обстоятельство, что размеры репараций не были установлены Версальским договором, оказалось для Германии фатальным: поскольку затяжная неопределенность в отношении масштаба репарационных обязательств лишила потенциальных частных заемщиков возможности реалистично оценивать кредитоспособность страны, Германия более не могла рассчитывать на получение долгосрочных иностранных займов. Если учитывать все имевшиеся факторы, воздействие нерешенной репарационной проблемы представляло собой в 1919–1923 гг. главную причину дестабилизации общественных финансов{133}. Что касается социальных последствий инфляции, то им следует уделить еще большее внимание. Уже задолго до перехода к стадии гиперинфляции осенью 1922 г. некоторые следствия девальвации были налицо. Обесценивание денег сделало обладателей реальных ценностей[23] привилегированным слоем, в то же время разорив вкладчиков. Инфляция способствовала концентрации имущества в немногих руках и тем самым ослабила самостоятельные средние слои населения. Внутри группы служащих по найму она действовала нивелирующее: чиновник высокого ранга получал в последний довоенный год в семь раз больше, чем неквалифицированный рабочий, а 1 февраля 1922 г. — только в два раза. Причина того, что рабочие в среднем в меньшей степени пострадали от инфляции, чем чиновники, заключается, с одной стороны, в позиции рабочих профсоюзов, которые серьезно превосходили профсоюзы чиновников своей организационной силой. С другой стороны, относительное предпочтение, оказываемое рабочим, в особенности тем из них, кто меньше всего зарабатывал, было частью осознанной антикризисной политики: послевоенные правительства стремились нейтрализовать социальный взрывной потенциал, прежде чем государство и общество окажутся в опасности. По той же самой причине после 1918 г. сохранились некоторые элементы «военного социализма»: принудительное управление жилищным хозяйством и государственный контроль над ценами на продукты питания. Но нет ничего ошибочнее, чем видеть в рабочем классе слой населения, получивший выгоды от инфляции. Большинство рабочих имели в послевоенные годы гораздо более низкий уровень реальных доходов, чем в 1913 г. Уменьшающаяся покупательная способность марки нарушила баланс между организованными рабочими и работодателями в пользу последних. Самое позднее начиная с лета 1921 г. профсоюзы и социал-демократия осознали, что социальный вред инфляции значительно превзошел ее преимущества, и санация финансов теперь возможна только путем «учета реальных ценностей». «Инфляционный консенсус» распался тогда, когда осознание факта социального вреда инфляции стало достоянием умов. Но пока обладатели реальных ценностей выигрывали от инфляции, требование санации не имело никаких шансов быть услышанным{134}. Мировой экономический кризис 1919–1921 гг. являлся типичным послевоенным кризисом: он был обусловлен трудностями перехода от военной экономики к мирной. Война радикально изменила международные торговые потоки, равно как и центры тяжести отечественного производства и снабжения населения. Адаптация к новым условиям не могла осуществиться без кризисных потрясений. В Германии же кризис, который другие промышленные страны вынуждены были преодолевать сразу после завершения мировой войны, оказался «отложен» посредством инфляции, и эта отсрочка имела свою цену. В краткосрочной перспективе послевоенный инфляционный бум способствовал решению многих социальных проблем: прежде всего он содействовал тому, чтобы вернувшиеся с фронта солдаты быстро включились в производственный процесс. Повышение заработной платы способствовало сдерживанию революционного потенциала рабочего класса, почти нейтрализовало его. Но низкий уровень производительности труда, который теперь блокировался инфляцией, в длительной перспективе оказывал тормозящее воздействие на экономический рост. В конце первого послевоенного пятилетия экономический вес Германии в мире существенно сократился: в 1925 г., когда индекс мировой индустрии на 21 пункт превышал уровень 1913 г., Германия достигла только 95 % своего дореволюционного уровня. В 1929 г. промышленное производство Германии выросло по сравнению с 1913 г. на 13 %, в то время как прирост во Франции составил 38 %, в США — 70 %, а японское производство выросло втрое. Хотя Германия вновь занимала второе после США место среди индустриальных стран мира, она вместе с Великобританией относилась к государствам, проигравшим промышленную гонку послевоенного времени. Незначительный прирост производительности труда как следствие войны и инфляционной конъюнктуры был одной из причин того, что немецкое народное хозяйство на всем протяжении 1920-х гг. так и не вышло из состояния относительной стагнации{135}. Если бы в 1920–1921 гг. было достигнуто разумное решение урегулирования проблемы репараций, принимающее во внимание состояние немецкой экономики, то, очевидно, инфляция не превратилась бы в гиперинфляцию. Но к этому в первую очередь не была готова Франция. На международной конференции в Спа в июле 1920 г., на которой речь шла непосредственно о выполнении условий Версальского договора, вопрос о репарациях в узком смысле этого слова играл подчиненную роль. На первом плане наряду с разоружением Германии стояла проблема поставок угля, которые были возложены мирным договором на Германию. В обмен на обещание в течение шести месяцев поставлять союзникам по 2 миллиона тонн угля высокого качества, Германия смогла подвигнуть руководство стран-победительниц на некоторые финансовые уступки, в том числе на премию в размере 5 золотых марок за каждую тонну угля, которая предназначалась, чтобы обеспечить горняков продуктами питания. Но для всей остальной экономики Германии договоренности в Спа знаменовали тяжелое испытание: в большей степени пострадали железная дорога, металлургическая и угледобывающая промышленность. При этом ситуация легко могла стать еще хуже: в случае задержки немецких поставок союзники угрожали оккупировать Рурскую область. Несколько месяцев спустя возникло впечатление, что по репарационному вопросу намечаются деловые переговоры: на конференции экспертов в Брюсселе в декабре 1920 г. немецкие и «союзные» специалисты смогли заметным образом сблизить позиции сторон в интересах практического решения проблемы. Однако французское правительство отказалось передать в руки экспертов разработку плана выплат репараций и установление размеров ежегодных платежей и, в свою очередь, добилось поддержки своей позиции со стороны союзников. В итоге Парижская нота от 29 января 1921 г. содержала «предложение» союзников, которое, скорее, напоминало собой ультиматум. Согласно ему Германия должна была выплатить 226 миллиардов золотых марок в течение 42 лет. К этой сумме добавлялся дополнительный репарационный платеж е размере 12 % ежегодного немецкого экспорта. Чтобы гарантировать выполнения этих условий, немецкая валютная и финансовая политика должны были быть подчинены строгому контролю. Правительству Германии было направлено требование делегировать уполномоченных представителей на конференцию в Лондоне, намеченную на конец февраля. Лондонская конференция началась 1 марта 1921 г. Немецкая делегация внесла на рассмотрение встречное предложение, предусматривавшее выплату 50 миллиардов золотых марок, однако в эту сумму должны были быть также засчитаны немецкие авансовые платежи в размере 30 миллиардов. 3 марта союзники отклонили немецкое контрпредложение и стали угрожать санкциями, если Германия в течение четырех дней не примет парижские «предложения». Так как Германия не подчинилась этому ультиматуму, 8 марта были применены санкции: войска союзников заняли Дюссельдорф, Дуйсбург и Рурорт, а Межсоюзническая рейнская комиссия взяла на себя таможенное управление всей оккупированной областью{136}. Остается под вопросом, удалось бы Франции вынудить своих союзников поддержать жесткую линию в форме ультиматумов и военных санкций, если бы в то же самое время между Германией и странами Антанты не произошел еще один конфликт: спор о соблюдении ограничительных «военных» пунктов Версальского договора. Летом 1920 г. были распущены фрайкоры, причем многие демобилизованные солдаты и ряд подразделений в полном составе были включены в состав сухопутной армии и флота Германии. Остальные бойцы фрайкоров вступили в подразделения полиции и в «Общества полевых работ», которые усилили пограничную стражу на польской границе и охраняли тайные арсеналы армии. В свою очередь, рейхсвер на основании союзнической ноты от 18 февраля 1920 г. должен был быть сокращен к 10 июля того же года до численности в 100 000 человек, предусмотренной Версальским договором. На конференции в Спа имперское правительство напрасно пыталось добиться права сохранить численность рейхсвера в 200 000 человек, которую удалось достичь к тому моменту. Но все, к чему привели переговоры, — это продление срока, в течение которого должно было быть произведено сокращение до 100 000 военнослужащих — к 1 января 1921 г. Еще более несговорчивыми были союзники в отношении двух полувоенных формирований — охранной полиции, находившейся на казарменном положении, и гражданской самообороны: протокол в Спа требовал их незамедлительного разоружения. К тому времени большинство федеральных земель уже приступило к демилитаризации отрядов гражданской самообороны, выполняя это старое требование Антанты. Зато «ячейка порядка» — Бавария — оказывала упорное сопротивление. В августе 1920 г. крестный отец отрядов гражданской самообороны в Баварии, форстрат Георг Эшерих создал «Организацию Эшериха», коротко названную «Оргеш», которая выступала «крышей» для всех «антибольшевистских» союзов самообороны. Устав свежеиспеченной организации едва ли допускал сомнения в ее антиреспубликанской направленности. Среди прочего «Оргеш» требовала «отказа от всех устремлений, направленных на разложение народа», моральной и физической закалки юношества, поощрения воли к труду и воспитания у населения готовности выполнить свой трудовой долг. Реакция министра внутренних дел Пруссии Северинга была незамедлительной. 15 августа он отправил обер-президентам предписание, согласно которому организация «Оргеш» нарушила распоряжение о роспуске отрядов самообороны и поэтому подлежала запрету и соответственно расформированию. Все федеральные земли отказали «Оргеш» в государственном признании, за исключением одной — Баварии. Хотя заявления союзников стали в конце 1921 — начале 1922 г. гораздо жестче, Бавария снова отклонила требование роспуска отрядов гражданской самообороны. В той же самой Парижской ноте от 29 января 1921 г., в которой страны-победительницы предложили в ультимативной форме свой вариант урегулирования вопроса репараций, они также потребовали принятия до 15 марта законных предписаний о роспуске отрядов самообороны и самого роспуска — до 30 июня 1921 г. Рейхстаг принял соответствующий закон 19 марта. Но Бавария отказалась его исполнять. Вице-канцлер Гейнце, политик от ДФП, который 24 марта отправился в Мюнхен, чтобы указать правительству фон Кара на угрозу применения союзнических санкций, не смог донести точку зрения рейха до баварских министров. Так как не могло быть и речи о применении силы в отношении Баварии, то с конца марта 1921 г. можно было предсказать, как в итоге будет разрешен конфликт между Баварией и рейхом: только в результате силового вмешательства со стороны союзников{137}. То, что антибольшевистские призывы «Оргеш» осенью 1920 г. — весной 1921 г. упали на особенно плодородную почву, произошло во многом благодаря событиям в лагере левых радикалов. В октябре 1920 г. в Галле состоялся партийный съезд НСДПГ, который должен был принять решение о вступлении в III Интернационал. Делегаты на съезд были выбраны в ходе первичных выборов, которые практически также явились плебисцитом по этому вопросу. Таким образом, результат был ясен заранее: большинство голосовавших, около 58 %, высказалось за вступление в Коминтерн, а тем самым и за объединение с КПГ. Сторонники этого шага были в своем большинстве моложе, чем его противники: они зачастую представляли собой неквалифицированных рабочих и новичков в своей профессии. В то время как цитадели сторонников присоединения находились в местностях, экономический облик которых определяли горное дело и химическая индустрия, то в областях, голосовавших против, преобладала текстильная промышленность. Готовность примкнуть к III Интернационалу была особенно сильно выражена у рабочих, не воспитанных в социал-демократической традиции, их политизация состоялась гораздо позднее, в военное и послевоенное время. К ним примыкали рабочие, для которых война определила выбор профессии и стала главным событием в жизни, а также те трудящиеся, протест которых против царящей экономической и политической системы былвызван особенно тяжелой нуждой. «Позитивной» оборотной стороной этого протеста было восхищение Советской Россией — единственной страной, в которой социалистическая революция победила. Этим рабочим присоединение к Коминтерну казалось самым надежным средством помочь как русским товарищам по классу, так и самим себе. 236 делегатов поддержали принятие «21 условия», признание которых II конгресс Коминтерна в июле-августе 1920 г. сделал условием вступления в свои ряды, 156 высказалось против. Таким образом, большинство проголосовало за полное принятие большевистского типа партии — за «демократический централизм», т. е. за безусловную обязательность решений высших органов для низших, за создание нелегального партийного аппарата, регулярную чистку партийных организаций и железную дисциплину. Меньшинство, от имени которого в словесной дуэли с Г. Е. Зиновьевым, председателем исполнительного комитета Коминтерна, выступил Рудольф Гильфердинг, еще раз засвидетельствовав свою приверженность к единству демократии и социализма, непосредственно сразу же после голосования выбрало для себя новое партийное руководство. Во главе «остатка» НСДПГ встали два равноправных председателя: Артур Криспин и Георг Ледебур. Криспин в ноябре 1919 г. стал преемником председателя партии Гуго Гаазе, павшего жертвой покушения, совершенного душевнобольным. Ледебур был одним из основателей НСДПГ и представителем революционных старост, выбранных рабочими в годы войны и выступавших против «военной» политики рейха и СДПГ. В манифесте, обращенном к немецкому пролетариату, меньшинство НСДПГ высказалось за правую социалистическую политику реформизма, коалицию с буржуазными партиями и сотрудничество с предпринимателями, равно как и за борьбу с коммунистами, которые втягивают немецкий рабочий класс своими «ежедневно меняющимися лозунгами в новый путч» и будят в нем «неосуществимые иллюзии, обманывая в том, что касается действительного соотношения сил»{138}. Левые делегаты съезда, в свою очередь, выбрали равноправными председателями «НСДПГ (левая)», как теперь должно было называться большинство независимых вплоть до слияния с КПГ, Эрнста Доймига, главного сторонника «чистой» советской системы, и Адольфа Гофмана, бывшего министра Пруссии по делам культов. Объединение с коммунистами было произведено на совместном партийном съезде в начале декабря 1920 г. в Берлине. Только в результате этого слияния КПГ, или, как она сначала официально называлась — ОКПГ(Объединенная коммунистическая партия Германии), стала массовой партией. К моменту объединения КПГ насчитывала около 80 000 членов, НСДПГ (левая) — почти 430 000, т. е. менее половины членского состава НСДПГ перед расколом. В начале июня 1921 г. в Объединенной коммунистической партии Германии состояло менее 450 000 членов. Таким образом, значительная часть бывших левых независимых вероятно отказалась от присоединения к коммунистам. Следуя примеру «правой» и «левой» НСДПГ, Объединенная коммунистическая партия Германии также выбрала двух формально равноправных председателей партии: Пауля Леви, председателя ЦК КПГ, и Эрнста Доймига в качестве представителя бывших независимых. Леви, который уже длительное время систематически трудился над вопросом объединения с левым крылом независимых, казался неуязвимым в своей позиции лидера партии. Но это было обманчивое впечатление. В руководстве Коминтерна доминировали «левые» — Григорий Зиновьев, Николай Бухарин и поляк Самуэль Гуральский[24], которые видели в Леви, ученике и друге Розы Люксембург, тормоз мировой революции. Когда в начале января 1921 г. ОКПГ в «Открытом письме» предложила сотрудничество другим рабочим партиям и профсоюзам для достижения конкретных социальных и политических целей, на партийное руководство тут же посыпались упреки в оппортунизме со стороны левой оппозиционной группы внутри КПГ, а также влиятельных деятелей из Исполнительного комитета Коммунистического интернационала (ИККИ). ИККИ был готов выступить с категорическим осуждением «Открытого письма», но в этом ему помешал Ленин. Вождь русских большевиков переживал к этому времени драматический поворот. Хотя Советская Россия победила в борьбе против союзнической интервенции и «белой» контрреволюции, экономически она стояла на пороге краха. Отсюда Ленин сделал вывод о необходимости покончить с насильственными методами «военного коммунизма», снова в ограниченном объеме восстановить частнокапиталистические отношения и облегчить положение крестьянского хозяйства. Новая экономическая политика (нэп), о переходе к которой было принято решение X съездом РКП(б) в начале марта 1921 г., была также предложением о сотрудничестве, адресованным частному иностранному капиталу. С точки зрения Ленина, гибкая тактика единого фронта, осуществлявшаяся Леви, гораздо лучше соответствовала новой ситуации, чем попытки коммунистических переворотов в западных промышленных странах. С другой стороны, Ленин не менее решительно, чем левое руководство ИККИ, проводил политику унификации всех партий — членов III Интернационала. По его указанию представители Коминтерна на партийном съезде итальянских социалистов в Ливорно в январе 1921 г. потребовали сначала исключения правого крыла партии, группировавшегося вокруг Ф. Турати, а когда большинство во главе с Д. Серрати отказалось это сделать — и исключения его самого тоже. Итальянские социалисты вступили в Коминтерн еще осенью 1919 г., и теперь они раскололись. Меньшинство партии образовало в Ливорно Коммунистическую партию Италии и заново осуществило процедуру вступления в Коминтерн. Раскол итальянских социалистов стал непосредственной причиной тяжелого кризиса немецкого коммунистического движения. Пауль Леви, который присутствовал на съезде в Ливорно в качестве гостя и выступал в поддержку Серрати, расценивал политику, проводимую Коминтерном, как катастрофическую. Раскол партии, спровоцированный директивами сверху, должен был, с его точки зрения, превратить революционное рабочее движение в секту. Его осторожная критика, опубликованная в «Роте Фане», тотчас же встретила резкое осуждение Карла Радека, эксперта Коминтерна по Германии. На заседании ЦК КПГ 22 февраля 1921 г. предложенная Леви резолюция, выражавшая сомнения в отношении образа действий представителей Коминтерна в Ливорно, не получила поддержки большинства. Зато большинством в 28 против 23 голосов было принято решение, предложенное «левыми» и поддержанное присутствовавшим на заседании представителем ИККИ венгром Матьяшем Ракоши, в котором политика ИККИ в отношении итальянских социалистов получила одобрение. Вслед за этим Леви и еще четверо членов ЦК ~ Эрнст Доймиг, Адольф Гофман, Отто Брасс и Клара Цеткин — сложили с себя полномочия. Отставка руководства партии во главе с Леви в результате одновременного нажима изнутри и извне очистила путь для тех сил, которые проповедовали так называемую «наступательную теорию». Их самым авторитетным представителем был Август Тальгеймер, который уже в ноябре 1920 г., на последнем до объединения с левыми независимыми съезде КПГ, заявлял, что в то время, когда Советская Россия в международном отношении вынуждена обороняться, долг рабочих Восточной и Центральной Европы перейти в наступление против буржуазии. Немецкий пролетариат должен в то время, когда контрреволюция тайком вооружается, «продиктовать ей правила действия, выманить ее из берлоги и принудить к борьбе в тот момент и в тех условиях, которые будут благоприятными для рабочего класса»{139}. Речь Тальгеймера, которая, как можно с большой долей уверенности утверждать, была инспирирована Радеком, полностью соответствовала линии большинства ИККИ. В тот же самый день, 22 февраля, когда Леви и его сторонники подали в отставку, Гуральский потребовал на заседании ИККИ «организации самой боевой акции, обусловленной провокацией Оргеш в отношении пролетариата, в свою очередь, Оргеш должна быть спровоцирована партией в нужный ей момент». Похожим образом высказался Николай Бухарин. По свидетельству Радека, его революционный план состоял в том, чтобы «когда Оргеш нападет на нас, сплотить всех рабочих в единый фронт. Мы должны принудить Оргеш к тому, чтобы она сослужила нам хорошую службу. Оргеш ждет, когда мы начнем, чтобы иметь повод обрушиться на нас»{140}. «Наступательная теория» была радикальным отказом от прежнего политического курса Леви. В то время как он в традициях Розы Люксембург рассматривал завоевание пролетарских масс как главную задачу КПГ и неотъемлемую предпосылку революции, теоретики наступления видели в революции единственный шанс гарантировать коммунистической партии руководство рабочим классом. С этой точки зрения они определяли момент совершения революции отнюдь не по признаку того, насколько в стране созрели для этого условия. В гораздо большей степени решающую роль играли теперь потребности Советской России — родины социалистической революции. Для Зиновьева, Бухарина и Гуральского большое значение имело также то, что революции в Восточной и Центральной Европе компенсируют замедление революционных процессов в России. Повод для нанесения удара найти было легко, и в первую очередь в Германии: репарационный кризис, предстоящее голосование в Верхней Силезии и конфликт по поводу отрядов гражданской самообороны — это казалось достаточным, чтобы подвигнуть радикальных правых во главе с «Оргеш» к совместной «игре». Очевидные проблемы со снабжением населения продовольствием в городах и угроза принятия соглашения о сверхурочных работах на угледобывающих предприятиях гарантировали рост социального недовольства. Таким образом, весной 1921 г. имелись определенные болевые точки, предоставлявшие шанс тактике целенаправленных провокаций, и «теоретики наступления» в ИККИ и КПГ были полны решимости использовать эту якобы благоприятную ситуацию. В первые мартовские дни 1921 г. в Берлине встретились трое уполномоченных Коминтерна: ультралевый венгр Бела Кун, его земляк Йозеф Погани, он же Петер Пеппер, и Самуэль Гуральский, он же Август Кляйн. Вместе с новым «левым» руководством КПГ они начали подготовку переворота в Германии. Сигналом к его началу должны были послужить акции протеста в средненемецкой промышленной области, запланированные на послепасхальные дни, Пасха же в том году выпала на 27 и 28 марта. В этой части Германии во время выборов в прусский ландтаг 20 февраля 1921 г. КПГ добилась сенсационных успехов: в Галле-Мерзебурге коммунисты получили около 197 000 голосов против 70 000, поданных за СДПГ. Индустриализация центральной части Германии происходила относительно поздно, ее химическая промышленность возникла в годы Первой мировой войны. Зато ее угледобывающая промышленность после 1918 г. приобрела дополнительный вес в результате утраты Германией важных районов добычи угля. Местный рабочий класс, если принимать во внимание его социальное и региональное происхождение, был весьма пестрым по составу и не прошел школы длительной профсоюзной работы. Мобилизацией этих групп рабочих, склонных к радикализму, наряду с КПГ с определенным успехом занималась еще более левая Коммунистическая рабочая партия Германии. КАПД была в ноябре 1920 г. временно принята в Коминтерн в статусе «симпатизирующей партии с совещательным голосом» и получила одно место в ИККИ. Она была вовлечена в подготовку средненемецкого восстания с самого начала, поскольку расценивалась левыми в Коминтерне как активный противовес по отношению к слишком осторожной на тот момент КПГ. В марте 1921 г. центральная область Германии была объектом внимания не только коммунистов, но и прусских государственных органов. С момента путча Каппа — Лютвица этот регион никак не мог успокоиться: в начале 1921 г. «дикие» забастовки, мародерство и разбой были здесь обычным явлением, а на руках у радикально настроенных рабочих находилось много оружия. 13 марта 1921 г. под берлинской Колонной победы была обнаружена заложенная взрывчатка. След вел в Среднюю Германию. Хорошо информированный государственный комиссар по охране общественного порядка Роберт Вейсман 14 марта сообщил Северингу, что советское правительство настаивает на проведении акции в Германии и требует переворота в рейхе перед лицом тяжелого внутреннего кризиса в России. В ответ Северинг и его товарищ по партии Отто Хёрзинг, обер-президент прусской провинции Саксония, пересмотрели свои прежние планы: если до 14 марта они намеревались осуществлять только административные меры по поддержанию порядка в Мансфельде и окрестностях, то теперь они подготовили полицейскую акцию в масштабах всей средненемецкой индустриальной области. 17 марта на заседании ЦК КПГ коммунисты узнали о запланированной полицейской акции. Это сообщение изменило намеченный график выступления. В тот же день было принято решение нанести удар немедленно. 18 марта «Роте Фане» опубликовала воззвание, автором которого был Бела Кун, утверждавший, что фон Кар, баварский министр-президент, «плюет на законы». «Кар — контрреволюционный политик-реалист. Он знает, что говорит и что делает… Господин Кар должен получить достойный ответ!…Теперь каждому рабочему тоже наплевать на закон, и он добывает себе оружие любым способом! Если Кару безразличен закон, то и пролетариат перестанет обращать внимание на закон! У каждого контрреволюционера есть оружие. Рабочие не могут быть худшими революционерами, чем контрреволюционеры»{141}. Но события развивались иначе, чем было запланировано. Хотя 21 марта в районе добычи меди в окрестностях Мансфельда началась протестная забастовка, поначалу она оставалась единственной. Гуго Эберляйн, шеф нового, едва ли еще работоспособного нелегального военного аппарата КПГ, находясь в Галле, подготовил ряд покушений с применением взрывчатки, ответственность за которые он планировал возложить на «реакцию». Но главным героем восстания стал своеобразная фигура из окружения КАПД — Макс Гельц, уже во время путча Каппа — Лютвица снискавший своими отчаянными акциями славу пролетарского Робин Гуда. Гельц происходил из Фогтланда — обедневшей области кустарей; после мартовских боев 1920 г. он бежал в Чехословакию, а в конце 1920 г. нелегально вернулся в Германию. Он поддерживал связь с организаторами неудачной акции по подрыву берлинской Колонны победы, которые также принадлежали к КАПД. Гельц лично в начале марта привел в действие заряд динамита, заложенный в здании ратуши г. Фалькенштайн в Фогтланде. 22 марта Гельц появился в окрестностях Мансфельда и снабдил оружием местных рабочих. На следующий день произошли первые вооруженные столкновения с полицией. К забастовке присоединились рабочие г. Лейна. Военный аппарат Эберляйна организовал подрыв железнодорожных путей на Тюрингию. Тем временем призыв КПГ ко всеобщей стачке, провозглашенный 24 марта, получил лишь незначительный отклик. Только в Лаузице, некоторых частях Рура, в Тюрингии и Гамбурге прошли забастовки солидарности. В ганзейском городе безработные по указанию КПГ на некоторое время захватили верфи, здесь же 23 марта произошли вооруженные столкновения с полицией, в результате которых погибло 16 и было ранено около 30 человек. В отличие от восстания в Рурской области годом ранее, «мартовская акция» 1921 г. была не массовым рабочим движением, а инсценированной «сверху» Коминтерном и его немецкими приверженцами попыткой государственного переворота. Даже в средненемецкой промышленной области бастовавшие и сражавшиеся сторонники КПГ и КАПД оказались в значительной степени изолированными. Они едва ли получили поддержку от рабочих — социал-демократов и беспартийных. В военном отношении средненемецкое восстание закончилось 29 марта, во вторник после Пасхи: фабрика в Лейне сдалась после артиллерийского обстрела, в результате которого погибли по меньшей мере 60 рабочих. 1 апреля у местечка Беезенштедт состоялся последний кровавый бой между полицией и группой повстанцев под командованием Тельца. Тельцу удалось скрыться, но двумя неделями позже он был арестован в Берлине. Всего жертвами средненемецкого восстания стали 180 человек, в том числе 35 полицейских чиновников и 145 гражданских лиц. Около 6000 рабочих было арестовано, из них около 4000 — осуждено. До июня 1921 г. чрезвычайные суды вынесли в связи с восстанием 4 смертных приговора, 8 человек были осуждены к пожизненному заключению, приговоры к тюремному заключению в совокупности составили 2000 лет. Введенное в Средней Германии военное положение оставалось в силе до сентября 1921 г.{142} Путчистская авантюра имела для немецких коммунистов фатальные последствия. В ноябре 1921 г. КПГ насчитывала, по оценкам ее ЦК, около 150 000 членов — треть от численности партии на начало года. Исход из рядов коммунистов наблюдался не только среди рядовых членов, но и руководства. Пауль Леви был исключен из КПГ, после того как в своей брошюре «Наш путь. Против путчизма» он подверг бичеванию мартовскую акцию. С ним солидаризировались многие видные коммунисты, прежде всего из состава фракции рейхстага. Многие из них были наказаны, исключены или добровольно вышли из КПГ. В сентябре 1921 г. «правые уклонисты» из числа депутатов рейхстага, не принадлежавшие к тому времени ни к одной из фракций, образовали собственную группу — Коммунистическую рабочую группу (КАГ). В январе 1922 г. в знак протеста против прогрессирующей большевизации КПГ также покинул когда-то «левый» генеральный секретарь Фрисланд (которого на самом деле звали Эрнст Рейтер и который спустя много лет стал знаменитым на весь мир бургомистром Берлина), а также два его единомышленника. Они примкнули к КАГ, что позволило этой группе численностью в 15 депутатов получить статус фракции, в то время как сократившаяся до 11 депутатов фракция КПГ была понижена до уровня обыкновенной «группы». Казалось, что спустя всего год после объединения с левой НСДПГ коммунистическая партия Германии неуклонно продвигается по пути превращения в незначительную левую секту{143}. Надежды, окрылившие в марте 1921 г. немецких и русских коммунистов, во многом были порождены серьезным обострением конфликта Германии с Польшей вокруг Верхней Силезии. Успех коммунистического восстания сделал бы возможным совместное немецко-советское двустороннее нападение на Польшу. Однако даже если бы в ходе внутри- и внешнеполитического кризиса к власти пришли рейхсвер и «Оргеш» или близко стоявшие к ним правые силы, все равно это принесло бы свои внешнеполитические дивиденды Советской России. Откровенно националистическое правительство во главе Германии не имело шансов достичь соглашения с западными державами, и Россия могла бы скорее договориться с таким правительством, чем с кабинетом под руководством К- Ференбаха. Исходя из этой перспективы весеннее наступление радикальных левых было направлено не только против крайне правых, но одновременно также против Польши и союзников{144}. В самом деле, в споре за Верхнюю Силезию национальные страсти подняли как на немецкой, так и на польской стороне такую бурю, что ожидание войны было отнюдь не беспочвенным. Уже в августе 1919 г. и в августе 1920 г. два польских восстания стали причиной образования немецких фрайкоров и подразделений сил безопасности. 20 марта 1921 г., т. е. уже в ходе средненемецкого восстания, состоялось предусмотренное Версальским договором голосование в Верхней Силезии. Почти 60 % его участников высказались за то, чтобы остаться в составе Германии, 40 % — за Польшу, причем в промышленных районах преобладали сторонники Германии, а в сельских — Польши. Имперское правительство на основании результатов голосования потребовало оставить всю Верхнюю Силезию в составе Германии, в то время как поляки и союзники высказались за раздел. Чтобы придать вес требованиям своей страны, польский комиссар по проведению голосования Войцех Корфанты согласно тайной договоренности с правительством в Варшаве инициировал 3 мая третье верхнесилезское восстание, в ходе которого большая часть спорной территории была занята польскими инсургентами. Три дня спустя после начала восстания, 6 мая 1921 г., все еще исполнявший обязанности рейхсканцлера Ференбах выступил в рейхстаге с речью, в которой он сообщил о признаках проведения мобилизации в Польше и не исключал возможность ввода частей рейхсвера в Верхнюю Силезию. Если бы вслед за этим заявлением последовало его осуществление на практике, то это означало бы войну не только с Польшей, но и с большой вероятностью также столкновение Германии с тремя странами Антанты — Францией, Великобританией и Италией, которые осуществляли военный контроль в Верхней Силезии{145}. Но Ференбах оставался после этой речи в должности рейхсканцлера лишь несколько дней, да и те были омрачены репарационным кризисом. 25 апреля союзническая комиссия по репарациям в ультимативной форме потребовала, чтобы Германия до 30 апреля произвела выплату одного миллиарда золотых марок в качестве обеспечения платежей банку Франции. Спустя два дня комиссия по репарациям сообщила правительству рейха, что фактическая стоимость размера причиненного войной ущерба, который рейх обязан возместить, составляет 132 миллиарда золотых марок (без будущих процентных начислений) и потребовала от Германии обозначить свою позицию до 29 апреля. В ответ на это правительство Германии обратилось к Соединенным Штатам Америки, с которыми оно с конца марта поддерживало контакты по вопросу репараций, с просьбой о посредничестве. Немецкие предложения были переданы Вашингтону еще 24 апреля: имперское правительство соглашалось произвести выплату репараций на сумму в 50 миллиардов золотых марок, которые Германия обязывалась выплачивать ежегодными платежами (аннуитетами), размер и количество которых еще предстояло установить. Финансовые средства на выплату репараций Германия надеялась изыскать с помощью международного займа на общую сумму в 200 миллиардов золотых марок. 3 мая Германия получила ответную американскую ноту: с точки зрения Вашингтона немецкие предложения не являлись для союзников приемлемой основой для переговоров. Немецкому правительству предлагалось напрямую обратиться к союзным правительствам и самому выступить с «ясными, определенными и умеренными» предложениями. Неудавшаяся попытка привлечь Америку в качестве посредника повергла канцлера и весь кабинет в состояние глубокой растерянности. ДФП потребовала незамедлительной отставки правительства; ДДП еще не пришла к решению, что же является в данной ситуации правильным. Ференбах, для которого пост канцлера с самого начала являлся слишком большим испытанием, еще утром 4 мая хотел остаться на своем посту (из-за польского восстания в Верхней Силезии), но уже несколькими часами позже передумал и решил, как и его беспартийный министр иностранных дел Вальтер Симонс, подать в отставку. Поскольку вожди коалиционных партий также не имели желания просить правительство остаться, то и остальные министры последовали примеру Симонса: вечером 4 мая кабинет Ференбаха принял единогласное решение о своей отставке. На следующий день, 5 мая 1921 г., британский премьер-министр Ллойд Джордж передал немецкому послу Штамеру «Лондонский ультиматум». В нем союзные правительства угрожали начать 12 мая оккупацию всей Рурской области, если Германия не примет на себя следующие обязательства: разоружение согласно предыдущим союзным нотам, выплата 12 миллиардов золотых марок, которую Германия согласно Версальскому договору уже должна была осуществить к 1 мая 1921 г., согласие с прилагавшимся планом репарационных платежей и осуждение немецких военных преступников. График выплаты репараций предусматривал текущие выплаты и выплаты, которые переносились на более поздний срок. Долговые обязательства в виде «бонов А» и «бонов В» в размере 50 миллиардов золотых марок подлежали погашению и на них начислялись проценты начиная с 1921 г. Погашение и начисление процентов на долговые обязательства типа «боны С» в размере 82 миллиардов золотых марок было пока отложено. Таким образом, общая сумма репараций составляла 132 миллиарда золотых марок, включая 6 миллиардов в пользу нейтральной Бельгии, на которую Германия напала в 1914 г. Один миллиард золотых марок подлежал уплате в течение 25 дней, т. е. к 30 мая 1921 г. Ежегодные платежи сначала устанавливались в размере трех миллиардов золотых марок. Эта сумма получилась в результате добавления к твердому ежегодному платежу в размере двух миллиардов дополнительного платежа, который зависел от размеров немецкого экспорта и был приблизительно оценен в одни миллиард золотых марок{146}. Как и ожидалось, реакция политических сил Германии на «Лондонский ультиматум» была неоднозначной. ДНФП, БФП и КПГ требовали отклонить его. СДПГ, НСДПГ и Центр высказывались за принятие, учитывая грозящие санкции. ДДП раскололась на две части, причем незначительный перевес был на стороне противников ультиматума. Если бы верх взяли сторонники жесткой линии, то неизбежным следствием этого стал бы экономический коллапс Германии. Это хорошо осознавали также многие депутаты от правых партий, однако, как и в случае голосования по поводу Версальского договора, они могли рассчитывать на то, что условия ультиматума будут приняты большинством голосов без их участия. В случае же подчинения Германии давлению со стороны союзников она не только сохраняла за собой промышленный район Рура и Рейна, но могла бы также рассчитывать в дальнейшем на уменьшение репарационного бремени. Новая правительственная коалиция сложилась, руководствуясь в определенной степени именно этой логикой. В свою очередь, СДПГ приняла решение, хотя и не без колебания, поддержать партии, гарантировавшие мирную внешнюю политику. Центр с самого начала выражал полную готовность разделить ответственность с новым «соглашательским правительством». ДДП только в последний момент решилась, под давлением со стороны Центра, войти в правительство, которое тем самым стало первым правительством парламентского меньшинства Веймарской коалиции. 10 мая 1921 г. рейхспрезидент Эберт назначил новым рейхсканцлером Йозефа Вирта, политика Центра из Бадена, который в марте 1920 г. наследовал Эрцбергеру на посту рейхсминистра финансов и сохранил за собой эту должность также в кабинете Ференбаха. Вирт, родившийся в 1879 г. во Фрайбурге, по профессии учитель математики в гимназии, был динамичным политиком и блестящим оратором. В своей партии он занимал место на левом фланге, среди сознательных республиканцев, что не мешало ему быть одновременно пылким националистом. Он соглашался с немецкими правыми в том, что Лондонский ультиматум намного превосходил финансовые возможности Германии. Но в отличие от правых партий Вирт считал необходимым довести репарационные выплаты ad absurdum, продемонстрировав, что Германия напрягает все свои силы, чтобы выполнить возложенные на нее обязанности. С точки зрения Вирта и его соратников, именно очевидные катастрофические последствия этой попытки должны были рано или поздно вынудить союзников к ревизии Лондонского плана. Этот же расчет лежал в основе так называемой «политики исполнения», которую начал осуществлять первый кабинет Вирта{147}. 10 мая 1921 г., вдень, когда рейхстаг должен был принять или отклонить Лондонский ультиматум, кабинет еще не был сформирован полностью: сам Вирт временно занимал также посты министров иностранных дел и финансов, а пост министра восстановления народного хозяйства оставался вакантным вплоть до 29 мая, до назначения Вальтера Ратенау. В правительственном заявлении Вирт дал понять, что принимая ультиматум, он учитывал также ситуацию в Верхней Силезии. Рейхсканцлер обратился к союзникам с призывом не потерпеть «польский террор» и выполнить их обязательства, вытекающие из мирного договора. В ходе голосования по вопросу Лондонского ультиматума, наряду с СДПГ и Центром за его принятие проголосовала также вся фракция НСДПГ. Среди демократов 17 высказались «за» и 21 — «против». Что касается ДФП, то это соотношение выглядело как 6:14, у БФП — 2:15 и у КПГ — 1:17. В целом 220 депутатов рейхстага проголосовали за предоставление правительству испрашиваемых полномочий, 172 — против. Кабинет меньшинства Вирта выдержал свое первое испытание на прочность в парламенте{148}. Главным вызовом для нового правительства стало польское восстание в Верхней Силезии. Кабинет Вирта с самого начала четко осознавал, что применение рейхсвера, возможность которого рассматривал Ференбах, является неосуществимым, поскольку союзники никогда бы не смирились с этим. Зато имперское и прусское правительства потребовали обеспечить оружием верхнесилезскую самооборону — полувоенное формирование, существовавшее с 1920 г. Что касается новообразованных или реорганизованных фрайкоров, которые сразу же после начала восстания поспешили в Верхнюю Силезию, то правительство Вирта, исходя из внешне- и внутриполитических соображений, должно было дистанцироваться от них. 19 мая последовало воззвание правительства, направленное против создания фрайкоров. Вслед за этим 24 мая рейхспрезидент принял декрет, угрожавший наказанием каждому, кто без официального разрешения будет заниматься формированием военных подразделений. За день до этого отряды верхнесилезской самообороны и баварского фрайкора «Оберланд» заняли Аннаберг, господствующую высоту в Верхней Силезии, изменив тем самым военную ситуацию в пользу немецкой стороны. В конце июня межсоюзническая комиссия по проведению голосования добилась отвода войск обеих враждующих сторон. 5 июля отряды самообороны Верхней Силезии, пусть только формально, были распущены. Поскольку британцы и французы не могли прийти к соглашению о будущей линии границы — Франция больше склонялась на польскую сторону, Великобритания — на немецкую, — спорный случай был передан 12 августа на рассмотрение Лиги наций. Таким образом, решение проблемы Верхней Силезии было перенесено на дипломатический уровень, что помогло кабинету Вирта получить внешнеполитическую передышку{149}. Во внутриполитическом отношении первые недели нахождения у власти кабинета Вирта были отмечены все еще неурегулированным конфликтом с роспуском отрядов баварской гражданской самообороны. После принятия Лондонского ультиматума правительство Кара вынуждено было осознать, что оно не сможет далее отстаивать свою жесткую отрицательную позицию. В конце мая Кар выступил с заверениями о своей готовности провести разоружение отрядов самообороны насколько это возможно, но объявлять официально об их роспуске он не собирался. Потребовались ультимативные угрозы со стороны французских и британских дипломатов, чтобы вынудить Кара отступить. 4 июня он отдал распоряжение о разоружении подразделений самообороны, а 24 июня имперское правительство объявило о роспуске на территории всего рейха отрядов баварской гражданской самообороны, восточно-прусской пограничной и местной самообороны, а также организации «Оргеш». Но формальный роспуск полувоенных организаций не был концом «полувоенной» политики. «Образцовая» Бавария оставалась землей обетованной для многочисленных «патриотических союзов», намного превосходивших по радикальности отряды самообороны. И ни одна из подобных организаций не росла в численном отношении с такой силой, как личная армия самого радикального экстремального из всех правых агитаторов — штурмовые отряды (СА) Адольфа Гитлера{150}. Другое условие Лондонского ультиматума — об осуждении военных преступников — на практике не было выполнено. Уже 13 февраля 1920 г. союзники фактически отказались от своего требования, согласно которому на их суд должны были быть выданы 895 человек, обвиненных в совершении военных преступлений, в том числе кронпринц Вильгельм, бывший рейхсканцлер Теобальд фон Бетман-Гольвег, возглавлявший правительство в 1909–1917 гг., генерал-фельдмаршал Гинденбург, генерал Людендорф и гросс-адмирал фон Тирпиц. Союзники сохранили за собой право вернуться к этому требованию позднее, но заявили о своем принципиальном согласии суголовным преследованием военных преступников Имперским верховным судом. Действительно, с мая по июль 1921 г. состоялись девять процессов, в ходе которых перед судом предстали 12 обвиняемых, из них 6 были оправданы и 6 — осуждены. Большое внимание вызвал судебный процесс над двумя обер-лейтенантами флота, принимавшими участие в потоплении спасательных шлюпок торпедированного английского парохода. Они были приговорены к 4 годам тюремного заключения каждый, что вызвало большое возмущение в императорском флоте. Но их заключение продлилось недолго: в январе 1922 г. два члена возглавляемой капитан-лейтенантом Эрхардом праворадикальной организации «Консул», которая спустя пять месяцев организовала убийство Вальтера Ратенау, освободили обоих офицеров из заключения. Союзники неоднократно протестовали по поводу прекращения производств по делам, незначительного числа осужденных и мягких наказаний, выносившихся Имперским верховным судом и даже угрожали в августе 1922 г. вернуться к требованию выдачи военных преступников. Но все протесты остались на бумаге: немецкие военные преступления, за исключением шести обвинительных приговоров в 1921 г., не имели уголовно-правовых последствий{151}. Но Германия, разумеется, не могла уклониться от выполнения главного требования Лондонского ультиматума: она должна была уже в 1921 г. выплатить в счет репараций 3,3 миллиарда золотых марок, из которых миллиард подлежал уплате к 30 мая. Рейх смог мобилизовать только 150 млн наличными в счет этой первой выплаты, остаток платежа был профинансирован за счет трехмесячных казначейских обязательств, которые удалось погасить в срок только с большим трудом. Инфляционный эффект этой операции был очевиден: рейхсминистр экономики социал-демократ Роберт Шмидт исчислил обусловленную репарациями дополнительную потребность в бумажных деньгах в сумме от 40 до 50 миллиардов ежегодно, причем эта калькуляция еще не учитывала оккупационные расходы и компенсационные платежи союзникам. Поэтому в тайном меморандуме от 19 мая 1921 г. Шмидт предложил принципиальную переориентацию финансовой политики: пока рейх не добьется достаточного активного сальдо торгового баланса, мобилизовать средства для уплаты репараций с помощью экспроприации 20 % капиталов сельского хозяйства, промышленности, торговли, банков и домовладений. Требование учета реальных ценностей и денежных средств означало не что иное, как прекращение того инфляционного консенсуса, который определял немецкую экономическую, финансовую и социальную политику, начиная с 1919 г. Социал-демократы и Свободные профсоюзы начали осознавать обе стороны сложившейся ситуации: во-первых, инфляция поступательно изменила соотношение сил в обществе в пользу обладателей реальных ценностей за счет рабочих и служащих; во-вторых, санирование финансов было невозможно без масштабного вмешательства в имущественные отношения. Предложения Шмидта, которые как раз проистекали из этих выводов, по той же самой причине не имели шансов на положительный отклик. Руководящие консервативные чиновники имперского министерства финансов подняли целую бурю против экспроприационного плана социал-демократического министра экономики. Новый глава министерства восстановления народного хозяйства Вальтер Ратенау, бывший шеф Всеобщей компании электричества, полагал, что предложения Шмидта лишают Германию экономической свободы, а потребление в количественном выражении способно нести большую нагрузку, чем владение, т. е. капитал. Иозеф Вирт, рейхсканцлер и министр финансов в одном лице, разделял точку зрения своего эксперта, согласно которой рейх «не располагал необходимыми силами для проведения подобного плана». Тем не менее казалось, что летом 1921 г. обозначилось некоторое уменьшение нагрузки на немецкие финансы: Ратенау в конце августа договорился со своим французским коллегой Лушером о заключении Висбаденского соглашения, согласно которому значительная часть немецких выплат золотом Франции должна была быть заменена материальными поставками. Этот вариант позволил бы существенно уменьшить инфляционное воздействие репараций, но практический успех оказался меньше ожидаемого: из страха, что восстановление Франции может ускользнуть из их рук и перейти к немцам, французские промышленники по мере сил попытались сорвать договоренности. Таким образом, финансовое бремя репараций едва ли уменьшилось в результате Висбаденского соглашения, и соответственно его внутриполитический резонанс был минимальным. Те, кто надеялся на то, что договоренности с Францией сделают «политику исполнения» популярнее, скоро убедились в своем заблуждении{152}. «Политика исполнения» с самого начала дала в руки правым радикалам эффективное агитационное оружие. То обстоятельство, что «марксисты», а именно СДПГ и НСДПГ, помогли своими голосами принятию рейхстагом Лондонского ультиматума, а социал-демократы большинства с 10 мая вновь вошли в правительство, было достаточным для того, чтобы заклеймить позором кабинет Вирта в целом. В популярной в Баварии правой провинциальной газете «Мисбахер Анцайгер» писатель Людвиг Тома, оставшийся анонимным, охарактеризовал Вирта как «личного друга мошенника из Бибераха», под котором он, в свою очередь, подразумевал Эрцбергера. Облик министра внутренних дел, социал-демократа и бывшего министра-президента Саксонии Георга Граднауэра, Тома описывал следующим образом: «Прищуренные саксонские глаза, нос и подбородок — иудейские. Еще более еврейскими выглядят огромные мочки ушей. Хитрое лисье лицо, внушающее неприятное впечатление, что после пяти минут личного общения может последовать ужасный скандал с рукоприкладством. И это — министр внутренних дел Германии». Когда в середине июня 1921 г. стало известно, что министр рейхсвера Гесслер намерен перевести из Баварии в Пруссию Риттера фон Эппа, полковника рейхсвера и одного из бывших вождей баварского фрайкора, Тома комментировал это сообщение так: «Мы не дадим возможности этим еврейским свиньям со Шпрее ни править нами, ни мучить нас, и если господь Бог не совсем еще покинул Берлин, то Гесслера вышвырнут из рейхсвера в ближайшее время»{153}. Такие газеты, как «Мисбахер Анцайгер», своими нападками на представителей республики породили весьма напряженную атмосферу, которая в любой момент могла разразиться бурей. 9 июня в Мюнхене четырьмя выстрелами из револьвера неизвестными был убит Карл Гарайс, председатель фракции НСДПГ в баварском ландтаге, — один из самых острых критиков правительства фон Кара и излюбленный объект яростных нападок со стороны Людвига Тома. Рабочие Мюнхена ответили на это убийство трехдневной всеобщей забастовкой, но виновные так никогда и не были найдены. Зато полиции в течение короткого времени удалось идентифицировать преступников, совершивших еще одно громкое политическое преступление: 26 августа 1921 г. во время прогулки близ Грисбаха в Нордшварц-вальде был застрелен бывший министр финансов Матиас Эрцбергер. Его убийцами были обер-лейтенант флота Генрих Тиллессен и лейтенант запаса Генрих Шульц. Оба покушавшихся принадлежали к уже упомянутой пресловутой организации «Консул» и к мюнхенскому «Германскому ордену», чей руководитель, капитан-лейтенант Манфред фон Киллингер, и отдал приказ о совершении убийства. Его исполнители смогли бежать через Мюнхен в Венгрию. Они были осуждены только в 1950 г. к 12 и 15 годам тюрьмы соответственно, из которых отбыли только по два года. Что касается Киллингера, то в июне 1922 г. он был оправдан по обвинению в содействии организации убийства судом присяжных г. Оффенбурга. Правая пресса воспользовалась убийством Эрцбергера, чтобы высказать ряд положений, сводившихся к фактическому оправданию этого политического преступления. Газета немецких националистов «Кройц-Цайтунг» сравнивала убийц с Брутом, Вильгельмом Теллем и Шарлоттой Корде, убившей в 1793 г. якобинца Марата, и упрекала «тех, кто сегодня превозносит Эрцбергера» в том, что они полностью упустили из вида, «что вся борьба, которая велась против Эрцбергера, имела оборонительный характер». Проповедовавшая такой же образ мыслей «Берлинер Локаланцайгер» полагала, что «любая другая страна уже приветствовала бы таких заговорщиков распростертыми объятиями». «Олетцкоер Цайтунг» из Восточной Пруссии, также газета немецких националистов, считала, что Эрцбергера постигла та судьба, которую ему пожелали бы все национально мыслящие немцы. «Такой человек, который подобно Эрцбергеру несет главную ответственность за беды нашего народа, представлял, пока он был жив, постоянную опасность для Германии. Возможно, бессердечно и жестоко произносить такие слова в адрес покойника, но сентиментальничание стоит немного. Мы должны посеять ненависть! И также, как мы учимся ненавидеть своих внешних врагов, мы должны нашей ненавистью и нашим презрением покарать внутренних врагов Германии. Средний путь невозможен, только посредством крайних мер Германия сможет снова стать тем, чем она была до войны»{154}. После убийства Эрцбергера профсоюзы, СДПГ и НСДПГ призвали к проведению массовой демонстрации, участие в которой также приняла КПГ. 29 августа кабинет Вирта под председательством рейхспрезидента Эберта в соответствии со статьей 48, раздел 2 конституции принял декрет, который наделял рейхсминистра внутренних дел полномочиями запрещать враждебные республике печатные издания, собрания и объединения. «Враждебным республике» расценивалось любое одобрение или прославление действий, направленных против конституционного порядка, а также любая клевета в отношении конституционных органов и учреждений, подрывающая внутреннее спокойствие государства{155}. Этот декрет тотчас же вызвал очередной конфликт между Баварией и рейхом. Власти Баварии отказывались проводить запрет, наложенныйрейхсминистром внутренних дел Граднауэром на «Мисбахер Анцайгер», «Мюнхнер Беобахтер», а также на выход в свет центрального печатного органа Национал-социалистической немецкой рабочей партии «Фёлькишер Беобахтер». Правящие коалиционные партии Баварии — к ним после выборов 6 июня 1920 г. относились БФП, ДНФП, ДФП, ДДП и Баварский крестьянский союз — с недовольством указывали на то, что рейх не согласовал свои действия с федеральными землями, а декрет в одностороннем порядке направлен против правых сил. Министр-президент фон Кар особенно ополчился против намерения рейхстага объявить утратившим силу чрезвычайное положение, действовавшее в Баварии с ноября 1919 г. Те уступки, которых уполномоченная комиссия Баварии добилась от правительства рейха в ходе последовавших переговоров, расценивались Каром и его кабинетом как недостаточные. Зато в постоянном комитете Баварского ландтага изменения декрета, которых удалось добиться в Берлине, получили принципиальное одобрение. Когда вслед за этим Кар заявил, что чрезвычайное положение в Баварии будет отменено только тогда, когда это позволят обстоятельства, его собственная партия, БФП, отказала ему в поддержке. В тот же самый день, 11 сентября 1921 г., Кар подал в отставку. 12 сентября его примеру последовал весь кабинет. Преемник Кара, граф Лерхенфельд из БФП, тотчас же объявил о проведении новых переговоров с рейхом. Их результатом стал «Берлинский протокол» от 24 сентября, в котором рейх пошел еще дальше навстречу пожеланиям Баварии об изменении декрета в федералистском отношении. В свою очередь, Бавария взяла на себя обязательство самое позднее 6 октября 1921 г. объявить об отмене чрезвычайного положения на своей территории. 28 сентября 1921 г. рейхспрезидент принял второй декрет о защите республики, который обещал защиту не только «представителям республиканско-демократической формы государства», но и, отвечая требованиям Баварии, любым «персонам, занимающимся общественной деятельностью». Компетенция по делам о проведении запретов и конфискаций при выполнении декретов о защите республики переходила к соответствующим учреждениям федеральных земель. В сравнение с первым декретом была также существенно расширена возможность обжалования подобных мер. С принятием пересмотренного декрета от 28 сентября 1921 г. конфликт между рейхом и Баварией закончился, но он был отнюдь не последним в связи с делом защиты республики{156}. В то время как Бавария прочно оставалась в руках буржуазного блока под руководством БФП, Пруссия переживала в 1921 г. период нестабильности. После выборов в ландтаг 20 февраля, в ходе которых трем Веймарским партиям удалось добиться только незначительного большинства, социал-демократ и министр-президент Отто Браун подал в отставку. Голосами участников прежней коалиции и ДФП ландтаг выбрал новым министром-президентом христианского профсоюзного деятеля и политика Центра Адама Штегервальда. Но ему не удалось сформировать правительство Большой коалиции, к чему он стремился, после чего СДПГ отказала ему в поддержке, и Штегервальд подал в отставку. 21 апреля ландтаг снова избрал его министр-президентом — на этот раз голосами всех буржуазных партий, включая ДНФП. Штегервальд образовал правительство большинства, в которое вошли политики Центра и ДДП, а также беспартийные профессионалы, зависимые либо от поддержки СДПГ, либо ДНФП. В октябре 1921 г. социал-демократы объявили о прекращении поддержки кабинета Штегервальда, поскольку тот все больше склонялся к немецким националистам. Вслед за этим правительственные партии начали консультации с целью расширения существующего союза до рамок Большой коалиции. Переговоры протекали успешно: 5 ноября в кабинет вошли представители СДПГ и ДФП и тем самым образовали правительство Большой коалиции, подобные которому до этого были только в Бремене (где участие в сенате принимала даже ДНФП), в Мекленбурге-Шверине и Липпе. Голосами трех Веймарских партий и ДФП ландтаг в тот же день выбрал Отто Брауна новым министр-президентом. С этого момента самая большая из федеральных земель Германии свыше трех лет управлялась правительством, опиравшимся на широкое парламентское большинство и превратившим Пруссию в фактор республиканской стабильности даже во времена тяжелых кризисных потрясений рейха{157}. ДФП предприняла первую, хотя и безуспешную, попытку заключить правительственный союз с социал-демократами уже после выборов в рейхстаг в июне 1920 г. Большая коалиция в Пруссии означала для Народной партии рост мощи и приобретение республиканской респектабельности. Принятие решения о коалиции с ДФП далось социал-демократам сравнительно легко после того, как партийный съезд СДПГ в Гёрлице в сентябре 1921 г. под впечатлением от выступлений Отто Брауна, Германа Мюллера и Эдуарда Бернштейна принципиально одобрил такой правительственный союз. Для левого крыла партии, которое рассматривало ДФП как абсолютно враждебную рабочим силу, это решение стало вызовом. Но не нашлось никого, кто мог бы опровергнуть аргумент Бернштейна, который заявил, что ДФП представляет собой «социальную силу», собственно партию немецкой буржуазии: «Под ее флагами собрались немецкие финансы, крупная немецкая индустрия и интеллектуальные силы Германии. Мы должны попытаться запрячь эту партию в республиканскую повозку». Бернштейн также внес самый большой вклад в то, что в Гёрлице СДПГ предприняла попытку открыть свои ряды для средних слоев, намереваясь стать левой народной партией. Во вдохновленной им Гёрлицкой партийной программе социал-демократия характеризовала себя как «партия трудящегося народа в городе и деревне». В таком качестве она ставила своей целью «объединение всех трудящихся, которые зарабатывают на жизнь собственным — физическим или умственным — трудом, во имя общих результатов и достижения общих целей в рамках боевого содружества за демократию и социализм». СДПГ прекратила позиционировать себя как исключительно партию рабочих физического труда; социализм она теперь рассматривала не как итог безусловно необходимого экономического развития, а как результат политической воли. Понятие «классовая борьба», которое реформисты в первую очередь устранили бы из агитационного арсенала партии, осталось и в новой программе, но уже не как боевой лозунг, а, скорее, как описание экономических отношений, которые необходимо преодолеть совместными усилиями. Нельзя признать, что отклик на Гёрлицкую программу был для СДПГ особенно ободряющим. Что касается союзов самостоятельных ремесленников, то новая ориентация партии вызвала у них скепсис и отторжение; чиновники, в свою очередь, считали, что их требования учтены в недостаточной степени. От независимых социал-демократов в адрес СДПГ был брошен упрек в том, что они предают непреходящие ценности марксистской теории. У такого независимого левого интеллектуала, как Курта Тухольского, «обуржуазивание» СДПГ вызвало только колкую насмешку. Он опубликовал в «Вельтбюне» по поводу партсъезда в Гёрлице следующее стихотворение[25]:Спустя несколько дней после съезда в Гёрлице готовность СДПГ при необходимости и на уровне рейха вступить в коалицию с ДФП подверглась испытанию. 21 сентября 1921 г. представители коалиционных партий в присутствии рейхспрезидента Эберта и под председательством рейсхканцлера Вирта вступили в переговоры с Немецкой народной партией о расширении правительственной коалиции. Что касается вопросов формы государственного правления и защиты республики, переговоры протекали без споров. Была достигнута «договоренность о том, что Немецкая народная партия стоит на почве конституции и готова всеми имеющимися силами защищать ее». На поле внешней политики также не было выявлено разногласий. Даже в особо спорном вопросе финансовой политики было достигнуто сближение точек зрения. Одобрение ДФП получили тем временем выработанные имперским правительством налоговые законопроекты и взимание второй трети «Имперского чрезвычайного налога в случае бедственного положения» — единовременного налога на имущество, введенного в 1919 г. Эрцбергером. То же самое наблюдалось и в отношении кредита в размере 1,5 миллиарда золотых марок, испрошенного имперским правительством у промышленности. Центральное требование СДПГ — ощутимое обременение имущественного владения — также, по крайней мере с порога, не было отклонено ДФП. Формулировка, к которой пришли договаривающиеся стороны, гласила: «Провести учет реальных ценностей, если тем самым будет возможно достичь стабилизации марки и в результате справиться с проблемой репараций». Однако представители СДПГ на тот момент еще не пришли к определенному решению, будет ли такого неопределенного заявления о намерениях достаточно, чтобы, в свою очередь, преодолеть сомнения социал-демократии в отношении запланированных кабинетом новых акцизов на продукты массового потребления. Однако в последующие недели социал-демократы продемонстрировали исключительную гибкость. Они были даже согласны отсрочить проведение учета реальных ценностей, чтобы дать возможность осуществиться «кредитной акции» со стороны промышленности, торговли и сельского хозяйства. Класс предпринимателей, который рассматривался как займодатель, делился на тех, кто в этом пункте был готов пойти навстречу правительству, и тех бизнесменов, как правило, из рядов тяжелой промышленности, которые отклоняли требования кабинета Вирта. В конце концов верх одержал владелец самого мощного концерна в Германии Гуго Штиннес, который смог подвигнуть Имперский союз немецкой промышленности (образованную в начале 1919 г. головную организацию немецких предпринимателей) разделить его позицию: кредиты только в случае приватизации железнодорожного сообщения и других государственных предприятий. Требования со стороны Имперского союза сводились к тому, чтобы шантажировать демократическое государство, подчинить его интересам «экономики». Перед лицом массовых протестов профсоюзов и СДПГ рейхсканцлеру Вирту оставалось 11 ноября 1921 г. только констатировать неудачу кредитной акции{159}. К этому моменту Вирт возглавлял уже не правительство Веймарской коалиции, а правительство, в которое входили лишь представители СДПГ и Центра. Поводом к правительственному кризису стало решение Верховного совета союзных держав в отношении Верхней Силезии. 20 октября союзные державы присоединились кзаключению Совета Лиги Наций, согласно которому около четырех пятых верхнесилезской индустриальной области должны были отойти к Польше, в том числе города Катовице и Кёнигсхутте, в которых 20 марта в ходе голосования явное большинство высказалось за Германию. В результате этого решения, нарушавшего принцип права самоопределения, рейх терял соответственно ¾ добычи верхнесилезского угля и свинцовой руды, 85 % добычи цинка и 75 % продукции доменного производства. Внутри правительственной коалиции за немедленную отставку кабинета выступала ДДП и, хотя менее решительно, Партия Центра, протестуя таким образом против диктата союзников перед лицом всего мирового сообщества. СДПГ посчитала подобный шаг как рискованным, так и бесполезным, но не смогла убедить партнеров в обоснованности своих сомнений. 22 октября Вирт сообщил рейхспрезиденту об отставке своего правительства. В следующие три дня коалиционные партии прилагали все усилия, чтобы привлечь ДФП в новое правительство. Для этого СДПГ была даже готова отсрочить разрешение спорных вопросов налоговой политики и передать их на рассмотрение будущего правительства Большой коалиции. Но Народная партия не пожелала с этим согласиться, поскольку она опасалась, что в новом правительстве окажется в меньшинстве, а следовательно, в зависимости от воли остальных партий. Но свой отрицательный ответ на предложение образовать Большую коалицию ДФП объясняла не налоговым вопросом, а сомнением в решимости СДПГ вступить в «национальный оборонительный фронт» в защиту Верхней Силезии. Таким образом, попытка образовать правительство Большой коалиции провалилась, и именно по вине ДФП. А поскольку ДДП не хотела, чтобы конкурирующая праволиберальная партия превзошла ее в том, что касается приверженности национализму, она также приняла решение не делегировать министров в новый кабинет. В результате единственным выходом оставалось черно-красное правительство меньшинства, и сложилась ситуация, похожая на ту, что возникла после принятия решения о подписании Версальского договора. Между тем внутри Партии Центра сопротивление вхождению в правительство только с социал-демократами было настолько сильным, что рейхспрезидент Эберт, один из самых решительных сторонников Большой коалиции, должен был угрожать своей отставкой, чтобы в конце концов добиться 26 октября формирования нового кабинета Вирта. Хотя ДДП не рассматривала себя в качестве партнера по правительственной коалиции, она тем не менее объявила о своем согласии с тем, чтобы Отто Гесслер и далее возглавлял в качестве «профессионала» свое министерство. Таким образом, предыдущая отставка кабинета превратилась в фарс{160}. Второй кабинет Вирта получил поддержку парламентского большинства за счет того, что НСДПГ согласилась на предложение СДПГ и Центра, согласно которому рейхстаг должен был одобрить правительственную декларацию канцлера. 31 января 1922 г. Вирт передал пост министра иностранных дел, который он до этого занимал сам, бывшему министру восстановления народного хозяйства Вальтеру Ратенау, в результате чего ДДП формально снова вошла в правительство. В области финансовой политики кабинету удалось в январе 1922 г. добиться согласия ДФП на проведение принудительного займа в размере одного миллиарда золотых марок. В свою очередь, социал-демократы согласились с повышением ряда косвенных налогов. Отказ СДПГ от «учета реальных ценностей» был облегчен за счет того, что союзники в ответ на немецкое ходатайство дали свое принципиальное согласие на введение моратория на выплату репараций. К условиям согласия союзников на введение моратория, которые стали известны в марте, в том числе относился дополнительный налог, который должен был принести приблизительно около миллиарда золотых марок или 60 миллиардов марок ассигнациями, а также право союзной репарационной комиссии осуществлять контроль над государственным бюджетом Германии. Когда Вирт 28 марта 1922 г. решительно отклонил эти требования, он мог рассчитывать на широкую поддержку со стороны парламента. Но имелись все основания предполагать, что эти требования не были последним словом союзников: еще 16 января Верховный совет союзных держав пригласил Германию на международную конференцию в Геную, начало которой было назначено на 10 апреля 1922 г. и на которой впервые после завершения войны победители и побежденные должны были вместе обсуждать проблемы восстановления мировой экономики{161}. К странам, получившим приглашение принять участие в конференции, относилась и Советская Россия. Можно было предположить, что Берлин и Москва, два изгоя международной политики, договорятся между собой уже до начала конференции. Дипломатические отношения между этими двумя странами еще не были восстановлены официально, но тем не менее в обеих столицах с мая 1921 г. действовали торговые представительства. В середине февраля 1922 г. в Берлин прибыл Карл Радек, чтобы предложить Вирту, давнему стороннику тесного сотрудничества с Россией, план по координации совместных действий на мировой экономической конференции. Германия и Россия в первую очередь должны были вместе противостоять опасности того, что Франция навяжет им свое толкование статьи 116 Версальского договора, согласно которой Россия могла бы также предъявить Германии репарационные требования, но только в том случае, если бы она, в свою очередь, признала финансовые обязательства перед Западом, взятые на себя еще царским правительством. В экономическом плане Советская Россия стремилась к тесному сотрудничеству с Германией, но без верховного надзора международного синдиката по восстановлению России, создать который предлагали союзники. В конечном счете для Радека речь шла о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме, но при этом он не слишком давил на своих немецких партнеров по переговорам. К моменту назначения Вальтера Ратенау 31 января 1922 г. министром иностранных дел, Аго фон Мальцан, руководитель восточного отдела немецкого МИД, совместно с Радеком уже выработал соглашение в общих чертах. Ратенау в отличие от Вирта и Мальцана стремился избежать советско-немецких сепаратных действий и выступал за международный экономический альянс. Эта прозападная линия нового шефа министерства иностранных дел привела к тому, что переговоры зашли в тупик. Они были возобновлены только тогда, когда советская делегация под руководством народного комиссара по иностранным делам Г.В. Чичерина сделала промежуточную остановку в Берлине по пути в Геную. К этому моменту спорным прежде всего оставался вопрос, какую позицию была готова занять Советская Россия по проблеме возмещения убытков, причиненных в результате обобществления имущества иностранных государств и граждан. Германия была готова отказаться от подобных претензий только в том случае, если бы Россия обещала действовать в отношении немцев по принципу наибольшего благоприятствования, т. е. третьи страны не должны были оказаться в более выгодном положении. 3 апреля советская сторона дала требуемое обещание, но оно все еще не удовлетворяло немцев. Встречное предложение немецкой стороны было отклонено русскими, и переговоры, таким образом, не были завершены. Тем не менее сторонам удалось достичь сближения позиций по большому количеству пунктов и можно было рассчитывать на подписание договора в ближайшем будущем. Прежде чем немецкая делегация во главе с рейхсканцлером Виртом отбыла в Геную, рейхспрезидент Эберт 5 апреля 1922 г. проникновенно изложил правительству свои политические пожелания и напомнил о своих конституционных полномочиях. Поскольку международно-правовое представительство государства является его прерогативой, Эберт должен был «еще раз настоятельно указать на то, что в случае, если дело дойдет до реальных договоренностей или сделок, он просит предварительно согласовать все это с ним». Но пожелания Эберта — это было одно, а реальный ход конференции — другое. И хотя немецкие представители в финансовой комиссии могли занести на свой счет значительный успех — союзные эксперты признали немецкий тезис, согласно которому обесценивание марки было вызвано пассивным платежным балансом, т. е. не в последнюю очередь репарациями. Кроме этого, они согласились с тем, что репарационное бремя ни в коем случае не должно превышать возможности немецкой экономики. Но это достижение не шло ни в какое сравнение с тревожными слухами о том, что в сепаратных политических переговорах между Россией и союзными державами наметилось соглашение за счет Германии. Под воздействием такого рода сообщений Ратенау в конце концов уступил давлению со стороны Мальцана и поручил тому возобновить прерванные переговоры с советской делегацией. Мальцан вскоре выяснил, что на самом деле успех переговоров между Россией и союзниками — дело еще весьма далекого будущего, но одновременно приложил все усилия, чтобы заключить с русскими сепаратное соглашение. Он задержал на целый день отправку тайной телеграммы, которая должна была оповестить рейхспрезидента о немецко-советских переговорах с тем, чтобы Эберту не пришла в голову идея поддержать и без того колебавшегося Ратенау в его сопротивлении заключению соглашения с Россией. Решение было принято в ночь с 15 на 16 апреля на «вечеринке в пижамах» в гостиничном номере Ратенау. Мальцан сообщил о только что состоявшейся по телефону беседе с Чичериным, который сказал, что русские готовы к немедленному заключению соглашения с немцами на их условиях. Ратенау хотел предварительно поставить в известность премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа, в ответ на что Мальцан пригрозил своей отставкой. Вирт, приглашенный министром иностранных дел на ночное заседание, безоговорочно встал на сторону главы Восточного отдела, и Ратенау в конце концов уступил. На следующий день, на Пасху, немецкая делегация отправилась в курортное местечко Рапалло в Верхней Италии, где Чичерин и Ратенау вечером подписали договор, названный по месту заключения и скоро обросший мифами. Согласно его положениям, Россия и Германия отказывались от любых взаимных требований возмещения военных убытков, восстанавливали дипломатические отношения и обязывались выполнять пункт о предоставлении друг другу режима максимального благоприятствования: торговополитические преимущества, которые в будущем могли быть предоставлены одним из государств третьим государствам, автоматически предоставлялись также другой стороне договора. Долгие колебания Ратенау были хорошо понятны. Также как и Эберт, министр иностранных дел, страшился, что если рейх возьмет на себя роль лидера на поле дипломатических отношений с Советской Россией или вовсе вызовет впечатление совместных советско-немецких действий с антизападными намерениями, то это будет означать продолжительное ухудшение отношений Германии с западными державами. Если Ратенау в конце концов и решился на заключение договора в Рапалло, то только из-за осознания того, что Германия приперта к стене и должна использовать последний шанс, чтобы воспрепятствовать договоренности между Западом и Востоком за свой счет. Совсем иначе выглядела перспектива для тех, кто сделал ставку на тесное немецко-советское сотрудничество. Они были уверены в том, что Германия сможет противостоять послевоенному порядку, т. е. Версальской системе, только с помощью Советской России. В первую очередь это относилось к Польше, которую расценивали как главный источник проблем. Вирт заявил в июле 1922 г. графу Брокдорфу-Ранцау, в будущем первому послу Веймарской республики в Москве, что с Польшей «должно быть покончено… В этом пункте я полностью разделяю мнение военных, особенно генерала фон Секта». В октябре 1922 г. в разговоре с Ранцау Вирт заметил, что Германия и Россия снова должны стать соседями; Польша должна быть «превращена в развалины», а что касается окраинных государств, под которыми Вирт подразумевал прибалтийские республики, то он бы предпочел «разгромить» их лучше сегодня, чем завтра. Также и с Чичериным в Генуе канцлер совершенно открыто говорил о «восстановлении границ 1914 г.»{162}. В этой связи Вирт с полным основанием ссылался на фон Секта. В сентябре 1922 г. командующий сухопутными войсками в своем меморандуме изложил ряд соображений, которые он в основных чертах считал правильными уже с начала 1920 г.: «Существование Польши невыносимо, оно несовместимо с жизненными условиями Германии. Польша должна исчезнуть, и она исчезнет — за счет собственной внутренней слабости и в результате действий России — с нашей помощью. Польша для России еще более невыносима, чем для нас; какой бы ни была Россия, она никогда не смирится с Польшей. Вместе с Польшей падет одна из главных основ Версальского мира — доминирующая позиция Франции… Восстановление протяженной границы между Россией и Германией является предпосылкой двустороннего усиления. Россия и Германия в границах 1914 г.! Это должно стать основой взаимопонимания между ними». «Русская политика» руководства рейхсвера ориентировалась на эти цели. Тайное сотрудничество между рейхсвером и Красной армией приобрело систематический характер с сентября 1921 г. Для немецкой стороны было важным обойти с русской помощью ограничения, наложенные Версальским договором. Для России же речь шла о том, чтобы извлечь пользу из превосходства немецкой техники и технологий. В начале 1922 г. в войсковом ведомстве была создана «Особая группа Р(оссия)» (Зондергруппе Р), которая должна была координировать соответствующие действия. О необходимых денежных средствах позаботился Вирт, который до ноября 1921 г. был также министром финансов. Львиная доля суммы в 150 млн марок, которую министерство рейхсвера получило в начале 1922 г. благодаря посредничеству Вирта от северо-немецкой конторы Ллойда, была выделена заводам Юнкерса. На основании предварительного договора с «Особой группой Р» в России было начато то, что строжайшим образом запрещалось Германии в Версале: строительство военных самолетов. В течение 1922 г. в Россию были также отправлены первые офицеры рейхсвера для прохождения летной подготовки. Еще одним плодом немецко-советских военных контактов было создание «Общества содействия промышленным предприятиям» (Гезельшафт цур Фёрдерунг геверблихен Унтернемунген), сокращенно «ГЕФУ», с местопребыванием в Берлине и Москве. «ГЕФУ» играло роль головной организации для филиалов немецкой промышленности в России. Для производства отравляющих газов было образовано германосоветское акционерное общество «Берсол», а в Россию был отправлен немецкий технический директор. Уже в конце 1922 г. «военные» ограничительные пункты Версальского договора в значительной степени утратили силу в результате германо-советского сотрудничества. Направление ревизии послевоенного мироустройства было задано, и решающую роль в этом сыграл именно тот рейхсканцлер, который первым признал «политику исполнения» возможной{163}. Ничего из того, что протекало под флагом военно-технического сотрудничества между Германией и Россией, не было упомянуто в договоре Рапалло, и вопреки всем тотчас же появившимся слухам он не содержал дополнительных секретных пунктов. Несмотря на это, заключение договора вызвало бурные протесты западных держав, и временами казалось, что конференция в Генуе вообще будет сорвана. Самый сильный шок испытала Франция. Германо-советское соглашение поставило под вопрос сомнительную роль гегемона на европейском континенте, выпавшую Парижу в 1919 г., и именно поэтому нельзя было полагать, что французская дипломатия смирится с поражением. 24 апреля, спустя неделю после Рапалло, премьер-министр Раймонд Пуанкаре, занимавший этот пост с января 1922 г., в своей речи в Бар-де-Дюк обозначил возможность военной интервенции со стороны Франции. 2 мая 1922 г. Верховный главнокомандующий войсками союзников в оккупированной Рейнской области генерал Дегутт предупреждал в письме, адресованном военному министру А. Мажино, что, принимая во внимание произошедшее в Рапалло германо-советское сближение, Франция больше не должна терять времени, если она стремится к оккупации Рура. Договор в Рапалло сделал невозможным осуществление политики Висбадена — мирного экономического взаимопонимания. Это не значило, что оккупация Рурской области стала неизбежной, но нет никаких сомнений в том, что германо-советский договор ослабил умеренные элементы во французской внешней политике и усилил несговорчивых националистов{164}. Несмотря на сильное раздражение англичан и французов, Генуэзская конференция была завершена надлежащим образом, но не принесла каких-либо значимых практических результатов. «Небольшой заем» в размере 4 миллиардов марок, переговоры о котором вели немецкие и французские эксперты, очевидно, и без Рапалло не был бы предоставлен Германии. Но многое говорит в пользу того, что тот успех в репарационном вопросе, который был достигнут в финансовой комиссии, мог быть бы расширен, если бы Франция не чувствовала, что ей брошен вызов подписанием германо-советского договора. Рейхсминистр финансов от Партии Центра Гермес, лично принимавший участие в Генуэзской конференции, тотчас же высказал свои сомнения, заявив, что «создание приемлемой почвы для разрешения репарационного вопроса важнее для Германии, чем заключение договора, в отношении которого нельзя предвидеть, какие плоды он принесет Германии… Совершенно недостаточно того, что у нас в кармане лежит договор с русскими, мы должны также привезти домой запас доверия союзников для решения репарационного вопроса». Хирш, статс-секретарь ведомства Гермеса, стал автором более короткой и пластичной формулировки. В своем письме от 19 апреля он выразил сожаление, что в Рапалло немецкие дипломаты «пожертвовали жирной репарационной синицей в руках ради русского журавля в небе»{165}. В Берлине реакция на Рапалло была смешанной, но в целом благоприятной. Рейхспрезидент Эберт, огорченный тем, что Вирт и Ратенау не посчитались с его указаниями, оказал, хотя и задним числом, поддержку имперскому правительству. Содержание договора получило позитивную оценку партий от КПГ до ДФП, и даже немецкие националисты выразили сдержанное одобрение. В рейхстаге договор был ратифицирован в третьем чтении 4 июля 1922 г. большинством голосов, против голосовали только несколько депутатов от ДНФП. Но были также и критика, и замечания. Так, газета социал-демократов «Форвартс» уже 20 апреля 1922 г. выразила сомнения, насколько удачны были выбраны место и время для дипломатического шага, вызвавшего такое внимание. Рудольф Брейтшейдот НСДПГ в конце апреля охарактеризовал договор как самый тяжелый урон немецким интересам, который только можно представить на «ближайшее будущее», поскольку он мешал установлению прочного экономического взаимопонимания с Западом. Эксперт по России от партии немецких националистов Отто Хётцш в ходе парламентских дебатов 29 мая высказал сожаление по поводу отсутствия гарантий отказа русских от ведения большевистской пропаганды и опасение, что следствием договоренности о предоставлении друг другу режима наибольшего благоприятствования станет массовая иммиграция в Германию восточных евреев{166}. Споры вокруг Рапалло не утихли вплоть до сегодняшнего дня. Когда имя итальянского курорта используют в качестве лозунга, то обычно это делают для обозначения германо-советского заговора против Запада, иногда даже в качестве прелюдии к пакту Риббентропа — Молотова 1939 г. Но содержание договора не имеет ничего общего с таким толкованием. Защитники Рапалльского договора в немецкой историографии указывают на бедственное положение, в котором оказалась немецкая делегация в Генуе, и подчеркивают оборонительный характер германо-советских договоренностей. Пока речь идет о мотивах Ратенау, эта оценка является верной. Но настоящие пионеры германо-советского сотрудничества, такие как Вирт, фон Сект и Мальцан, преследовали более амбициозные, а именно наступательные, цели, которые можно было осуществить только в результате войны. Нет смысла оспаривать также то обстоятельство, что Рапалло роковым образом воздействовал на германо-французские отношения и гораздо больше связан со вторжением союзников в Рур в январе 1923 г., чем это готовы признать благожелательно настроенные интерпретаторы. В апреле 1922 г. Германия смогла существенно расширить границы своей свободы действий, но за это она заплатила внутренним и внешним кризисом, который на следующий год привел рейх на край пропасти. Германия должна была однажды дипломатически признать Советскую Россию, но совершить этот шаг в бесцеремонной по отношению к Западу форме означало возврат к вильгельмианской политике повышенного риска. Те, кто, как Эберт, предостерегал от этого шага и считался с возможными негативными последствиями заключения договора, очень скоро получили возможность убедиться в свое правоте. 31 мая 1922 г. истекал срок, данный Германии для выполнения условий, которыми союзники в январе сопроводили предоставление ей моратория на выплату репараций. Ни одно из этих условий не казалось имперскому правительству и партиям более неприемлемым, чем требование введения нового 60-миллиардного налога, призванного с точки зрения западных держав якобы воспрепятствовать увеличению неуплаченного долга Германии. Вирт уже 28 марта высказал перед рейхстагом свое недвусмысленное «нет» этому требованию. И все же министр финансов Гермес в середине мая в ходе переговоров с представителями репарационной комиссии в Париже убедился, что определенное движение навстречу со стороны Германии было неминуемым, если она хотела избежать союзнических санкций после 31 мая. Уступая давлению со стороны Великобритании, Гермес пообещал выступить с заявлением, согласно которому имперское правительство выражало свою готовность в случае необходимости ввести новые налоги или предпринять новые внутренние займы, если Германия получит достаточную помощь в форме зарубежных кредитов. Рейхсканцлер Вирт счел, что Гермес существенно превысил свои полномочия, но не получил у правительства поддержки своему жесткому курсу и в итоге подчинился большинству. 29 мая имперское правительство вручило союзникам в Париже ноту, в которой подтверждались обязательства, взятые Гермесом, а репарационной комиссии предоставлялось право проверки финансовой деятельности немецкого государства, однако при условии, что при этом не будет затронут суверенитет Германии. В ответ на это союзные державы 31 мая одобрили отсрочку платежей, испрашиваемую Германией{167}. Внутренняя политика Германии весной и в начале лета 1922 г. характеризовалась усилением активности правых националистических сил. С 19 мая по середину июня генерал-фельдмаршал Гинденбург предпринял поездку по Восточной Пруссии, которая, по оценке Отто Брауна, превратилась «в пропагандистский вояж немецких националистов». Рейхсвер принял демонстративное участие в митингах в честь бывшего начальника Генерального штаба и главы Верховного военного командования. Особенно массовым было участие рейхсвера в Кёнигсберге, где 11 июня состоялись демонстрации протеста, организованные рабочими партиями и закончившиеся кровавыми столкновениями. 4 июня в Касселе на местного обер-бургомистра и бывшего рейхсканцлера Германии Филиппа Шейдемана было совершено покушение с использованием синильной кислоты. В результате здоровью Шейдемана был причинен незначительный вред, что позволило праворадикальной «Дойче Цайтунг» высмеять инцидент как «клистирное покушение». В это же время депутат рейхстага от партии немецких националистов, авторитетный представитель «народнического» крыла вДНФП Вильгельм Геннинг опубликовал в «Консервативе Монатсшрифт» статью под заголовком «Истинное лицо договора в Рапалло», в которой он упрекал министра иностранных дел Вальтера Ратенау в том, что тот не потребовал от Советов покаяния за убийство немецкого посланника графа фон Мирбаха, павшего в июле 1918 г. жертвой покушения эсеров: «Едва ли представитель международного еврейства Ратенау имеет хоть каплю понятия о немецкой чести, об этом не может быть и речи… Но немецкая честь — не предмет торгашества для международной еврейского капитала!…Немецкая честь должна быть отомщена. Однако Вы, господин Ратенау, и Ваши подстрекатели еще ответят перед немецким народом, “в противном случае, употребляя Ваши собственные слова, мировая история утратит свой смысл”»{168}. Выражение, на которое намекал Геннинг, уже давно стало неотъемлемой частью агитации правых радикалов, нацеленной против еврея и интеллектуала Вальтера Ратенау. В своем сочинении «Кайзер», опубликованном в марте 1919 г., Ратенау процитировал слова, которые он хотел в первые дни мировой войны сказать своему близкому другу: «Никогда не наступит момент, когда кайзер, как победитель мира, проедет со своими паладинами на белых лошадях под Триумфальной аркой. В этот день мировая история утратила бы свой смысл». В среде националистической буржуазии это высказывание было расценено как доказательство ненемецкого образа мыслей, практически духовного предательства Германии. У радикальных антисемитов их ненависть к министру-еврею выразилась в речевке:
Глава VIII Катастрофа, которой удалось избежать
Правительственная декларация, которую Вильгельм Куно огласил в рейхстаге 24 ноября 1922 г., демонстрировала преемственность государственной политики. В первую очередь это относилось к внешнеполитической сфере: новый канцлер безусловно встал на почву ноты от 13 ноября, в которой правительство Вирта впервые изложило союзникам конкретные немецкие предложения, направленные на решение репарационной проблемы. Это выступление в поддержку политики предыдущего правительства было призвано навести мосты между кабинетом Куно и социал-демократией, поскольку именно от нее зависела судьба нового правительства. Кабинет меньшинства Куно не мог себе позволить опору только на немецких националистов уже по внешнеполитическим соображениям, а значит, был зависим от поддержки самой большой фракции рейхстага, лидировавшей со значительным отрывом. Невзирая на это, многочисленные бывшие независимые социал-демократы настаивали на безусловно оппозиционном курсе партии в отношении правительства Куно. Если бы социал-демократы стали придерживаться этой линии, то они неизбежно и с полным основанием превратились бы в объект упреков в том, что они ведут политику обструкции и превращают Германию в страну без руля и ветрил. Большинство в СДПГ осознавало эту опасность и в результате ожесточенных дебатов смогло настоять на своем. 25 ноября фракция СДПГ поддержала предложение ДДП, согласно которому рейхстаг лишь «принимал к сведению» правительственную декларацию, но при этом недвусмысленно выражал свое согласие с тем, что правительство стремится основывать свою политику на положениях ноты от 13 ноября 1922 г. Вынеся, хотя и с оговорками, этот вотум доверия, социал-демократы стали оказывать поддержку самому «правому» из всех существовавших до сего момента правительств Веймарской республики{184}. Первым из союзных правительств, отреагировавших на немецкую репарационную ноту и декларацию Куно, стал французский кабинет. 27 ноября согласно распоряжению Пуанкаре было опубликовано официальное заявление, решительно отклонявшее немецкое требование о предоставлении трех-четырехгодичного моратория на все выплаты и материальные поставки и угрожавшее ответными действиями в виде оккупации двух третей территории Рурской области, включая Бохум и Эссен. Британское правительство, во главе которого с конца октября 1922 г. стоял представитель партии консерваторов Эндрю Бонар Лоу, расценивало такого рода санкции как авантюрные и довело свое мнение до сведения Парижа. Что касается правительства рейха, то новый премьер-министр Великобритании заявил ему, что немецкие предложения не содержат вариантов удовлетворительного выхода из репарационного кризиса. Но прежде, чем по поводу немецкого предложения о введении моратория было принято окончательное решение, из-за сравнительно маловажного вопроса произошла эскалация конфликта. 2 декабря имперское правительство запросило союзников о продлении до 1 апреля 1923 г. срока поставок леса, который согласно Версальскому договору истекал в конце 1922 г. В ответ комиссия по репарациям 26 декабря констатировала «лицемерие» со стороны Германии при выполнении обязательств по поставке пиломатериалов и телеграфных столбов, заслуживающее наказания. Против этого решения выступил только представитель Великобритании. Тем самым было создано юридическое обоснование для введения союзных войск в Рурскую область. Немецкие просрочки платежей восходили ко времени предыдущего кабинета и хорошо укладывались в девиз, провозглашенный Виртом 16 августа 1922 г. и повторенный Куно в его правительственном заявлении: «Сначала хлеб, репарации — потом!» Принимая во внимание полную занятость населения, сохранявшуюся в Германии до осени 1922 г., обязательства по поставкам древесины и угля могли выполняться немецкой стороной без всяких проблем при наличии соответствующей политической воли. Но и Вирт, и его преемники намеревались дать понять союзникам, что границы немецких возможностей уже достигнуты и, таким образом, невыполнение поставок преследовало прежде всего политическую цель. С другой стороны, для Пуанкаре все немецкие проступки были только предлогом для достижения своих скрытых целей. Решение оккупировать Рурскую область созрело у него еще летом 1922 г. и его нельзя адекватно объяснить без влияния шока от Рапалло. Германосоветский договор убедил французского премьера в том, что Германия ведет работу по подрыву послевоенного порядка. К тому же он был убежден, что Версальский договор ни в коей мере не ослабил немецкую экономическую мощь на длительную перспективу, скорее, напротив, у рейнско-вестфальской промышленности оставалась возможность причинить Франции тяжелый экономический ущерб, бойкотировав поставки железной руды из Лотарингии. В обоих случаях оккупация Рурской области должна была выступить действенным средством. Если бы Франции удалось поставить под свой контроль важнейшую промышленную область Германии с ее большими запасами угля, она могла надеяться достичь того, в чем ей было отказано англосаксами в 1919 г.: отделения Рейнской области от Германии. Если бы это случилось, Франция окончательно обезопасила бы себя от западного соседа и одновременно получила бы залог сохранения своего господствующего положения на европейском континенте. Незадолго до конца 1922 г. из Америки поступил сигнал, который, как казалось, открывал возможность мирного урегулирования: 29 декабря госсекретарь США Хьюз, выступая перед американским Историческим обществом в Нью-Хейвене, предложил созвать международную комиссию специалистов, которая должна была оценить производственные возможности Германии и на этой основе заново установить размер репараций. Однако Хьюз не пообещал пойти Европе навстречу в вопросе межсоюзнических долгов, в первую очередь долгов Франции перед США, и поэтому с самого начала было сомнительно, что его инициатива побудит Париж к изменению курса. На репарационной конференции, проходившей в Париже со 2 по 4 января 1923 г., Пуанкаре и бельгийский премьер-министр Тёнис отклонили предложение, внесенное Бонаром Лоу, согласно которому Германия должна была начать выплачивать репарации с 1927 г., по истечении четырехлетнего моратория, в форме все возрастающих аннуитетов. Точно также они отклонили компромиссное предложение, внесенное новым фашистским правительством под руководством Бенито Муссолини, пришедшим к власти в Италии в конце октября 1922 г. По его мнению, Германии должен был быть предоставлен двухгодичный мораторий, а ее репарационные обязательства сокращены до суммы в 50 миллиардов золотых марок. Сама Германия не получила шанса представить союзникам свою позицию: немецкому послу в Париже 4 января было отказано в передаче конференции ноты имперского правительства. В этот же день работа конференции была прекращена без каких-либо результатов. Решение о том, как далее должны были развиваться события, оставалось за союзной репарационной комиссией. 9 января она констатировала, вновь проигнорировав протест представителя Великобритании, намеренное нарушение Германией обязательств по поставкам угля за 1922 г. Жребий был брошен, оккупация Рурской области стала неизбежной{185}. Вторжение французских и бельгийских войск последовало 11 января 1923 г. Германия ответила воплем возмущения. Рейхспрезидент и имперское правительство в обращении к немецкому народу назвали эту акцию преступлением, совершенным союзными державами в состоянии ослепления, воспрепятствовать которому Германия была не в силах. В Рурской области партии и союзы объединились в оборонительный фронт. Непосредственно перед оккупацией предприниматели перевели из Эссена в Гамбург центральный орган руководства горной промышленностью Рура — Рейнско-Вестфальский угольный синдикат. Профсоюзы по согласованию с имперским правительством отклонили призыв КПГ к проведению всеобщей забастовки, вместо этого выступив за политику пассивного сопротивления оккупационным властям. Когда рейхсканцлер Куно 13 января выразил в рейхстаге протест против оккупации, почти все депутатское собрание встретило его слова аплодисментами. Предложение Центра, обещавшее правительству безоговорочную поддержку рейхстага в деле решительного отражения французско-бельгийской агрессии было принято 284 голосами против 13, из которых 10 принадлежали КПГ. Но согласие между буржуазными партиями и социал-демократами все же не было полным. Из 16 депутатов, воздержавшихся при голосовании, 13 относились к СДПГ. Еще 49 членов социал-демократической фракции, в своем большинстве бывшие члены НСДПГ, продемонстрировали свое несогласие с тем, что вообще не приняли участия в голосовании{186}. Сотрудничество правительства рейха с социал-демократией стало возможным благодаря тому, что кабинет Куно, также как и СДПГ, отдал предпочтение политике пассивного сопротивления, отказавшись от насильственных действий в отношении войск союзников. Свободные профсоюзы, которым отводилась ключевая роль в осуществлении пассивного сопротивления, начиная с 1923 г. стали настолько близки к правительству, что их по крайней мере в оккупированной области воспринимали почти как государственные органы. СДПГ опосредованно через прусское правительство стала, в свою очередь, своего рода негласным членом имперского правительства. Министр внутренних дел Пруссии Северинг втайне даже принимал участие в создании «Черногорейхсвера», занимавшегося военной подготовкой добровольческих отрядов, которые должны были усилить находившуюся в серьезной опасности Германию. В результате формального соглашения, которое Северинг заключил 30 января 1923 г. с министерством рейхсвера, он гарантировал военным поддержку прусских учреждений в деле «защиты страны», особенно на восточных границах. В момент подписания этого соглашения Северинг находился под свежим впечатлением первого серьезного инцидента в северной части Восточной Пруссии: 10 января литовские партизаны вторглись в Мемельскую область, которая обладала особым статусом[26]. Немецкая сторона также опасалась, что Польша использует оккупацию Рурской области для нападения на Германию. Социал-демократ Северинг, разумеется, также ожидал, что соглашение воспрепятствует дальнейшему сотрудничеству рейхсвера с неправительственными организациями крайних правых в деле нелегального вооружения. Эта надежда не оправдалась: в течение 1923 г. при активной поддержке рейхсвера вновь возникли многочисленные, формально распущенные фрайкоры. Рейхсвер также заблаговременно предоставил средства для проведения в оккупированных областях актов саботажа. Командующий сухопутными войсками генерал фон Сект прекрасно знал, что, действуя подобным образом, он идет вразрез с официальной политикой. Но он мог исходить из того, что по меньшей мере рейхсканцлер относится к подобной активности на самом деле с большим пониманием, чем демонстрирует это окружающим{187}. Однако радикальные правые ни в коем случае не участвовали сплоченными рядами в едином фронте противников оккупации Рурской области. В стороне сознательно держалась действовавшая на базе Мюнхена Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП). Возникшая в феврале 1920 г. на базе небольшой «народнической» группировки под названием Немецкая рабочая партия, она тем временем стала благодаря ораторским талантам ее «фюрера» Адольфа Гитлера самой значительной из множества националистических боевых организаций Баварии. 11 января 1923 г. на одном из собраний в округе Кроне Гитлер провозгласил девиз: «Долой не Францию, долой преступников ноября!», подразумевая под последними социал-демократов. В течение следующих недель НСДАП характеризовала все разговоры о едином фронте как обман и надувательство: прежде чем что-то предпринимать против Франции, необходимо сначала избавиться от «вероломных предателей» в самой Германии. Те члены НСДАП, которые тем не менее приняли участие в активном сопротивлении оккупации, были исключены из партии как мятежники. Правительство фон Книллинга расценивало кампанию национал-социалистов настолько опасной, что 26 января без раздумий ввело в Мюнхене военное положение и запретило имперский партийный съезд НСДАП, запланированный на ближайшие дни. Но тем самым оно только помогло Гитлеру достичь сенсационного триумфа: регирунгспрезидент Верхней Баварии Густав фон Кар и командующий войсками рейхсвера в Баварии фон Лоссов выступили в защиту НСДАП и вынудили правительство отменить запрет. Гитлер заявил о себе как победитель государственной власти, что весьма повысило его авторитет среди правых{188}. С точки зрения левых, национал-социалисты Гитлера больше, чем какие-либо другие союзы правых радикалов, представляли собой немецкий аналог итальянского фашизма, практически его ответвление. В пользу такой оценки, в которой социал-демократы и коммунисты практически были едины, говорило многое. Национал-социалисты сражались со своим главным врагом — марксистским рабочим движением, применяя такое же неприкрытое насилие, как и почитаемый ими образец — итальянские фашисты. Подобно им, национал-социалисты объявили беспощадную войну существующей демократической системе. В обоих этих отношениях национал-социалисты отличались от немецких националистов, которые стремились доказать свою способность к управлению государством в составе Веймарских правительств и уже поэтому применяли гораздо более осторожную тактику. Гитлер не оставлял никаких сомнений в том, что он намерен свергнуть конституционное правительство в Берлине так же, как это сделал Муссолини своим «маршем на Рим» в октябре 1922 г. Как и в Италии, в Германии имелись предпринимательские круги, спонсировавшие воинствующий антимарксизм, что давало повод социал-демократам и коммунистам объявить фашистов в целом и национал-социалистов в особенности вспомогательными войсками капиталистов. Основную массу своих приверженцев национал-социалисты рекрутировали из «мелкобуржуазной» среды, из числа ремесленников и самостоятельных торговцев, служащих и чиновников. Но ни от социал-демократов, ни от коммунистов не укрылось то, что демагогические лозунги НСДАП были также обращены к рабочим, прежде всего к тем из них, кто трудился на малых и средних заводах, в сельском хозяйстве и на государственных предприятиях и едва ли был организационно охвачен профсоюзами. Борьба за Рур давала национал-социалистической агитации уникальный шанс, и ни одна из политических сил Германии не смогла сравниться с национал-социалистами в том, как умело они смогли перенести оскорбленное чувство национального достоинства с внешнего врага на врага внутреннего. То обстоятельство, что партия Гитлера была в конце 1922 г. запрещена в Пруссии, Саксонии и Тюрингии, а решением государственного суда в Лейпциге от 15 марта 1923 г. и во всем рейхе, за исключением Баварии, значительно замедлило ее рост. Но успехи, достигнутые ею в Баварии, были настолько серьезными, что у левых к началу 1923 г. были уже все основания квалифицировать НСДАП как особенно опасную форму контрреволюции{189}. Немецкие коммунисты на вторжение союзных войск в Рурскую область ответили призывом: «Бей Пуанкаре и Куно на Руре и на Шпрее!» Французские капиталисты ни на йоту не лучше немецких, а штыки французских солдат также остры, как штыки рейхсвера, — так разъяснял ЦК КПГ этот призыв к ведению войны на два фронта. Решительная оппозиция в отношении кабинета Куно, на тот момент самого близкого к предпринимателям правительства Веймарской республики, была для коммунистов само собой разумеющейся. Но на первом плане в следующие недели для коммунистов оказалось все же противостояние иноземной оккупации. Партийное руководство во главе с Генрихом Брандлером и Августом Тальгеймером, учитывая интересы официально образованного в декабре 1922 г. СССР, должно было проводить однозначно «антиимпериалистическую» политику, направленную против Франции. Для Советского Союза, как сокращенно именовалось новое государственное образование, не было более опасной внешнеполитической ситуации, чем сближение Германии и стран Запада. Если бы немецкая буржуазия выступила против Франции, то она против своей воли временно стала бы играть «внешне объективно революционную роль», — писал в середине февраля в газете «Ди Интернационале» главный теоретик КПГ Тальгеймер. Невысказанный Тальгеймером вывод из этого был следующим: КПГ не должна была нападать на буржуазию со спины, но должна была подтолкнуть ее на путь сопротивления Франции. Для крайне левого крыла КПГ линия Брандлера — Тальгеймера-ЦК была примером политики классового сотрудничества, т. е. целиком и полностью порочной. Нолевые радикалы во главе с интеллектуалами Рут Фишер и Аркадием Масловым (на деле их звали Эльфрида Эйслер и Исаак Чемеринский), которые вместе руководили берлинской окружной организацией партии, а также гамбургским портовым рабочим Эрнстом Тельманом, противопоставляли себя партийному руководству также и по другим вопросам. В свою очередь, руководство КПГ в соответствии с решениями IV конгресса Коминтерна ноября 1922 г. расценивало временный союз коммунистов и социал-демократов как единственное средство, способное в настоящее время воспрепятствовать превращению правительства Куно в открытую диктатуру крупной буржуазии и, тем самым, возникновению политической системы по образцу фашистской Италии. Крайне левые, напротив, отклоняли любую форму «единого фронта сверху», а уж тем более — «рабочее правительство» из представителей СДПГ и КПГ. Противоречия между партийными лидерами и оппозицией настолько обострились весной 1923 г., что был вынужден вмешаться ИККИ. Последний признал в целом правоту руководства КПГ, но одновременно рекомендовал ему теснее сотрудничать с крайними левыми. Вслед за этим ЦК КПГ в середине мая 1923 г. выбрал Рут Фишер и Аркадия Маслова в руководство партии. Тем самым внутрипартийный конфликт не был исчерпан, но, по крайней мере, нейтрализован на первое время. В отношениях с внешним миром КПГ до некоторой степени вновь выступала сплоченной силой. В ходе внутриполитического спора о рабочем правительстве речь шла не только о теоретической возможности. Первый практический шаг в этом направлении был сделан в Саксонии весной 1923 г. 4 мая, спустя пять месяцев после последних выборов в ландтаг, конференция саксонской организации СДПГ, вопреки воле местного комитета партии и берлинского руководства, приняла решение отказаться от ведения переговоров о заключении коалиции с ДДП и вместо этого начать консультации с коммунистами, чтобы найти выход из затяжного правительственного кризиса. Две недели спустя, 18 марта, СДПГ и КПГ пришли к соглашению о принятии программы из четырех пунктов чисто социалистического правительства, поддерживаемого коммунистами. Наиболее важные положения затрагивали создание пролетарских полувоенных организаций для сопротивления угрозе фашизма и образование контрольных комитетов для борьбы с ростовщичеством, которые должны были избираться общими собраниями предприятий или членов профсоюзов. 21 марта 1923 г. голосами СДПГ и КПГ министром-президентом Саксонии был избран бывший министр юстиции и социал-демократ Эрих Цейгнер. Тем самым тактика единого фронта КПГ знаменовалась первым большим успехом, и временами казалось, что аналогичное соглашение между левыми партиями будет заключено также и в Тюрингии. Здесь СДПГ и КПГ вступили в мае 1923 г. в переговоры об образовании правительственной коалиции и пришли к соглашению о создании отрядов республиканской самообороны для отражения фашистской опасности. Но 26 мая социал-демократы прервали переговоры, заявив, что требования, которыми КПГ обусловила свое вступление в правительство, приведут к фактическому самоотречению СДПГ от власти и поэтому являются неприемлемыми. Решение саксонских социал-демократов о союзе с коммунистами поставило руководство СДПГ в тяжелую ситуацию. У него не было иной возможности воспрепятствовать левому курсу дрезденских товарищей, кроме как расценить политику саксонской организации СДПГ наносящей вред всей партии. Не могло быть никаких сомнений в долгосрочных намерениях, которые коммунисты преследовали своей тактикой единого фронта: они заключались в подготовке революционного переворота. Если социал-демократы выступали рука об руку с коммунистами, то их неизбежно должно было затянуть в пучину прогрессирующего радикализма и рано или поздно они оказались бы в состоянии конфликта с конституциями рейха и федеральных земель. Эту опасность нельзя было недооценивать. Неотвратимо наступил бы момент, которого только и ждали правые радикалы: применение государственной силы в борьбе против рабочего движения. Таким образом, социал-демократы, вступив в единый фронт с коммунистами, вместо ослабления фашизма добились бы обратного эффекта: поляризации общества, из которой крайне правые смогли бы извлечь большую пользу{190}. В любом случае процесс медленной депарламентаризации, который Германия переживала весной 1923 г., играл на руку правым. 23 февраля рейхстаг голосами буржуазных партий и СДПГ принял «чрезвычайный закон», который уполномочивал правительство единолично принимать имеющие законную силу постановления в области правовой, экономической, финансовой и социальной политики. С наделением кабинета чрезвычайными полномочиями, которые правительство потребовало для организации оборонительной борьбы в оккупированной области, рейхстаг в значительной мере сам исключил себя из числа законодателей. Позиции Куно укрепились, хотя одновременно усилилась критика его политики: с начала марта социал-демократы публично осуждали нежелание рейхсканцлера подать оккупационным властям знак готовности к переговорам. Федеральный председатель АДГБ Теодор Лейпарт пошел еще на шаг дальше: от федерального комитета своей организации он потребовал приложить все усилия к созданию правительства Большой коалиции, при необходимости во главе с рейхсканцлером Густавом Штреземаном, поскольку, с его точки зрения, только так можно было достичь заключения мира с Францией. Но СДПГ не считала для себя возможным последовать этой рекомендации. Пока левое крыло партии отказывалось от заключения правительственного союза с ДФП, социал-демократы должны были довольствоваться критикой Куно. Добиваться его падения, не беря на себя правительственную ответственность, означало бы проведение безответственной политики, мостившей путь к катастрофе, а следовательно, было немыслимо для СДПГ{191}. Растущее недовольство политикой Куно было обусловлено главным образом тем, что успех пассивного сопротивления становился начиная с весны 1923 г. все более проблематичным. Хотя надо отдать должное — эта политика перечеркнула расчеты союзников, и им не удалось принудить немцев к выплате репараций. Частные предприятия и государственные учреждения оккупированной области работали исключительно в интересах Германии, а Франция и Бельгия на время оказались лишенными даже тех поставок угля, которые подлежали оплате наличными деньгами. Однако в марте-апреле 1923 г. оккупанты стали последовательно осуществлять закрытие шахт и коксовальных заводов, а вскоре и предприятий обрабатывающей промышленности, конфисковали запасы угля и взяли под свое управление железнодорожное сообщение. Рейх был вынужден выплачивать жалованье не только служащим рейхсбана[27], высланным из оккупированной области, но он должен был теперь также представлять кредиты в размере биллионов марок, чтобы угольная промышленность, а также черная металлургия и сталелитейная промышленность могли осуществлять выплаты рабочим и служащим закрытых предприятий. К этим расходам добавились платежи за дорогой импортный английский уголь. С финансовой точки зрения, политика пассивного сопротивления превратила оккупированную область в бездонную бочку. Краткосрочные долговые обязательства рейха выросли с 840 миллиардов марок в ноябре 1922 г. до 8,4 биллиона в апреле и 22 биллионов в июне 1923 г. В январе 1923 г. стоимость в оптовых ценах 2785 марок ассигнациями равнялась одной марке 1913 г., в апреле этот индекс вырос до 5212, в мае — до 8170 и в июне — до 19 385 марок. Стоимость немецкой валюты на мировом рынке, которую рейхсбанку в результате покупок золота и иностранной валюты удалось временно стабилизировать с февраля по апрель 1923 г. на уровне около 21 000 тысячи марок за доллар, упала в мае до 48 000 и в июне — до 110 000 марок за доллар{192}. Своими действиями по поддержанию марки рейхсбанк стремился воспрепятствовать дальнейшему удорожанию жизненно важных по-ставокугля и продуктов питания. Но промышленность и банки не были готовы внести свой вклад в эти действия и подписаться на золотой заем, выпущенный рейхсбанком 12 марта. После неудачи этой акции рейхсбанка стоимость жизни моментально подорожала. Повышение средней заработной платы на 40 % к 1 мая, о чем было достигнуто соглашение между правительством и профессиональными союзами трудящихся, ни в коей мере не могло компенсировать галопирующее обесценивание марки и только озлобило рабочих. Их возмущение нашло свой выход в середине мая в «диком» забастовочном движении, исходившем из Дортмунда, в ходе которого произошли тяжелые столкновения бастующих с полицией и штрейкбрехерами. 23 мая в оккупированной области бастовали уже около 300 000 рабочих. КПГ, поначалу ошеломленная размахом стачечного движения, вмешалась в происходящее только 20 мая. Контролируемый коммунистами стачечный комитет смог в ходе мирного урегулирования конфликта добиться увеличения заработной платы на 52 % и на следующий день объявил забастовку законченной. В ходе беспорядков, сопровождавших забастовку, многие были ранены и более 20 человек погибло. Но не только сторонники коммунистов и синдикалистов пытались добиться своих целей с помощью насилия. 31 марта французская военщина, возможно спровоцированная немецкими националистами, устроила бойню среди рабочих фирмы Круппа в Эссене: 13 человек было убито, 41 — ранен. Однако оккупационные власти обвинили в произошедшем не французских офицеров, а членов правления предприятия и некоторых его служащих. Сам Густав Крупп фон Болен унд Гальбах был осужден в мае 1923 г. к 15 годам заключения и оштрафован на 100 млн марок. Некоторые его служащие получили даже более суровые наказания. Насилие оккупантов стало стимулом к действию для всех общественно-политических сил Германии, которые уже и без этого были готовы перейти на широком фронте от пассивного сопротивления к активному. В марте-апреле 1923 г. диверсионная команда во главе с бывшим командиром фрайкора Гейнцем Гауенштейном, поддерживавшим контакты с руководящими сотрудниками фирмы Круппа, торговой палаты г. Эссена и имперских учреждений, совершила ряд взрывов на железных дорогах в оккупированной области. Одним из командиров этой диверсионной группы был Альберт Лео Шлагетер, радикальный националист и бывший «прибалтиец». 2 апреля Шлагетер был арестован французской уголовной полицией в Эссене. 9 мая французский военный суд в Дюссельдорфе осудил его к смерти по обвинению в шпионаже и саботаже. 26 мая приговор был приведен в исполнение. Расстрел Шлагетера вызвал в Германии бурю протестов. Имперское правительство в своей ноте Пуанкаре выразило официальный протест в связи с тем, что оккупационные суды присвоили себе право действовать помимо рамок немецкой юстиции и даже принимали решения о жизни и смерти немцев. Что касается состава преступления, на основании которого был вынесен приговор, то о нем немецкое правительство узнало только из газет, — говорилось в ноте. Это не соответствовало действительности: группа Гауенштейна готовила свои акции при поддержке министерства рейхсвера и генеральной дирекции Эльберфельд, одного из учреждений имперского министерства транспорта. С еще одним из командиров фрайкоров, Герхардом Росбахом, который в конце 1923 г. был арестован по подозрению в государственной измене, лично говорил сам рейхсканцлер. Такое же одолжение было неоднократно оказано депутату рейхстага Альбрехту фон Грефе, одному из лидеров Немецкой народнической партии свободы, игравшей ключевую роль в проведении актов саботажа. Когда прусский министр внутренних дел Северинг 23 марта 1923 г. запретил эту партию по обоснованному подозрению в подрывной деятельности в Пруссии, Куно жестко отчитал прусское правительство и, помимо этого, выразил сожаление, что оно не выступает с такой же резкостью против коммунистов. Но этот упрек оставался в силе недолго: 12 мая Северингзапретил «Пролетарские сотни» КПГ, обосновав свои действия тем, что уличные патрули рабочих присвоили себе суверенные права государства{193}. В начале лета 1923 г. была предпринята сенсационная попытка навести мосты между крайне левыми и крайне правыми. Карл Радек, эксперт Коминтерна по Германии, 20 июня в своей речи на заседании расширенного Исполнительного комитета Коминтерна в Москве отдал должное «фашисту» Шлагетеру как «мученику немецкого национализма» и «мужественному солдату контрреволюции», который заслужил «честное мужское уважение от нас, солдат революции». «Если круги немецких фашистов, которые хотят честно служить немецкому народу, не поймут смысла судьбы Шлагетера, то тогда Шлагетер погиб зря, и тогда они должны начертать на его памятнике: “Странник в никуда”… Мы стремимся сделать все, чтобы такие мужчины, как Шлагетер, готовые пойти на смерть ради общего дела, были странниками не в никуда, а в лучшее будущее всего человечества, чтобы их горячая бескорыстная кровь лилась не за прибыли угольных и железных баронов, но была пролита за дело великого трудящегося немецкого народа, являющегося звеном в цепи семьи народов, борющихся за свое освобождение… Шлагетер больше не может услышать эти слова. Но мы уверены, что сотни шлагетеров услышат и поймут их». Речь Радека о Шлагетере была попыткой отделить националистические массы от их вождей и превратить в социально-революционные силы. В другом своем докладе все на том же заседании Радек подчеркивал: «Национализм, который был раньше средством усиления буржуазных правительств», является «теперь средством усиления существующей капиталистической разрухи». То, что сегодня называют немецким национализмом, на деле выступает «не только национализмом, но и широким народным движением большого революционного значения. Широкие массы мелкой буржуазии, массы технической интеллигенции, которые будут играть большую роль в пролетарской революции благодаря тому факту, что они подверглись пролетаризации при буржуазной системе, все эти подавленные, деклассированные, пролетаризированные массы выражают свое отношение к капитализму, который их деклассировал, в форме национального возмущения». Немецких коммунистов не потребовалось обращать в новую веру и заставлять перенимать «национал-большевистскую тактику», рекомендованную Радеком. Уже 17 мая ЦК КПГ потребовал от членов партии, чтобы они объяснили «введенным в заблуждение националистическим мелким обывателям», которые в настоящее время поддерживают фашистов, «что они только тогда смогут защитить себя и будущее Германии, если они объединятся в борьбе против собственной буржуазии. Путь к победе над Пуанкаре и Лушером лежит через победу над Круппом и Штиннесом». После московской речи Радека авторитетные немецкие коммунисты предприняли несколько целенаправленных попыток привлечь в свои ряды сторонников из числа последователей правых радикалов. «Роте Фане» открыла свои страницы для обмена мнениями между «народническим» писателем и будущим депутатом рейхстага от НСДАП графом Эрнстом фон Ревентловым и членом ЦК КПГ Паулем Фрёлихом. Другой член коммунистического руководства, Герман Реммеле, в начале августа 1923 г. на собрании в Штутгарте, посещавшемся как коммунистами, так и нацистами, подверг нападкам еврейских скототорговцев, покупавших скот за любую цену, в то время как на долю штутгартских мясников ничего не оставалось. Рут Фишер, сама по происхождению полуеврейка, на собрании в Берлине в конце августа сделала антисемитам еще более щедрые авансы. «Господа, тот, кто выступает против еврейского капитала, тот уже является классовым борцом, даже если он об этом не догадывается», — заявила она согласно сообщению, опубликованному в «Форвартс». «Они против еврейского капитала и хотят уничтожить биржевых дельцов. Так и надо. Задайте жару еврейским капиталистам, вздерните их на фонарях, раздавите их. Но позвольте спросить Вас, господа, как Вы, в свою очередь, относитесь к крупным капиталистам, к Штиннесу и Клёкнеру?.. Только в союзе с Россией, уважаемые господа из “народнического” лагеря, немецкий народ сможет выгнать французский капитализм из Рурской области»{194}. Своими национал-большевистскими призывами Коминтерн реагировал на развитие политической ситуации, наметившееся с начала мая 1923 г.: становилось все более очевидным, что Германия не сможет долгое время проводить политику пассивного сопротивления. Именно в этом смысле Москва оценила немецкую ноту от 2 мая, в которой правительство Куно в первый раз от своего имени сделало союзникам конкретные предложения по урегулированию репарационной проблемы: выплата в общей сложности 30 миллиардов золотых марок по истечении четырехлетнего моратория или, если союзная сторона не согласится с этим предложением, Германия заявляла о своей готовности подчиниться решению экспертной комиссии. Если Германия действительно подчинилась бы французскому диктату, то соотношение сил в Европе изменилось бы не в пользу Советского Союза: в этом случае Москва утрачивала свой буфер против империалистических держав Запада, которые могли бы вновь попытаться аннулировать результаты Октябрьской революции. Коминтерн подозревал в агрессивных намерениях в первую очередь Великобританию, которая 8 мая 1923 г. в результате инцидента на побережье вблизи Мурманска направила СССР нелицеприятную ноту, так называемый «ультиматум Керзона». 13 мая 1923 г. британское правительство отклонило немецкую ноту от 2 мая, назвав ее «большим разочарованием». Советское руководство и Коминтерн усмотрели в этом сигнал к предстоящему сближению между Лондоном и Парижем. Неоднократные призывы к пролетарским и «мелкобуржуазным» массам Германии, не дать поставить себя на колени перед Францией и вступить в борьбу с Антантой, служили первоочередной цели: сблизить Германию с Советским Союзом и тем самым сорвать предполагаемые стратегические планы западного капитала{195}. Английская реакция на немецкую ноту от 2 мая означала для правительства Куно тяжелое внешнеполитическое поражение. Вместо того, чтобы вогнать клин между союзными державами, Берлин содействовал сближению Парижа и Лондона. Но при трезвом рассмотрении такой результат не должен был вызывать удивления. Условие, которое имперское правительство связало с возобновлением переговоров — вывод французских и бельгийских войск из оккупированной области — было не только вызовом, брошенным Франции, но и должно было расцениваться министерством иностранных дел Великобритании, которое имперский кабинет недвусмысленно подталкивал взять на себя политическую инициативу в решении репарационного вопроса, как выражение немецкой надменности и высокомерия. После того как была обнародована ответная британская нота, правительство Германии могло только попытаться купировать внешне- и внутриполитический урон. В первую очередь необходимо было конкретизировать лишь только пока намеченные обеспечения и гарантии, которые Германия могла бы предоставить союзникам. Для этого Куно была необходима поддержка промышленности. Первая попытка рейхсканцлера добиться от предпринимателей заверения в том, что они принципиально готовы содействовать выплате репараций, потерпела неудачу 5 мая из-за вето, наложенного Гуго Штиннесом. Ответ Имперского союза немецкой промышленности на вторую попытку, предпринятую Куно спустя десять дней, был обнародован 28 мая 1923 г. Имперский союз теперь заявлял о своей готовности дать требуемые гарантии, но связывал с этим определенные предварительные условия: государство не должно было вмешиваться в частное производство и распределение товаров, отменить еще оставшиеся законы, регулировавшие экономику в военное время и устанавливавшие государственный капитализм, допустить тарифнодоговорные исключения из закона о восьмичасовом рабочем дне и освободить экономику от непроизводительных выплат в виде завышенной заработной платы. Каки во время «кредитной акции» осени 1921 г., промышленники снова попытались подчинить государство своему диктату. Требование предпринимателей на деле сводилось к меновой сделке: согласие на учет и обложение материальных ценностей взамен отказа от социальных достижений революции и возврата к манчестерскому либерализму. Ответ профсоюзов всех направлений — свободных, христианских и либеральных — был соответствующим. В совместном письме к рейхсканцлеру от 1 июня 1923 г. они констатировали, что промышленники хотят вести переговоры с государством в качестве независимой силы и выставляют требования там, где речь идет о выполнении их гражданских обязанностей перед государством. Реализация требования об устранении государства из экономики приведет к восстановлению положения вещей восьмидесятилетней давности. «Это означает, что единственным приводным двигателем экономики снова станет только стремление к прибыли, а соображения общественной пользы будут полностью забыты. Мы не можем вести переговоры об отказе от восьмичасового рабочего дня, об отмене всех ограничений в области увольнения работников и о других аналогичных требованиях Имперского союза», — утверждали профсоюзы{196}. В итоге кабинет Куно оказался перед едва ли разрешимой дилеммой: если бы он выступил против требований промышленников, он потерял бы поддержку «экономики», а если бы он принял их, то настроил бы против себя все рабочее сословие. Решение, которое выбрал Куно, наделе не было выходом из ситуации: поскольку он не дистанцировался от программы промышленников, с этого момента он больше чем когда-либо считался канцлером предпринимателей. 30 мая президиум социал-демократической фракции рейхстага пообещал профсоюзам полную поддержку в их борьбе против ликвидации социальных достижений. Примерно в это же время Куно пришел к осознанию того, что в рейхстаге он может опереться только на Немецкую народную партию. Но и новый немецкий меморандум от 7 июня 1923 г., который в своих основных чертах повторял ноту от 2 мая, конкретизировав предложенные гарантии, не принес правительству Германии облегчения. И хотя он был дружелюбно принят в Лондоне и Париже, из Франции прозвучал старый ответ: прежде чем речь зайдет о переговорах, Германия должна отказаться от пассивного сопротивления без всяких «если» и «однако». Стало ясно, что немецкая нота от 2 мая потерпела фиаско не только из-за неудачных действий правительства рейха, но и по причине решимости Пуанкаре принудить Германию к безоговорочной капитуляции. К этому в Германии не был готов никто. Даже Свободные профсоюзы, которые с апреля 1923 г. сильнее, чем все другие общественные группы выступали за переговоры с оккупационными властями, не хотели подвергнуться опасности стать жертвой новой легенды об ударе кинжалом в спину. Так как капитуляция перед Пуанкаре могла повлечь за собой потерю Рейнской области, то можно было быть уверенным в губительной реакции общества на те действия и те силы, которые приведут к подобному исходу. Уже по этой причине для социал-демократов и профсоюзов даже не могло идти речи о безусловном подчинении требованиям Парижа. 31 мая в Кёльне доверенные лица СДПГ и АДГБ из оккупированной области вместе с представителями берлинского руководства социал-демократии выразили свою решимость продолжать пассивное сопротивление с прежней энергией и после начала переговоров. Отсюда рейхсканцлер мог сделать вывод, что его положение еще не подвергается непосредственной угрозе: пока Германия не была готова признать свое поражение, любой другой канцлер не имел шансов на успех. Следовало также учитывать, что социал-демократия по-прежнему не могла преодолеть свои сомнения в отношении Большой коалиции. Именно недостаток последовательности у его критиков временно давал Куно возможность оставаться у власти{197}. Летом 1923 г. инфляция установила новый рекорд. Обменный курс марки понизился со 110 000 марок за один доллар в июне до 4,6 млн — в августе. Оптовые цены по сравнению с 1913 г. выросли в июне в 19 400 раз, в августе в 586 000 раз. Краткосрочные долговые обязательства рейха увеличились с 22 биллионов в июне до 1196 биллионов в августе. Индексация заработной платы и жалованья все еще далеко отставала от размеров потери маркой покупательной способности: забойщики и откатчики в Рурской области получали в июле 1923 г. 47,6 % от их реальной средней еженедельной платы 1913 г. Что касается печатников, то эта цифра составляла только 36,6 %. В ожидании денежной реформы многие фермеры отказывались продавать свою продукцию, что кое-где побуждало рабочих выкапывать картофель на полях, т. е. попросту красть его. В середине июля 1923 г. один из ведущих функционеров Немецкого союза металлистов в оккупированной области выступил с предостережениями о «деморализации рабочего класса, которая повлечет за собой самые худшие последствия». В свою очередь, меморандум, очевидно, родившийся в недрах министерства государственных имуществ в конце июля 1923 г., содержал вывод о том, что марка утратила свое значение в качестве мерила стоимости и возмещения: «Во всех кругах общества, которые не обеспечены запасами продовольствия, царит отчаянное настроение… С помощью полиции временно удалось предотвратить серьезные мятежи. Но если обмен между городом и деревней прекратится, и города не будут обеспечены необходимым продовольствием, то в будущем этого сделать уже не удастся. Надо, скорее, опасаться не большого политического протестного движения необеспеченного городского населения, а наступления в городах борьбы всех против всех за кусок хлеба и того, что для поддержания порядка в собственных областях отдельные части рейха начнут действовать самостоятельно, что приведет к распаду государства. Государство, которое больше не в состоянии предотвратить полный упадок своей национальной валюты и объявляет себя банкротом, которое не в состоянии придать выпускаемым им деньгам хоть какую-нибудь покупательную силу, обречено утратить последний авторитет без остатка и в конце концов потерять свое право на существование»{198}. Чрезвычайная ситуация лета 1923 г. предоставила коммунистам уникальные шансы. Хотя национал-большевистские лозунги не находили отклика среди «мелкой буржуазии», но тем не менее было очевидно, что отчаянное положение широких рабочих масс пополнило лагерь КПГ новыми сторонниками. Оглядываясь назад, Артур Розенберг даже полагал, что КПГ «без сомнения» пользовалась летом 1923 г. поддержкой большинства немецкого пролетариата. Конечно же, это было преувеличением. Однако наблюдался бесспорный прирост голосов, отданных за коммунистов в ходе выборов производственных советов предприятий и делегатов профсоюзных съездов, депутатов городских собраний и ландтагов. Так, в Мекленбурге-Стрелице, где в 1920 г. за СДПГ проголосовали 25 000 избирателей, за НСДПГ — 2000, а КПГ вообще не принимала участия в выборах, в ходе очередных выборов в ландтаг коммунисты разом получили 11 000 голосов, в то время как в поддержку объединенных социал-демократов было подано только около 12 000. Во время выборов делегатов на профсоюзный съезд Немецкого союза металлистов 23 июля 1923 г. большинство голосов получила коммунистическая оппозиция. Число членов КПГ выросло с сентября 1922 по сентябрь 1923 г. с 225 000 до 295 000, а количество их местных групп — с 2500 до более чем 3300{199}. В стачечном движении лета 1923 г. КПГ приняла самое живое участие, хотя в большинстве случаев она только подключалась к забастовкам, объявленным профсоюзами. Только в портовых городах — Гамбурге, Бремене и Эмдене — КПГ была инициатором забастовок моряков. Зато попытки коммунистов привязать к себе безработных провалились. Зачастую демонстрации безработных заканчивались разграблением магазинов, что регулярно вынуждало КПГ осторожно дистанцироваться от подобного рода эксцессов{200}. 11 июля 1923 г. руководство КПГ выступило с заявлением об угрозе тщательно подготовленного фашистского восстания. Действительно, летом 1923 г. в правых кругах Мюнхена разрабатывались планы провозглашения Баварской директории, в которую должны были войти регирунгспрезидент Верхней Баварии Густав фон Кар, мюнхенский полицай-президент Эрнст Пёнер и фюрер НСДАП Адольф Гитлер, но о каких-то конкретных планах путча или восстания к этому моменту речь не шла ни в отношении Баварии, ни в отношении всего остального рейха. Тем не менее КПГ потребовала от своих сторонников подавить фашистское восстание, противопоставив белому террору красный террор. «Если вооруженные до зубов фашисты убивают пролетарских борцов, то пролетариат, в свою очередь, должен беспощадно уничтожить всех фашистов. Если фашисты ставят к стенке каждого десятого из бастующих, то революционные рабочие должны поставить к стенке каждого пятого из фашистов». День антифашиста 29 июля должен был послужить доказательством того, что коммунисты могут мобилизовать больше сторонников, чем националисты и фашисты. Но яростный язык коммунистических призывов сыграл с КПГ плохую шутку: следуя рекомендации имперского правительства, почти все федеральные земли, за исключением Тюрингии и Бадена, запретили намеченные на этот день демонстрации. Руководство КПГ не хотело ни подчиниться без борьбы, ни рисковать тем, что его сопротивление закончится кровавой бойней. Брандлер выступил с предложением провести уличные демонстрации только в пролетарских твердынях Рурской области, Верхней Силезии и провинции Саксония. Рут Фишер также настаивала на демонстрации в Берлине. Окончательное решение было принято в Москве. Радек, который предвидел поражение, аналогичное марту 1921 г., если КПГ будет искать конфронтации с полицией, по договоренности с генеральным секретарем ЦК РКП(б) И.В. Сталиным рекомендовал партии придерживаться осторожной политической линии. Вследствие этого 29 июля коммунистические акции прошли без каких-либо существенных инцидентов. КПГ расценила «День антифашиста» как свой большой успех: миллионы рабочих выразили доверие своему руководству, говорилось в заявлении ЦК КПГ от 31 июля. Что касается националистических масс, то партия постаралась привлечь их на свою сторону призывами, которые трудно было превзойти по степени воинственности: «Если все мирные средства не принесут результата, мы сможем собрать такую силу, которая посредством революционной войны будет победоносно противостоять чужеземному угнетению и капиталистической эксплуатации Антанты». 5 и 6 августа ЦК КПГ подкрепил лозунги ведения антиимпериалистической войны призывом, в котором заключалось требование объединения сил национального освобождения и классовой борьбы под пролетарским руководством. После этого, как утверждалось в призыве, немецкое рабоче-крестьянское правительство незамедлительно заключит с Советским Союзом оборонительный и наступательный союз, а вместе с Красной армией справится как с иностранными, так и с местными капиталистическими эксплуататорами. КПГ отнюдь не делала тайны из того, что ожидало последних. «Столкновение двух сил, фашистской буржуазии и единого пролетарского фронта в кровавой гражданской войне» ЦК КПГ назвал «неизбежным»{201}. Спустя несколько дней социальный кризис в Германии принял драматический характер. 8 августа 1923 г. Союз печатников в Берлине, входивший в состав Свободных профсоюзов, принял решение объявить забастовку начиная с 10 августа, если не будет увеличена зарплата печатников. АДГБ попытался предостеречь от участия в забастовке рабочих имперской типографии, которая в том числе печатала денежные знаки, но безрезультатно. Печатный пресс бездействовал только один день, 10 августа, но это сразу же привело к ощутимой нехватке бумажных денег. Забастовка рабочих имперской типографии была делом рук КПГ, которая тотчас же поняла, какой рычаг она заполучила в результате стачки печатников. С помощью «революционных производственных советов» коммунистам также удалось привлечь к участию в забастовке рабочих электростанций, строительных рабочих и служащих Берлинского транспортного общества, а в некоторых районах Берлина — также и персонал больниц. В ходе консультаций, которые Берлинская профсоюзная комиссия провела 10 августа с СДПГ, КПГ и «охвостьем» НСДПГ[28], Рут Фишер потребовала объявления трехдневной всеобщей забастовки. Вероятно ее предложение было бы принято, если бы председатель СДПГ Отто Веле не сообщил собранию, что имперское правительство дало свое обещание организовать импорт продуктов питания на сумму в 50 млн золотых марок, который в виде займа финансировала немецкая экономика, а также провести новые мероприятия по поддержанию марки. Кроме того, рейхстаг практически единодушно, в том числе голосами коммунистов, принял закон о повышении налога на доходы и корпорации (так называемый чрезвычайный налог во имя спасения Рейна и Рура), что в скором времени должно было оказать позитивное воздействие на развитие экономики. Вслед за этим предложение Рут Фишер было отклонено. Но руководство КПГ не хотело мириться с этим поражением. 11 августа общее собрание революционных производственных советов Большого Берлина призвало к проведению всеобщей забастовки с целью свергнуть правительство Куно. Попытка «Роте Фане» опубликовать призыв коммунистических производственных советов потерпела неудачу: в соответствии с декретом рейхспрезидента от 10 августа периодические издания, призывавшие к насильственному изменению существующего строя или выступавшие каким-либо образом за применение насилия и нарушение общественного порядка, подлежали закрытию. Партийный орган КПГ стал первой газетой, конфискованной вслед за этим 11 августа. Но, несмотря на это, «забастовка против Куно» ширилась в столице и захватывала также другие города и области, такие как Гамбург, Лаузиц (Лужица), прусскую провинцию Саксония, а также федеральные земли Саксонию и Тюрингию. В оккупированной области рабочие не бастовали, продолжая оказывать «пассивное сопротивление». Бастовавшие рабочие-коммунисты занимали фабрики, изгоняли с них заводское начальство. На некоторых предприятиях были сооружены виселицы, на которых повесили соломенные куклы с надписями: «То же самое будет с хозяевами фабрик, если они в течение 24 часов не выполнят наши требования»{202}. «Забастовка против Куно» была недолгой, но в целом увенчалась успехом, поскольку 12 августа ее главный адресат подал в отставку с поста рейхсканцлера. Непосредственным поводом для такого шага послужило решение, принятое социал-демократической фракцией рейхстага днем ранее. В специальном сообщении говорилось, что, принимая во внимание «тяжелую внешне- и внутриполитическую ситуацию», СДПГ считает необходимым «иметь правительство, опирающееся на поддержку широких масс и пользующееся их доверием», которое будет более сильным, чемнынешний правящий кабинет. Правительство Куно социал-демократы не считали способным соответствовать вышеназванным условиям. В свою очередь, решение СДПГ было вызвано предложением коммунистов о вынесении правительству вотума недоверия, с которым те выступили 10 августа. Принимая во внимание новую волну забастовочного движения, социал-демократические лидеры видели только одну альтернативу хаосу: вступление их партии в правительство Большой коалиции. Против такого союза незадолго до того, 29 июля на конференции в Веймаре, высказались 30 депутатов левого крыла СДПГ во главе с Паулем Леви, которые вместо этого потребовали, «по возможности», сотрудничества с коммунистами. Однако теперь, когда социальный кризис грозил принять революционные черты, большинство социал-демократической партии не было готово и далее принимать во внимание требования крайне левых. Уже 10 августа 1923 г., в первый день «забастовки против Куно», Рудольф Гильфердинг, сам вышедший из рядов НСДПГ, стал оказывать давление на Густава Штреземана с целью заключения правительственной коалиции с социал-демократами. Предпринимая эти действия, Гильфердинг мог рассчитывать на поддержку своих прусских партийных товарищей Брауна и Северинга, равно как и на помощь председателя АДГБ Лейпарта, а также главного редактора «Форвартс» Фридриха Штампфера и партийного теоретика Эдуарда Бернштейна. В этот же день рейхстаг поддержал старое социал-демократическое требование и принял решение о введении наряду с налогом во имя спасения Рейна и Рура (экстраординарным повышением выплат, начислявшихся на подоходный и корпоративный налоги) также производственного и сельскохозяйственного налогов, обременявших объекты имущества. Условия, которыми СДПГ обставила на следующий день свое вхождение в правительство Большой коалиции, основывались на этом новом консенсусе. Социал-демократы требовали энергичного осуществления финансовых мер, принятых рейхстагом, а также скорейшего сдерживания инфляции, «золотых» кредитов и подготовки введения золотого валютного стандарта, установления заработной платы, социальных выплат и пособий по безработице со стабильной ценностью, отказа рейхсвера от поддержки всех нелегальных организаций. Далее СДПГ настаивала на «внешнеполитических действиях, направленных на разрешение репарационного вопроса при условии полного сохранения единства нации и суверенитета республики». Однако это требование было сознательно сформулировано в дипломатической форме и не занимало первое место в социал-демократическом перечне. Завершало список требование направить ходатайство о вступлении Германии в Лигу Наций{203}. Между тем отставка Куно была делом рук не только коммунистов и социал-демократов. В предшествующие ей недели недовольство канцлером постоянно росло также и в лагере буржуазных партий. 27 июля авторитетная газета партии Центра «Германиа» выступила с резкими нападками на канцлера, что было всеми истолковано как признак надвигающегося правительственного кризиса. 12 августа «Дойче Альгемайне Цайтунг», близко стоявшая к ДФП и служившая рупором для Гуго Штиннеса, представила Большую коалицию как самый удачный ответ на сложившуюся ситуацию, а Густава Штреземана — как прирожденного главу нового кабинета. Этот взгляд разделяли ДДП и Центр, и только у Баварской народной партии имелось сильное предубеждение в отношении сотрудничества с СДПГ. Немецкая народная партия не стала бы выступать за Большую коалицию, если бы значительная часть предпринимателей не была убеждена в необходимости такого правительственного союза. Большинству крупных промышленников летом 1923 г. было ясно, что с пассивным сопротивлением рано или поздно необходимо будет покончить, а из этого для политически мыслящих деятелей, как, например, Штиннес, следовало, что социал-демократия также должна взять на себя часть ответственности за этот непопулярный шаг. Продолжать раскручивать инфляцию не имело уже никакого смысла, поскольку она больше не приносила пользы даже самым крупным владельцам реальных ценностей, зато служила источником экономического хаоса. Что касается способа стабилизации ситуации, то можно было с уверенностью предполагать, что мнения внутри Большой коалиции серьезно разойдутся. Но в данный момент для предпринимателей ключевым было решение проблемы пассивного сопротивления. Если бы Большая коалиция справилась с этим, то тем самым она бы уже выполнила свою главную задачу{204}. То, что Густав Штреземан в качестве кандидата в преемники Куно был практически вне конкуренции, имело под собой несколько оснований. Самая сильная партия, СДПГ, не была заинтересована в том, чтобы выдвинуть канцлера из своих рядов, поскольку тем самым она еще больше навредила бы единству партии, что она уже и без того сделала, пойдя на правительственный союз с ДФП. С точки зрения СДПГ, было чрезвычайно важно, чтобы именно такой ярко выраженный «национальный» политик как Штреземан, близко стоявший к промышленным кругам, принял на себя ответственность за непопулярные меры по исправлению внешнеполитического курса. Председатель ДФП, урожденный берлинец, которому в мае 1923 г. исполнилось 45 лет, после изучения политической экономии начинал свою карьеру в качестве синдика саксонского Союза промышленников, а потом — члена Президиума Конфедерации промышленников. Он избирался депутатом рейхстага с 1907 г. как национальнолиберальный политик. Во время Первой мировой войны Штреземан был пылким аннексионистом и сторонником Людендорфа, что сильно компрометировало его в глазах левых либералов, сделав невозможным объединение либеральных партий в конце 1918 г. Во время путча Каппа — Лютвица Штреземан и возглавляемая им Народная партия придерживались исключительно оппортунистической тактики лавирования между враждебными лагерями. Но будущее показало, что Штреземан смог извлечь для себя уроки. Он неоднократно выступал за умеренную внешнюю политику и подвиг свою партию, которая еще в 1918 г. выступала за конституционную монархию, к признанию республики как исторического факта и к защите ее от врагов. Повторное заверение в верности конституционному порядку, с которым Штреземан выступил 9 августа 1923 г. в рейхстаге, облегчило социал-демократам согласие на его канцлерство. Среди деятелей центристских буржуазных партий, Центра и ДДП не было никого, кто мог бы превзойти Штреземана в ораторском искусстве и в умении настоять на своем. В августе 1923 г. Густав Штреземан казался им именно тем политиком, который скорее всего был в силах наследовать Куно и победить{205}. 12 августа рейхспрезидент Эберт дал Штреземану поручение сформировать правительство. Спустя два дня тот смог представить свой кабинет. СДПГ делегировала в него четырех министров. Роберт Шмидт, бывший министр продовольствия и экономики, стал вице-канцлером и министром восстановления народного хозяйства. Рудольф Гильфердинг, происходивший из семьи венских евреев и практиковавший после университета в качестве врача, прежде чем создал себе славу одного из ведущих марксистских теоретиков, возглавил финансовое министерство. Депутат рейхстага от Кёльна и редактор «Рейнише Цайтунг» Вильгельм Зольман, один из ведущих политиков правого крыла партии, стал министром внутренних дел, в то время как министерство юстиции отошло к правоведу и знатоку уголовного права Густаву Радбруху, который уже возглавлял его в кабинете Вирта. Министерство экономики было доверено Гансу фон Роймеру, депутату рейхстага от ДФП и одному из архитекторов ЦАГ в 1918 г. Министром транспорта стал Рудольф Ёзер от ДДП, министром почт — политик Центра Антон Хёфле. Свои посты сохранили министр труда Генрих Браунс, член Центра и католический теолог с младых ногтей, беспартийный, но стоящий близко к ДФП министр продовольствия Ганс Лютер и вопреки серьезным возражениям СДПГ министр рейхсвера Отто Гесслер из ДДП. Сам Штреземан также исполнял обязанности министра иностранных дел{206}. Вступление в Большую коалицию вызывало споры среди социал-демократов до последнего момента. 13 августа в ходе голосования во фракции 83 депутата высказались за участие в правительстве, 39 — против. В тот же день 43 депутата, в том числе саксонские социал-демократы и бывшие независимые, открыто объявили себя противниками новой коалиции и потребовали вступить в борьбу с буржуазией вместо того, чтобы заключать союз с крупным капиталом. Диссиденты от социал-демократии не участвовали в голосовании о вотуме доверия коалиционным партиям, которое состоялось 14 августа после представления Штреземаном правительственной декларации, за исключением двух человек, проголосовавших против. С аналогичным афронтом выступили 12 «буржуазных» депутатов правого крыла ДФП, сгруппировавшиеся вокруг синдика эссенской торговой палаты Рейнольда Кватца, демонстративно покинувшие собрание перед началом голосования. В общей сложности голосование проигнорировали соответственно около трети депутатов от СДПГ и ДДП. В поддержку правительства высказались 240 депутатов от четырех коалиционный партий — СДПГ, Центра, ДДП и ДФП; 76 делегатов — коммунисты, немецкие националисты, немецкие «народники», два члена «охвостья» НСДПГ и два социал-демократа — голосовали против; 25, в том числе депутаты от БФП, воздержались{207}. Вступление социал-демократов на уровне рейха в первое правительство Большой коалиции оказало на рабочие массы умиротворяющее воздействие: в следующие дни повсеместно закончились забастовки и рабочие приступили к работе. Таким образом, КПГ добилась «забастовкой против Куно» результата, обратного желаемому. Социальные беспорядки не перешли в стадию революционного кризиса, зато они открыли путь для политического решения в рамках парламентской системы. Большинство рабочих, очевидно, все еще поддерживало социал-демократов и не было готово участвовать в том общественном и политическом перевороте, для которого Германия, по мнению коммунистов, якобы уже почти созрела. В соответствии с этой оценкой ЦК КПГ заявил 14 августа, что образование Большой коалиции означает только смену лиц, но не курса. «Старая обанкротившаяся политика коалиций и классового сотрудничества теперь проводится при открытом участии социал-демократии. Новые катастрофы неизбежны. Очередной крах является вопросом недалекого будущего»{208}. Отклик, который действия нового правительства Штреземана нашли справа, был едва ли более дружелюбным, чем слева. Особенно враждебными были комментарии из Баварии, которой при Куно никто не помешал фактически отменить ненавистный закон о защите республики и которая теперь стала испытывать страх за утрату своего особого положения в качестве «образцовой ячейки порядка». Эдуард Гамм, депутат рейхстага от ДДП и статс-секретарь рейхсканцелярии при Куно, писал 16 августа 1923 г. из Мюнхена, что подавляющее большинство населения Баварии расценивает Большую коалицию «не как прогресс, а, скорее, как опасность для национального энергичного государственного руководства из числа сильных личностей и соблюдения баварских политических и экономических интересов, как их понимает большинство баварцев». Особенно непопулярны были новый рейхсминистр юстиции Густав Радбрух, считавшийся сторонником закона о защите республики и приверженцем освобождения от уголовной ответственности за аборты, и политическим адвокатом Феликса Фехенбаха — личного секретаря Курта Эйснера, приговоренного в октябре 1922 г. одним из баварских народных судов к 11 годам заключения, поскольку в 1919 г. вместе с Эйснером он опубликовал конфиденциальные служебные документы о вине Германии в развязывании войны, якобы их сфальсифицировав. Но Бавария была не единственным оплотом оппозиции против правительства Большой коалиции. В середине сентября из Рурской области поступило сообщение одного из сотрудников Имперского центра службы Родине[29], предшественника сегодняшнего Федерального центра политического просвещения, в котором утверждалось, что националистические инстинкты овладели не только сторонниками немецких «народников» и немецких националистов, но и дошли вплоть до кругов Народной партии. «Все представляется таким образом, что мы еще долго будем в состоянии вести оборонительную борьбу, если только сегодня, как ив 1918 г., нас не предаст (если уже не предало) и не продаст (если уже не продало) еврейское правительство. Гильфердинг, австрийский еврей, и Штреземан, полуеврей (на самом деле не Штреземан, а, скорее, его жена была еврейского происхождения. — Г. В.) не имеют никакого понятия о национальном достоинстве и чести немецкого имени». То обстоятельство, что СДПГ 14 августа 1923 г. вновь вошла в правительство рейха, оказало провоцирующее действие на те «национальные» круги, которые видели в якобы надпартийном кабинете Куно шаг в правильном, а именно в авторитарном, направлении. С пропагандистской точки зрения Большая коалиция имела для радикальных правых свои преимущества. Тот, кто искал козлов отпущения за поражение в Рурском конфликте, находил их, как это уже было в конце мировой войны, среди левых политиков, прежде всего среди евреев. Рудольф Гильфердинг, занимавший в качестве министра финансов самый непопулярный пост в правительстве Штреземана, был для антисемитов идеальной мишенью: против еврея-марксиста из Вены была развязана такая кампания, которая едва ли уступала в своей ненависти нападкам на Вальтера Ратенау{209}. Но далеко не только социал-демократы и профсоюзы выступали летом 1923 г. сторонниками быстрого прекращения пассивного сопротивления. Еще более усиленно точку зрения о бесперспективности борьбы за Рур проповедовали ведущие немецкие предприниматели. Так, к примеру, Отто Вольф, совладелец концерна «Феникс», вел во второй половине августа переговоры с генералом Дегуттом, главнокомандующим французскими войсками в оккупированной Рейнской области, об управлении рейнскими железными дорогами и о будущих материальных поставках во Францию. Гильфердинг, напротив, 30 августа предостерегал своих коллег по кабинету, что ослабление пассивного сопротивления крайне опасно, поскольку это может быть воспринято как «предательство рабочих». Когда 7 сентября 1923 г. федеральный комитет ДДГБ принял решение, требовавшее «скорейшего возобновления работы на производствах в оккупированных областях», СДПГ вмешалась и воспрепятствовала публикации этого призыва. Еще 19 сентября один из ораторов социал-демократов заверял на конференции политических партий оккупированной области в Эльберфельде, что «массы профсоюзных и социал-демократических рабочих отнюдь не намерены капитулировать»{210}. Но как бы левые не страшились снова пасть жертвой легенды об ударе кинжалом в спину Германии, они прекрасно осознавали тот факт, что Германия практически исчерпала все свои силы. Без стабилизации марки был невозможен подъем экономики, а ситуация с национальной валютой не могла улучшиться, пока рейх финансировал пассивное сопротивление Рура. Кредиты рейхсбанка, которые позволяли руководству закрытых шахт и заводов и далее выплачивать заработную плату своим рабочим и поддерживать предприятия в технически работоспособном состоянии, служили мощным мотором девальвации. Стремительная утрата деньгами покупательной способности была одной из причин «забастовки против Куно», которая, в свою очередь, еще более усилила инфляцию: для того чтобы подавить социальное возмущение, предприниматели пошли на существенное повышение заработной платы, а 1 сентября они подписали соглашение с профсоюзами, которое привязывало тарифы заработной платы к индексу уровня жизни. В течение следующих недель цены вновь подскочили вверх, во многом из-за индексации заработной платы. За кило ржаного хлеба, которое еще 3 сентября стоило 274 000 марок, 24 сентября надо было заплатить уже около 3 млн марок; за это же время цена за килограмм картофеля выросла с 92 000 до 1,24 млн, за килограмм масла — с 14 млн до 168 млн марок{211}. Представления о путях санации марки серьезно расходились внутри кабинета Штреземана. Единство существовало только в одном: чтобы спасти Германию от голода, необходимо было действовать быстро. Несмотря на хороший урожай; крестьяне и крупные землевладельцы придерживали продукты, чтобы продать их позже, после проведения денежной реформы, за деньги, имеющие цену. Чтобы преодолеть недоверие сельского хозяйства, депутат рейхстага от немецких националистов Карл Гельфферих, приглашенный Гильфердингом выступить с докладом перед правительством 18 августа, предложил министрам в качестве меры стоимости новой марки рожь. Частный валютный банк, идея создания которого также была предложена Гельфферихом, должен был принадлежать на паях промышленности и сельскому хозяйству. Бывший кайзеровский статс-секретарь также потребовал одновременной отмены недавно введенных особых налогов, обременявших индустрию и сельское хозяйство, обосновывая это тем, что промышленность и сельское хозяйство должны будут обеспечить стабильную стоимость «ржаной марки»{212}. Для министра финансов — социал-демократа план Гельффериха был неприемлем. Валютный эмиссионный банк, которым владеют два имущих «профессиональных сословия», означал бы частичную феодализацию государственной власти и дальнейшую подвижку баланса от рабочего класса к предпринимательству. В свою очередь, отказ от только что введенного налогообложения реальных ценностей был бы воспринят рабочими и служащими как целенаправленная провокация. Равным образом невозможным казался Гильфердингу отказ от идеи, согласно которой надежная валюта может основываться только на одном ценностном эквиваленте: золоте. Свой собственный план министр финансов сначала не хотел обнародовать, поскольку считал возможным успешное проведение денежной реформы только после решения проблемы Рура. Но под давлением рейхсканцлера и своих коллег по кабинету он все же в начале сентября внес на их рассмотрение проект, который предусматривал золотое обеспечение марки, самостоятельный золотовалютный эмиссионный банк и ипотечное обременение экономики в качестве основы выпуска банкнот и финансового кредитования рейха. 10 сентября кабинет выразил свое согласие с предложениями Гильфердинга. Но на следующий день рейхсбанк объявил любое вмешательство рейха, позволявшее ему впредь предъявлять требования к рейхсбанку, не имеющим силы. Вслед за этим рейхсбанк готов был также остановить учет казначейских обязательств, выполнявших роль денежных суррогатов. Сравнительно дружелюбнее рейхсбанк воспринял проект Гельффериха, что дало повод рейхсминистру экономики фон Роймеру 13 сентября выступить в поддержку плана политика из рядов немецких националистов. Точно такую же позицию заняли Имперский союз немецкой промышленности и Партия Центра. В свою очередь, кабинет 13 сентября пришел к компромиссному решению между предложениями Гильфердинга и Гельффериха: золотовалютный банк должен был быть создан как можно скорее, но на первый случай необходимо было ввести промежуточное платежное средство, обладающее достаточной ценностью, чтобы быть принятым сельским хозяйством. Этой же линии следовал законопроект, одобренный кабинетом 26 сентября, предусматривавший, как и предлагал Гельфферих, создание банка, опиравшегося на «профессиональные сословия», но государство получало карт-бланш при назначении его президента. В качестве обеспечения валюты, согласно предложению Гильфердинга, выступало золото, а не рожь. Обременение материальных ценностей бизнеса в целом сохранялось, таким образом министр финансов и его политические единомышленники не должны были ощущать себя проигравшей стороной. Этот законопроект был далек от той ясной позиции, которую кабинет занял 10 сентября 1923 г. В итоге промышленность и сельское хозяйство с помощью рейхсбанка смогли добиться корректировок, которые на долгое время поставили под вопрос пропагандируемое Гильфердингом верховенство государства{213}. Аргумент Гильфердинга, согласно которому добиться долгосрочного оздоровления марки было невозможно без решения проблемы Рура, был в конце сентября 1923 г. настолько же неоспорим, как и в первые дни нахождения правительства Штреземана у власти. Когда 23 августа канцлер констатировал в своей речи перед кабинетом, что ввиду прогрессирующей деморализации населения пассивное сопротивление можно будет продолжать только до начала холодов, ему не возразил ни один голос. Присутствовавший при этом министр внутренних дел Пруссии Северингдаже полагал, что о пассивном сопротивлении не может быть речи уже в данный момент: полиция подчинилась оккупационным властям, деловые круги заключили с французами сепаратный мир, а моральный упадок среди рабочего класса оккупированной области настолько силен, что потребуется многолетняя воспитательная работа, чтобы восстановить профсоюзную дисциплину. Штреземан сначала все еще надеялся на британское посредничество в переговорах с оккупантами. Но самое позднее 19 сентября и канцлер убедился в том, что он не может впредь рассчитывать на Лондон: после встречи в Париже между Пуанкаре и Болдуином, новым премьер-министром от партии консерваторов, находившимся у власти с конца мая, из германского посольства в Великобритании пришло известие, что между двумя странами больше не существует принципиальных разногласий. День спустя имперское правительство сделало вывод из очевидного британо-французского сближения: кабинет встал на точку зрения безоговорочной капитуляции и принял решение подготовить представителей оккупированной области, министров-президентов и лидеров партий к неизбежному. С возражениями выступили только немецкие националисты, потребовавшие от правительства объявить Версальский договор утратившим силу. 26 сентября 1923 г. рейхспрезидент и имперское правительство в совместном заявлении, в котором они еще раз выразили свой официальный протест в отношении незаконности оккупации, объявили о прекращении пассивного сопротивления{214}. Отказ от пассивного сопротивления был рискованным предприятием как с внешне-, так и с внутриполитической точки зрения. Имперское правительство могло только надеяться, но не могло быть уверенным в том, что теперь Франция будет готова к переговорам с Германией, пусть даже сначала их предметом выступала бы только ситуация на Рейне и Руре. Одновременно был повод опасаться того, что сепаратисты, которые до этого времени практически не находили опоры среди населения оккупированной области, теперь с французской и бельгийской поддержкой усилят свою активность, чтобы полностью или частично отторгнуть от Германии левобережную часть Рейнской области. И наконец, следовало считаться с попытками переворота со стороны крайне правых и крайне левых, для которых капитуляция 26 сентября была удобным предлогом, чтобы развязать кампанию против правительства Штреземана и стоявших за ним партий. Первый удар по рейху еще 26 сентября приготовилась нанести Бавария. Непосредственно сразу же после объявления о прекращении пассивного сопротивления правительство Вольного государства Бавария согласно статьи 48, пункт 4 конституции ввело чрезвычайное положение и наделило всей полнотой исполнительной власти регирунгспрезидента Верхней Баварии Густава Риттера фон Кара. Перед лицом рейхспрезидента министр-президент фон Книллинг оправдывал этот шаг тем, что в Баварии царило чрезвычайно сильное возбуждение. Чтобы предотвратить «глупости» с «какой-либо стороны», на пост генерального статс-комиссара и был назначен господин Густав фон Кар, поддерживавший «особые отношения» с правыми организациями и, следовательно, имевший на них влияние. Сам Кар, которого «Байерише Статсцайтунг» превозносила как сосредоточие всех патриотических сил Баварии, указал в своем официальном заявлении, что «готов опираться на все круги общества, которые относятся к немецкому племени и готовы честно служить как немецкому отечеству, так и мне лично». Евреи, как недвусмысленно вытекало из этой формулировки, к таким «кругам» не относились{215}. Уже в ночь с 26 на 27 сентября правительство рейха ответило на сепаратистские действия Баварии декретом рейхспрезидента, вводившим военное положение во всем государстве. Декрет ограничивал ряд основных гражданских прав, вводил смертную казнь за такие преступления, как государственная измена, поджог, террористические акты с использованием взрывчатых веществ и повреждение железнодорожных коммуникаций и наделял всей полнотой исполнительной власти министра рейхсвера, который, в свою очередь, мог делегировать ее главнокомандующему. Чисто в правовом отношении баварское правительство должно было бы теперь отменить свое постановление согласно требования рейхспрезидента или рейхстага. Но Штреземан и буржуазные члены его кабинета исходили из того, что Бавария не подчинится такому требованию, и поэтому сочли за лучшее пока вообще не делать никаких представлений Мюнхену в подобном духе. Зато министры социал-демократы в результате такой уклончивой тактики своих коллег оказались в тяжелом положении. Назначение Кара генеральным статс-комиссаром, как выразился 27 сентября рейхсминистр внутренних дел Зольман, стало «серьезным вызовом, брошенным всем республиканским силам». Руководство СДПГ и лидеры ее фракции в рейхстаге в тот же день заявили о «сигнале», который дали правые радикалы в Баварии. Аналогичные акции «“народнических” погубителей народа» могли последовать и в других частях рейха. По этой причине введение чрезвычайного положения во всем рейхе, с точки зрения СДПГ, являлось оправданным. Что касается своего первоначального требования, согласно которому рейх должен был, в свою очередь, потребовать отмены самостоятельно введенного военного положения в Баварии, социал-демократия не могла долго настаивать на нем, принимая во внимание сопротивление буржуазных партнеров по коалиции. 30 сентября министры социал-демократы удовлетворились тем, что поддержали письмо, адресованное баварскому правительству, в котором его просили «разъяснить» правовое положение генерального статс-комиссара и «проверить» возможность отмены баварского декрета о введении чрезвычайного положения. В проекте письма, подготовленном Зольманом вместе со Штреземаном и Гесслером, далее говорилось, что имперское правительство придает большое значение тому, чтобы мероприятия Кара в области гражданского управления «равномерно затрагивали все стороны». Это было не что иное, как вежливая просьба к генеральному статс-комиссару: не мог бы он впредь прекратить так благосклонно обходиться с национал-социалистами, как он это делал в первые дни своего пребывания в должности. Во время заседания правительства 30 сентября рейхсканцлер сам упомянул о ряде происшествий, которые делали необходимым «быстрейшее урегулирование» отношений между рейхом и Баварией. Самым серьезным из них стал отказ Кара осуществлять запрет газеты «Фёлькишер Беобахтер», который был наложен Гесслером как лицом, обладающим в рейхе верховной исполнительной властью. Издававшийся Гитлером орган НСДАП выступил 27 сентября подзаголовком «Диктаторы Штреземан и Сект» с яростными антисемитскими нападками на рейхсканцлера и главнокомандующего рейхсвера: против одного — потому что тот был женат на «еврейке», и против другого — потому что тот был женат на «полуеврейке». Однако все буржуазные министры, за исключением Гесслера, расценили зачитанное рейхсканцлером письмо к баварскому правительству бесполезным и поэтому опасным, а сам министр рейхсвера открыто заявил, что в итоге послание не будет иметь последствий. Его замечание о том, что рейх не может добиваться от Баварии исполнения своих требований с применением войск, обнажило корень проблемы: поскольку рейхсвер не был готов выступить против Баварии, открыто враждебной государственному центру, у рейха не было средств, чтобы принудить Вольное государство Бавария к послушанию. Спустя день после этого признания Гесслера ситуация снова ухудшилась: 1 октября генерал фон Лоссов, командующий войсками рейхсвера в Баварии, которому был отдан соответствующий приказ, отказался запретить «Фёлькишер Беобахтер» без согласия Кара. Это был однозначный случай уклонения от выполнения приказа. Пока Лоссов стоял во главе баварских подразделений рейхсвера, исполнительная власть министра рейхсвера в Баварии существовала только на бумаге. Принимая во внимание все еще действовавший девиз, согласно которому «рейхсвер не стреляет в рейхсвер», провозглашенный фон Сектом во время путча Каппа — Лютвица если не дословно, то именно в таком смысле, не стоило ожидать, что командование рейхсвера применит военную силу, чтобы сместить фон Лоссова{216}. Но помимо нежелания отдавать приказ «войскам стрелять в войска» у фон Секта осенью 1923 г. была еще одна причина, заставлявшая его проявлять терпимость по отношению к Баварии: он считал себя способным сыграть в Берлине туже роль, которую Кар разыгрывал в Мюнхене. В сентябре представители крупного сельского хозяйства, немецких националистов, а временами и Пангерманского союза стали оказывать давление на Секта с тем, чтобы он взял власть в свои руки. Большое значение имело то, что Гуго Штиннес хотел включить главнокомандующего рейхсвером в диктаторскую «директорию», которую он намеревался создать в случае коммунистического восстания. Наряду с Сектом в соответствующих планах все снова и снова в качестве членов этой директории, наделенной чрезвычайными полномочиями, упоминались имена Фридриха Минокса, до начала октября 1923 г. руководившего берлинским отделением концерна Штиннеса, и Отто Видфельдта, бывшего члена дирекции Крупа и в тот момент — посла Германии в Вашингтоне. Мотивы, которыми руководствовался Штиннес, были, как и всегда, экономической природы. С его точки зрения, только авторитарное государство могло добиться отмены социальных достижений ноября 1918 г., в первую очередь восьмичасового рабочего дня, без чего ему казался немыслимым новый экономический подъем Германии. 15 сентября Штиннес пояснил американскому послу Хоутону, что для того, чтобы эти изменения произошли, необходимо найти диктатора, «наделенного силой делать все, что только необходимо. Этот человек должен говорить с народом на его языке, а сам принадлежать к классу буржуазии. И такой человек у нас есть». Подразумевал ли Штиннес тогда Гитлера, остается не совсем ясным. Но очевидно одно — диктатор Штиннеса должен был создать в народе основу популярности будущей директории. Обязательным условием Штиннес считал то, что правые не должны были наносить удар сами, а лишь действовать в ответ на коммунистическое восстание, ожидавшееся в ближайшее время. В противном случае, как он пояснял Хоутону, весь остальной мир будет предубежден в отношении Германии. В Берлине даже ходили слухи, что Штиннес спровоцировал закончившийся жалкой неудачей «местечковый» путч майора Бухрукера в Штеттине, чтобы таким образом предостеречь националистические силы от дальнейших преждевременных попыток переворота{217}. Не только предприниматели, военные и крайне правые политики размышляли осенью 1923 г. о пути выхода из кризиса посредством диктатуры. Высшие представители республики также взвешивали в конце сентября возможность наделения, хотя и временного, военных всей полнотой власти в качестве последнего паллиатива, способного сохранить единство рейха. 22 сентября Эберт и Штреземан обсуждали вместе с Сектом в присутствии министра внутренних дел Зольмана и министра рейхсвера Гесслера возможность передачи всей полноты исполнительной власти рейхсканцлеру с тем, чтобы тот, в свою очередь, наделил ею главнокомандующего рейхсвером. Сект заявил о своем согласии, хотя ему такая форма передачи власти и не казалась оптимальной. Правительственная программа и заявление, которые он вслед за этим коротко набросал, не имели, однако, ничего общего с намерениями рейхспрезидента и правительства: главнокомандующий хотел в качестве канцлера, наделенного чрезвычайными полномочиями, преобразовать Германию в авторитарное сословное государство приблизительно того типа, о котором Бисмарк грезил в 1880-е годы. В то же время Рудольф Гильфердинг считал неизбежным установление диктатуры другого рода. Чтобы не допустить распада Большой коалиции из-за проблемы Баварии, 30 сентября 1923 г. министр финансов выступил с предложением, согласно которому правительство должно было ходатайствовать перед рейхстагом о наделении его полномочиями «самостоятельно принимать все необходимые решения в области политики и экономики, а также переносить заседания рейхстага на более поздний срок. Это единственный путь спасения государства». Министр внутренних дел Зольман на том же заседании правительства заявил, что положение настолько угрожающее, что не обойтись без частичного отступления от правил парламентской демократии. «Признаки надвигающихся беспорядков слева и справа постоянно множатся, — были записаны в протоколе слова Зольмана, — и мы должны опасаться того, что если дело дойдет до насильственных действий, то их последствия будут таковы, что немецкий народ будет отброшен в своем развитии на десятилетия назад. Задача Большой коалиции — спасти народи рейх — может быть выполнена только при условии поддержки широких народных масс. То, что диктаторские меры необходимы, ясно всем. Но для них должна быть найдена форма, которая не повлечет новые тяжелые потрясения»{218}. Опасность коммунистического восстания, из расчета которой исходили все возможные планы установления диктатуры осенью 1923 г., далеко не была химерой, существовавшей только в воображении противников КПГ. Когда речь заходила о попытках переворота со стороны крайних левых, то в первую очередь подразумевалась Саксония. Социал-демократическое правительство меньшинства Цейгнера, зависимое от парламентской поддержки КПГ, предоставило коммунистам такую свободу действий, которую те не имели ни в одном из немецких государств. В первую очередь от этого выиграли Пролетарские сотни — полувоенные союзы, которые с лета 1923 г. все больше и больше переходили к устройству тактических учений на местности, учебным тревогам и овладению стрелковым оружием. Самым ярым противником вооруженных рабочих был генерал Альфред Мюллер, командующий войсками рейхсвера в Саксонии. На неоднократные публичные заявления Цейгнера о нелегальной деятельности военных в связи с «Черным рейхсвером» Мюллер ответил по-своему: в августе 1923 г. он запретил своим офицерам принимать участие в официальных празднествах по случаю Дня конституции в Дрездене и отклонял все дальнейшие попытки саксонского правительства вступить с ним в переговоры как неприемлемое дело для «порядочного солдата». Когда 27 сентября в рейхе было введено чрезвычайное положение, исполнительная власть в Саксонии перешла к генералу Мюллеру. После этого дальнейшее обострение ситуации стало здесь неизбежным. Военное выступление рейха против Саксонии, насколько можно было судить в конце сентября 1923 г., не должно было в отличие от Баварии встретить сопротивление рейхсвера. Ведь в Саксонии дело могло дойти только до борьбы рейхсвера с левыми радикалами, но не до сражения «солдат против солдат». Наряду с Саксонией хорошие возможности для развертывания своей деятельности предлагала коммунистам Тюрингия. Отношения между КПГ и СДПГ в Веймарском ландтаге были куда как более напряженными, чем в Дрездене, и 11 сентября депутаты-коммунисты своими голосами даже способствовали успеху предложения буржуазных партий о вынесении вотума недоверия социал-демократическому правительству меньшинства во главе с Августом Фрёлихом. Однако Пролетарские сотни, давно запрещенные в Пруссии и других федеральных землях, в Тюрингии продолжали существовать беспрепятственно. 27 сентября командующий местными войсками рейхсвера генерал Рейнгард, являвшийся в 1919 г. военным министром Пруссии, был наделен министром рейхсвера Гесслером исполнительной властью. После этого в Тюрингии также наступила фаза острой конфронтации между земельным правительством и военными, и одновременно — сближение между преимущественно левыми социал-демократами и коммунистами{219}. Но решение о коммунистическом перевороте в Германии принималось не в Веймаре, Дрездене или Берлине, а в Москве. Известия о «забастовке против Куно» привело ряд большевистских лидеров в состояние эйфории и дало повод председателю ИККИ Коминтерна Григорию Зиновьеву, проводившему свой отпуск на юге России, 15 августа послать ИККИ следующее указание: поскольку начинается новая и решающая глава в деятельности КПГ и Коминтерна, коммунисты Германии должны подготовиться к приближающемуся революционному кризису. Троцкий расценивал ситуацию похожим оптимистическим образом и тотчас же пригласил обоих депутатов от КПГ в ИККИ, Августа Эндерле и Якоба Вальхера, посетить его во время отпуска на юге России, чтобы более точно информировать о положении в Германии. Следующей важной датой в ходе подготовки немецкой революции стало 23 августа. В этот день состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б), на котором Радек, Троцкий и Зиновьев выступили за революционное выступление КПГ и высказали предположение, что решающие события произойдут в течение следующих недель или месяцев. Сталин был настроен скептически и сомневался в том, что революция произойдет уже осенью 1923 г. На заседании был сформирован комитет, на который возлагалась задача подготовки и руководства коммунистическими выступлениями в Германии. В его состав вошли в том числе эксперт по военной и политической ситуации в Германии Карл Радек и неофициально советский полпред в Берлине Николай Крестинский. На высшего дипломатического представителя СССР возлагалась задача управления денежным фондом, из которого поступали средства на подготовку «немецкого Октября». Неписаный девиз, под которым проходило заседание Политбюро от 23 августа, гласил «Сейчас или никогда!». Лидерами большевиков, в число которых к тому моменту уже не входил тяжело больной Ленин, ситуация в Германии конца лета 1923 г. воспринималась аналогичной ситуации, сложившейся в России летом 1917 г. Внешний и внутренний кризисы обострились настолько, что применение насилия казалось наиболее очевидным выходом из положения. Коммунисты должны были принять решение, кто нанесет первый удар: они или фашисты. В пользу незамедлительных действий свидетельствовали попытки правительства Штреземана, направленные на сближение с Англией, что легко могло стать основой для складывания антисоветского блока. Радек выступал адвокатом новой наступательной тактики очевидно еще и потому, что он был сторонником Троцкого, ярого последователя теории «перманентной революции», и надеялся на то, что после успеха в Германии создателю Красной армии будет легче справиться со своими врагами в лице Зиновьева, Каменева и Сталина. Определенную роль для некоторых действующих лиц в Москве могло сыграть ожидание того, что коммунистическая революция в Германии отвлечет недовольных русских рабочих от их материальных тягот и поможет Советскому Союзу в решении его огромных экономических проблем в будущем. Председатель КПГ Генрих Брандлер имел о шансах немецкой революции гораздо более трезвое мнение, чем руководство Коминтерна. В конце августа или начале сентября 1923 г. он прибыл в Москву, где в ходе длившихся неделями совещаний его, очевидно, убедили занять более оптимистическую позицию. Что касается «левых» — Аркадия Маслова, Рут Фишер и Эрнста Тельмана, — приехавших в Москву вскоре вслед за Брандлером, то их не потребовалось убеждать присоединиться к сторонникам скорого выступления. Зиновьев объявил «22 миллиона немецких рабочих» будущими солдатами Красной армии и не побоялся предсказать, что к ним присоединятся еще «7 миллионов сельскохозяйственных рабочих». Сигналом к революции должно было послужить вступление коммунистов в саксонское правительство. Заняв эту стратегическую позицию, они смогли бы организовать вооружение рабочих. Троцкий хотел, чтобы «немецкий Октябрь» пришелся на совершенно определенную дату — пятую годовщину 9 ноября 1918 г. Но Брандлеру удалось добиться принятия более гибкого подхода к определению даты выступления: революция должна была начаться в конце октября или начале ноября. Первого октября Зиновьев инструктировал ЦК КПГ: коммунисты должны вступить в саксонское правительство, пока «люди Цейгнера» на самом деле готовы защищать Саксонию от Баварии и фашистов. Дальнейшие его инструкции дословно гласили: «Незамедлительно вооружить от 50 000 до 60 000, генерала Мюллера игнорировать. То же самое в Тюрингии»{220}. В то время пока в Москве готовили немецкую революцию, кризис в Германии усиливался. Прекращение пассивного сопротивления не принесло ожидаемого внешнеполитического эффекта: Пуанкаре, как и прежде, отказывался вступить с имперским правительством в официальные переговоры. С другой стороны, кабинет Штреземана отказывался дать согласие на французское требование, согласно которому немецкие чиновники Рура и Рейна должны были присягнуть оккупационным властям. На Руре все более провокационно выступали сепаратисты, которым французские и бельгийские власти оказывали частично открытую, частично тайную поддержку. 30 сентября сепаратисты устроили в Дюссельдорфе большую демонстрацию, в ходе которой произошли кровавые столкновения с немецкой полицией, которая в результате была окружена и разоружена французскими оккупационными войсками. В стычках с сепаратистами принимали участие также нелегальные Пролетарские сотни КПГ. В Дюссельдорфе они сражались якобы даже с использованием ручных гранат. Однако в целом индустриальный район после завершения пассивного сопротивления первое время оставался спокойным. Когда окружное руководство КПГ 27 сентябряпризвало провести однодневную всеобщую забастовку в знак протеста «против правительства Штреземана — Гильфердинга» и «французского империализма и сепаратизма», в ней приняло участие только около половины рабочих коллективов{221}. Обострение внутреннего кризиса в конце сентября можно в большей степени отнести на счет предпринимателей, чем коммунистов. 30 сентября владельцы шахт, свободных от оккупации областей, приняли в г. Унна решение, которое можно трактовать только как целенаправленный вызов, брошенный государству и рабочему классу. Согласно нему с 8 октября продолжительность рабочего дня в горной промышленности должна была быть увеличена с семи до восьми часов, включая время погружения в шахту и подъема из нее. Тем самым должен был быть восстановлен довоенный порядок. И хотя представители тяжелой промышленности и Имперский союз немецкой промышленности уже давно объявили отказ от восьмичасового нормального рабочего дня неизбежным, принятое в Унне решение далеко выходило за рамки этого требования: горнопромышленники фактически потребовали нарушения имперского закона от 17 июля 1922 г., предусматривавшего для горных предприятий семичасовое время нахождения рабочих в шахте. Сверхурочная работа регулировалась, согласно этому закону, тарифными соглашениями. Первоначально Уннское решение не было опубликовано, его только передали правительству, выступавшему фактическим адресатом. Директора шахт едва ли могли рассчитывать на то, что правящие социал-демократы подчинятся давлению со стороны предпринимателей. Все говорит в пользу того, что акция 30 сентября имела своей целью взорвать изнутри кабинет Штреземана. После того как пассивное сопротивление было завершено, Большая коалиция, прежде всего с точки зрения Гуго Штиннеса, выполнила свою задачу: социал-демократы взяли на себя ответственность за необходимое, однако непопулярное внешнеполитическое решение. Что касается больших проблем во внутренней политике, то их можно было решить, как считал по крайней мере самый влиятельный человек среди немецких предпринимателей, только в борьбе с СДПГ{222}. Министры — социал-демократы, в свою очередь, ни в коей мере не были невосприимчивы к идее того, что сверхурочный труд неизбежен, если Германия хотела добиться экономического оздоровления. Они не протестовали, когда их коллега, политик от Центра и министр труда Браунс, 1 октября 1923 г. на заседании совета министров категорически констатировал, что восьмичасовой рабочий день в существующей форме сегодня сохранить невозможно и его необходимо заменить так называемым «предельным санитарным рабочим днем», т. е. повысить производительность труда без нанесения вреда здоровью работников. Социал-демократы также не протестовали, когда Браунс потребовал для горной промышленности введения восьмичасовых рабочих смен, включая время погружения в шахту и подъема из нее, а министр экономики Роймер, в свою очередь, — усиленной защиты жизненно важных предприятий и запрета забастовок сельскохозяйственных рабочих во время уборки урожая. В ответ на это вице-канцлер Шмидт заявил только о целесообразности провести необходимые меры без большой общественной дискуссии. Предложение Штреземана, согласно которому на следующий день на рассмотрение рейхстага должен был быть предложен закон о наделении правительства чрезвычайными полномочиями в финансовой, социальной и хозяйственно-политической областях, нашло поддержку всего кабинета. Ключевое слово «полномочия» впервые прозвучало 30 сентября в ходе дебатов из уст министра труда Браунса и было подхвачено министром финансов Гильфердингом. Министр внутренних дел Зольман также очевидно не в последнюю очередь подразумевал вопрос продолжительности рабочего дня, когда он на этом же заседании кабинета заговорил о «диктаторских мерах». Министры — социал-демократы, очевидно, исходили из того, что их партия в крайнем случае готова взять на себя ответственность за временный отказ от восьмичасового рабочего дня опосредованно, т. е. в результате наделения правительства чрезвычайными полномочиями, но не непосредственно, в результате поддержки нового закона о труде. Таким образом, практиковавшаяся до этого момента коалиционная политика определенным образом аннулировала сама себя: по мнению министров — социал-демократов и кабинета Штреземана в целом, парламентскую систему могло спасти только временное частичное обособление исполнительной власти. Также, как и параллельно обсуждавшиеся планы о временном наделении рейхсвера высшей государственной властью, дискуссия по поводу закона о чрезвычайных полномочиях правительства была знаком того, что Германия тем временем переживала тяжелейший кризис с момента путча Каппа — Лютвица. Но что бы там члены кабинета от СДПГ не считали неизбежным, они ни в коем случае не могли быть уверены в том, что руководство партии и парламентской фракции разделяет их мнение. В ходе межфракционных консультаций утром 2 октября 1923 г. председатель СДПГ Герман Мюллер занял намного более жесткую позицию, чем министры — социал-демократы. От лица партии он выступил с жесткой критикой по баварскому вопросу. Что же касается требований о расширении полномочий правительства, Мюллер не отклонил их с порога, при этом отдельно упомянув, косвенно критикуя своего партийного товарища Гильфердинга, проблему национальной валюты и упущенное время для ее решения. По словам Мюллера, проект закона о наделении правительства чрезвычайными полномочиями неминуемо должен был вызвать возбуждение в обществе: во-первых, из-за вопроса продолжительности рабочего времени, который тогда был совершенно не ко времени, во-вторых, по причине объявленных Браунсом новых правил социального обеспечения безработных. В-третьих, намерение увеличить объемы производства продукции горной промышленности, как указывал Мюллер, должно было встретить возражения, поскольку терриконы и так были переполнены бурым углем. Но настоящей сенсацией переговоров лидеров политических партий утром 2 октября стали не сомнения, высказанные Германом Мюллером, но выступление председателя парламентской фракции ДФП Эрнста Шольца. Он настаивал на радикальном отказе от 8-часового рабочего дня и потребовал, полностью в соответствии с линией немецких националистов, «разрыва с Францией», а также включения ДНФП в Большую коалицию. Требования Шольца отображали действительные настроения в Немецкой народной партии. Между 28 сентября и 1 октября Гуго Штиннесу и его ближайшим единомышленникам, в том числе первому синдику торговой палаты Эссена Рейнольду Кватцу и генеральному директору входившего в состав концерна Штиннеса Немецко-люксембургского горнопромышленного и металлургического акционерного общества Альберту Фёглеру, удалось убедить парламентскую фракцию ДФП поддержать политику, нацеленную на крушение правительства Большой коалиции. При этом внешне все должно было выглядеть так, как будто бы вина за развал кабинета Штреземана лежала на социал-демократах. Но намерения архитекторов развала Большой коалиции простирались гораздо дальше, чем просто отстранение социал-демократов от власти. Конец Большой коалиции должен был стать еще одним этапом на пути к «национальной диктатуре» и обеспечить определенную парламентскую поддержку будущей директории в ее совместных действиях с немецкими националистами. Возврат к парламентской демократии после преодоления кризиса не предусматривался. Таким образом, действия группы под руководством Штиннеса были не чем иным, как заговором против конституционного порядка Веймарской республики. Штреземан, который будучи канцлером лишь изредка мог принимать участие в заседаниях своей фракции, сознательно не был посвящен правыми в их интриги: если бы это зависело от них, то конец Большой коалиции стал бы также концом его канцлерства. Из первых результатов консультаций руководителей фракций 2 октября Штреземан извлек напрашивающиеся сами собой выводы и отказался от выступления перед рейхстагом с правительственной декларацией, которое было запланировано на тот же день. В ходе второго тура переговоров, состоявшихся ранним вечером, Шольц уже больше не требовал совершенно неприемлемого для социал-демократов вхождения ДНФП в правительство. Но во всем остальном прения закончились ничем, и казалось, что падение кабинета Штреземана стало вопросом нескольких часов. На созванном вслед за этим заседании правительства министры социал-демократы еще раз прыгнули выше своей головы, согласившись на предложение по урегулированию вопроса продолжительности рабочего дня, которое больше всего отвечало представлениям Браунса о «максимальном санитарном рабочем дне». Согласно ему, после принятия закона о наделении правительства чрезвычайными полномочиями, в горной промышленности должны были быть введены восьмичасовые рабочие смены под землей, включая время погружения и подъема из шахты, а в остальных отраслях народного хозяйства, связанных с эксплуатацией природных ресурсов, рабочий день повсеместно подлежал увеличению в степени, «не наносящей вреда здоровью». Что касается вопроса Баварии, то здесь достичь сближения точек зрения не удалось. Буржуазные партии стремились избежать конфронтации с Мюнхеном, в то время как социал-демократы, следуя заявлению, сделанному Германом Мюллером в ходе предшествующих партийных консультаций, намеревались внести требование об отмене «баварского» чрезвычайного положения от 26 сентября. В сложившейся ситуации, с точки зрения Штреземана, оставался лишь один выход: «Кабинет должен иметь мужество и при необходимости выйти из-под влияния фракций». Однако обособление правительства за счет наделения его чрезвычайными полномочиями, как его представлял себе канцлер, было достижимо только в том случае, если бы с ним согласились все партнеры по коалиции. В первой половине следующего дня, 3 октября, выяснилось, что добиться такого соглашения не удастся. Социал-демократическая партия отказалась дать зеленый свет решению проблемы продолжительности рабочего дня и прочих социально-политических вопросов путем принятия закона о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий (т. е. посредством декретирования) и настаивала на принятии соответствующих законов рейхстагом. При этом она, очевидно, рассчитывала на то, что в результате внесения поправок ей удастся добиться серьезного изменения правительственных законопроектов. Перед лицом организованного сопротивления буржуазных партий, вызванного этим решением, конец Большой коалиции казался теперь неизбежным. Но министр почт Хёфле от Партии Центра тем не менее видел вероятность достижения еще одного компромисса: существует возможность, заявил он на вечернем заседании кабинета, распространить действие закона о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий на социальную политику в целом, при этом исключив из него вопрос о продолжительности рабочего времени, решение которого должно было стать прерогативой особого закона. Министры — социал-демократы тотчас же заявили о своей готовности поддержать это предложение, к которому тем временем присоединилась ДДП, в своей фракции. В конце концов Штреземан также выразил желание, несмотря на свое большое сомнение в успехе, выступить во фракции ДФП в поддержку предложенного решения. Но министры социал-демократы снова не учли в расчетах свою фракцию: вечером 3 октября 61 голосом против 54 она отказалась поддержать закон о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий в усеченной форме. Ответственность за это поражение министров — социал-демократов не в последнюю очередь несла организация, которая с весны 1923 г. также оказывала давление на Большую коалицию: во время заседания фракции было зачитано решение федерального правления АДГБ, в котором союз высказывался против уступок по вопросу продолжительности рабочего дня. В том же духе выступали Герман Мюллер и президент рейхстага Пауль Лёбе. Те компромиссные аргументы, которые в первую очередь высказывал министр внутренних дел Пруссии и депутат рейхстага от избирательного округа Мюнстера Карл Северинг, уже потому не получили поддержки, что еще до начала заседания фракции стало известно о повторном отклонении ДФП предложения принять особый закон о продолжительности рабочего времени. На ночном заседании кабинета Штреземану оставалось только констатировать поражение Большой коалиции и вслед за этим предложить рейхспрезиденту принять отставку своего правительства. Главная вина за такое развитие событий лежала на его собственной партии, спровоцировавшей поддавлением правого крыла конфликте социал-демократией и не поддержавшей сплоченными рядами своего председателя. Но и СДПГ несла ответственность за такое разрешение правительственного кризиса. Защита восьмичасового рабочего дня, одного из важнейших завоеваний ноября 1918 г., казалась само собой разумеющейся для рабочей партии, а работодатели, в свою очередь, не оставили никаких сомнений в том, что они расценивают вопрос об увеличении рабочего дня в первую очередь как вопрос о власти. Но были также убедительные экономические причины, свидетельствовавшие в пользу временного ослабления действующей регламентации рабочего времени. Ни одна из развитых индустриальных стран не ратифицировала к этому моменту конвенцию Международной конференции по охране труда, принятую в октябре 1919 г. в Вашингтоне и предусматривавшую всеобщее введение восьмичасового рабочего дня. И хотя профсоюзы настаивали, что Германия лучше всего сможет вернуть свою международную конкурентоспособность в результате форсированной рационализации оборудования и производственных процессов, это не лишало силы аргумент предпринимателей, что для этого отсутствует необходимый капитал и именно поэтому рост производительности возможен лишь за счет сверхурочного труда. Первое правительство Большой коалиции потерпело крах, с одной стороны, потому что в самой правой из входивших в него партий имелись силы, стремившиеся заменить парламентскую демократию авторитарным режимом. С другой, потому что самая левая из коалиционных партий в своем большинстве не хотела идти на компромиссы, способные сделать возможным выживание правительства парламентского большинства. Обе правительственные партии — и справа, и слева — испытывали давление со стороны более радикальных конкурентов, которые только и ждали, чтобы нажить политический капитал в собственном социальном лагере, критикуя уступчивость своих более умеренных соперников: коммунисты — на левом, немецкие националисты — на правом крае политического спектра. После того как и слева, и справа партийные резоны взяли верх наддоводами коалиции, парламентский выход из кризиса на ближайшую перспективу стал неправдоподобным. Казалось, что Германия созрела для той или иной для диктатуры{223}. Но 6 октября 1923 г. случилось самое невероятное: нового рейхсканцлера снова звали Густав Штреземан и кабинет, который он возглавил, опирался на партии Большой коалиции. О быстром завершении правительственного кризиса позаботился в первую очередь рейхспрезидент Эберт, который сразу же после отставки правительства поручил Штреземану сформировать новый кабинет. Также свою роль сыграло то, что тогда как немецкие националисты выступали против канцлерства Штреземана, большинство ДФП в отличие от своего правого крыла не было готово способствовать новому поражению своего председателя. В конце концов все партнеры по первой Большой коалиции осознали, что на данный момент не существует альтернативы формированию правительства парламентского большинства и высказались за продолжение сотрудничества. Решающего прорыва лидерам партий и экспертам в социально-политической области удалось добиться в ночь с 5 на 6 октября: они пришли к соглашению о необходимости достижения роста производства и «нового урегулирования закона о рабочем времени при принципиальном сохранении восьмичасового рабочего дня как нормального рабочего времени». На вопрос Штреземана о том, могут ли при необходимости законодательным путем также быть введены восьмичасовые рабочие смены в горной промышленности, был дан единодушный положительный ответ. Компромиссная формула от 5 октября 1923 г. в принципе лишь повторяла то, что за одиннадцать месяцев до того было оговорено экспертами будущей Большой коалиции, в том числе Гильфердингом и Роймером, и нашло свое отражение в репарационной ноте правительства Вирта от 13 октября 1922 г. Предложение Гильфердинга вернуться к этой ноте, высказанное в первые октябрьские дни 1923 г., не было поддержано ни буржуазными министрами, ни социал-демократической фракцией. Одним эти формулировки показались на тот момент слишком далекоидущими, другим — недостаточными. Но спустя пару дней победило понимание того, что недолговечный консенсус ноября 1922 г., с одной стороны, сейчас нельзя превзойти, с другой — он достаточно прочен, чтобы на его основе выстроить новый правительственный союз. Для социал-демократов «принципиальное» признание восьмичасового рабочего дня означало определенный успех, хотя едва ли можно было сомневаться в необходимости, по меньшей мере, частичного ограничения этого социального достижения. СДПГ рассматривала как свою заслугу также то, что вопрос продолжительности рабочего дня не мог быть урегулирован одним махом в результате принятия закона о чрезвычайных полномочиях правительства. Что ж касается самого «чрезвычайного» закона, то переговорщики со стороны социал-демократов дали на него свое ясное согласие. Его принятие, конечно же, означало частичное введение диктатуры, признал перед фракцией Герман Мюллер, но если не будет этой легальной диктатуры, то дело закончится насилием. Ведь предприниматели были достаточно сильны, чтобы отменить восьмичасовой рабочий день и без законодательного урегулирования. Позиция, которую Мюллер защищал 6 октября, была верной и четырьмя днями ранее. Но в эти дни судьба парламентской демократии находилась на острие ножа, и то, что Германия преодолела кризис, не скатившись к диктатуре, отнюдь не было заслугой СДПГ. И хотя социал-демократы могли отнести в свой актив небольшое позиционное завоевание в отношении продолжительности рабочего времени, то их политическое влияние в новом правительстве в целом уменьшилось. Вместо четырех министров СДПГ теперь выставила только трех: Зольмана, Радбруха и Роберта Шмидта. Гильфердинг, чья кандидатура в качестве министра финансов оставалась спорной и для собственных однопартийцев, должен был оставить этот пост, в первую очередь под давлением со стороны ДФП, освободив его для беспартийного, но симпатизировавшего Народной партии Ганса Лютера. Место Роймера в качестве министра экономики, которого предприниматели посчитали слишком уступчивым, занял беспартийный Йозеф Кёт, бывший руководитель Имперского бюро экономической демобилизации. Беспартийным был также преемник Лютера на посту министра продовольствия граф Каниц, его назначение последовало только 23 октября 1923 г. До этого момента он принадлежал к ДНФП, которую также представлял в рейхстаге с момента дополнительных выборов в 1921 г. Каниц был намеренно включен в правительство как доверенное лицо аграриев. По своему составу второй кабинет Штреземана однозначно был правее, чем первый. Спустя неделю после формирования кабинета, 13 октября 1923 г., рейхстаг 316 голосами против 24 при 7 воздержавшихся принял закон о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий, при этом было достигнуто большинство, необходимое для изменения конституции. В соответствии с этим законом правительство Большой коалиции (и только оно) наделялось чрезвычайными полномочиями в финансовой, экономической и социальной областях. Из сферы его юрисдикции был исключен вопрос о продолжительности рабочего времени, а также ограничение пенсий и пособий точно оговоренных групп населения. Столь подавляющее преимущество голосов, поданных за чрезвычайный закон, образовалось в результате действий коммунистов и немецких националистов, которые в напрасной надеже воспрепятствовать необходимому кворуму в две трети голосов покинули зал заседаний перед началом заключительного голосования. С другой стороны, такая массовая поддержка отобразила дисциплинирующий эффект ордера на роспуск парламента, выданного рейхспрезидентом рейхсканцлеру на случай отклонения закона рейхстагом. Кроме того, перед решающим голосованием СДПГ приняла решение об обязательном голосовании «за» всех членов фракции. То обстоятельство, что, несмотря на это, 43 депутата — социал-демократа не голосовали без уважительной причины, из них 31 оправдывали этот шаг в политическом заявлении, отражает внутреннее напряжение, царившее в самой большой из правящих партий. Некоторые из декретов, принятые во время непродолжительного действия «Первого имперского закона о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий», оказали долгосрочное воздействие на социально-экономическую жизнь Германии. Так, 13 октября кабинет принял постановление, подготовившее путь для будущего закона о социальном страховании безработных. Расходы по социальному обеспечению безработных должны были впредь на ⅘ финансироваться на паритетных началах работодателями и рабочими и служащими, а пятая часть — государством. Декрет о сокращении численности персонала от 27 октября 1923 г. предусматривал постепенное снижение числа государственных служащих на четверть (при этом сокращение на 15 % должно было произойти до 31 марта 1924 г. и еще 10 % должны были быть уволены позднее). Не менее спорным и чреватым последствиями был декрет о согласительной процедуре от 30 октября 1923 г., согласно которому государство теперь выступало своего рода главным третейским судьей в тарифных конфликтах. Не дав рейхстагу возможности хотя бы высказаться «за» или «против» по поводу такого решительного вмешательства в экономику, правительство подвело совершенно новую правовую базу под отношения между профсоюзами, объединениями предпринимателей и государством. «Легальная диктатура», которая по воле законодателей была введена только на время, привела к долгосрочным последствиям, которые в последующем с трудом поддавались коррекции{224}. В то время как имперское правительство пыталось преодолеть кризис с помощью декретов, авторитарные правые круги и коммунисты попытались обострить ситуацию. В Баварии Кар и Гитлер оспаривали ведущую роль в правом лагере. Гитлер дал свое согласие и 25 сентября 1923 г. был выбран вождем «Немецкого боевого союза» — головной организации «патриотических союзов». Спустя четыре дня Кар отдал распоряжение подчиненным ему органам власти прекратить исполнение закона о защите республики. Другое мероприятие генерального статс-комиссара было призвано в еще большей степени укрепить его влияние среди крайне правых и прежде всего — среди ближайшего окружения Гитлера: начиная с середины октября из Баварии было выселено значительное число восточных евреев, некоторые из них прожили в Мюнхене многие годы. Когда 20 октября 1923 г. министр рейхсвера Гесслер отдал приказ о смещении командующего войсками баварского рейхсвера фон Лоссова (наконец-то сделав выводы из ставшего совершенно очевидным неповиновения фон Лоссова приказам), генеральный статс-комиссар и баварское правительство приняли решение нанести имперскому центру ответный удар: еще в тот же день фон Лоссов был назначен комендантом Баварии, 7 дивизия рейхсвера была подчинена Вольному государству Бавария «как доверенному лицу немецкого народа», а ее командование было также возложено на фон Лоссова. Не было никаких сомнений в долгосрочных намерениях Кара и его союзников, генерала фон Лоссова и коменданта баварской полиции, полковника фон Зейссера: они не хотели отделения Баварии от рейха, но стремились своими действиями дать сигнал к «походу на Берлин», который должен был триумфально завершиться провозглашением «национальной диктатуры». В этой акции должны были принять участие «патриотические союзы» и национал-социалисты, но только в качестве «пехоты». Роль Муссолини, чей «марш на Рим», состоявшийся годом ранее, окрылял фантазию баварских заговорщиков, отводилась отнюдь не Гитлеру, но первоначально самому Кару, а потом, когда движение должно было выйти на уровень рейха — человеку со схожими убеждениями. В качестве такого мюнхенский триумвират рассматривал кандидатуру главнокомандующего рейхсвером. Скандал 20 октября не внес изменений в эти планы. Сект, правда, настаивал, несмотря на все симпатии, которые он питал к идеям Кара, на законной смене военной власти в Баварии. Помимо этого, в случае с Лоссовым на кону стоял его личный престиж. Таким образом, баварские заговорщики еще никоим образом не могли быть уверены в успехе в Берлине затеянного ими дела{225}. Что касается крайне левых, то все свое внимание они сконцентрировали в октябре 1923 г. на Центральной Германии. 10 октября немецкие коммунисты могли отрапортовать о выполнении поручения, которое за девять дней до этого было им дано председателем ИККИ Коминтерна: они вступили в саксонское правительство, возглавляемое Эрихом Цейгнером. Им не удалось получить вожделенный пост министра внутренних дел, а тем самым — контроль над полицией. Зато министерство финансов и министерство экономики теперь возглавили два ведущих члена КПГ, Пауль Бёттхер и Фриц Хекерт, а председатель КПГ Генрих Брандлер получил важнейший пост главы государственной канцелярии. 16 октября в Тюрингии также было создано коалиционное правительство в составе социал-демократов и коммунистов. Там коммунисты делегировали в правительство Фрёлиха двух министров: Албина Теннера в качестве министра экономики и Карла Корша на пост министра юстиции. Образование левых правительств единого фронта в Дрездене и Веймаре было легальным и стало результатом решения парламентского большинства. Правительства Цейгнера и Фрёлиха также не предпринимали никаких шагов по отношению к имперскому центру, которые можно было бы охарактеризовать как враждебные. В этом отношении кризис в Центральной Германии принципиально отличался от баварского. И тем не менее никто в Берлине не питал сомнений в отношении истинных намерений коммунистов, которые они преследовали, вступив в оба правительства — подготовка вооруженного восстания. Имперский комиссар по надзору за общественным порядком привел в качестве доказательства этого оружие, найденное в Берлине, и разграбление оружейных магазинов в Саксонии. Кроме того, он сообщил, что новый министр финансов Саксонии Пауль Бёттхер потребовал 13 октября на собрании в Лейпциге незамедлительного вооружения рабочих. В тот же день, 13 октября, рейхсвердал свой ответ на образование левого единого фронта в Дрездене: командующий войсками рейхсвера в Саксонии генерал Мюллер, бывший с 27 сентября также носителем высшей исполнительной власти, запретил Пролетарские сотни. Спустя еще три дня Мюллер объявил после консультаций с министром рейхсвера Гесслером, что с этого момента саксонская полиция подчиняется непосредственно армии. Таким образом, саксонское правительство оказалось лишено своего единственного силового инструмента. Карательная акция рейха в отношении Саксонии фактически была успешно осуществлена, хотя формальное решение о ней так и не было принято. Для руководства социал-демократии образование левых правительств единого фронта в Саксонии и Тюрингии стало вызовом, с которым оно еще не сталкивалось. Было совершенно немыслимым, чтобы одна и та же партия могла длительное время входить в правительства рейха и Пруссии вместе с умеренными буржуазными партиями, включая близкую к предпринимателям ДФП, и в то же время управлять вместе с коммунистами двумя крупнейшими средненемецкими федеральными землями. Обе левые коалиции сформировались вопреки воле и несмотря на серьезные предупреждения руководства СДПГ. Однако партийная верхушка не могла запретить подобные альянсы, поскольку устав партии не наделял ее такими полномочиями. Помимо этого, СДПГ должна была учитывать настроения своих сторонников, которые едва ли смогли бы понять, как их партия, входящая в правительство рейха, может воспринимать действия Баварии со всепрощающей мягкостью, в то время как против Саксонии она выступает с беспримерной жесткостью. Когда 15 октября генерал Мюллер выступил с порицанием саксонского правительства, отдавшего без его разрешения распоряжение о вывешивании плакатов с правительственной декларацией Цейгнера, протестовала не только «Форвартс», но и министр внутренних дел Зольман. Штреземан тем не менее смог сослаться на то, что действия генерала Мюллера были заранее оговорены с рейхспрезидентом и получили его одобрение. Кроме того, рейхсканцлер обратил внимание правительства на то, что «если не принять решительные меры, то существует опасность того, что те круги в Саксонии, которые ощущают себя в опасности, обратятся с просьбой о помощи к Баварии. То, что это будет означать гражданскую войну и развал рейха, не нуждается в особенных доказательствах»{226}. Опасность того, что в Саксонии произойдет коммунистическое восстание, которое потом охватит весь рейх, до 21 октября была вполне реальной. На этот день КПГ назначила рабочую конференцию в Хемнице, на которой, в случае если бы настроение депутатов было благоприятным, планировалось провозгласить всеобщую забастовку и дать сигнал к восстанию. Но когда Брандлер потребовал немедленного проведения всеобщей забастовки в качестве ответа на диктатуру рейхсвера, он не получил никакой поддержки. Присутствовавший на конференции министр труда Саксонии социал-демократ Граупе пригрозил выходом СДПГ из правительства, если коммунисты будут продолжать настаивать на своем требовании. Против этого возражений не последовало. Спустя годы Август Тальгеймер с полным правом охарактеризовал реакцию на призыв Брандлера как «похороны третьего класса». Результаты Хемницкой конференции перечеркнули весь запланированный график «немецкого Октября». Руководство КПГ получило возможность убедиться в том, что даже в саксонской цитадели левых коммунисты оказались изолированными внутри рабочего класса. Об удачной всеобщей забастовке на уровне рейха, переходящей во всеобщее восстание, при таких обстоятельствах не стоило даже и мечтать. Не дожидаясь появления Карла Радека, все еще находившегося на пути в Германию, ЦК КПГ сделал из поражения в Хемнице единственно возможный реалистический вывод: от плана выступления рабочих на время отказались. Но пролетарское восстание местного характера все же произошло спустя два дня в Гамбурге. Главная причина выступления, возможно, заключалась в том, что левый партийный округ Вассерканте во главе с Эрнстом Тельманом не хотел следовать осторожному курсу руководства и питал честолюбивые планы сделать Гамбург, а не Саксонию местом рождения немецкой революции. Но и в ганзейском городе рабочие массы отказали коммунистам в поддержке. Названное полицией число — 5000 восставших — было по всей вероятности преувеличено, в то время как твердо установлено, что 23–25 октября в ходе боев в Гамбурге были убиты 24 коммуниста и 17 полицейских. Подавление локального путча подвело кровавую черту под «немецким Октябрем», уже первая попытка осуществления которого закончилась крахом. Ответственность за неудачу несли отнюдь не «оппортунистические силы» во главе с Генрихом Брандлером, как это утверждали начиная с 1924 г. Коминтерн и левые коммунисты. В первую очередь вина за поражение лежит на тех, кто в августе 1923 г. ошибочно оценил шансы на успех немецкой революции и выстроил на этой основе авантюрную стратегию — на ИККИ в Москве и его немецких последователях в руководстве КПГ{227}. В то время как в Гамбурге коммунисты сражались с полицией, рейхсвер полностью подчинил своему контролю Саксонию. Начиная с 21 октября, дня конференции в Хемнице, в Центральную Германию были стянуты войска из различных частей рейха. Несколько полков вошли в Лейпциг, Мейсен, Дрезден и Пирну. Во многих городах, в том числе в Хемнице, дело дошло до перестрелки. Стреляли также в Рудных горах и Фогтланде. Во Фрайберге 27 октября солдаты открыли огонь по демонстрантам, которые не разошлись, несмотря на многократные требования со стороны офицера рейхсвера. В результате среди мирного населения было убито 23 и ранен 31 человек, среди солдат — ранено четверо. Вступление войск рейхсвера в Саксонию последовало без формального решения кабинета Штреземана. 19 октября министры лишь узнали из уст рейхсканцлера, что подразделения рейхсвера концентрируются, чтобы восстановить безопасность в Саксонии и Тюрингии и предупредить активность праворадикальных банд. Только 27 октября имперское правительство приступило в дискуссионном порядке к подробному обсуждению саксонского вопроса. Буржуазное большинство поддержало требование министра рейхсвера Гесслера о назначении гражданского комиссара, который должен был отправлять государственную власть, пока не будет создано правительство без коммунистов. Социал-демократы высказали по этому поводу свои сомнения и порекомендовали предпринять попытку вынудить Цейгнера добровольно уйти в отставку. В конце концов министры пришли к компромиссному решению, которое больше всех поддерживал министериальдиректор Мейснер, доверенное лицо рейхспрезидента: рейхсканцлер должен был в ультимативной форме потребовать от министра-президента Саксонии образовать правительство без коммунистов. В случае, если Цейгнер не подчинится этому требованию, Гесслер в качестве главы исполнительной власти должен был назначить комиссара, который до формирования конституционного правительства обязывался соблюдать интересы федеральной земли. Ультиматум Штреземана, который еще 27 октября был передан Дрездену, указывал на ведение со стороны коммунистов — членов саксонского кабинета министров, в том числе Брандлера, подрывной пропаганды, а также содержал принципиальное утверждение, согласно которому участие коммунистов в правительстве несовместимо с конституционными условиями по причине программных установок КПГ. Ответ Саксонии, своевременно полученный в Берлине 28 октября, был отрицательным: только саксонский ландтаг имеет право освободить правительство от его обязанностей и пока этого не случилось, оно останется на своем посту. На следующий день рейх официально начал карательную акцию в отношении Саксонии. В соответствии с главой 48 имперской конституции рейхспрезидент уполномочил рейхсканцлера лишить постов членов саксонского правительства, а также членов земельных и коммунальных учреждений и наделить соответствующими полномочиями другие лица. Вслед за этим Штреземан назначил имперским комиссаром Саксонии бывшего рейхсминистра юстиции и нынешнего депутата рейхстага от ДФП Карла Рудольфа Гейнце. Поздним вечером 29 октября части рейхсвера под барабанный бой заняли позицию перед зданием дрезденского правительства и принудили министров, якобы угрожая снятым с предохранителя оружием, покинуть служебные помещения. Призыв к всеобщей забастовке, с которым выступило партийное руководство СДПГ и КПГ, остался без ответа. 30 октября Цейгнер официально объявил о своей и одновременно всех министров своего кабинета отставке. В присутствии председателя СДПГ Отто Велса и члена партийного руководства Вильгельма Диттмана социал-демократическая фракция ландтага выдвинула в качестве главы нового, исключительно социал-демократического правительства парламентского меньшинства бывшего министра экономики Альфреда Феллиша. Коммунисты отказались поддержать новое правительство, в то время как ДДП была к этому готова. 31 октября саксонский ландтаг выбрал Феллиша преемником Цейгнера. В тот же день Эберт по ходатайству Штреземана отозвал мандат Гейнце в качестве имперского комиссара{228}. Карательные действия рейха в отношении Саксонии протекали иначе, чем их представлял себе рейхсвер и его министр Гесслер. Очевидно, Штреземан смог убедить Эберта в том, что будет правильным применить в отношении Саксонии другую, гражданскую разновидность чрезвычайного положения, а не ту, которая допускалась декретом от 26 сентября 1923 г. Постановление рейхспрезидента от 29 октября, уполномочивающее рейхсканцлера назначить для Саксонии имперского комиссара, означало провал намерения рейхсвера стать решающим внутриполитическим фактором власти. Тем, как он использовал представленные ему полномочия, Штреземан доказал, что и в экстремальной кризисной ситуации не стоит жертвовать верховенством политики в отношении армии. Если бы Гесслер как субъект исполнительной власти добился осуществления своего намерения и сам назначил имперского комиссара для Саксонии, то операция рейха едва ли закончилась бы уже 31 октября и вряд ли это случилось бы сразу же после выборов социал-демократа министром-президентом. Социал-демократы могли бы предотвратить карательную акцию в отношении Саксонии, если бы им удалось убедить Цейгнера отправить в отставку министров-коммунистов. Если верить сообщению Вильгельма Диттмана, который по поручению партийного руководства вел переговоры с Цейгнером и руководством Саксонии, социал-демократическая фракция дрезденского ландтага была готова 28 октября пойти на разрыв с коммунистами. Исходя из этого еще более странной кажется позиция, занятая 27 октября министрами социал-демократами имперского правительства. Они не настаивали на том, чтобы обсудить как формулировки ультиматума, направленного Цейгнеру, так и его ответ. Но какие бы ошибки ни допустили в своих действиях между 27 и 29 октября партийное руководство и рейхсминистры — социал-демократы, непосредственную ответственность за действия рейха несла саксонская часть СДПГ. Именно ее пакт с коммунистами дал возможность партии, планировавшей насильственный переворот, достичь положения, предоставляющего государственную власть. Формальная законность этого процесса — одно дело. Другое дело — его содержательное значение: рейх имел все основания рассматривать назначение министров-коммунистов как непосредственную угрозу конституционному строю{229}. Насильственное смещение коалиционного правительства в Саксонии вызвало, как и ожидалось, бурную реакцию в стане социал-демократов. Особенно возмущало и руководство, и рядовых членов партии неравное обхождение в случае с Саксонией и Баварией: в то время как Цейгнера выгнали из кресла министра-президента с помощью солдат, Кар продолжал спокойно править. Давление, исходившее от партии, было настолько сильным, что министр внутренних дел Зольман вечером 29 октября уже открыто заговорил в кабинете о конце Большой коалиции. Он и его партийные товарищи, заявил Зольман, не могут нести ответственность за случившееся в Саксонии, особенно за провокационные действия рейхсвера во время смещения саксонских министров. Поэтому они не видят иной возможности, как выйти из правительства. Однако окончательное решение об этом относилось к компетенции социал-демократической фракции рейхстага. Во время фракционного заседания 31 октября 1923 г. произошло жесткое столкновение между сторонниками и противниками дальнейшего участия СДПГ в правительстве. Президент рейхстага Пауль Лёбе, представлявший «левый» избирательный округ Бреслау, высказал мнение, что социал-демократы не могут больше бороться за республику, поскольку трудящиеся массы больше не считают существующую государственную систему достойной защиты. Поскольку капитал, военщина и ростовщики сегодня также сильны, как и при монархии, для социал-демократии остался только один девиз «Назад к чистой классовой борьбе!». Министр внутренних дел Пруссии Северинг, как и 3 октября, бывший самым красноречивым защитником сохранения Большой коалиции, резко выступил против Лёбе. Рейх уже никогда не будет таким, как сегодня. Французы стремятся к созданию Рейнской республики. Если в Германии воцарится правое правительство, то Англия и Америка не будут больше готовы поддержать новые переговоры по проблеме репараций. Если же дойдет до того, что «патриотические союзы» заполучат в свои руки склады оружия, тогда предстоит война с Францией. По этим причинам Северинг заклинал своих товарищей по партии: «Думайте о последствиях!» В конце заседания наметился компромисс: СДПГ выставляла в качестве ее дальнейшего участия в коалиции следующие ультимативные требования: во-первых, она потребует отмены военного чрезвычайного положения, во-вторых, имперское правительство должно выступить с заявлением о том, что оно рассматривает позицию баварских властей как нарушение конституции и незамедлительно предпримет требуемые меры; в-третьих, действия рейхсвера в Саксонии ограничиваются вспомогательными функциями в подчинении гражданским учреждениям. В свою очередь, из рейхсвера должны быть уволены члены праворадикальных организаций. С самого начала было сомнительным, что буржуазные партнеры по коалиции подчинятся социал-демократическому ультиматуму. Преобладающее мнение в правительстве сводилось к тому, что жесткая линия в отношении Саксонии косвенно должна была также способствовать решению баварской проблемы. Выступив против левых радикалов, имперское правительство, следуя этой логике, тем самым выбило почву из-под ног у правого путча, об угрозе которого Штреземан заявил 29 октября. Гесслер пошел еще дальше и без всяких экивоков потребовал 1 ноября от социал-демократов выйти из правительства. «Если это случится, то господин фон Лоссов тотчас же исчезнет». Рейхсканцлер напротив, уже даже по внешнеполитическим причинам, хотел оставить социал-демократов в правительстве. Тем временем налицо была не только упомянутая Северингом готовность англосаксов начать новые переговоры о репарациях, но и первые признаки согласия французской стороны пойти на уступки. Для Штреземана было очевидным, что правительство с участием социал-демократов имеет лучшие шансы достичь компромисса с западными державами, чем буржуазное правительство меньшинства, не говоря уже о правом кабинете. Но и рейхсканцлер был не в состоянии пойти навстречу социал-демократам поважнейшим пунктам их требований. Отмена военного чрезвычайного положения была связана с опасностью того, что праворадикальные союзы под руководством капитана третьего ранга Эрхарда, базировавшиеся на границе между Баварией и Тюрингией, получат тем самым стимул для выступления против «красного» соседа и «похода на Берлин». Открытый разрыв с Баварией Штреземан также не мог поддержать, поскольку это значило бы для него лишиться поддержки рейхсвера. 2 ноября 1923 г. буржуазные члены кабинета Штреземана еще раз обсудили кризисную ситуацию на своем сепаратном заседании. Результат прений был однозначным: условия СДПГ не получили поддержки. Вслед за этим три министра — социал-демократа заявили о своей отставке и тем самым окончательно положили конец Большой коалиции, в которую они вступили 13 августа 1923 г. Эрих Кох-Везер, один из ведущих политиков ДДП, заявил спустя несколько дней, 11 ноября, что социал-демократов «вытеснили из правительства». Это соответствовало действительности, но было лишь полуправдой. Насколько Гесслер и правое крыло Центра и ДФП хотели исключить СДПГ из коалиции, настолько же сами социал-демократы, вступив в Саксонии и Тюрингии в коалицию с коммунистами, нанесли удар по союзу с буржуазными центристами. С 10 октября, момента вступления КПГ в кабинет Цейгнера, было ясно, что впредь речь может идти только о том, какая из двух коалиций рассыплется первой: саксонская или имперская. То, каким образом был положен конец коалиции в Саксонии — путем карательной акции, приказ о проведении которой отдало правительство Большой коалиции — уже было достаточным, чтобы подвергнуть социал-демократов испытанию на прочность. Но в конечном итоге разрыв с умеренными буржуазными партиями стал практически неотвратим из-за политики большинства членов правительства в отношении Баварии. СДПГ должна была считаться с тем, что значительная часть ее сторонников перейдет к коммунистам, а многие из бывших независимых отколются от партии, если рейхсминистры — социал-демократы и далее будут нести ответственность за примирение с режимом Кара. Это соображение привело к тому, что 2 ноября 1923 г. СДПГ вышла из правительства Штреземана. Едва ли хоть кто-нибудь мог предположить в тот момент, что это станет ее прощанием с властью в рейхе почти на долгих пять лет{230}. С концом Большой коалиции правительство Штреземана утратило также и важнейшее основание своей власти: закон о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству, который истекал 31 марта 1924 г., но чье действие могло прекратиться и ранее, если происходила смена имперского правительства или менялся его партийный состав. Для тех политических сил, которые уже давно стремились к диктатуре как способу решения всех кризисов, этот относительный вакуум власти стал подарком небес. Сект уже 24 октября неприкрыто потребовал от Штреземана подать в отставку, заявив о себе как о его преемнике. После того как министры-социалисты покинули правительство, командующий рейхсвером предпринял еще одну попытку осуществить свои планы. Теперь Сект считал, что пробил час «директории». 2 ноября он написал черновик письма потенциальному партнеру по осуществлению этого проекта Густаву фон Кару, в котором он заверил генерального статс-комиссара Баварии в единстве их взглядов и целей и отверг сотрудничество с социал-демократией, потому что та чужда мысли о готовности сражаться за Германию. Что же касается Веймарской конституции, то Сект среди прочего отметил, что она для него «сама по себе не является noli me tangere»[30]. Окончательный вариант письма, отправленный 5 ноября, больше не содержал эту формулировку. Зато в нем по-прежнему присутствовала констатация того, что отказ от конституционных форм таит в себе большую опасность и поэтому к нему следует прибегнуть только в самом крайнем случае. 4 ноября Сект написал, «не только поставив в известность рейхспрезидента, но и согласно его желанию», письмо Отто Видфельдту, послу Германии в Вашингтоне, чье имя уже не первый раз называлось в связи с планами провозглашения директории. Сект не оставил никаких сомнений в том, что следующее правительство рейха больше уже не будет парламентским. «Успешное парламентское правительство после ухода С.Д. (социал-демократии) исключено. Таким образом, должен быть назначен небольшой кабинет, имеющий характер директории и наделенный чрезвычайными полномочиями». Для Видфельдта, бывшего директора Круппа, предназначался пост рейхсканцлера — предложение, которое получатель письма, от которого Сект 10 ноября по телеграфу еще раз потребовал принять решение, с благодарностью отклонил, сославшись на отсутствие поддержки со стороны партий, сельского хозяйства и рабочего класса. Что бы там рейхспрезидент не сказал Секту на самом деле, осторожное зондирование позиции Видфельдта, очевидно, последовало с его одобрения. Эберт, напрасно старавшийся подвигнуть социал-демократов сохранить Большую коалицию, по всей видимости отвел усеченному кабинету Штреземана недолгую жизнь. Поскольку перспектива сформировать другое парламентское большинство отсутствовала, возможно, его вновь увлекла идея создания своего рода президентского кабинета, которую он частично попытался осуществить год назад, поставив Куно во главе правительства. Кабинет, опиравшийся на рейхсвер и наделенный президентом чрезвычайными полномочиями — такая комбинация могла выступать для Эберта щекотливым, но перед лицом опасности гражданской войны неизбежным ultima ratio. Однако то обстоятельство, что он умолчал перед рейхсканцлером о запросе, адресованном Видфельдту, показывает действия рейхспрезидента в ноября 1923 г. в своеобразном свете. 5 ноября Сект потребовал от Эберта в присутствии Гесслера сначала формирования правого правительства, а после категорического отказа Эберта — отставки Штреземана. На вопрос Эберта, готов ли Сект лично повторить свое требование в присутствии рейхсканцлера, Сект ответил утвердительно. В разговоре со Штреземаном, который последовал вслед за этим, Сект, по свидетельству Гесслера, заявил следующее: «Господин рейхсканцлер, вести борьбу вместе с Вами невозможно. Вы не пользуетесь доверием армии». На встречный вопрос Штреземана: «Тем самым Вы отказываете мне в повиновении рейхсвера?» ответил, прежде чем это смог сделать Сект, Гесслер: «Господин рейхсканцлер, это могу сделать только я». Сект промолчал, на время отказавшись от пробы сил со Штреземаном. Сект не был единственным противником, нападения которого рейхсканцлер вынужден был отражать после крушения Большой коалиции. Правое крыло его собственной партии, близкое к тяжелой промышленности, оказывало на него давление в направлении коалиции с немецкими националистами и было готово заплатить ту цену, которую ДНФП требовала за участие в правительстве: отставку Штреземана. Усеченный кабинет последнего, который смог опереться на поручение рейхспрезидента продолжать исполнять обязанности, 5 ноября решительно отклонил свою отставку. Министерские посты, освобожденные социал-демократами, оставались вакантными, за исключением одного: 11 ноября Эберт по предложению канцлера назначил министром внутренних дел обер-бургомистра Дуйсбурга Карла Ярреса — политика, относившегося к правому крылу ДФП и высланного оккупационными властями из занятой ими области{231}. Главная причина отказа Штреземана рассмотреть возможность коалиции с немецкими националистами заключалась в обнадеживающем развитии внешнеполитической ситуации, на которое он указывал социал-демократам в последние дни Большой коалиции и которое он не хотел подвергать опасности смещением баланса сил вправо. 15 октября кабинет принял решение, следуя инициативе бывшего министра финансов Гильфердинга, передать репарационной комиссии ноту, в которой содержалось предложение союзным державам подвергнуть проверке финансовые средства и производительность немецкой экономики, а также заслушать представителей имперского правительства. В этой связи Штреземан хотел, дабы подчеркнуть добрую волю Германии, в том числе возобновить платежи оккупационным властям, остановленные Германией после вступления союзных войск в Рурскую область. Но рейхсканцлер не смог сразу добиться выполнения своих намерений из-за сопротивления нового министра финансов Лютера. 24 октября немецкая нота была вручена репарационной комиссии. Имперское правительство по меньшей мере могло рассчитывать на то, что его инициатива будет положительно воспринята Англией, так как 12 октября 1923 г. британское правительство впервые официально поддержало предложение, высказанное в конце декабря 1922 г. госсекретарем США Чарльзом Хьюзом, рассмотреть репарационные вопросы с экономической точки зрения на международной конференции. Тем самым Форин офис присоединился к аргументам, высказанным в начале октября на Лондонской имперской конференции британских доминионов премьер-министром Южно-Африканского Союза Смэтсом. То, что Хьюз, в свою очередь, однозначно приветствовал британскую инициативу от 12 октября, было с полным правом воспринято в Берлине как приглашение немецкой стороне сделать встречный шаг в интересах решения репарационного вопроса. Но подлинное изменения ситуации произошло только 25 октября 1923 г.: Пуанкаре проинформировал британское правительство, что он готов при определенных условиях согласиться на ревизию репарационного вопроса. Условия были следующими: экспертная комиссия созывалась репарационной комиссией; размеры репарационных обязательств, возложенных на Германию Лондонским ультиматумом мая 1921 г., должны были остаться неизменными вне зависимости от результатов изысканий экспертов; еще одна комиссия должна была установить размеры и местопребывание немецких накоплений в иностранной валюте. После того как Америка также выразила свое согласие с этим предложением, Париж 13 ноября официально внес в репарационную комиссию предложение о формировании обеих экспертных комиссий. Тем самым было задано направление, приведшее к принятию плана Дауэса — репарационного соглашения 1924 г., неразрывно связанного с экономическим взлетом зрелых лет Веймарской республики. Такой неожиданный поворот со стороны Пуанкаре имел множество причин. Наряду с финансовыми проблемами, возникшими в результате оккупации Рурской области, важную роль сыграла ситуация во Франции: внутриполитический климат на глазах становился все более неблагоприятным для президента. Это, в свою очередь, опять было связано с растущей внешнеполитической изоляцией Франции, которая стала особенно явной на Имперской конференции британских доминионов в Лондоне. Но решающая причина, вынудившая Пуанкаре изменить курс, была все же другой. 23 октября госсекретарь Хьюз дал ему понять, что Америка вознаградила бы французское участие в межсоюзнической экспертной комиссии. США впервые заявили о своей готовности увязать репарационную проблему с проблемой межсоюзнических долгов. Таким образом, Франция могла ожидать, что за счет определенной обходительности в отношении своего должника — Германии, последует улучшение ее собственного положения в качестве должника США{232}. Переход Пуанкаре на примирительные позиции по репарационному вопросу еще не означал отказа от вынашиваемой им цели отделить Рейнскую область от рейха. В тот же день, 25 октября, когда французский премьер-министр проинформировал британское правительство о своем новом курсе, он принял решение об активной и официальной поддержке автономистских устремлений на оккупированной территории, причем особенно важным для него было произвести хорошее впечатление также на тех, кто держался в стороне от клики сепаратистов. Начиная с 21 октября сепаратисты предприняли в различных местах, в том числе в Аахене, Трире, Кобленце, Бонне и Висбадене, попытки провозгласить «Рейнскую республику», и везде они пользовались активной защитой французских и бельгийских властей. В Пфальце социал-демократы, объединившиеся вокруг бывшего баварского министра-президента Иоганна Гофмана, в это же время вели совместную деятельность с оккупационными властями, нацеленную на отделение области от Баварии и ее провозглашение в качестве автономного государства в союзе с рейхом. Гофман и его товарищи в пфальцском окружном союзе СДПГ не считали себя сепаратистами. Напротив, они воспринимали себя немецкими патриотами, выполнявшими миссию сорвать реакционную и враждебную рейху политику Кара. Но сотрудничества с французами оказалось достаточным, чтобы Гофман был полностью изолирован внутри своей собственной партии. 26 октября он прекратил свою «Пфальцскую акцию». 12 ноября сепаратисты во главе с крестьянским вождем Францем Иозефом Гейнцем из Орбиса провозгласили «Правительство автономного Пфальца», которое тотчас же было признано Францией{233}. Но не только в Париже и в Рейнской области, но и в Берлине раздумывали об отделении оккупированной области от остального рейха. Рейхсканцлер Штреземан открыто заявил 20 и 24 октября, выступая перед министрами, что Германия больше не в состоянии экономически нести расходы по содержанию оккупированной области. Министр финансов Лютер с самого начала считал обреченной на провал новую валюту — рентную марку, если она будет также введена на территории оккупированной области и ее там конфискуют, как и старые деньги, в счет репараций. Таким образом, по мнению Лютера, оккупированная область должна была быть пока предоставлена сама себе. Штреземан, выступая 25 октября в Хагене на конференции представителей оккупированной Рейнской области, также не оставил никакого сомнения в том, что они должны на свой страх и риск попытаться достичь договоренности с оккупационными властями. Создание Рейнской государства в составе рейха, которое по согласованию с такими ведущими промышленниками, как Гуго Штиннес, предлагал в качестве выхода из сложившейся ситуации обер-бургомистр Кёльна Конрад Аденауэр, один из наиболее авторитетных представителей рейнского Центра, рейхсканцлер отклонил наотрез. Хотя оба политика — Аденауэр и Штреземан — считали потенциально неизбежным временное отделение Рейнской области от рейха, но любое официальное согласие с тем, что фактически было неминуемым, с точки зрения канцлера стало бы отказом от немецкой правовой позиции, а значит, шагом, который был способен стать в будущем препятствием для объединения рейха с отделенной от него частью. Конференция в Хагене закончилась тем, что представители оккупированной области избрали коллегию в составе 50 человек, которая и должна была вести переговоры с оккупационными властями. Что касается цели этих переговоров, то здесь не было никакой ясности: будущее оккупированной области к моменту, когда усеченное правительство Штреземана сменило Большую коалицию, было более неопределенным, чем когда-либо{234}. Прежде чем правительство смогло принять окончательное решение о будущем оккупированной территории, баварский кризис вступил в свою новую стадию: вечером 8 ноября 1923 г. Адольф Гитлер начал путч в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер». Он использовал собрание сторонников Кара, чтобы под угрозой пистолета принудить статс-комиссара и его сторонников, фон Лоссова и Зейссера, принять участие в «национальной революции». После того как эти трое подчинились насилию, но только на словах, Гитлер объявил себя главой временного национального правительства, в то время как Кар обещал взять на себя обязанности регента монархии в Баварии. Собравшиеся в «Бюргербройкеллере» члены баварского правительства были «арестованы» нацистами, но Людендорф, назначенный Гитлером главнокомандующим национальной армией, поздним вечером вернул свободу передвижения триумвирату Кар— Зейссер — Лоссов. Еще в ночь на 9 ноября они объявили заявления, полученные от них путем шантажа, недействительными и стали готовиться к разгрому путча. В Берлине рейхспрезидент Эберт в ту же ночь после совещания в совете министров передал командующему сухопутными войсками верховное командование над вооруженными силами, а также, во изменение декрета от 26 сентября 1923 г., отправление исполнительной власти. Таким образом, Сект получил диктаторские полномочия, хотя и без политической власти над рейхом, к которой он так стремился. Эберт, Штреземан и Гесслер очевидно исходили из того, что наделение Секта широкими полномочиями является единственной возможностью заставить баварский рейхсвер выступить единым фронтом против путчистов. Однако никто не мог быть уверен в том, что этот приказ удержит Секта от того, чтобы начать собственный путч. Утром 9 ноября неограниченная власть оказалась в руках противника республики. И только проявленная им приверженность к легализму[31], воплощавшаяся в лояльности к рейхспрезиденту, свидетельствовала в пользу того, что он не злоупотребит этой властью ради достижения политических целей. Эберт мог даже предполагать, что прежний Сект, находившийся практически в неподконтрольной позиции, был более опасен для республики, чем настоящий Сект, непосредственно подчиненный главе государства. В любом случае, соотношение между гражданской и военной властью стало начиная с 9 ноября другим: вести в Германии политику против Секта на какое-то время стало невозможным. Гитлеровский путч завершился в полдень 9 ноября у здания мюнхенского Зала полководцев под пулями баварской полиции. Сам Гитлер сумел спастись бегством, но был арестован спустя два дня. 16 его соратников заплатили за путч своей жизнью. Фактически фюрер национал-социалистов, действуя на свой страх и риск, сорвал планы путча группы Кара, делавшей ставку на сотрудничество с фон Сектом. После 9 ноября Кар уже не мог следовать своему плану: его авторитет был подорван, а массовая поддержка растаяла. 7-я дивизия рейхсвера, целиком и полностью отказавшаяся выполнять приказы путчистов, снова сблизилась с остальной армией. Таким образом, Гитлер своими действиями способствовал тому, чтобы снять напряженность в отношениях между Баварией и рейхом. Более того, он дискредитировал «серьезные» планы путча, вынашивавшиеся правыми националистами, и тем самым невольно укрепил ненавистную республику. Урок, который 9 ноября 1923 г. был преподан правым радикальным силам, никто не усвоил так хорошо, как Гитлер: кардинальное изменение существующего порядка было достижимо не за счет тотальной конфронтации с государственным аппаратом, но только в результате четко рассчитанных действий совместно с ним. Эта тактика также предполагала сохранение видимости легальности, от которой Гитлер полностью отказался во время своей первой попытки прийти к власти{235}. За свои незаконные действия НСДАП поплатилась уже 9 ноября — генеральный статс-комиссар фон Кар запретил деятельность партии в Баварии. Наряду с ней были распущены и запрещены участвовавшие в путче союзы «Оберланд» и «Рейхскригсфлагге». Чтобы примирить хотя бы часть правых с этими мерами, Кар спустя два дня отдал распоряжение о роспуске и запрете КПГ, а вместе с тем и всех газет коммунистов и социал-демократов, выходивших в местностях по правому берегу Рейна. Спустя две недели его примеру последовал Сект как носитель высшей исполнительной власти, который, однако, в своих действиях зашел не так далеко, как баварский диктатор: 23 ноября он запретил НСДАП, Немецкую народническую партию свободы и КПГ на территории всего рейха. Но у радикальных партий не было оснований опасаться длительного нахождения вне закона на уровне рейха: они могли рассчитывать на то, что запрет вскоре будет с них снят вместе с отменой чрезвычайного положения, на основании которого он и был введен. Быстрее и последовательнее, чем в Баварии, однако с меньшей радикальностью, чем в Саксонии, был разрешен кризис в Тюрингии. 6 ноября с санкции Эберта части рейхсвера вступили в Центральную и Восточную Тюрингию и добились в последующие дни роспуска Пролетарских сотен. 12 ноября тюрингские социал-демократы подчинились давлению из Берлина и расторгли коалицию с КПГ, которая вслед за этим отозвала из правительства Фрёлиха своих обоих министров. Фрёлих оставался во главе социал-демократического кабинета меньшинства вплоть до выборов в ландтаг, состоявшихся 10 февраля 1924 г. Их результат означал для СДПГ расставание с государственной властью: средненемецкая федеральная земля следующие три года управлялась буржуазным правительством, которое могло опираться на поддержку со стороны «народников»{236}. После смягчения баварского и завершения тюрингского кризиса правительство вновь смогло концентрироваться на санации валюты и тесно связанных с ней вопросах оккупированной области. Что касается новой валюты, так называемой рентной марки, то кабинет пришел к соглашению еще 15 октября 1923 г., т. е. во времена Большой коалиции. По предложению министра финансов Лютера, до окончательного введения обеспеченной золотом валюты покупная цена рентной марки должна была гарантироваться за счет ипотечных долгов и облигаций, обеспеченных недвижимым имуществом промышленности и сельского хозяйства. От концепции его предшественника Гильфердинга решение, предложенное Лютером, отличалось ярко выраженной расположенностью по отношению к собственникам. В этом отношении Лютер приблизился к тем идеям, которые были изложены кабинету в августе Гельфферихом: чистая прибыль от рентной марки должна была поступить пайщикам облигаций в размере, соответствовавшем долгам по процентам с их попавшего под залог имущества. Таким образом, в случае с рентной маркой, которую планировалось ввести 15 ноября 1923 г., не могло больше идти и речи о действенном обременении реальных ценностей. 7 ноября Лютер настаивал в кабинете на заявлении, согласно которому рейх должен был прекратить все платежи для оккупированной области. Расчет министра финансов был ясен: чтобы новая валюта тотчас же вновь не попала в водоворот инфляции, все непродуктивные расходы рейха должны были быть прекращены. К ним, с точки зрения Лютера, относились «политические» платежи на содержание оккупированной области, среди которых самую большую статью составляли выплаты по поддержанию безработных. Соответствующее принципиальное решение кабинет принял 9 ноября. Однако новому министру внутренних дел Ярресу удалось спустя три дня добиться отсрочки этих действий. Выплаты безработным продлевались после 15 ноября на десять дней, чтобы таким образом еще раз выразить жителям Рейнской области солидарность остального рейха. Одновременно кабинет принял решение выступить с заявлением, согласно которому действие Версальского договора «приостанавливалось», пока не последует новое урегулирование репарационной проблемы. Это решение полностью отвечало линии «разрыва с Францией», за которую ратовал Яррес в полном согласии с немецкими националистами. Но заявление немецкого правительства от 12 ноября так и не было обнародовано. Кабинет хотел, в целях противостояния автономистским устремлениям со стороны французов, одновременно с отказом от Версальского договора провозгласить учреждение органа федеративного самоуправления оккупированных областей, который мог бы выступить партнером оккупационных властей по переговорам. Но этому намерению воспротивились заинтересованные федеральные земли, и не думавшие отказываться от каких-либо своих суверенных прав на оккупированные области. Министр-президент Пруссии и социал-демократ Отто Браун заявил 13 ноября в ходе совещания с имперским правительством, что следует «в известной степени предоставить оккупированную область ее судьбе… Все, что отныне будет происходить в сфере политики на оккупированной территории, должно представляться как результат вымогательства». От имени самих оккупированных областей с протестом против намерений рейха остановить платежи выступил обер-бургомистр Кёльна Конрад Аденауэр. Рейнская область «стоит больше, чем две или даже три новых валюты». Платежи не должны быть остановлены ни в коем случае до того момента, пока не будет создан планируемый орган самоуправления. Возражения федеральных земель и оккупированной области носили разнонаправленный характер, но привели к одному и тому же результату. Рейх не выступил с заявлением по поводу Версальского договора, не объявил о прекращении платежей для безработных на оккупированных территориях и не создал для последних никакого органа самоуправления. Итак, судьба Рейна и Рура продолжала оставаться неопределенной. Тем не менее «чудо рентной марки» случилось. 15 ноября 1923 г., как и было запланировано, была введена новая валюта. Рейхсбанк приостановил учет казначейских обязательств, выполнявших роль денежных суррогатов. 20 ноября удалось добиться стабилизации курса доллара, который 14 ноября стоил 1,26 биллиона марок ассигнациями, на уровне 4,2 биллиона. После этого был введен обменный курс имперской марки из расчета 1 рентная марка за 1 биллион марок ассигнациями, благодаря чему был снова достигнут довоенный курс марки. Один из основателей ДДП и директор Дармштадского и Национального банка Ялмар Шахт, назначенный несколькими днями ранее валютным комиссаром, до последнего выступал против промежуточного шага в виде рентной марки и, также как и Гильфердинг, настаивал на незамедлительном учреждении золотовалютного банка. Лютер считал связанные с этим риски недопустимыми и добился принятия временного решения, соответствующего его взглядам. В то время как оккупированная область должна была в качестве платежного средства довольствоваться коммунальными денежными суррогатами до введения 30 августа 1924 г. обеспеченной золотом имперской марки, во всем остальном рейхе рентная марка положила конец инфляции. Успеху новой валюты существенно способствовало то, что специальный декрет, принятый на основании закона о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству от 13 октября 1923 г., установил обязательные максимальные суммы эмиссии новой валюты и кредитов, предоставленных рейху. К этому добавилось жесткое сокращение числа государственных служащих на основании уже упоминавшегося декрета от 17 октября. До 1 апреля 1924 г. с государственной службы были уволены 400 000 чиновников, служащих и рабочих, причем в процентном соотношении служащие пострадали гораздо серьезней, чем чиновники. Жалованье и заработная плата государственных служащих были понижены до 60 % довоенного уровня. Очевидно, Большая коалиция была единственным союзом партий, который мог позволить себе пойти на подобные меры. Но и ей потребовались для этого диктаторские полномочия, предоставлявшиеся декретом, опиравшимся на закон о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий{237}. Между тем в оккупированной области предприниматели самостоятельно делали большую политику. Уже 9 октября 1923 г. Отто Вольф, совладелец кёльнского концерна «Феникс», заключил договор с французско-бельгийской Контрольной комиссией за деятельностью фабрик и шахт в оккупированной Рейнской области (Mission interalliée de Contrôle des Usines et des Mines, МИКУМ), разрешавший заводом «Феникса» и Рейнской группы по производству стали (Рейнштальгруппе) возобновить свою работу. 31 октября комиссия Горнопромышленного союза пришла к соглашению с МИКУМ о том, что временно, до 15 февраля 1924 к, 18 % совокупной добычи угля будет бесплатно поставлено союзникам в счет репарационных поставок. Промышленники, в свою очередь, заручились согласием имперского правительства возместить им соответствующие расходы, которое, однако, не распространялось на упраздненный тем временем (с 11 октября) налог на добычу угля, на который претендовала МИКУМ с самого начала оккупации, продолжая требовать его уплаты. 31 октября Штиннес потребовал в ходе совещания с буржуазными министрами правительства Штреземана полного возмещения расходов, включая и «угольный» налог, а также увеличения рабочего дня. Министры отклонили особое регулирование рабочего времени в горной промышленности, сославшись на планировавшийся к принятию закон. Что касается вопроса о налоге на уголь, то кабинет на следующий день одобрил решение в духе Штиннеса, при этом министры социал-демократы воздержались при голосовании. После длительных переговоров, в ходе которых речь прежде всего шла о зачислении поставок угля в счет репараций, 23 ноября было заключено соглашение промышленников Рура с МИКУМ. Первоначально его срок ограничивался 15 апреля 1924 г., и оно было обязательным для всех шахт, которые еще не заключили особого договора с союзнической комиссией. Поставки угля полностью засчитывались в счет репараций, угольный налог, подлежащий уплате на основании решения, имеющего обратную силу, равно как и другие сборы, поступали в «залоговую кассу» МИКУМ и, таким образом, впервые помогли Франции и Бельгии добиться того, к чему они стремились, оккупировав Рур: «продуктивного залога»[32]. Владельцы шахт сумели извлечь для себя максимум преимуществ из этих переговоров. Расходы, которые они несли по соглашению, они смогли переложить на рейх (или соответственно с его разрешения — на потребителей). Таким образом, шахтовладельцам удалось избежать какого-либо специфического репарационного обременения. Политическая возможность вести переговоры с МИКУМ как равноправные партнеры означала для шахтовладельцев существенный рост престижа. Имперское правительство в конце концов было вынуждено уступить перед совместным давлением Парижа и горнопромышленных контор Рура. Можно было предвидеть, что экономическое урегулирования Рурского конфликта (именно об этом шла речь в случае соглашения с МИКУМ) окажет устойчивое воздействие на внутренний баланс сил в Германии{238}. 20 ноября, за три дня до подписания соглашения с МИКУМ, впервые с момента принятия закона о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству от 13 октября 1923 г., было созвано заседание рейхстага. 22 ноября социал-демократы выступили в рейхстаге с предложением о вынесении вотума недоверия правительству Штреземана, мотивируя тем, что имперское правительство осуществило жесткие меры в отношении Саксонии и Тюрингии, в то время как не было предпринято никаких решительных действий, чтобы покончить с антиконституционным положением вещей в Баварии. Из формулировки предложения следовало, что для СДПГ речь шла не столько о свержении правительства Штреземана, сколько об умиротворении собственного левого крыла. В пользу этого свидетельствовало то, что предложение социал-демократов было написано таким образом, что немецкие националисты, от голоса которых зависело вынесение вотума недоверия, не могли его поддержать. И, наоборот, социал-демократы точно также могли бы без церемоний отказать в поддержке предложению о вотуме недоверия со стороны ДНФП или КПГ. Но расчет СДПГ оказался недальновидным. Социал-демократии должно было быть ясно, что ее предложение в любом случае продемонстрирует отсутствие у усеченного кабинета Штреземана требуемой парламентской поддержки, что, в свою очередь, еще более ослабит позиции правительства и тем самым будет способствовать обострению внутреннего кризиса. Если самая большая фракция рейхстага воспринимала всерьез свое собственное требование отмены чрезвычайного положения, то поражение или отставка правящего кабинета не была самым подходящим средством для достижения этой цели. Другого правительства, с которым СДПГ могла бы легче договориться, чем с правительством Штреземана, не предвиделось. Скорее, речь могла идти о гораздо более правом правительстве, вплоть до правящей диктаторскими методами Директории. Штреземан оказался под яростным огнем нападок со стороны правого крыла своей собственной партии, что не могло укрыться от СДПГ, и не в последнюю очередь из-за того, как была проведена карательная акция рейха в отношении Саксонии, которую социал-демократы ставили ему в вину. Правые в ДФП, в том числе и недолго занимавший пост рейхскомиссара Гейнце, обвиняли рейхсканцлера в том, что тот настоял на выборах социал-демократа в качестве преемника Цейгнера, освободив Гейнце от его обязанностей спустя уже два дня. Что касается политики Штреземана в баварском вопросе, то социал-демократы могли порицать отсутствие у него достаточной твердости и последовательности. Но ни Штреземан, ни какой-либо другой канцлер не был в состоянии принудить рейхсвер осуществить интервенцию против Вольного государства Бавария, что с большой долей вероятности означало бы гражданскую войну. При таких обстоятельствах предложение о вынесении вотума недоверия Штреземану, какими бы внутрипартийными расчетами оно не обосновывалось, было лишено смысла и даже более того — являлось авантюрой. Усеченный кабинет Штреземана 19 ноября 1923 г. обсудил внутриполитическую ситуацию, но не принял каких-либо решений. Рейхсканцлер полагал возможным, что ни одно из предложений о вынесении вотума недоверия правительству не получит поддержки большинства. Яррес, в свою очередь, считал, что вынесение рейхстагом позитивного вотум доверия не является безусловно необходимым. Рейхсминистр транспорта Ёзер, напротив, ни в коем случае не хотел мириться с дальнейшим уменьшением престижа кабинета, и Гесслер также выступал за то, чтобы потребовать от рейхстага вынести вотум доверия, если выяснится, что правительство не располагает в парламенте поддержкой большинства. Были также высказаны самые различные мнения о последствиях возможного поражения правительства в рейхстаге. Гесслер подчеркивал трудности, вытекающие из правления, опирающегося только на статью 48 имперской конституции, но, с другой стороны, признал в высшей степени проблематичным и «правление вперемешку», частично с помощью рейхстага, частично на основании статьи 48. Некоторые министры рассматривали возможность роспуска рейхстага, другие высказывались против, ссылаясь на ожидаемую реакцию в Рейнской области, где от этого выиграли бы только сепаратисты. По этой же причине сам Штреземан имел серьезные возражения против роспуска парламента. Рейхспрезидент, с которым канцлер обсудил все потенциальные возможности, наотрез отклонил вариант роспуска рейхстага, но, в свою очередь, попытался закулисно подвигнуть СДПГ отказаться от вынесения предложения вотума недоверия. Штреземан узнал от одного из социал-демократов, как Эберт бросил в лицо своим товарищам по партии: «Вы через шесть недель забудете, по какой причине Вы старались добиться свержения канцлера, зато последствия своей глупости Вы будете чувствовать еще 10 лет». 22 ноября Штреземан пришел к такому же мнению, как и Гесслер тремя днями ранее. С согласия остальных министров он заявил, что если социал-демократы внесут в парламент предложение о вынесении вотума недоверия, то кабинет со своей стороны поставит вопрос о доверии к нему, но при этом правительство проигнорирует запросы о вотуме недоверия со стороны немецких националистов и коммунистов. На следующий день правящие буржуазные партии в ответ на запрос социал-демократов о выражении недоверия кабинету Штреземана ответили ходатайством к рейхстагу выразить свое доверие правительству. 231 голосом против 156 при 7 воздержавшихся рейхстаг отклонил это предложение. Против правительства голосовали немецкие «народники», депутаты от ДНФП, БФП, СДПГ и КПГ. Как заявил сразу вслед за тем иностранным корреспондентам Штреземан, «впервые в истории немецкой республики правительство пало в открытой битве». Еще вечером 23 ноября канцлер предложил рейхспрезиденту принять отставку своего правительства{239}. Теоретически падение Штреземана могло стать звездным часом Секта. Но, как и прежде, командующий войсками рейхсвера не был готов взять власть помимо воли рейхспрезидента, а Эберт в конце ноября менее всего был склонен назначить Секта канцлером или рассмотреть возможность установления Директории. Напротив, рейхспрезидент хотел, после того как была устранена острая опасность, грозившая республике, снова передать полномочия, действовавшие в условиях чрезвычайного положения, ответственному перед рейхстагом министру рейхсвера, чему Сект однако с успехом противился. Упорство генерала также было причиной, приведшей к неудаче попытку Эберта создать надпартийный «кабинет чиновников» под председательством Генриха Альберта, беспартийного министра государственных имуществ и позднее — министра восстановления народного хозяйства в кабинете Куно. Альберт не хотел занимать должность рейхсканцлера без наделения его всей полнотой исполнительной власти. Другой кандидат в канцлеры, политик Центра Адам Штегервальд, вступил в переговоры с немецкими националистами о создании правой коалиции, но прервал их после того, как они потребовали от Центра расторжения Большой коалиции в Пруссии. В качестве последней возможности рассматривался новый центристский кабинет в составе буржуазных партий, т. е. правительство парламентского меньшинства, зависимое от поддержки СДПГ. За такой кабинет выступал Вильгельм Маркс, председатель Партии Центра и ее фракции в рейхстаге, которому Эберт и поручил 29 ноября 1923 г. сформировать новое правительство. Шестидесятилетний судья родом из Кёльна, которому отводилась роль компромиссного, личностно бесцветного политика, уже на следующий день смог сформировать правительство, в которое вошел, кроме представителей прежних правящих партий — Центра, ДДП и ДФП, — также министр юстиции Эммингер от БФП в качестве «министра-профессионала без партийно-политических связей»{240}. Каким бы неопределенным не было будущее, но парламентская демократия выжила в очередной раз. Существуют три главные причины, которые могут объяснить сравнительно мягкое разрешение государственного кризиса осени 1923 г. Во-первых, правительству Большой коалиции и стоявшему на его плечах усеченному кабинету Штреземана удалось положить конец инфляции и заложить основу для фазы экономического возрождения Германии. Во-вторых, с конца октября 1923 г. благодаря вмешательству США наметилось решение репарационной проблемы, а вместе с этим и внешнеполитическая разрядка, что, в свою очередь, было сильным аргументом против правого правительства любого рода. В-третьих, диктаторские амбиции руководства рейхсвера во главе с генералом Сектом сдерживались его собственным легализмом. Еще одним препятствием для них стал революционный путчизм правых радикалов во главе с Гитлером. От крайне левых с конца 1923 г. больше не исходила действительная революционная опасность. Коммунисты в момент подготовки удара против существующего строя были изолированы и сами сделали из этого соответствующие выводы, отказавшись от «немецкого Октября». Провал революционной стратегии был самым тесным образом связан с материальным положением рабочих: реальный недельный заработок, который поздним летом 1923 г. немного вырос, в ноябре составлял только чуть больше половины уровня 1913 г., а безработица среди членов профсоюзов выросла с 3,5 % в июле до 23,4 % в ноябре. Нужда, отражающаяся в этих скупых цифрах, оказала не революционизирующее, а деморализующее действие. В последние месяцы гиперинфляции участились случаи хищения картофеля на полях, нападений на крестьянские дворы и разграбления рыночных палаток и продовольственных магазинов. Профсоюзы, выступившие партнерами правительства в проведении политики пассивного сопротивления, теперь платили за свою ведущую роль в государстве потерей доверия среди рабочих: в третьем квартале 1923 г. из союзов АДГБ вышло около 300 000 человек. Стачечные кассы в середине ноября, т. е. к началу успешной денежной реформы, были пусты. Едва ли в таких условиях можно было рассчитывать на успешную борьбу рабочих и служащих против политики стабилизации{241}. Тем не менее страх перед левым радикализмом сохранялся. На пике саксонского кризиса местные промышленники, как сообщал Гесслер, угрожали, что если им не будет обеспечена защита их личной свободы, то они обратятся за помощью к баварским фашистским бандам. 19 ноября министр рейхсвера обосновывал в кабинете мнимую необходимость сохранения чрезвычайного положения тем, что буржуазия в Тюрингии и Саксонии отстранена от какого-либо сотрудничества с правительствами земель. Глубокое недоверие к социал-демократии, отобразившееся в этих словах, испытывало не только руководство рейхсвера. Его разделяли широкие массы буржуазии, в том числе далеко за пределами Центральной Германии, что относилось к самым долгосрочным последствиям недолговечного существования правительств единого фронта в Дрездене и Веймаре{242}. Но, несмотря на это, в самой большой из федеральных земель Германии социал-демократия и буржуазные партии, включая ДФП, продолжали сотрудничать в рамках правительства. Большая коалиция в Пруссии давала повод для надежды всем тем, кто и после осени 1923 г. видел в сотрудничестве между умеренной частью буржуазии и рабочим классом закон выживания немецкой республики. Подобные настроения разделял и Густав Штреземан, который в ходе кризиса продемонстрировал талант государственного деятеля и которому как никакому другому политику Германия была обязана тем, что не скатилась к диктатуре. Опираясь во время своего канцлерства именно на СДПГ, Штреземан заявил 23 ноября 1923 г., что сотрудничество с социал-демократами неизбежно и в будущем. Спустя несколько недель его тон звучал уже более скептически. 20 января 1924 г. он написал в анонимной статье для еженедельника Народной партии, что социал-демократическая фракция «выбыла из парламентской жизни в качестве положительного фактора. Теперь она может только свергать правительства, но не образовывать их, поскольку сама себе не отдает отчета в своих действиях. Здесь изменения могут наступить только после отделения несовместимых друг с другом составных частей»{243}. Таким образом, вердикт Штреземана еще не был окончательным отказом от сотрудничества с СДПГ. Председатель Немецкой народной партии выразил только то, что после его свержения с поста канцлера чувствовал буржуазный центр. Если социал-демократии удастся усмирить то свое крыло, которое видит в компромиссах сбуржуазией только выпады против учения классовой борьбы, однажды правительство Большой коалиции снова сможет возглавить рейх. По внешнеполитическим соображениям для Штреземана было важным не разрушить все мосты между собой и социал-демократами. В качестве рейхсканцлера он возглавлял правительство лишь около ста дней. Но как министр иностранных дел, сохранивший этот пост и в правительстве Маркса, Штреземан выступал гарантом преемственности, будучи представителем буржуазной политики, которая как во внутренних, так и во внешних делах делала ставку не на конфронтацию, но на мирный компромисс между различными интересами.Глава IX Нелегкая стабилизация
В 1924 г. экономист Франц Ойленбург опубликовал статью о социальных последствиях инфляции, которая по своей точности остается непревзойденной и по сей день. «Произошла концентрация собственности в немногих, но сильных руках», — писал он в «Ежегоднике национальной экономики и статистики». «Обладание капиталом средними слоями, а тем самым и их притязание на часть прочего состояния сведено к нулю. Любое завладение собственностью ориентируется теперь прежде всего на промышленность. Мелкие и средние предприниматели, хотя и не отчуждены от собственности, но в большей степени включены в состав концернов. Тем самым распределение богатств стало еще более неравным»{244}. Ойленбург не утверждает, что средние слои попросту разорились в результате обесценивания денег. Он более корректно пишет о ликвидации принадлежавшего им капитального имущества. Собственно, жертвами инфляции стали вкладчики, а также те, кто вложил значительную часть своих средств в облигации военного займа. Те, кто привык получать свои средства к жизни за счет сбережений или погашения и выплат процентов с ценных бумаг, остались в результате инфляции буквально ни с чем. В тяжелой ситуации оказались также те семьи, которые традиционно финансировали высшее образование своих детей за счет сбережений. С другой стороны, среди представителей средних слоев было много тех, кто выиграл от обесценивания марки: владельцы домов и земельной недвижимости оказались свободными от долгов и получали выгоду от тех общих преимуществ, которые в сложившихся условиях давало обладание недвижимым имуществом. Среди собственников домов также насчитывалось немало самостоятельных ремесленников, которые составляли ядро среднего промыслового сословия. В разгоревшемся в 1923 г. споре о ревальвации денежных требований времен до начала большой инфляции союзы представителей средних слоев не особенно обращали на себя внимание: признак того, что мелкие владельцы и ремесленники не могли в целом рассматриваться как жертвы обесценивания денег. К числу выигравших от инфляции также относились по большей части обремененные долгами крупные землевладельцы, которые теперь смогли от них освободиться. То же самое справедливо и для владельцев крупной промышленной собственности. Среди отраслей индустрии более мощным вышел из инфляции в первую очередь горнопромышленный сектор. Хотя металлургическая и сталелитейная промышленность уже давно отставала по своему экономическому росту от «новых» отраслей химической, электротехнической и машиностроительной индустрии, ей все же удалось во время гиперинфляции, под знаком гнетущего дефицита сырья и кредитов, поставить обрабатывающие отрасли промышленности в зависимость от себя, тем самым также удовлетворив свои притязания на политическое лидерство в предпринимательском лагере. Излюбленной формой союза между предприятиями тяжелой промышленности и фирмами-покупателями было объединение под крышей концерна. Наиболее известным примером был созданный главным образом Штиннесом, хотя и недолговечный, Сименс-Рейн-Эльбе-Шукерт-Унион. Благодаря такой вертикальной концентрации тяжелая промышленность обеспечивала себе гарантии сбыта и участие в доходных, приносящих валюту операциях по экспорту готовой продукции. Партнерам из обрабатывающей промышленности, в свою очередь, гарантировались поставки сырья и предоставлялся необходимый капитал. Таким образом, обе стороны смягчали свои предпринимательские риски и зависимость от рыночной конъюнктуры. Следствия этого оказались долговечнее инфляции, послужившей поводом к сплочению отраслей промышленности. Еще одной стороной, выигравшей от инфляции, стало государство. Выплата долгов, и в первую очередь — гигантских сумм военных кредитов, осуществлявшаяся обесцененными банкнотами, фактически была равна ликвидации задолженности. Но кредиторы не хотели мириться с этим, равно как и с обесцениванием обязательств частных должников. 28 ноября 1923 г. жертвы инфляции получили сенсационную поддержку от Имперского верховного суда. Высший немецкий суд квалифицировал принцип «марка равна марке» как противоречащий добросовестности и доверию и одобрил ревальвацию ипотечных обязательств. В январе 1924 г. еще один удар нанес Союз судей при Имперском верховном суде, который предостерег правительство Германии от попытки пренебрежения мнением Верховного суда. Высказанная Союзом угроза того, что запрет ревальвации будет признан несостоятельным в ходе судебной проверки, являлась неслыханным доселе актом протеста против государства. Конституция Германии не предусматривала присвоения судьями Верховного суда права на проверку конституционности законов. Но уже само решение судей было симптомом утраты обществом доверия к государству в результате инфляции. То обстоятельство, что не республика, а кайзеровская Германия начала проводить политику обесценивания денег, было в конце 1923 г. уже практически предано забвению. Однако республика не могла удовлетворить претензии кредиторов. Достойная ревальвация привела бы к новому расшатыванию национальной валюты, т. е. в действительности не пошла бы никому на пользу. Но пострадавшим такое понимание ситуации давалось тяжело. Следствием их разочарования стало недовольство государством, которое республике не суждено было преодолеть и в годы экономической стабилизации{245}. Для рабочих стабилизация началась под знаком низкого уровня заработной платы и высокой безработицы. Хотя, по подсчетам государственного статистического ведомства, реальная средняя недельная заработная плата выросла с ноября по декабрь 1923 г. с 53 % до почти 70 % довоенного уровня, это все же было ощутимо меньше того, что рабочие зарабатывали в марте 1923 г. — а именно около 79 % от уровня 1913 г. Число безработных членов профсоюза выросло с 19 % в октябре до 28 % в декабре 1923 г., чтобы потом постепенно сократиться до 10,4 % в апреле 1924 г. Свободные профсоюзы после введения рентной марки пережили поистине драматическое сокращение количества членов — с 7,4 млн в сентябре 1923 г. до 4,8 млн в марте 1924 г. Членские взносы, выплачиваемые в стабильной валюте, были восприняты многими рабочими как неожиданное обременение. В результате боевая мощь профсоюзов, уже и так сильно подорванная в ходе инфляции, снова уменьшилась. В споре о продолжительности рабочего дня, который Большая коалиция не могла окончательно урегулировать, крупная индустрия имела на руках в конце 1923 г. лучшие карты{246}. С точки зрения большинства промышленников, важным преимуществом правительства Маркса, которое с 30 ноября 1923 г. управляло страной, было наличие в его составе только буржуазных министров. Однако новое правительство не обладало поддержкой парламентского большинства и поэтому должно было ориентироваться на средства чрезвычайного законодательства. Когда Маркс в первый же день своего премьерства потребовал от рейхстага принятия закона о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий для преодоления бедственного экономического и финансового положения страны, партийное руководство СДПГ сначала ответило отказом. Так как без социал-демократов невозможно было получить большинства в две трети голосов, требуемого для принятия закона, вносящего изменения в конституцию, рейхспрезидент и правительство рассматривали возможность роспуска рейхстага и назначения новых выборов. Но из-за неопределенной ситуации в оккупированных областях этот шаг был связан с большим риском, что подвигло Эберта выступить против скорых перевыборов и вместо них рекомендовать кабинету взвесить возможность править на основании статьи 48 конституции, к которой уже прибегало ранее «усеченное» правительство Штреземана. На заседании правительства 2 декабря министр рейхсвера Гесслер даже предложил на случай, если последует роспуск рейхстага, провести новые выборы существенно позднее истечения установленного конституцией срока в 60 дней — нарушая, таким образом, основной закон государства. Высказанные в ответ возражения госсекретаря Мейснера, шефа бюро рейхспрезидента, не были принципиальными. Он не советовал торопиться заявлять в настоящий момент о «продлении срока выборов». Но если общая ситуация покажет, заявил Мейснер, что «по истечению 60 дней выборы не могут состояться, то должно последовать продление их срока на основании статьи 48». Но что примечательно, нарушения конституции, столь хладнокровно обсуждаемого, тогда все же не случилось. Угроза применения статьи 48, о чем тотчас же стало известно общественности, послужила причиной начала интенсивной дискуссии в рядах СДПГ. Было очевидно, что процесс чрезвычайного законодательства полностью выйдет из-под контроля СДПГ. Право рейхстага упразднять чрезвычайные постановления простым большинством ничего в данном случае не давало, поскольку СДПГ не могла собрать требуемые для этого голоса. В этой ситуации ограниченный по сроку действия закон о предоставлении чрезвычайных полномочий мог расцениваться как меньшее зло. И все же не только левое крыло партии, но и ее председатель Герман Мюллер не хотели предоставлять правительству, в которое не вошли социал-демократы, чрезвычайные полномочия. Представители же правого крыла СДПГ обращали внимание на то, что если закон о предоставлении чрезвычайных полномочий не будет принят, то угрожает введение всеобщего чрезвычайного положения в соответствии со статьей 48. Кроме того, они утверждали, что заграница утратит доверие к новой немецкой валюте и не предоставит Германии кредиты, если правительство не настоит на своем. В конце концов сторонники достижения компромисса могли сослаться на уступку кабинета: правительство было готово перед принятием каждого очередного декрета заслушивать мнение постоянной комиссии рейхстага. Под воздействием этих аргументов фракция СДПГ 73 голосами против 53 приняла 4 декабря 1923 г. решение поддержать закон о предоставлении чрезвычайных полномочий. Но на этом внутрипартийный спор отнюдь не закончился. Хотя перед заключительным голосованием фракция приняла решение о безусловном обязательном голосовании ее членов, 8 декабря 1923 г. на заседании рейхстага отсутствовали 39 депутатов левого крыла — почти все без исключения бывшие члены НСДПГ. Число уклонистов оказалось настолько большим, что возможные жесткие санкции в их отношении могли бы стать причиной раскола и партии, и фракции. Поэтому руководство социал-демократов отказалось от любых наказаний. Но воспрепятствовать голосованию левые все же не смогли. Закон о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству был принят рейхстагом 313 голосами против 18 при одном воздержавшемся. Тем самым было достигнуто квалифицированное большинство, которое в конституции называлось достаточным для принятия законов, изменяющих конституционные положения{247}. Закон от 8 декабря 1923 г. уполномочивал правительство «принимать меры, которые, принимая во внимание нужды народа и рейха, являются срочными и неотложными». Отклонение от материальных норм конституции не допускалось. Продолжительность действия закона ограничивалась 14 февраля 1924 г. К проблемам, которые теперь правительство могло урегулировать путем чрезвычайного законодательства, относился также спорный вопрос о продолжительности рабочего дня. 17 ноября 1923 г. закончилось действие неоднократно продлевавшихся так называемых демобилизационных декретов в отношении продолжительности рабочего дня. С этого момента повсюду, где его продолжительность не была оговорена согласно тарифу, по закону восстанавливалось положение, существовавшее до войны. К тому времени, когда правительство Маркса приступило к исполнению своих обязанностей, уже было принято важное предварительное решение по этому вопросу. Представители союзов горняков и союза шахтовладельцев оккупированных областей под председательством рейхсминистра труда Браунса договорились 29 ноября 1923 г. в Берлине, что продолжительность рабочей смены составляет 8 часов в день, включая время спуска и подъема из шахты, что означало удлинение рабочего времени на один час. Аргументу работодателей, согласно которому иначе невозможно будет выполнить соглашение с МИКУМ[33] от 23 ноября 1923 г., наемные работники мало что могли противопоставить. 14 декабря 1923 г. профсоюзы горняков дали свое согласие на введение правил, аналогичных принятым 29 ноября, также для областей, свободных от оккупации. В тот же день Браунс, также со ссылкой на договоренности с МИКУМ, добился заключения соглашения для металлургической и сталелитейной промышленности, согласно которому разрешалось введение 12-часовых смен повсюду, где подобная «двухсменная» система уже практиковалась в довоенное время. Это означало для большинства рабочих смен, за вычетом перерывов, эффективное рабочее время продолжительностью 10 часов в будни и 9 часов в субботу, т. е. 59 часов в неделю. Если же учитывать перерывы и «готовность к работе»[34], то продолжительность рабочей недели была существенно выше и составляла 70 часов. Иначе, чем горняки, повели себя рабочие-металлисты, выступившие против увеличения рабочего дня. Но их забастовочные акции, которые продолжались до начала 1924 г., не имели ни малейшего успеха. В конце концов также и металлисты должны были принять новое удлиненное рабочее время. Для государственной службы 14 декабря 1923 г. также стало знаменательным рубежом. В этот день кабинет Маркса принял решение об увеличении для чиновников рабочей недели с 48 до 54 часов. Неделей позднее, 21 декабря 1923 г., на основании Закона о предоставлении чрезвычайных полномочий от 8 декабря 1923 г., последовало всеобщее постановление о продолжительности рабочего времени. «Оговаривая возможность окончательного урегулирования позднее», оно определяло, что восьмичасовой рабочий день и далее должен в принципе рассматриваться как нормальный. Но это условие фактически отменялось оговоренными в постановлении исключениями. В целом ряде случаев в результате официальных предписаний или тарифных договоренностей ежедневное рабочее время могло было быть увеличено максимум на два часа. В ведущих отраслях экономики впредь был законно разрешен 10-часовой рабочий день. Тарифные соглашения, которые предусматривали менее продолжительное рабочее время, могли быть расторгнуты с предупреждением за 30 дней. Долгий спор о рабочем дне закончился в декабре 1923 г. по меньшей мере временно победой предпринимателей. Народнохозяйственные аргументы, высказанные ими в пользу своих требований, нашли отклик не только у буржуазных партий, но и у социал-демократии. Что касается свободных профсоюзов, то в своем бескомпромиссном стремлении безусловно отстаивать 8-часовой рабочий день они не получили поддержку от других ведущих организаций рабочих — ни от Христианских профсоюзов, ни от либерального Хирш-Дункершен-Геверкферейн[35]. Но лагерь работодателей был далек от того, чтобы удовлетвориться своими достижениями, ведь восьмичасовой рабочий день все же продолжал «в принципе» рассматриваться как норма. Кроме того, постановление правительства о третейском арбитраже от 30 октября 1923 г., принятое на основании Закона о предоставлении чрезвычайных полномочий от 13 октября 1923 г., разрешало министру труда выступать в тарифных конфликтах в качестве верховного третейского судьи. Это право Браунс зачастую использовал для вмешательства в спор, чтобы поддержать в нем слабейшую сторону — рабочих. Следовательно, в конце 1923 г. не могло быть и речи о возвращении к «манчестерскому либерализму». Государство участвовало в экономической жизни активнее, чем когда-либо, при этом оно ни в коем случае не позиционировало себя как неизменного партнера предпринимателей, зачастую выступая их противником. Поэтому исход борьбы за продолжительность рабочего дня мог рассматриваться некоторыми промышленниками не иначе как пиррова победа{248}. Свободным профсоюзам, напротив, фактическая ликвидация 8-часового рабочего дня представляласьтяжелым поражением. В ответ на это они в середине января 1924 г. выступили с заявлением о расторжении Центрального трудового содружества союзов работодателей и работников (ЦАГ), на заключение которого они согласились пятью годами ранее, в ноябре 1918 г. На самом деле, принимая во внимание положение дел, это решение было еще одним демагогическим жестом. Ведь уже за время с осени 1919 и до лета 1922 г. из ЦАГ вышли многие отдельные профсоюзы, в том числе такие значительные, как союзы горняков и металлистов, и на лейпцигском конгрессе АДГБ в июне 1922 г. приверженцы политики классового сотрудничества имели большинство только по количеству представляемых членов, но не по числу присутствовавших делегатов. С другой стороны, правое крыло предпринимателей во главе с представителями тяжелой промышленности никогда в действительности не признавало принципы паритета труда и капитала и тарифной автономии и давно уже стремилось к отмене уступок, сделанных профсоюзам в момент слабости в ноябре 1918 г. Таким образом, ЦАГ задолго до своего формального конца стало только фасадом для обоих лагерей: собственная сплоченность была важнее, чем организационная спаянность с контрагентом. Между тем умеренные силы как предпринимателей, так и профсоюзов вовсе не хотели отказываться от мысли о совместном сотрудничестве. Только партнерство теперь должно было практиковаться в более эластичной форме, чем раньше. Тем самым исключалось то, что привело к крушению ЦАГ: перенапряжение отношений в результате социальных конфликтов, не предусмотренных в гармоничной модели содружества труда и капитала образца 1918 г.{249} Закон о предоставлении чрезвычайных полномочий дал возможность кабинету Маркса жестко и неуклонно проводить политику стабилизации не только в отношении вопроса продолжительности рабочего дня, но и в других областях, что было бы невозможно в условиях нормального законодательного процесса. 12 декабря 1923 г. содержание чиновников было установлено на уровне существенно ниже довоенного. Сокращение численности персонала, находящегося на государственной службе, решение о котором принималось еще правительством Большой коалицией, было осуществлено кабинетом Маркса так бескомпромиссно, что предусмотренные квоты оказались выполнены с опережением. Постановления о чрезвычайном налогообложении дали рейху возможность получить требуемые финансовые поступления. Налог с оборота был увеличен, ставки подоходного, корпоративного и имущественного налога установлены заново, а также заново урегулировано распределение доходов между рейхом и землями. При взимании налога на квартплату и налога на облигационный капитал учитывались инфляционные прибыли. Налог на квартирную плату, введенный Третьим постановлением о чрезвычайном налогообложении от 14 февраля 1924 г., был одновременно задуман как вклад в демонтаж «плановой» экономики. Во время войны и инфляционных лет плата за аренду жилья фактически была заморожена; по состоянию на конец 1923 г. финансовое министерство рейха оценивало соотношение актуальной платы за наем к довоенной в среднем на уровне 20 %. Чтобы способствовать новому строительству и ремонту жилья, кабинет Маркса стремился быстрее довести арендную плату до довоенного уровня. Министр финансов Лютер представлял темп повышения арендной платы таким образом, чтобы к концу 1924 г. она достигла 80 % от уровня мирного времени, но окончательное решение находилось в компетенции земель, а не рейха. С 1 апреля 1924 г. владельцам домов причиталось по меньшей мере 30 %, с 1 июля — не менее 40 % и с 1 октября — 50 % от размера довоенной арендной платы. Оставшаяся часть собиралась в виде налога на квартплату и должна была не в последнюю очередь направляться землями и муниципалитетами на строительство жилья — область, которая с 1914 г. испытывала острый отложенный спрос на инвестиции{250}. Самую спорную часть Третьего постановления о чрезвычайном налогообложении составляли положения о ревальвации. Давление, которое оказывалось на федеральное правительство в этом пункте, тем временем настолько усилилось, что Лютер не мог и далее придерживаться своей первоначальной линии — отклонение любых притязаний на ревальвацию. Постановление правительства от 14 февраля 1924 г. установило ставку ревальвации капиталовложений на уровне 15 % от суммы в пересчете на золотую марку. Однако погашение ревальвационного долга было отложено до 1932 г., а погашение и начисление процентов по государственным займам — до окончательной выплаты репараций, т. е. на неопределенное время. Эти положения ни в коей мере не соответствовали чрезмерным ожиданиям, разбуженным решениями Имперского верховного суда и Союза судей, и поэтому вызвали бурю протестов. Некоторые суды зашли настолько далеко, что объявили постановление правительства не имеющим юридической силы{251}. В отношении оккупированных областей Лютер также не смог осуществить свою политику в полной мере. Он намеревался прекратить все выплаты в оккупированных регионах после введения рентной марки, что неизбежно вызвало бы эскалацию конфликта с Францией и Бельгией. После интенсивных консультаций кабинет Маркса принял 5 декабря 1923 г. решение продолжить в этих областях выплату пособий по безработице и заработной платы служащим, а также снова взять на себя расходы по содержанию франкобельгийских войск и компенсации ущерба, возникшего в результате оккупации. Впрочем, правительство продолжало придерживаться линии, согласно которой рентная марка не вводилась в оккупированных областях или по меньшей мере не использовалась при официальных выплатах. Между тем пойти на уступки были вынуждены не только такие сторонники «разрыва с Францией», как Лютер и его коллега Яррес, вновь занявший в правительстве Маркса пост министра внутренних дел. На рубеже 1923–1924 гг. поражение потерпели также те политики, которые желали пойти навстречу стремлению Франции обезопасить себя путем создания западногерманского буферного государства. Министр иностранных дел Штреземан полагал, что шансы рейха прийти к прямым договоренностям с Парижем и Брюсселем быстро улучшатся после возобновления немецких платежей на содержание французских и бельгийских войск. Поэтому он настаивал на том, чтобы были прекращены все приватные переговоры рейнских властей и посредников с Межсоюзнической рейнской комиссией в Кобленце. Усилия Штреземана принесли успех: в январе 1924 г. обербюргермейстер Кельна Конрад Аденауэр отказался от своих планов по созданию автономного рейнского государства. Примерно в это же время влиятельные рейнские банкиры сделали выводы из того обстоятельства, что Париж из-за слабости франка был не в состоянии эффективно участвовать в основании Рейнско-Вестфальского золотого эмиссионного банка, и проект был сдан ими в архив. В свою очередь, правительственные переговоры с Францией, начатые в середине декабря 1923 г., первоначально не принесли никаких конкретных результатов. Но у немецкой стороны были основания рассчитывать на помощь англосаксов, которые играли решающую роль в экспертной комиссии, искавшей с середины января 1924 г. в Париже под руководством американского банкира Чарльза Дауэса решение репарационной проблемы{252}. Дальше, чем в Рейнской области, продвинулось умиротворение в другом кризисном регионе. С момента мюнхенских событий 8–9 ноября 1923 г. всем авгурам было ясно, что Кар и Лоссов ненадолго сохранят свои посты: оба серьезно скомпрометировали себя ролью, сыгранной в Пивном путче. С другой стороны, баварское правительство не желало тотчас же менять свою политику, стремясь сохранить свое лицо перед рейхом. 14 февраля 1924 г. между рейхом и Баварией был достигнут компромисс по главному спорному вопросу — правовому статусу главнокомандующего рейхсвера в Баварии. Рейх высказал согласие в будущем при решении вопроса об освобождении от должности главнокомандующего «консультироваться» с баварским правительством и по возможности учитывать его «обоснованные пожелания». Кроме того, формула присяги для вооруженных сил была дополнена обязательством соблюдения конституции соответствующей земли. С вступлением в действие этой договоренности утратил свою силу порядок комплектования баварских частей рейхсвера мюнхенским правительством. 18 февраля 1924 г. генеральный комиссар фон Кар и командующий баварским рейхсвером фон Лоссов подали в отставку. За государственную измена рейху они не понесли какого-либо уголовного наказания. Тем самым конфликт между Баварией и рейхом был официально урегулирован. Во многом это было достигнуто благодаря чрезвычайной предупредительности имперского правительства, в которое ради достижения этой договоренности вошла Баварская народная партия. И все же за несколько дней до 14 февраля 1924 г., знаменовавшегося достижением компромисса, между Берлином и Мюнхеном мог бы легко вспыхнуть новый конфликт, если бы кабинет Маркса с самого начала не отказался от пробы сил. Мюнхенское правительство выступило против отмены военного положения (инициатором отмены выступал сам генерал фон Сект), утверждая, что подобный шаг повредит предстоящему процессу против Гитлера и других участников путча 8 ноября 1923 г. Когда рейхспрезидент Эберт 28 февраля 1924 г. объявил об отмене военного положения по всей стране и одновременно уполномочил рейхсминистра внутренних дел предпринять шаги, необходимые для защиты республики от антигосударственных поползновений, он в заключение заявил, под жестким давлением со стороны имперского правительства, о своем согласии сделать исключение для Баварии, «принимая во внимание уже существующее и продолжающее там существовать чрезвычайное положение»{253}. Впрочем, приговор, вынесенный на процессе над Гитлером, отнюдь не стал поводом для того, чтобы вызвать возмущение в «национальных» кругах или вовсе спровоцировать новые попытки путча. 1 апреля 1924 г. народный суд Мюнхена оправдал Людендорфа по обвинению в государственной измене; пять других участников процесса, в том числе организатор СА Эрнст Рем, были условно приговорены к трем месяцам заключения и 100 маркам штрафа, а Гитлер и еще трое путчистов — к пяти годам заключения и 200 маркам штрафа. После отбытия шести месяцев заключения последние также могли ходатайствовать об освобождении на поруки. Суд зачел в пользу всем обвиняемым то, что они якобы «руководствовались в своих действиях неподдельным патриотическим духом и благородной, самоотверженной волей» и искренне полагали, что «они должны были действовать так во имя спасения отечества, а также делали именно то, что незадолго до этого было намерением ведущих политиков Баварии». С точки зрения морали подобный приговор и его обоснование равнялись оправданию — и именно так они и были восприняты за пределами Баварии{254}. Отмена военного положения в стране последовала 28 февраля 1924 г. не по настоянию кабинета Маркса, но, как это уже упоминалось, по ходатайству фон Секта. У того, что именно командующий сухопутных сил рейхсвера пожелал сложить с себя чрезвычайные полномочия, возложенные на него рейхспрезидентом в ночь с 8 на 9 ноября 1923 г., имелось две важные причины. Во-первых, авторитету рейхсвера угрожала «война местного масштаба», которую вели с ним гражданские учреждения — прежде всего в Саксонии, Тюрингии, но также и в Пруссии. Во-вторых, руководство рейхсвера боялось, что войска подвергнутся разложению со стороны праворадикальных военных союзов. Поэтому именно в то время, когда военное положение предоставило рейхсверу всеобъемлющие политические полномочия, его руководство не знало, какой поддержкой в войсках оно в действительности располагает. Руководствуясь этими двумя соображениями, военная верхушка пришла к выводу, что рейхсвер в интересах долгосрочных стратегических целей — прежде всего ради ревизии Версаля — настоятельно нуждается во внутренней консолидации. Отмена военного положения в первую очередь служила именно этой задаче. Постепенная стабилизация внутреннего положения в стране и намечавшаяся внешнеполитическая разрядка облегчили руководству рейхсвера осуществление задуманного тактического отступления{255}. Некоторое время в феврале 1924 г. дискутировался вопрос, должен ли сохраниться или быть отменен запрет на деятельность КПГ, НСДАП и Немецкой народнической партии свободы, наложенный Сектом 23 ноября 1923 г. Командующий сухопутных сил рейхсвера и большинство кабинета Маркса высказывались за пролонгацию запрета, министр внутренних дел Пруссии Северинг, напротив, требовал его отмены, ведь как известно, государственные репрессии являются лучшей пропагандой антигосударственных устремлений. Постановление Эберта от 28 февраля 1924 г. было компромиссом между этими противоположными позициями. В соответствии с ним отменялось военное положение, введенное законами от 26 сентября и 8 ноября 1923 г. Наложенные на основании этих законов ограничения личной свободы граждан, свободы прессы и деятельности союзов теряли свою силу, в том числе и запрет Секта на партии. Однако одновременно министр внутренних дел получил полномочия предпринять шаги, необходимые для защиты от антигосударственных устремлений. Ради этого и в дальнейшем были допустимы ограничение персональной свободы и свободы слова. Под запретом оставались общественные собрания под открытым небом и демонстрации. Согласно требованиям, высказанным Пруссией, власти федеральных земель имели право допускать исключения из этих правил. Это «гражданское военное положение» продолжалось в течение восьми месяцев. Только 25 октября 1924 г. оно было отменено очередным постановлением рейхспрезидента{256}. Сохранение смягченного военного положения должно было воспрепятствовать тому, чтобы имперское правительство в один момент не оказалось лишенным всех рычагов власти. Ведь 15 февраля 1924 г. — спустя день после издания Третьего постановления о чрезвычайном налогообложении — закончилось действие закона о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству от 8 декабря 1923 г., и о новых чрезвычайных полномочиях для кабинета Маркса не могло быть и речи. Социал-демократы, коммунисты и немецкие националисты после очередного созыва рейхстага 20 февраля 1924 г. неоднократно выступали с инициативами, направленными на изменение или отмену различных постановлений, принятых во время действия обоих чрезвычайных законов. Социал-демократы в первую очередь стремились к отмене постановлений о сокращении штатов и о продолжительности рабочего времени, а также хотели заменить налог с арендной платы на надбавки к налогу на имущество. Но правительство опередило голосование в рейхстаге. 13 марта 1924 г. по ходатайству кабинета рейхспрезидент распустил рейхстаг. Скорее всего аргументом, повлиявшим на Эберта, стало мнение о том, что изменение Третьего постановления о чрезвычайном налогообложении нанесет вред новой валюте. Новые выборы в рейхстаг были назначены на 4 мая 1924 г. Вместе с тем срок действия полномочий рейхстага, избранного 6 июня 1920 г., в любом случае закончился бы четырьмя неделями позже{257}. Партии, которые были временно запрещены на территории рейха, включились в избирательную борьбу с активностью, которая задним числом поставила под вопрос действенность государственных репрессий и подтвердила скептические оценки Северинга. Коммунисты после поражения «немецкого Октября» прошли через фазу ожесточенной борьбы левого и правого крыльев партии, закончившуюся явной победой крайне левых. Коминтерн и РКП(б) сделали все, чтобы изолировать «правое» крыло во главе с Брандлером и Тальгеймером. Их обоих представили как послушных эпигонов Троцкого и Радека, отстранение от власти которых стало общей целью тройки в составе Сталина, Зиновьева и Каменева, образовавшей после смерти Ленина 21 января 1924 г. новый центр власти в Советском Союзе. Но даже для левого Зиновьева полевение в КПГ зашло слишком далеко. На партийный съезд во Франкфурте в апреле 1924 г. большей частью безработными членами партии были избраны преимущественно «левые» делегаты, которые, в свою очередь, выбрали руководство, в подавляющем большинстве состоявшее из ультралевых. Среди них были такие интеллектуалы, как Рут Фишер, Аркадий Маслов, Вернер Шолем и Артур Розенберг, а также представитель революционного пролетариата — портовый рабочий из Гамбурга Эрнст Тельман — человек, пользовавшийся особым доверием Коминтерна. Менее радикальные коммунисты, несмотря на поддержку Зиновьева, оказались в меньшинстве. «Правая» Клара Цеткин вообще не была избрана в руководство партии. Решения партийного съезда носили отчетливый отпечаток авторства ультралевых. Делегаты заявили, что их целью является «окончательное искоренение остатков брандлеризма», свели тактику единого фронта к «революционному методу агитации и мобилизации масс» и объявили «борьбу насмерть» как социал-демократам — «реформистам», так и немецким националистам. Главной задачей партии съезд назвал «организацию революции». Для этой цели должны были быть созданы политические рабочие советы, которые сплотили бы пролетариат для вооруженной борьбы. Кроме того, КПГ, которая все еще сильно была похожа на социал-демократическую партию, должна была перестроиться на нелегальные методы ведения борьбы, а это могло быть осуществлено только в том случае, если бы партия основывалась на производственных ячейках. Таким образом, если русские коммунисты немногого добились на франкфуртском съезде со своими требованиями в отношении состава персонального руководства КПГ, то в своей структуре КПГ последовательно проводила все больше изменений, давно ожидавшихся от нее большевиками и ведущих к большевизации германской партии{258}. Партии крайне правых оставались под запретом на уровне земель также и после отмены военного положения, что, впрочем, не помешало им принять участие в предвыборной борьбе. Часть распущенной НСДАП вступила в союз с Немецкой народнической партией свободы, чтобы совместно сражаться за голоса антисемитов и крайне правых. Вхождение «народников» в союз с партией, в названии которой фигурировало слово «социалистическая», конечно же, вызвало в некоторых буржуазных кругах сильное недоверие. Северо-западная немецкая «Хандверк-Цайтунг» рассматривала немецких «народников» и национал-социалистов в апреле 1924 г. как «настоящее движение рабочих» и предостерегала от «большевистского яда в черно-бело-красной упаковке». Но уже выборы в баварский ландтаг 6 апреля показали, что многих избирателей ни в коей мере не испугала радикальная поза правых экстремистов: «Народнический блок», в избирательном списке которого присутствовали имена многих национал-социалистов, получил 23 из 129 мандатов — столько же, сколько смогла набрать СДПГ{259}. Из всех партий самый большой упор на защиту интересов пострадавших от инфляции сделала Немецкая национальная народная партия. Полное восстановление прав кредиторов стало важнейшим избирательным лозунгом ДНФП. Надежды на хорошие результаты выборов немецкие националисты питали также по другой причине: праволиберальная конкурирующая партия — ДФП — переживала процесс раскола. 12 марта 1924 г. конституировалось Национальнолиберальное объединение, поставившее себе целью «воздействовать на Немецкую народную партию в направлении осуществления ею строго национальной и антисоциалистической политики». За его образованием стояли представители тяжелой промышленности, концентрировавшиеся вокруг Гуго Штиннеса (умершего через несколько недель после этого, 10 апреля 1924 г.). Какую политическую цель преследовали инициаторы Национально-либерального объединения, ясно выразил в своем выступлении в апреле на совместном съезде Имперского союза немецкой промышленности и Общества союзов немецких работодателей Альберт Фёглер, генеральный директор концерна Штиннеса. «Надпартийное государство принадлежит прошлому, — заявил он. — Мы надеемся, что нам удастся возродить его для будущего». Руководство Немецкой народной партии ответило на отпадение «национальных либералов» заявлением о том, что подобная особая организация внутри партии невозможна и неприемлема. 7 апреля правление партии, ссылаясь на заявление ЦК, исключило из своих рядов членов Национально-либерального объединения, в том числе Фёглера и синдика торговой палаты Эссена Рейнольда Кватца, на что те, в свою очередь, ответили призывом к избирателям поддержать на выборах ДНФП. Вслед за этим на своем партийном съезде в Ганновере в конце марта Немецкая народная партия заявила, что социал-демократия продемонстрировала в имперском правительстве свою неспособность к управлению, и теперь на руководство государством «в силу исторического развития и своих свершений для немецкой культуры и экономики» претендует немецкая буржуазия. Однако следующее предложение оставляло открытой дверь для создания Большой коалиции: «Не должен быть отвергнут никто из тех, кто стремится, воодушевленный патриотическим духом, участвовать в возрождении сильной Германии»{260}. Партия, к которой был обращен этот призыв — СДПГ, начинала предвыборную борьбу за места в рейхстаге в состоянии такой внутренней разрозненности, как никогда ранее. Поводом для внутрипартийного раздора послужил затянувшийся на многие годы так называемый «саксонский конфликт». 14 декабря 1923 г. саксонская ДДП вышла из правящей коалиции под руководством социал-демократа Феллиша, образованной в Саксонии в конце октября 1923 г. В результате министр-президент был вынужден объявить об отставке своего правительства. 4 января 1924 г. большинство социал-демократической фракции в местном ландтаге, после конфиденциальных консультаций с руководством партии в Берлине, приняло решение об образовании коалиции с ДДП и ДФП. Это решение противоречило резолюции саксонского земельного партийного съезда, состоявшегося в начале декабря, в соответствии с которой социал-демократическая фракция не должна была в будущем входить в какие-либо коалиции без одобрения съезда. Фракционное меньшинство в составе 15 делегатов сразу же выступило против решения от 4 января 1924 г. и отказалось поддержать своими голосами предложенного большинством депутатов кандидата на пост министра-президента — бывшего министра финансов Макса Хельдта. Тем не менее Хельдт был избран главой нового саксонского кабинета, в том числе голосами 25 депутатов от СДПГ. Созванный 6 января 1924 г. земельный партийный съезд СДПГ 77 голосами против 16 выразил членам фракции крайнее недоверие. Связь, на которую они пошли с обеими либеральными партиями, была названа «безоговорочным подчинением политике силы, проводимой буржуазией». После того как большинство фракции со своей стороны заявило, что ее члены полностью осознают все возможные последствия своих действий, но не откажутся от своих решений, земельный партийный съезд при трех голосах против постановил подавляющим большинством: социал-демократическая партия в Саксонии «не принимает участия» в кабинете Хельдта и «не несет ответственности за образование данной коалиции». Фракционное большинство в действительности действовало в нарушение решения партсъезда, но у него были на то веские причины. Если бы СДПГ отказалась от участия в Большой коалиции, то в качестве альтернативы создания правительства большинства оставался либо «буржуазный блок» с вхождением немецких националистов, либо новое издание имевшего плачевный конец единого фронта с коммунистами. Ни первого, ни второго ответственно мыслящие социал-демократы не желали, и поэтому большинство фракции Дрезденского ландтага было уверено в том, что всенемецкий партийный съезд признает их правоту в конфликте с большинством саксонской партийной организации. Съезддолжен был состояться в конце марта 1924 г., но из-за выборов в рейхстаг его перенесли на июнь. Само собой разумеется, руководство СДПГ не могло пойти на то, чтобы во время предвыборных баталий продемонстрировать общественности партию, раздираемую внутренними конфликтами. Комментарии социал-демократического партийного органа по поводу саксонского кризиса вскрыли в начале января 1924 г. более масштабные размеры конфликта: в центре дебатов оказалось не более и не менее, чем отношение самой массовой немецкой партии к парламентской демократии. «Необходимо безоговорочно признать, что партия находилась в более удобном положении до тех пор, пока в Германии не была введена парламентская система, — писала «Форвартс». — Эта система с ее фатальной необходимостью достижения парламентского большинства для образования правительства еще не раз поставит нас перед решением трудной задачи». Крайне левому крылу партии, выразителем мнения которого стал Пауль Леви, бывший председатель КПГ, положение вещей виделось намного проще. «Мы исходим из того, что наша партия является прирожденной оппозиционной партией, — писал он в конце ноября 1923 г. — Это народное государство по своей экономической начинке является все тем же старым авторитарным государством… и тем самым определяется принципиальная позиция социал-демократического движения. Наше место в оппозиции». Отто Веле, один из трех председателей СДПГ, в середине февраля 1924 г. пришел к диаметральнопротивоположному выводу. На окружном партийном съезде в Бранденбурге он самокритично отметил, что с первого дня образования парламентских правительств социал-демократия была обязана осуществлять коалиционную политику: «Это было необходимо уже только для того, чтобы достичь мира. Мы, возможно, совершили ошибку. Я признаю себя виновным в том, что мы не всегда вступали в коалиции. Неверно было уделять слишком много внимания голосам, выступавшим против коалиции»{261}. После того как наиболее решительные противники сотрудничества с социал-демократами покинули ДФП, мысль о повторной Большой коалиции по результатам выборов в рейхстаг была отнюдь не фантазией. Среди буржуазных партий центра, за исключением Баварской народной партии, не было организаций, которые в принципе отрицали бы сотрудничество с СДПГ. Выдвинутый на должность председателя ДДП Эрих Кох-Везер не смог в своей речи перед партийным комитетом, произнесенной в конце января 1924 г., назвать какую-либо реальную альтернативу Большой коалиции. Таковой не могло выступить ни правительство меньшинства, являющееся только паллиативом до очередных выборов, ни буржуазный блок с участием немецких националистов, который «при силе и высокомерии этой партии» приведет к обстановке, аналогичной той, «которую мы сейчас, к нашему ужасу, переживаем в Баварии». В выступлении Кох-Везера в рейхстаге 28 февраля 1924 г. даже прозвучали ноты классовой борьбы. Пока СДПГ была у власти, заявил он, ДДП годами сражалась за то, чтобы государство не поработило экономику. Но в настоящий момент необходимо вести другую борьбу: «Сегодня нужно бороться против подчинения государства экономике, бороться против того, что делает экономика, попав, в свою очередь, в руки хозяйственных воротил». Сверх того, Кох-Везер высказал глубокую озабоченность тем, что «часть наших работодателей снова пытается возместить тот террор, который рабочие-коммунисты неоднократно практиковали в их отношении в 1919–1920 гг., тем, что сегодня они подчеркивают свое положение “хозяина в доме” более, чем это необходимо для либерального развития нашей экономической жизни». Выступая 5 марта 1924 г. перед рейхстагом от имени Партии Центра, председатель ее фракции прелат Каас также самым резким образом осудил тех работодателей, которые, «злоупотребляя позицией силы», пытаются использовать в своих целях чрезвычайное законодательство о продолжительности рабочего дня. Центр принципиально оставался на позиции защиты 8-часового рабочего дня и ожидал после преодоления экономического кризиса внесения нового закона о рабочем времени, в котором для тяжелых работ будет установлена 48-часовая рабочая неделя, для прочих работ — время, соответствующее условиям производства продукции и иностранной конкуренции, которое будет меньше, чем введенное работодателями в настоящий момент{262}. Еще одним признаком повторного внутриполитического сближения между буржуазными центристскими партиями и социал-демократией стало громкое внешнеполитическое событие, случившееся 9 апреля 1924 г. и обещавшее стать основой нового сотрудничества между умеренными силами всех политических лагерей. В этот день в Париже было опубликовано экспертное заключение комиссии Дауэса. В нем не определялась общая сумма выплат Германии по репарациям, но экспертиза исходила из того, что приведенная в Лондонском ультиматуме в мае 1921 г. сумма репараций в размере 132 миллиардов золотых марок превосходит производительные возможности Германии. Чтобы не нанести ущерба немецкой валюте, защитой транша — т. е. определением порядка выплат, принимавшим во внимание стоимость марки на мировом рынке, — должен был заниматься специальный агент по репарациям, приглашенный одним из государств-кредиторов. Ежегодные выплаты комиссия предлагала начать с суммы в один миллиард золотых марок и довести их в течение пяти лет до 2,5 млрд. Чтобы учесть требования Франции о предоставлении немецких гарантий, комиссия предложила преобразовать Имперские железные дороги в общество, обремененное определенными долговыми обязательствами. Членами его наблюдательного совета должны были также стать представители государств-кредиторов. В качестве дальнейшего обеспечения репарационных выплат комитет экспертов предусматривал передачу в залог некоторых доходных статей рейха и процентную ипотеку немецкой промышленности в размере 5 млрд марок. Существенной частью плана Дауэса был иностранный заем в размере 800 млн марок, который должен был послужить фундаментом для основания предложенного комиссией эмиссионного банка, а также для обеспечения стабильности немецкой валюты. Прибыль с займа была первоначально предусмотрена исключительно для финансирования внутринемецких платежей державам Антанты по таким статьям, как натуральные поставки или оккупационные расходы. Наряду с принципом, согласно которому при транше обязательно должна была приниматься во внимание стабильность немецкой валюты, иностранные, в первую очередь американские, кредиты были для Германии самой отрадной перспективой, открывавшейся благодаря деятельности комиссии Дауэса. Те ограничения немецкого суверенитета, к которым стремилась комиссия, конечно же, болезненно отразились на Германии, но переносились ею несравнимо легче, чем территориальные гарантии, которые присвоили себе Франция и Бельгия, оккупировав в январе 1923 г. Рурскую область. Новое качество американского присутствия в Европе обозначило четче, чем какое-либо другое событие, окончание послевоенного времени. Влияние США и собственная экономическая слабость Франции помогли прийти к пониманию того, что Франция не в состоянии добиться длительного обеспечения своего господствующего положения на европейском континенте. Уже одна надежда на то, что Вашингтон предложит конструктивные предложения для разрешения проблемы репараций и воспрепятствует сепаратным действиям Франции, оказывала стабилизирующее воздействие на Германию с конца 1923 г. Уже только ожидание американских кредитов способствовало тому, чтобы постепенно вывести Германию из состояния политической депрессии. Америка была жизненно заинтересована в том, чтобы оживить немецкую экономику. Рейх был важнейшим импортером американских товаров уже до 1914 г., и нигде не существовало столь многообещающих возможностей для успешного размещения американских капиталов, как в Германии. То, что Вашингтон так поздно решился принять на себя роль посредника в споре о репарациях, было обусловлено оппозицией «изоляционистов». Это течение в американской политике, подозрительно относившееся к любым видам активности Америки за океаном, оставалось все еще таким мощным, что первоначально невозможно было даже помыслить о политической поддержке нового экономического ангажемента Америки. Поэтому США не могли в действительности играть ту ведущую роль в мировой экономике, которая выпала на их долю после Первой мировой войны. Однако намерение указать европейцам выход из репарационного тупика стало решающим вкладом в смену декораций в мировой политике, осуществившейся осенью 1923 — весной 1924 г.{263} Иной вклад в стабилизацию ситуации в это же время и на свой лад внес Советский Союз. Усиливающееся отстранение Троцкого от власти, осуществлявшееся тройкой Сталин — Зиновьев — Каменев, означало также отход от концепции мировой революции Троцкого, трактуемой как перманентная революция. И хотя свое учение о «построении социализма в одной отдельно взятой стране» Сталин сформулировал только в 1925 г., находившаяся под его растущем влиянием внешняя политика Советского Союза следовала этому девизу, уже начиная со смерти Ленина в январе 1924 г. Неудача «немецкого Октября» только укрепила генерального секретаря ЦК РКП(б) в его убеждении, что Советский Союз должен приготовиться к длительной фазе, в течение которой он останется единственным революционным государством Европы, вынужденным сосуществовать с капиталистическими странами. Последние, в свою очередь, демонстрировали все более растущую готовность установить дипломатические отношения с Советским Союзом. До конца 1923 г. это сделали, за исключением прибалтийских государств, только две европейские страны: Германия в результате подписания договора в Рапалло в апреле 1922 г. и Польша в сентябре 1923 г. 1 февраля 1924 г. последовало формальное признание СССР одной из стран-победительниц — Великобританией, которой с января управлял лейбористский кабинет под руководством Макдональда. Несколькими днями позже примеру Великобритании последовала фашистская Италия. В феврале-марте 1924 г. дипломатические отношения с СССР установили также Австрия, Греция, Норвегия и Швеция, а в течение года — Китай, Мексика, Венгрия, и в заключение в октябре — Франция, где с июня 1924 г. пост премьер-министра занимал радикальный социалист Эррио. В то время как Соединенные Штаты Америки — одна из двух мировых держав, вступивших на европейскую сцену в 1917 г., — частично преодолели в 1923–1924 гг. избранную ими самими политику изоляции и стали играть на континенте активную роль, другая мировая держава, Советский Союз, двигалась в ином направлении: он отказался от попыток экспорта революции, неоднократно предпринимавшихся в предыдущие годы, и полностью посвятил себя своему собственному радикальному преобразованию. И все же во всех европейских демократиях Москва была представлена в последующие годы двойственным образом: дипломатическими представительствами, задачей которых было защищать «построение социализма» в стране победившей коммунистической революции, а также коммунистическими партиями, которые должны были способствовать тому, чтобы направить соответствующее государство по желательному для Советского Союза пути{264}. К событиям, изменившим международную ситуацию в 1923–1924 гг., также относятся уже упоминавшиеся смены правительств в Лондоне и Париже. В Великобритании лейбористы и либералы выиграли у тори выборы в палату общин 6 декабря 1923 г. 23 января 1924 г. страна получила в лице Рамсея Макдональда своего первого премьер-министра — лейбориста. Его кабинет представлял из себя правительство меньшинства, зависимое от либералов, и поэтому с самого начала был нестойким. Уже в ноябре 1924 г. лейбористы должны были уйти в отставку и снова передать бразды правления консерваторам, вышедшим победителями в результате выборов в палату общин 31 октября 1924 г. Однако во внешнеполитическом отношении большое значение имело то, что в промежуток времени между публикацией экспертного заключения комиссии Дауэса и подписанием «плана Дауэса» на Лондонской конференции в августе 1924 г. в Великобритании правили лейбористы. От такого кабинета Германия могла ожидать больше политической предупредительности, чем от консервативного правительства. Еще важнее для Германии была смена власти во Франции. Во время парламентских выборов 11 мая 1924 г., спустя неделю после выборов в рейхстагу восточного соседа, «Национальный блок» Пуанкаре проиграл «Картелю левых», избирательному союзу социалистов и буржуазных радикал-социалистов. 11 июня президент Франции А. Мильеран, один из архитекторов «Национального блока», сделал выводы из поражения и ушел в отставку. Во главе левобуржуазного кабинета, поддержанного социалистами, стал Эдуард Эррио, почитатель немецкой идеалистической философии, от которого Германия ожидала намного больше взаимопонимания, чем от Пуанкаре{265}. Публикация экспертного заключения Дауэса стала важной вехой избирательной кампании в рейхстаг. Имперское правительство заявило 27 апреля 1924 г. в своем предвыборном обращении по поводу предложений союзников о том, что они требуют от Германии величайших жертв, но все же эти предложения означают замену военной силы здравым экономическим смыслом, что «для нас, как для беззащитного народа, является прогрессом». Отклики среди социал-демократов были также позитивными. Коммунисты и националистически настроенные правые, напротив, призывали к борьбе против новых репарационных положений. Пангерманский союз потребовал введения «народнической» диктатуры, которая безоговорочно порвет с «политикой исполнения». ДНФП заявила о «процессе порабощения» и о «втором Версале», а КПГ показала себя способным учеником немецких националистов: в совместном воззвании коммунистических партий Германии, Франции, Бельгии и Италии к 1 мая 1924 г. они также бичевали план Дауэса как «второй Версаль», следствием которого будет порабощение германского пролетариата и пролетариата других европейских стран{266}. Выборы в рейхстаг 4 мая 1924 г. принесли большой успех крайне правым и тяжелое поражение умеренным левым. Число голосовавших за ДНФП увеличилось по сравнению с 1920 г. на 1,4 млн или на 4,4 %, с 15,1 % до 19,5 %. Таким образом эта партия стала сильнейшей внутри буржуазного лагеря и второй — в целом. Вступившая в союз с оставшимися без вождя национал-социалистами Немецкая народническая партия свободы одним ударом получила 1,9 млн голосов, что соответствовало 6,5 %. Тем самым свыше четверти немцев проголосовали в середине мая за правых антиреспубликанцев. Для партий слева от центра выборы характеризовались двояким образом: сильным перераспределением голосов от социал-демократов к коммунистам и значительным падением численности голосов, поданных за «марксистов» в целом. Во время выборов в рейхстаг в июне 1920 г., учитывая дополнительные выборы в отдельных избирательных округах в 1921 и 1922 гг., рабочие партии в целом получили 11,7 млн или 41,7 % поданных действительных голосов. В мае 1924 г. число их избирателей составило 9,7 млн или 34 %, т. е. ровно на 2 млн меньше. Численность избирателей СДПГ понизилась с 6,1 до 6,0 млн или с 21,7 % до 20,5 %. То, что на первый взгляд кажется небольшой потерей, в действительности было почти катастрофой: в мае 1924 г. вновь объединенная социал-демократия получила меньше голосов, чем одни правые социал-демократы в 1920 г. Из 5,0 млн избирателей, голосовавших в 1920 г. за Независимую социал-демократическую партию Германии и обеспечивших ей 17,9 % голосов, очевидно, только очень немногие видели свою новую политическую родину в СДПГ. КПГ получила почти 3,7 млн голосов, что соответствовало доле в размере 12,6 %. Таким образом, коммунисты впервые добились успеха в масштабах страны как массовая пролетарская партия, но количество дополнительных голосов, полученных ими — 3 млн, было существенно меньше потерь социал-демократии, а именно — 5 млн голосов. Партии буржуазного центра и умеренные правые должны были также смириться с тяжелыми потерями. ДФП опустилась с 13,9 % (3,9 млн) в июне 1920 г. до 9,2 % (2,7 млн) в мае 1924 г.; ДДП — с 8,3 % (2,3 млн) до 5,7 % (1,66 млн). Сравнительно менее болезненными были потери католических партий. Центр опустился с 13,6 % (3,8 млн) до 13,4 % (3,9 млн), БФП — с 4,2 % (1,17 млн) до 3,2 % (947.000). Мелкие буржуазные группировки получили в мае 1924 г. в совокупности 8,5 % (2,5 млн). В сравнение с 1920 г. это означало прирост в размере 5,3 % (+ 1,56 млн). Некоторые напрашивающиеся сами собой предположения подтвердились в результате обследования отдельных избирательных округов и муниципалитетов: партии радикальных правых, немецкие националисты и немецкие «народники» отняли голоса прежде всего у обеих либеральных партий; из этого же источника пополнили свои ряды группы среднего сословия и аграрии, из которых самой большой была Имперская партия немецкого среднего сословия, коротко именовавшаяся Экономической партией. Коммунисты приросли прежде всего за счет избирателей, ранее голосовавших за НСДПГ, но также и за счет электората СДПГ. Однако среди электората произошли также другие, более удивительные подвижки. Так, вероятнее всего, значительное число бывших избирателей, голосовавших ранее за рабочие партии, сменили свои симпатии в пользу радикальных правых. Связь между потерями рабочих партий и приобретениями немецких националистов, а местами и «народников», была очевидной прежде всего в преимущественно протестантской Остэльбии, причем соответствующие подвижки наблюдались как в сельских, так и в городских избирательных округах. Таким образом, сельскохозяйственные рабочие могли быть только одним источником дрейфа слева направо в мае 1924 г. Во Франконии, бывшей одной из первых цитаделей национал-социалистов, крайне правые смогли в ряде местностей, облик которых определялся текстильной промышленностью, привлечь на свою сторону многочисленных избирателей, еще в 1920 г. голосовавших за НСДПГ. И все же большую часть своих новых сторонников ДНФП и немецкие «народники» завоевали не среди рабочих, а среди представителей средних слоев, занимавшихся собственным бизнесом или работавших по найму, в значительной степени утративших доверие к государству во время инфляции. Первые выборы в рейхстаг, состоявшиеся после стабилизации марки, прошли в тот момент, когда всеобщее политическое возбуждение уже пошло на спад. На пике кризиса, летом и осенью 1923 г., радикальные силы справа и слева наверняка получили бы еще большую поддержку. Притягательная сила национал-социалистов очевидно была бы тогда еще значительнее, чем у крайне левых. Попытка коммунистического переворота привела бы только к одному результату: провозглашению «национальной диктатуры», опиравшейся на рейхсвер. То, что Веймарская республика смогла преодолеть кризис 1923 г., не свалившись в состояние открытой диктатуры, исходя из перспективы весны 1924 г. кажется еще менее само собой разумеющимся, чем за полгода до этого{267}. После того как немецкие националисты в результате выборов стали самой значительной буржуазной партией, а благодаря помощи 10 делегатов от Ландбунда и самой сильной фракцией рейхстага, было неудивительно, что они претендовали на ведущую роль в новом правительстве. Из других буржуазных партий за участие ДНФП в правительстве выступала в первую очередь ДФП. Но партия Штреземана поставила свою поддержку в зависимость от условия, которое немецким националистам, учитывая их предвыборные лозунги, было трудно выполнить: недвусмысленное признание экспертизы комиссии Дауэса. С другой стороны, ни одна из центристских партий не была готова признать в качестве рейхсканцлера предложенного от ДНФП кандидата — бывшего гросс-адмирала Тирпица. Поэтому рейхспрезидент Эберт поручил Вильгельму Марксу, объявившему 26 мая 1924 г. об отставке своего кабинета, начать формирование нового правительства. Повторные переговоры с ДНФП протекали так же безуспешно, каки предыдущие. Немецкие националисты потребовали того, на что не могли согласиться умеренные буржуазные партии: изменения курса внешней политики, отставки Штреземана с поста министра иностранных дел и скорейшего преобразования прусского кабинета, являвшегося правительством Большой коалиции. Все говорило за то, что немецкие националисты сами не рассчитывали на удовлетворение этих требований и вели торг только для соблюдения приличия. По партийно-тактическим причинам для них было важно не принимать участия в формировании правительства до тех пор, пока не будет разрешен репарационный вопрос. Маркс, разгадавший эту интригу, 3 июня прервал переговоры. В тот же день прежние министры были утверждены в своих должностях{268}. Возможность формирования новой Большой коалиции после тяжелого поражения СДПГ в ходе выборов в рейхстаг ни одной из сторон не рассматривалась серьезно. На партийном съезде социал-демократов, который состоялся в Берлине 11–14 июня 1924 г., руководство СДПГ было вынуждено выслушать серьезные упреки со стороны левого крыла в адрес своей прежней коалиционной политики. Председатель Немецкого союза металлистов, бывший независимый социал-демократ Роберт Диссман противопоставил «тактичному отношению к государству и буржуазным коалиционным партиям» «политику непримиримой классовой борьбы», которая только одна могла помочь завоевать обратно голоса избирателей из рабочих, перешедших в стан коммунистов. Председатель партии Герман Мюллер разъяснял в извинительном тоне, что если окинуть взглядом коалиционные правительства последних лет, то «мы только тогда входили в правительство, когда мы должны были в него войти. Причины, которые нас побуждали к этому, почти всегда были внешнеполитическими». В заявлении, предложенном Мюллером и принятом 262 голосами делегатов против 105, партсъезд характеризовал коалиционную политику как вопрос тактики, а не принципа. Участие социал-демократов в правительстве могло состояться только «после всестороннего взвешивания преимуществ и недостатков, которые могут последовать для малоимущих в результате этого шага. При этом должна быть уверенность, что рабочий класс не будет приносить жертвы в одностороннем порядке». Таким образом, СДПГ не приняла на себя обязательств не участвовать в будущих коалициях, но непосредственный вывод из решения был ясным: социал-демократы на общегерманском уровне рассматривали свою оппозиционность как нормальное состояние, а участие в правительстве — как исключение из правила{269}. Единственной партией, которая участвовала в первом кабинете Маркса, но не вошла во второй, стала БФП. 14 апреля 1924 г. в отставку подал министр юстиции Эммингер. Таким образом мюнхенское руководство партии выразило свой протест против решения Партии Центра выдвинуть в Баварии своих собственных кандидатов на выборах в рейхстаг. Электоральные потери, который Центр причинил БФП, были значительными только в Пфальце, но разлад между этими двумя партиями пережил предвыборную борьбу и привел к тому, что БФП и далее предпочитала держаться на дистанции от правительства меньшинства под руководством представителя Центра — канцлера Маркса{270}. Вследствие этого второй кабинет Маркса мог полагаться в рейхстаге только на голоса Центра, ДДП и ДФП — на 138 из 472 депутатов. Чтобы утвердиться в парламенте правительству необходимо было заручиться терпимым отношением со стороны социал-демократов или немецких националистов. Для принятия важнейшего законопроекта, — «плана Дауэса» — было недостаточно даже абсолютного большинства голосов. Если предложение экспертов о преобразовании Имперских железных дорог в общество и обременении последнего долговыми обязательствами оставалось в силе, то необходимо было внести изменения в конституцию страны, для чего было необходимо получить две трети голосов депутатов рейхстага. Насколько благосклонно отнесутся к этому немецкие националисты, оставалось в высшей степени неопределенным. Следствием этого стали разговоры, которые велись как в правительстве, так и за его пределами, о роспуске рейхстага и принятии «плана Дауэса» в ходе плебисцита{271}. Международные переговоры по «плану Дауэса» проходили начиная с середины июля в Лондоне. Сначала участие в них принимали европейские союзники и США. С 5 по 16 августа 1924 г. в конференции также участвовала немецкая правительственная делегация. Репарационные вопросы в узком смысле не стояли при этом на повестке дня, так как, по мнению союзников, все необходимое уже было сказано в отчете экспертов. Дебаты велись по поводу политических вопросов, в первую очередь — об освобождении «недавно оккупированных» областей. Немецкая сторона требовала незамедлительного вывода войск с этих территорий, но в конце концов под натиском англосаксов должна была удовлетвориться компромиссом: французы и бельгийцы обещали в течение года освободить области, оккупированные в 1921 и в 1923 гг., а на следующий день после окончательного подписания соглашения — очистить зону Дортмунд-Хёрде, а также все правобережные рейнские территории, оккупированные в январе 1923 г. Рейхсканцлер Маркс в конце концов также отказался от того, чтобы выступить в Лондоне с заявлением против статьи Версальского договора «об ответственности Германии за развязывание войны». Подобный официальный протест, опубликованный 29 августа в Берлине, за день до подписания Лондонского соглашения, был призван оказать определенное воздействие на немецких националистов, которые и были собственно адресатами этого послания. Дипломатический скандал в Лондоне, напротив, поставил бы на карту то, в чем Германия настоятельно нуждалась как по внешнеполитическим, так и по экономическим причинам: доверие бывших военных противников. Лондонское соглашение стало для Германии большим успехом. Это была, как с полным правом отметил премьер-министр Макдональд, «первая действительно согласованная договоренность с момента войны». Рейнская область осталась в составе Германии и была как экономически, так и финансово снова полностью принята в рейх. Германия получила право, после того как рентная марка утвердит свою покупательную силу благодаря ограничительной кредитной политике рейхсбанка, заменить временную валюту постоянной рейхсмаркой, на 40 % обеспеченной золотом или иностранной валютой. Правда, некоторые новые институты, такие как иностранный генеральный агент по репарационным траншам, иностранный комиссар, контролировавший денежную эмиссию, Генеральный совет рейхсбанка, состоявший на паритетных началах из немцев и иностранцев и Совет управляющих общества Имперских железных дорог, также образованный по паритетному принципу, существенно ограничивали немецкий суверенитет. Но Германия в результате подписания «плана Дауэса» одновременно получала необходимую начальную экономическую помощь, которая послужила прологом для получения дальнейших иностранных кредитов. Это было больше, чем просто экономический выигрыш — Германия оказалась в состоянии финансово поддержать свои претензии на политическую реабилитацию и на тотальную ревизию Версальского договора. Стороной, проигравшей в результате установления нового порядка, закрепленного в Лондоне, была Франция. Она не достигла целей, которые ставила перед собой, оккупировав Рур, и должна была сделать в Лондоне политические выводы из своей относительной экономической и финансовой слабости. Тем самым закончился короткий период господства Франции на европейском континенте. На Лондонской конференции сложилось непростое равновесие, при котором обе страны могли продемонстрировать друг другу свое превосходство в различных областях: Франция — в военном секторе, Германия — на поле народного хозяйства, более важном в долгосрочной перспективе{272}. В отношении большинства законов, связанных с принятием «плана Дауэса», не было сомнений, что они получат поддержку в рейхстаге: правящие партии могли с самого начала положиться на помощь СДПГ. Что же касается закона об Имперских железных дорогах, для принятия которого было необходимо получить две трети голосов, то исход голосования оставался открытым до последнего. Все зависело от того, сможет ли достаточная часть депутатов от ДНФП осознать необходимость проголосовать «за». В этом смысле воздействие на немецких националистов оказывали Имперский союз немецкой промышленности, христианско-национальные профсоюзы и в течение какого-то времени, хотя и с оговорками, даже Ландбунд. ДФП со своей стороны выдвинула предложение о вступлении ДНФП в правительство после того, как немецкие националисты проголосуют за «план Дауэса». Рейхспрезидент и рейхсканцлер угрожали в случае голосования против Лондонского соглашения роспуском парламента, и в конце концов правительство выступило 29 августа 1924 г. с уже упоминавшимся заявлением по поводу сформулированного союзниками положения об ответственности Германии за развязывание войны, в котором говорилось, что настоящее примирение и понимание между народами невозможно до тех пор, пока немецкий народ не будет освобожден от «гнета этого ошибочного обвинения» и его не перестанут клеймить как «преступника против человечности». Комбинация кнута и пряника, угроз и уступок оказала свое воздействие. В ходе решающего голосования в рейхстаге 29 августа 1924 г. 52 члена фракции немецких националистов проголосовали против и 48 — за подписание Лондонского соглашения. Для получения большинства, необходимого для изменения конституции в случае с принятием Закона об Имперских железных дорогах, было необходимо, чтобы на заседании рейхстага присутствовало по меньшей мере две трети от узаконенного числа в 466 делегатов; в свою очередь, за принятие закона должны были проголосовать две трети присутствующих. В голосовании принял участие 441 депутат, таким образом для достижения квалифицированного большинства необходимы были 294 голоса, поданных за закон. В действительности законопроект был принят 314 голосами. Тем самым поддержка около половины фракции немецких националистов сделала возможным принятие Лондонского соглашения{273}. На следующий день после третьего чтения «закона Дауэса» рейхстаг должен был заняться законопроектом имперского правительства, который задумывался как политическая премия для правых националистов. Законопроект, возникший в окружении рейхсминистра продовольствия графа Каница, который до октября 1923 г. сам входил в состав ДНФП, предусматривал повторное введение 10 января 1925 г. (в этот день прекращало свое действие зафиксированное в Версальском договоре обязательство Германии предоставить в одностороннем порядке режим наибольшего благоприятствования союзным державам, что означало обретение рейхом свободы действий во внешней торговле) отмененной в 1914 г. таможенной протекционистской аграрной пошлины, так называемого «тарифа Бюлова» 1902 г. Когда Каниц в июне 1924 г. поддержал соответствующее требование Ландбунда относительно таможенной политики, он открыто заявил, выступая в правительстве, что подобным образом можно скорее всего преодолеть враждебность немецких националистов по отношению к «плану Дауэса». Правительство сначала также было готово внести таможенный законопроект на рассмотрение рейхстага еще до ратификации «плана Дауэса», но под воздействием протестов профсоюзов и предупреждений прусского правительства изменило свои намерения. Таким образом, первые чтения законопроекта были назначены на 30 августа. Но до голосования дело не дошло: фракции социал-демократов и коммунистов не стали участвовать в заседании, лишив рейхстаг кворума. В результате работа рейхстага была прервана до 15 октября 1924 г. За три дня до окончания парламентской паузы правительство сообщило, что вследствие изменения видов на урожай таможенный законопроект не может быть внесен на рассмотрение в прежнем виде и поэтому отзывается. Парламентская обструкция со стороны левых была актом политической самообороны. Сделав невозможным обсуждение этого законопроекта, социал-демократы совместно с коммунистами воспрепятствовали жертвам, которых они не могли потребовать от своих сторонников. Кроме того, это было бы безответственно в отношении всего народного хозяйства. Протекционная пошлина для сельскохозяйственной продукции, в первую очередь для пшеницы, означала удорожание стоимости жизни широких народных масс и вызвала бы ответные санкции пострадавших стран в форме барьеров для немецкого промышленного экспорта. В итоге пришлось бы считаться с тем, что возвращение к политике аграрного протекционизма привело бы к сокращению рабочих мест в промышленности{274}. Предприниматели и промышленники — представители буржуазного центра, в принципе, расценивали ситуацию точно так же. Но ДФП — правофланговая партия кабинета Маркса, с конца сентября 1924 г. стала выступать за корректуру политического курса, которую невозможно было осуществить без серьезных уступок крупным землевладельцам. Выполняя свои обещания, данные ДНФП накануне решающего голосования 29 августа 1924 г., ДФП, вновь потребовала включения немецких националистов в правительство. После принятия «законов Дауэса», по мнению прежде всего правого крыла Немецкой народной партии, более не было нужды принимать во внимание социал-демократов. И на самом деле, теперь можно было легче, чем ранее, добиться внешнеполитической стабилизации путем подвижки вправо, а после того как значительная часть ДНФП сделала возможным ратификацию Лондонского соглашения, этот маневр и внешнеполитически стал казаться менее опасным. Тем не менее рейхсканцлер испытывал сильные сомнения по поводу кабинета, сформированного только из представителей буржуазного блока. Во внутренней политике он предвидел жесточайшую оппозицию со стороны социал-демократии, во внешней политике такой альянс предвещал затруднения для решения проблемы оккупированных областей. Кроме того, он должен был считаться с сопротивлением ДДП и левого крыла своей собственной партии, выступавшего против правой коалиции. Поэтому 1 октября 1924 г. он предложил имперскому правительству выход из дилеммы, который на первый взгляд казался соломоновым: одновременное расширение коалиции за счет левых и правых, создание правительства «народного единства» с включением СДПГ и ДНФП. Подобная «широчайшая коалиция» никогда не была более чем фантомом, выражением принятия желаемого за действительное: эти две партии, находящиеся на разных флангах политической оси, были отделены друг от друга целыми мирами, и никакой формальный компромисс не мог помочь преодолеть эту пропасть. Однако в первой половине октября переговоры о создании такого «союзного» правительства велись. Установки кабинета, предложенные партиям на рассмотрение 7 октября 1924 г., были сознательно сформулированы весьма расплывчато. Они сводились к заявлениям о приверженности конституции, Лондонскому соглашению, экономическому росту и принципам социальной справедливости при распределении тяжести репарационных платежей. Социал-демократы, в свою очередь, 8 октября потребовали более точных формулировок, прежде всего по поводу республиканской формы устройства государства, преемственности прежней внешней политики кабинета Маркса и ратификации Вашингтонского соглашения о международном введении 8-часового рабочего дня. Немецкие националисты со своей стороны в тот же день потребовали христианизации культуры и воспитания юношества, отказа от классовой борьбы и официального заявления в адрес союзнических держав о «невиновности Германии в развязывании войны». СДПГ из этого с полным правом сделала вывод о том, что ДНФП отклоняет сотрудничество с социал-демократами, а 10 октября 1924 г. рейхсканцлер также пришел к заключению, что попытка расширения правительства в обе стороны завершилась неудачей. Кроме «широчайшей коалиции» теоретически можно было представить себе еще четыре возможных решения проблемы. Первая заключалась в одностороннем расширении кабинета направо, чего желала ДФП, но против чего резко выступала ДДП и часть Центра. В качестве второй возможности можно было подумать о Большой коалиции с социал-демократами, за которую выступала ДДП, в то время как ДФП и большинство Центра были против. В-третьих, можно было рассчитывать на сохранение действующего правительства меньшинства Маркса. Но так как все полагали, что предложение о вынесении вотума недоверия правительству будет обязательно внесено в рейхстаг и им принято, то ДФП не хотела поддерживать этот третий вариант, за который выступала ДДП при поддержке Центра. В итоге остался только четвертый путь, по которому и пошло правительство, выступив 20 октября с инициативой роспуска рейхстага. В этот же день Эберт осуществил то, что правительство полагало неизбежным: он распустил рейхстаг и назначил новые выборы на 7 декабря 1924 г.{275} Вторая предвыборная кампания 1924 г. проходила под знаком экономического подъема, который был в основном обусловлен иностранными кредитами, начавшими поступать в страну. Значительный рост безработицы летом 1924 г., вызванный строгим запретом на выдачу кредитов, наложенным рейхсбанком, осенью сменился ее неуклонным падением: с 12,4 % безработных рабочих — членов профсоюзов в июле до 7,3 % — в ноябре 1924 г. Тарифная почасовая ставка выросла в среднем (если основываться на данных 12 отраслей промышленности, выбранных для анализа) с 57 пфеннигов в январе 1924 г. до 72,5 в январе 1925 г. В целом профсоюзы оказались более успешными на «фронте» борьбы за повышение заработной платы, чем в битвах за сокращение рабочего времени. Но и здесь наблюдались существенные улучшения. В мае 1924 г., по данным АДГБ, 54,7 % рабочих должны были трудиться более 48 часов в неделю, а 13 % — даже более 54 часов. В ноябре 1924 г. доля рабочих, работавших более 48 часов, составляла только 45,4 %{276}. Улучшение экономической и социальной ситуации не давало крайне левым и крайне правым партиям повода для особых позитивных ожиданий в отношении парламентских выборов. Но ни одна из них и не подумала о смене своей предвыборной тактики или изменении лозунгов в сторону их большей умеренности. Коммунистам нравилось «разнообразить» заседания рейхстага с помощью свистков и детских горнов. Чтобы высмеять формальную обязанность депутатов городских собраний аплодировать, коммунисты кое-где появлялись на заседаниях в красных рукавицах или демонстративно умывали руки в принесенных с собой посудинах после каждого выполнения депутатских обязанностей. Основанный в июле 1924 г. Союз красных фронтовиков на заре своего создания предпочитал нападать на образованный в феврале того же года Железный фронт, боевую организацию республиканских сил, созданную преимущественно из рабочих — социал-демократов. Драки между двумя группировками летом и осенью 1924 г. были повседневным явлением. Крайне правых к предвыборной борьбе побуждало организованное в августе 1924 г. в Веймаре Национал-социалистическое освободительное движение, объединившее в своих рядах немецких «народников» и северогерманских националистов. Вождями группировки выступили Эрих Людендорф и Альбрехт фон Грефе, избранные в мае 1924 г. депутатами рейхстага. На веймарском «Рейхсконвенте» движение заявило о своей приверженности «25 программным пунктам Гитлера» 1920 г. и признании своего коллективного руководства в составе Людендорфа, Гитлера и Грефе. Другая часть немецких национал-социалистов по тактическим причинам отклонила Людендорфа в качестве фактического вождя партии и организовалась в Великогерманское народной содружество, не участвовавшее в выборах в рейхстаг. Гитлер во время своего заключения в крепости Ландсберг не участвовал в спорах своего окружения и предпочитал писать «Майн Кампф». Когда 23 декабря 1924 г. Гитлер был досрочно освобожден, его репутация для всех партий правоэкстремистского лагеря осталась незапятнанной{277}. Две партии, которые в первую очередь могли надеяться на выигрыш в результате потерь экстремистских сил, ДНФП и СДПГ, стремились скрыть от посторонних глаз свою внутреннюю разобщенность. У немецких националистов после раздельного голосования фракции рейхстага 29 августа дело дошло до открытого выступления против партийного руководства. Непримиримые противники Лондонского соглашения, получившие наиболее сильную поддержку от остэльбских земельных союзов, ополчились против председателя партии Хергта. Бывший министр финансов Пруссии, он сам выступал против всех законов, связанных с «планом Дауэса», но он терпимо относился к инакомыслящим. 18 сентября на заседании председателей земельных союзов партии Хергт заявил, что он подаст в отставку со своего поста, если переговоры об участии ДНФП в правительстве окончатся неудачей. 23 октября 1924 г. он выполнил это обещание и ушел с поста как председателя партии, так и руководителя фракции в рейхстаге. Руководство партией в качестве временно уполномоченного было поручено умеренно консервативному председателю фракции в прусском ландтаге, президенту евангелического Генерального Синода, теологу Фридриху Винклеру. Еще за два дня до этого фракция ДНФП в рейхстаге наглядно продемонстрировала в своем открытом заявлении, в каком направлении она желает вести предвыборную борьбу: «Наша партия остается такой, как была — монархической и народной, христианской и социальной. Наши цели сохраняются в неприкосновенности, как и наше имя: немецкими и национальными. Нашими славными цветами остаются черно-бело-красный, наша воля сильнее, чем когда-либо: создадим Германию, свободную от владычества евреев и французов, свободную от парламентского хаоса и демократического господства капитала…» Такая беспардонная агитация была нацелена прежде всего на немецких «народников» и национал-социалистов. В своих листовках ДНФП, подобно Гитлеру, говорила о «социал-демократических преступниках ноября», называла себя «сильнейшей партией среднего сословия» и заявляла «немецким соотечественникам»: «Кто не участвует в выборах, тот станет рабом еврейства, французским кули, тот призывает в страну большевизм и жертвует своими детьми». Официальное предвыборное воззвание от 29 октября 1924 г. еще раз продемонстрировало всему миру антиреспубликанские установки немецких националистов: «Сегодня нам необходимо стать настолько сильными, чтобы благодаря нашей мощи и нашему влиянию, соразмерному важности момента, добиться вхождения в правительство. Сегодня близок день великой борьбы в Рейхе и Пруссии, который принесет победу или черно-бело-красным, или черно-красно-желтым. Нет расколу в национальном лагере!»{278} Социал-демократам улаживание или предотвращение внутрипартийных противоречий удалось менее успешно, чем немецким националистам. Подспудно тлеющий с начала года «саксонский конфликт» — спор между земельной партийной организацией и большинством фракции в местном ландтаге по поводу образованной 4 января Большой коалиции в составе СДПГ, ДДП и ДФП (Центр в евангелической Саксонии роли не играл) был урегулирован на берлинском партийном съезде в июне 1924 г. только для виду. Одобренное делегатами компромиссное предложение особой «саксонской комиссии» предусматривало, что решения партийного съезда земли хотя и обязательны, в принципе, для фракции, но руководство партии и партийный комитет имеют право «приостанавливать» их «до решения партийного съезда, если они противоречат постановлениям партсъезда или наносят тяжелый вред интересам партии в целом». Далее партсъездпринял постановление о недопустимости в настоящий момент перехода правительства Саксонии в руки реакции. Если же от социал-демократов последует выдвижение депутатов в новый ландтаг, то должны были быть выдвинуты прежние депутаты, причем позиция «отдельных товарищей в урегулированном теперь партийном споре» не должна была приниматься во внимание. Четыре месяца спустя стало очевидно, что берлинский компромисс был построен на песке. 26 октября 1924 г. земельный партсъезд саксонской организации СДПГ в отсутствие большинства депутатов фракции ландтага принял решение потребовать незамедлительного роспуска ландтага и проведения новых выборов 7 декабря 1924 г., в день выборов рейхстага. Одновременно земельный партсъезд рекомендовал «выдвинуть (снова) прежних депутатов, если только в отдельных случаях особые соображения, прежде всего интересы партии, не делают их повторное выдвижение невозможным». За исключением четырех слов («прежде всего интересы партии»), это решение соответствовало рекомендациям, одобренным берлинским партийным руководством, с которыми двумя днями ранее согласились обе стороны конфликта. Но это добавление исказило первоначальный смысл с точностью до наоборот: земельный партсъезд предоставил полномочным организациям право решать, выдвигать ли старых депутатов или заменить их новыми, и кое-где места повели себя соответствующим образом. Руководство СДПГ отразило неожиданный удар саксонских левых, рекомендовав действовавшей фракции дрезденского ландтага выдвигать запрос на роспуск парламента или давать свое согласие на соответствующие запросы других фракций только в том случае, если будут устранены все разногласия по вопросу выдвижения в ландтаг кандидатов от СДПГ. Большинство фракции приняло этот совет и проголосовало 8 ноября против предложений немецких националистов и коммунистов о роспуске ландтага, которые вследствие этого были отклонены. Тремя днями позже земельные инстанции саксонской организации СДПГ со всей резкостью выступили против 23 депутатов от социал-демократов, голосовавших против роспуска ландтага и выдвинули в их адрес обвинения в тяжелом нарушении партийной дисциплины и нанесении вреда интересам партии. Окружным организациям было рекомендовано озаботиться немедленным отзывом «нарушителей дисциплины» и лишением их депутатских мандатов. Правительству земли под руководством социал-демократа Макса Хельдта руководство саксонской СДПГ выразило категорическое недоверие. 17 делегатов, голосовавшие за роспуск ландтага, напротив, были охарактеризованы как единственные представители интересов социал-демократической партии. Сначала казалось, что вызов со стороны саксонской партийной организации лишил руководство СДПГ дара речи. Только 13 ноября 1924 г. оно заявило, что не будет сейчас занимать какую-либо позицию в отношении недавних деклараций как саксонской партийной инстанции, так и фракционного большинства. По его мнению, теперь необходимо было отставить в сторону все антагонизмы в вопросах местной политики, чтобы не ослаблять борьбу против угрозы буржуазного блока на всегерманском уровне. Но молчание наверху уже не могло заглушить конфликт. 19 ноября в Дрездене собралось более тысячи сторонников саксонского фракционного большинства, в том числе многие партийные функционеры с большим стажем, которые заявили, что «23 умеренных депутата, отклонив роспуск ландтага, лучше послужили рабочему классу, чем радикалы». Симпатизирующие фракционному большинству заверили правительство Хельдта в своей поддержке и обещали «сделать все, чтобы просветить массы и вывести на чистую воду политиков, ведущих к катастрофе». Они также потребовали, кратко формулируя свои убеждения, «вместо политики фраз — политику практической работы». Таким образом, за три недели перед выборами в рейхстаг «конфликт в Саксонии» достиг своей драматической кульминации. В Саксонии, которая уже до 1914 г. была цитаделью социал-демократических левых, а позднее, с 1917 г. — НСДПГ, теперь наметился организационный раскол СДПГ, и было очевидно, что радикальное крыло партии совершенно сознательно привело этот процесс в движение. Партийное руководство СДПГ в конце концов предпочло действиям сконфуженное молчание. В ходе вторых выборов в рейхстаг 1924 г., от которых социал-демократы так многого ожидали, их партия не смогла показать себя более сплоченной, чем в ходе выборов 4 мая{279}. Отличительной особенностью результатов выборов 7 декабря 1924 г. была определенная тенденция к де радикализации общества. Крайние право- и левофланговые партии — немецкие «народники», теперь оформившиеся организационно как Национал-социалистическое освободительное движение, и коммунисты — вышли из выборных баталий ослабленными. Рост сторонников записали на свой счет, несмотря на внутренние распри, социал-демократы и в гораздо меньшей степени немецкие националисты. Доля голосовавших за СДПГ увеличилась с 20,5 % до 26 %, за ДНФП — с 19,5 % до 20,5 %. Коммунисты, напротив, опустились с 12,6 % до 9 %, объединенные национал-социалисты и «народники» — с 6,5 % до 3 %. Сравнительно менее заметными были подвижки в центре и у умеренных правых. Либеральные и католические партии приобрели по сравнению с маем 1924 г. менее 1 % голосов каждая. Показатели ДДП увеличились с 5,7 % до 6,3 %, ДФП — с 9,2 % до 10,1 %. У партии католического Центра показатели изменились только после запятой — (13,4 % — в мае, 13,6 % — в декабре), у БФП ситуация была аналогичной (3,2 % и 3,8 %). Из мелких партий самой успешной стала Экономическая партия, получившая 3,3 % голосов. На долю партий, выступавших за ревальвацию, пришлось всего 0,4 % голосов, что главным образом объясняется тем, что во время этих выборов немецкие националисты снова выдавали себя за самых рьяных защитников лиц, пострадавших от инфляции{280}. Результаты выборов давали возможность образовать правительство, опирающееся на парламентское большинство, только двух видов: Большая коалиция или буржуазный Правый блок. Против правительства с участием социал-демократов и за кабинет с участием немецких националистов 10 декабря 1924 г. высказалась ДФП. Штреземан подчеркнул серьезность этого требования тем, что в ответ на запрос Маркса охарактеризовал дальнейшее существование нынешнего кабинета меньшинства невозможным. ДДП, в свою очередь, и далее продолжала выступать против правого правительства, но в количественном отношении правая коалиция была возможна и без участия демократов. К ЮЗ депутатам от ДНФП добавлялись еще 8 парламентариев, представлявших Ландбунд, которые, как и во время предыдущего периода полномочий рейхстага, образовали вместе с немецкими националистами совместную фракцию. Кроме того, надо было исходить из того, что БФП также захочет принять участие в формировании правительства. Совместно такой партийный блок располагал бы 250 голосами из 493. Но в партии Центра, от которой все зависело, в конце 1924 г. еще существовало сильное предубеждение против правой коалиции. Маркс, в свою очередь, сам испытывал серьезные опасения в отношении буржуазного блока. 19 декабря, спустя четыре дня после формальной отставки своего кабинета, Маркс заключил соглашение с Эбертом, позволявшее отложить образование нового правительства до начала января 1925 г. До этого срока все функции должны были осуществляться старым кабинетом. Некоторые министры увидели в этом опасный признак слабости власти. Министр рейхсвера Гесслер в неформальном обсуждении, состоявшемся в тот же день, 19 декабря, высказал мнение, что нынешний кризис не является обыкновенным правительственным кризисом. Напротив, как и все предыдущие, он представляет собой конституционный кризис. В качестве выхода могло рассматриваться либо усиление позиции рейхспрезидента, либо усиление позиции имперского правительства в отношении парламента. Требование Гесслера о проведении конституционной реформы (по поводу которой он полагал, что внепарламентский кабинет сможет осуществить ее легче, чем парламентский) категорически поддержал только министр внутренних дел Яррес. Но и министр иностранных дел Штреземан озабоченно констатировал, что «среди населения имеются широкие круги, которые с радостью и удовольствием наблюдают этот хаос и эти вечные правительственные кризисы, потому что так они могут наглядно продемонстрировать своим сторонникам банкротство парламентско-демократической системы». Присутствовавшие при этом министры от Центра Маркс и Браунс высказались против выводов Гесслера, но частично признали правоту его критического описания ситуации. В заключение предрождественского совещания не было вынесено какого-либо решения, но все пришли к заключению, что серьезность положения требует дальнейших обсуждений. Гесслер и Яррес, очевидно, полностью осознавали, что для проведения предложенного ими изменения конституции рейха отсутствует важнейшая предпосылка, а именно требуемое большинство в рейхстаге. Но такие ключевые слова, как «конституционный кризис» и «конституционная реформа» должны были в первую очередь послужить достижению тактической цели: психологической подготовке неизбежности формирования правого кабинета. В январе 1925 г. Немецкая народная партия оказала этому делу серьезную поддержку, начав осуществлять в Пруссии политику, направленную против социал-демократии. В этой федеральной земле 7 декабря 1924 г., в день выборов в рейхстаг, состоялись также выборы в местный ландтаг. 6 января 1925 г. ДФП заявило о своем выходе из правительства Большой коалиции, обосновав свой шаг тем, что правительство Брауна было обязано подать в отставку сразу после проведения выборов. Согласно конституции это было совершенно необязательно, и на самом деле для ДФП речь шла о другом: этим шагом она претворяла в жизнь одно из обещаний, с выполнением которых связывали свое участие в правительстве рейха немецкие националисты. В тот же день, 6 января, Центр дал понять, что и он начал настраиваться на создание правой коалиции. Рейхсминистр труда Браунс добился принятия правительством решения, которое было задумано как подстраховка идеи буржуазного блока слева. Браунс получил от коллег по правительству полномочия представить на их рассмотрение закон о рабочем дне на коксохимических заводах и заводах с доменными печами, предусматривавший для части крупной промышленности возврат к довоенной системе работы в три смены по восемь часов каждая, а тем самым — и к нормальному рабочему дню. Адресатами сенсационной уступки правительства было левое крыло собственной партии Браунса и рабочие в целом: они должны были знать заранее, что Центр был готов отстаивать их интересы и после вхождения в коалицию с немецкими националистами. Спустя три дня Маркс, который начиная со 2 января 1925 г. по просьбе рейхспрезидента вновь, но напрасно, искал решения выхода из кризиса, отказался от поручения Эберта сформировать новое правительство. Следующее «зондирование» рейхспрезидент по рекомендации Штреземана поручил провести беспартийному министру финансов Гансу Лютеру. Лютер, родившийся в 1879 г. в Берлине, юрист в области администрирования, четыре года был обер-бургомистром Эссена, прежде чем в ноябре 1922 г. в качестве министра продовольствия вошел в правительство под руководством тоже беспартийного Вильгельма Куно. Как и Куно, Лютер был правоцентристским политиком и тяготел к ДФП больше, чем к какой-либо другой партии. В 1929–1933 гг. он официально был членом ДФП. Беспартийность, которую он восхвалял, в том числе и в заголовке своих мемуаров, опубликованных в 1960 г. («Политик без партии»), была как анахронизмом парламентской системы, так и симптомом кризиса Веймарского государства, законодательные и исполнительные органы которого формировались по принципу партийного представительства. Постоянные неудачи в формировании стабильного правительства большинства привели начиная с 1922 г. к определенному обособлению исполнительной власти. Законы о предоставлении чрезвычайных полномочий и неоднократное обращение к внепарламентским постановлениям на основании статьи 48 конституции компенсировали правительству отсутствие поддержки большинства в рейхстаге. Связанная с этим бюрократизация внутренней политики создавала благоприятные условия для таких карьер, как карьеры Лютера и Куно, но также и Маркса: канцлер, лишенный сильных политических пристрастий и действующий как чиновник, казался лучше всех остальных в состоянии согласовать потребности упорядоченного управления с интересами партий, участвующих в правительстве или оказывающих ему поддержку. Уже в середине октября 1924 г. Лютер выступил с предложением, согласно которому рейхспрезидент должен был назначать министров по представлению рейхсканцлера, но «без официального объявления со стороны фракций о вступлении в правительство». В соответствии с этим девизом Лютер постарался образовать в январе 1925 г. правительство профессионалов, которое при всем том должно было располагать определенной поддержкой парламента. Ориентация на преимущественно надпартийную правительственную систему, свойственную конституционной монархии, была очевидной, но ее невозможно было осуществить в том чистом виде, который нарисовал себе Лютер: первоначально он хотел предоставить четырем правящим партиям — Центру, БФП, ДФП и ДНФП — возможность делегировать только по одному доверенному представителю в правительство. Остальные министерства должны были возглавить беспартийные чиновники, наиболее близко стоявшие к одной из этих партий. Но окончательный перечень министров выглядел иначе, а именно более «партийным». Немецкие националисты, чье участие в правительстве в наибольшей степени требовало маскировки, получили три портфеля: Шиле — министра внутренних дел, фон Шлибен — министра финансов и Нейхаус — министра экономики. ДФП была открыто представлена министром иностранных дел Штреземаном и скрытно — выдвинутым им «министром-профессионалом» Кроне, отвечавшим за транспорт. Центр по-прежнему представлял министр труда Браунс, кроме того, к сторонникам этой партии следовало причислить официально беспартийного министра юстиции Френкена. Пост министра почт занял представитель БФП Карл Штингл. Министром продовольствия остался бывший член ДНФП граф Каниц. С гротеском граничило то, что по желанию Центра в своей должности министра рейхсвера в качестве «министра-профессионала» остался Гесслер, который номинально по-прежнему входил в ДДП. Его партия, в свою очередь, 13 января, за два дня до назначения Лютера рейхсканцлером, выразила свое согласие с этим решением, без того чтобы рассматривать себя правительственной партией или рассматриваться таковой остальными фракциями{281}. Социал-демократы тотчас же объявили первому открыто правому правительству Веймарской республики «беспощадную борьбу». Но после того, как Лютер в своей правительственной декларации 19 января 1925 г. взял явно умеренный тон и заявил о своей приверженности республиканской конституции как законной основе деятельности правительства, мирному урегулированию международных проблем и Лондонскому соглашению, а в конце речи даже пообещал смягчить существующие нормы рабочего времени, представитель СДПГ Рудольф Брейтшейд признал, что это заявление «мог бы сделать господин Маркс». Правда, социал-демократ объявил, что его партия из-за участия в кабинете немецких националистов становится к правительству в «острую и решительную оппозицию» как в парламенте, так и вне его, и указал на «непреодолимую пропасть», отделяющую социал-демократов от правительства. Но все это, возможно, было в первую очередь лишь обязательным риторическим упражнением. Ведь то, что СДПГ будет в лоб нападать на кабинет Лютера, последовательно проводящий в жизнь поддерживаемую социал-демократами внешнюю политику Штреземана, вызывало совершенно оправданные сомнения уже в январе 1925 г.{282} И все же кабинет Лютера в самом начале своей деятельности дал сильнейшей оппозиционной партии совершенно неожиданную возможность для ведения в высшей степени действенной агитации, да еще и в особо спорной области внутренней политики. В конце января 1925 г. Нейхаус, новый министр экономики от немецких националистов, опираясь на единодушное одобрение ведущих союзов сельского хозяйства, промышленности, торговли и банковского дела, заявил в меморандуме, что ревальвация, выходящая за 15 %, превосходит возможности владельцев реальных ценностей, а потому совершенно исключается. Ставка ревальвации в размере 15 % предусматривалась тем самым Третьим постановлением о чрезвычайном налогообложении кабинета Маркса от 14 февраля 1924 г., против которого немецкие националисты резко ополчились в ходе обеих предвыборных кампаний в рейхстаг 1924 г. Теперь часть фракции немецких националистов восстала против неожиданного поворота, произведенного их новоиспеченным министром. В комиссии по ревальвации рейхстага председатель Союза ипотечных кредиторов и защиты вкладчиков Георг Бест, ставший членом парламента по избирательному списку ДНФП, внес предложение, поддержанное 17 членами его фракции, согласно которому все иски по компенсации вреда, причиненного инфляцией, подлежали ревальвации в индивидуальном порядке. Под натиском своих министров ДНФП вскоре снова отозвала это предложение. Но теперь в открывшуюся брешь бросились социал-демократы, которые еще за год до этого выступали против какой-либо ревальвации и также в данный момент не сомневались в том, что масштабная ревальвация станет мощным инфляционным фактором. СДПГ позаимствовала предложение Беста и, таким образом, поставила тактические соображения выше государственно-политических: слишком уникальным казался шанс загнать клин между «крупнокапиталистическим» руководством и частью электората немецких националистов, относящейся к средним слоям общества. Новый толчок оппозиционной кампании невольно дал кабинет Лютера, в начале февраля 1925 г. одобривший выделение щедрой компенсации для пострадавшей от французско-бельгийской оккупации промышленности Рура в размере 700 млн марок. Мелкие вкладчики и инвесторы снова получили повод почувствовать себя одураченными немецкими националистами, и социал-демократы даже чересчур охотно выступили защитниками разочарованных{283}. 28 февраля 1925 г. на мгновение утихли все партийные распри. В возрасте 54 лет скончался рейхспрезидент Фридрих Эберт. Непосредственной причиной смерти стало воспаление слепой кишки и брюшины. Но нет никакого сомнения в том, что здоровье Эберта было подорвано личными оскорблениями, обрушившимися на него за последние месяцы. Самым тяжким из них было обвинение в измене родине, выдвинутое среди прочих «народническим» журналистом, редактором «Миттельдейче Прессе» Эрвином Ротхардом. Последний обосновывал его ролью Эберта в забастовке рабочих заводов боеприпасов в январе 1918 г. в Берлине. 23 декабря 1924 г. расширенный суд шеффенов Магдебургского суда первой инстанции вынес приговор по делу о нанесении оскорбления, начатого Эбертом против Рот-харда. Суд признал обвиняемого виновным в нанесении оскорбления президенту и приговорил его к трем месяцам тюрьмы. Но в преамбуле приговора суд констатировал, что утверждение Ротхарда о том, что Эберт, участвуя в вышеназванной забастовке, изменил родине, с уголовно-правовой точки зрения справедливо. Поэтому осуждения Ротхарда по обвинению в клевете не последовало. Против дискредитации Эберта магдебургскими судьями, типичного случая враждебности по отношению к республике со стороны органов юстиции, раздались весомые голоса: именитые правоведы и историки, в том числе Герхард Аншутц и Фридрих Мейнеке, демонстративно встали на сторону Эберта; действующее правительство рейха в полном составе во главе с Марксом принесло ему свои публичные извинения; общественный обвинитель на Магдебургском процессе незамедлительно обжаловал судебное решение. Но вынесенный приговор между тем уже оказал свое действие, нацеленное против Эберта и представляемой им республики. То же самое справедливо в отношении попыток немецких националистов — политиков и журналистов концерна Гугенберга — втянуть Эберта в историю с аферой Бармата, расследованием которой с января 1925 г. занималась специальная комиссия рейхстага. Юлиус Бармат был русским евреем, эмигрировавшим в Нидерланды в начале века. Во время войны и сразу после нее он в больших размерах осуществлял поставки продовольствия в Германию, и в этом качестве в 1919 г. был важным деловым партнером ряда руководящих социал-демократов, в том числе и Эберта. Но скандал вокруг Бармата разразился только во времена гиперинфляции, когда стало известно, что спекуляции его новообразованного концерна финансировались кредитами Прусского государственного банка и Имперской почты. Эберт не приобрел от контактов с Барматом никаких личных выгод. Но уже то обстоятельство, что имя рейхспрезидента упоминалось в ходе открытых слушаний парламентской следственной комиссии, являлось для немецких националистов, по чьей собственно инициативе рейхстагом и была образована комиссия, поводом для глубокого удовлетворения. Комиссия тем самым выполнила ту цель, ради которой она и была задумана ее творцами — послужила эффективной трибуной для ведения борьбы против республики и ее верховного представителя{284}. Некоторые некрологи памяти Эберта воспринимаются как попытки посмертной компенсации прижизненно нанесенных обид. Так, правительство рейха, включая его членов от Немецкой национальной народной партии, заявило, что Фридрих Эберт отправлял «…должность немецкого рейхспрезидента в тяжелейшие времена с образцовой добросовестностью и политически зрелой мудростью». «Черты характера Фридриха Эберта как человека и выдающиеся способности его как государственного деятеля» вызывали у всех, кто знал этого человека и его дела, почитание и уважение. «Он послужил фатерланду в тяжелейшие времена как честный человек». В социал-демократической прессе также не было недостатка в попытках предать забвению прошлые конфликты. После экзекуции, предпринятой рейхом в отношении Саксонии в 1923 г., в партии началась резкая критика Эберта и были даже поданы ходатайства об исключении его из партии. И в действительности Эберт был исключен своим собственным профсоюзом — союзом шорников. Газета «Форвартс» отреагировала на эту напряженную ситуацию и разногласия намеком, согласно которому надпартийная должность Эберта привела его к отчуждению от партийной жизни, а в соприкосновение с народными массами он входил только по официальным поводам. Но общей позитивной оценке первого рейхспрезидента эти замечания не повредили. «После великих теоретиков и агитаторов Эберт был первым великим государственным деятелем немецкого рабочего движения. Это потребовало выработки совершенно нового вида понимания общества. Тем, что пролетариат все более и более усваивал его, он засвидетельствовал свою растушую зрелость. Рабочий класс почитает самого себя, когда он почитает Эберта»{285}. Тот, кто ненавидел и презирал Эберта до его смерти, делал это также и после. Это справедливо не только в отношении немецких националистов и «народников», но и в отношении коммунистов, от имени которых депутат Герман Реммеле заявил 1 мая 1925 г. вслед умершему рейхспрезиденту, что он «сошел в могилу, осыпаемый проклятьями немецкого пролетариата». Однако именно то, что коммунисты ставили ему в вину, и было самым главным достижением Эберта: установление взаимопонимания и сотрудничества между умеренными силами рабочего класса и буржуазии. Острее, чем все другие его товарищи по партии, Эберт понял в 1918 г., что взаимная готовность к «классовому компромиссу» образует непосредственную жизненную основу существования республики. Поэтому он снова и снова призывал социал-демократов входить в коалиции с буржуазным центром, вплоть до Немецкой народной партии Густава Штреземана, и не разрывать их без настоятельной необходимости. Также оправдались трезвые суждения Эберта по вопросам внешней политики. В 1922 г. он настоятельно предупреждал, хотя и напрасно, о фатальных последствиях германо-советских сепаратных переговоров. Оккупация Рура французами и бельгийцами год спустя была также ответом на договор в Рапалло, подписанию которого Эберт не смог воспрепятствовать. И все же наряду с заслугами Фридриха Эберта была очевидна его ограниченность как политика. Слишком часто он полагался на суждения военных советников и бюрократов, к которым относился с удивительным простодушием. Кризисной осенью 1923 г. он вел себя с ними так же, как и в первые месяцы после свержения монархии. Эберт также несет свою долю ответственности за то, что рейхсвер сумел превратиться в «государство в государстве», а тем самым и в угрозу для республики. В отношении опасностей, которые были связаны с частым применением чрезвычайного законодательства по статье 48 — только в 1923 г. рейхспрезидент подписал 42 таких постановления, большей частью направленных на устранение бедственного положения в экономике, — у Эберта, как с прискорбием отмечал его личный друг Отто Браун, не было никакого чутья. За правильные идеи, в том числе за то, что Германия в перспективе использует себе только во благо безоговорочное признание своего участия в развязывании мировой войны, рейхспрезидент не боролся с той энергией, которой требовало дело. Поэтому Фридрих Эберт не может быть причислен к выдающимся государственным деятелям немецкой истории. Первый рейхспрезидент был убежденным демократом, патриотом Германии и сторонником мирного урегулирования международных конфликтов. В тяжелых условиях он делал все, что мог, и на своем посту с большим достоинством переносил обращенные на него подлые нападки. Большинство лиц буржуазного класса, получивших университетское образование и смотревших на Эберта сверху вниз как на «выскочку», он далеко превосходил в том, что касается политической образованности и культуры. Что значил республиканец во главе республики, большинство его друзей осознали лишь тогда, когда Эберт уже давно был мертв. Его смерть, последовавшая за несколько месяцев до конца официального срока пребывания в должности, и выборы его преемника стали одной из важнейших вех в истории первой немецкой демократии{286}. 29 марта 1925 г. состоялся первый тур прямых выборов рейхспрезидента путем всенародного голосования. Кандидатом от правящих правых был выдвинут бывший рейхсминистр и тогдашний обер-бургомистр Дуйсбурга Карл Яррес, получивший поддержку своей собственной партии — ДФП, а также немецких националистов и Экономической партии. Кандидатурой социал-демократов стал Отто Браун, который 23 января 1925 г., в ходе недавнего правительственного кризиса, подал в отставку с поста министра-президента Пруссии. От Центра в предвыборной гонке участвовал бывший рейхсканцлер Вильгельм Маркс, от ДДП — президент земли Баден Вилли Хелл-пах и от БФП — Генрих Хельд, с апреля 1924 г. министр-президент Баварии. Коммунисты выдвинули Эрнста Тельмана, национал-социалисты — Эриха Людендорфа. Абсолютного большинства голосов избирателей, предусмотренного законом для первого тура выборов, не получил ни один из кандидатов. Первым стал Яррес, за которого проголосовали 10,4 млн человек (38,8 %). Второе место занял Браун, за него было подано 7,8 млн голосов (29 %). На третьем месте оказался Маркс с 3,9 млн голосов (14,5 %). С большим отставанием далее следовали Тельман (1,9 млн или 7 %), Хеллпах(1,6 млн, или 5,8 %), Хельд(1,0 млн, или 3,7 %) и Людендорф (286 тыс., или 1,1 %). Самым заметным результатом выборов стали слабые результаты кандидатов от экстремистских сил: Тельман потерял 800 тыс. голосов, Людендорф — 600 тыс. по сравнению с тем, что получили их партии четырьмя месяцами ранее во время последних выборов в рейхстаг (при этом, конечно, необходимо учесть, что Немецкая народническая партии свободы, чтобы избежать раскола в правом лагере, призвала избирателей голосовать за Ярреса). Тенденция понижения градуса радикальности в обществе, уже наблюдавшаяся между выборами в рейхстаг в мае и декабре 1924 г., таким образом усилилась, и причина этого была очевидной: экономическая стабилизация, выразившаяся также в снижении безработицы. Многие избиратели, которые в декабре 1924 г. еще голосовали за коммунистов и национал-социалистов, смогли в марте 1925 г. отказаться от похода к избирательным урнам. Доля участия населения в голосовании 29 марта 1925 г. составила 68,9 %, что почти на 10 % было меньше, чем во время последних выборов в рейхстаг. Результат первого тура едва ли допускал иное толкование, чем то, что этот минус в первую очередь образовался за счет электората экстремистских партий{287}. Для трех «веймарских» партий было ясно, что во втором туре выборов, требовавшем получения относительного большинства, они смогут победить кандидата от правых только в том случае, если выдвинут единого претендента. Теоретически им должен был стать Отто Браун, самый удачный из «черно-красно-золотых» депутатов. Но из своего опыта заключения соглашений о перебаллотировке в кайзеровской Германии социал-демократам было известно, что соответствующие рекомендации о том, за кого отдать свои голоса, будут скорее выполняться их сторонниками, чем буржуазными избирателями. Это соображение свидетельствовало в пользу кандидатуры Маркса. Бывший рейхсканцлер не был особенно популярен и необходимо было также считаться с тем, что он вызывал каку протестантов, так и у марксистов определенное предубеждение как ревностный католик. С другой стороны, Маркс был также одним из претендентов на пост министра-президента Пруссии. Дважды — 10 февраля и 10 марта 1925 г. — он уже избирался главой правительства самой большой из немецких земель и оба раза вынужден был сразу после этого подать в отставку. Первый раз это случилось потому, что он не смог получить поддержку большинства для своего кабинета Веймарской коалиции, во второй — потому что ДФП и ДНФП посчитали невозможным объединение в его лице кандидата на должность рейхспрезидента и прусского министра-президента. При таком положении вещей условия сделки буквально витали в воздухе: СДПГ поддерживает Маркса в ходе второго тура выборов рейхспрезидента, а Центр обязуется избрать Брауна министром-президентом Пруссии. После очередной интерлюдии прусского правительственного кризиса — безуспешной попытки демократа Хёпкера-Ашофа образовать правительство — СДПГ, Центр и ДДП пришли 3 апреля 1925 г. к окончательному соглашению о выдвижении Маркса единым кандидатом на выборах рейхспрезидента. В тот же день Отто Браун был избран прусским министром-президентом 220 голосами из 430{288}. Против Маркса как единого кандидата республиканского «Народного блока» у Ярреса не было никаких шансов. Таким образом, правые должны были попытаться найти претендента, более привлекательного для избирателей. В соответствии с законом о выборах рейхспрезидента от 4 мая 1920 г. это. мог быть кандидат, не принимавший участия в первом туре выборов. Это дало возможность определенным «национальным» кругам постараться заручиться поддержкой человека, который не был политиком и даже не особенно интересовался политикой, но уже во время своей жизни стал живым мифом — генерал-фельдмаршала Пауля фон Бенкендорф унд фон Гинденбурга, родившегося 2 февраля 1847 г. в Позене, 77 лет, который после ухода с поста начальника Генерального штаба летом 1919 г. жил в отставке в Ганновере. Восславленный как «победитель под Танненбергом», освободивший в августе 1914 г. Восточную Пруссию от русских армий, фельдмаршал как никто другой из военачальников Первой мировой войны пользовался популярностью в немецком обществе. Уже во время путча Каппа — Лютвица в марте 1920 г. военная фронда рассматривала его в качестве будущего рейхспрезидента. Пять лет спустя его кандидатура на тот же самый пост вновь была поддержана теми же силами, которые в 1920 г. стремились свергнуть республику вооруженной рукой: старопрусским ядром ДНФП, крупными землевладельцами из руководства Ландбунда и военными, взлет карьеры которых пришелся на время до 1918 г., такими как бывший гросс-адмирал фон Тирпиц. Но на этот раз поворот вправо должен был последовать строго в соответствии с законом и по поручению народа, и это могло случиться только в том случае, если одна из популярных фигур, таких как Гинденбург, предоставила бы себя в распоряжение «национального» лагеря в качестве кандидата на выборах рейхспрезидента. В комитете консервативного «Имперского гражданского совета», группировавшегося вокруг бывшего министра внутренних дел Пруссии Фридриха Вильгельма фон Лёбеля, который перед выборами согласовал выдвижение Ярреса, кандидатура Гинденбурга сначала встретила сильное противодействие. Немецкая народная партия и ее председатель, Густав Штреземан, опасались, что победа фельдмаршала будет воспринята Западом как провокация. Промышленники, на чьи плечи ложилось финансирование большей части избирательной кампании, видели в Гинденбурге адвоката интересов аграриев и выступали, также как и ДФП, за повторное выдвижение Ярреса. Но после того, как последний сам отозвал свою кандидатуру, эти опасения утратили вес. Сам Гинденбург, перед тем как 7 апреля 1925 г. заявил о своей готовности выступить кандидатом «Правого блока», заручился поддержкой бывшего кайзера{289}. Гинденбург в противостоянии с Марксом изначально имел лучшие шансы, чем Яррес. Большое значение имело то, что Баварская народная партия также выступила в поддержку прусского генерала. Гинденбург был евангелического исповедания, но в отличие от католика Маркса не могло быть ни малейшего сомнения в его враждебности к социал-демократии, и это подвигло БФП в решающий момент выступить против Центра. У Маркса также не было никакой надежды компенсировать за счет поддержки слева то, что он терял справа. 11 апреля ЦК КПГ принял решение о том, что Тельман должен продолжать предвыборную борьбу. «Задачей пролетариата не является выискивание самого искусного представителя интересов буржуазии, и он не должен выбирать в качестве меньшего зла между гражданским диктатором Марксом и военным диктатором Гинденбургом», — говорилось в обращении КПГ к трудящимся Германии. «Мы призываем массы: организовывайте массовую борьбу против диктаторов от буржуазии, против Гинденбурга и Маркса!.. Каждый классово сознательный рабочий голосует против Гинденбурга и Маркса за Тельмана!»{290} Все предостережения партий «Народного блока» об опасностях, грозящих республике и гражданскому миру, были напрасны: 26 апреля 1925 г. кандидат «Правого блока» вышел победителем второго тура голосования, опередив Маркса на 900 тыс. голосов. Официальные результаты выборов выглядели следующим образом: Гинденбург — 14 655 641 (48,3 %) Маркс — 13 751 605(45,3 %) Тельман — 1 931 151 (6,4 %) Другие кандидаты — 13 416 (0,0 %) «Гинденбург милостью Тельмана» — под таким заголовком вышла 27 апреля 1925 г. газета «Форвартс». И в действительности: если бы коммунисты проголосовали за Маркса, то республика не получила бы такого рейхспрезидента как Гинденбург. То же самое можно сказать и в адрес избирателей Баварской народной партии. Но и помимо Баварии нашлось немало «отщепенцев», которые непосредственно или опосредованно способствовали победе генерал-фельдмаршала. По сравнению с «веймарскими» кандидатами первого тура выборов Маркс особенно много голосов потерял в Саксонии. Здесь преимущественно первенствовал Тельман, извлекший пользу из антиклерикальной неприязни социал-демократического электората. Но косвенным образом это левое протестное голосование также сыграло на руку кандидату правых. В евангелических областях Вюртемберга многочисленные либеральные избиратели и, очевидно, некоторые социал-демократы перешли в лагерь Гинденбурга. Их мотивом могла быть непреодолимая антипатия в отношении «паписта» Маркса. В Восточной Пруссии ореол «победителя под Танненбергом» сиял ослепительнее, чем где-либо в Германии: генерал-фельдмаршал переманил здесь на свою сторону многих избирателей, голосовавших в ходе первого тура за одного из «веймарских» кандидатов, и еще больше тех, кто 29 марта пренебрег голосованием. Последнее утверждение справедливо и для Германии в целом: в результате увеличения доли голосовавших с 68,9 % до 77,6 % кандидат от правых выиграл несравненно больше, чем его конкурент-республиканец. Вывод из всего вышесказанного очевиден: у победы Гинденбурга было больше отцов и матерей, чем хотел внушить заголовок партийного органа социал-демократов{291}. Республиканская общественность восприняла успех Гинденбурга с большой озабоченностью. Либеральная «Франкфуртер Цайтунг» видела главную причину такого исхода выборов в том, что фельдмаршалу помогли одержать верх аполитичные избиратели. «Мы ведь все знаем, что на этот раз привело всю эту толпу, до сих пор игнорировавшую голосования, к избирательным урнам. Это романтическое сияние, которое сплели вокруг головы полководца горячечные фантазии обнищавшего и тяжело оскорбленного в своем самосознании народа, не осознающего того факта, что своими горестями он персонально обязан той старой системе имперского политического и военного руководства, чьим представителем является почитаемый ими полководец. Романтическая тоска по утраченному глянцу и потерянному величию, вот что привело эти аполитичные слои к урнам, а Гинденбурга — к победе. На многих также оказало воздействие то, что им напели об опасности, в которой будто бы оказалась евангелическая вера. Но решающей все же была тоска по прошлому». Либеральная «Берлинер Тагеблатт» также писала о том, что испытывает «стыд за политическую незрелость столь многих миллионов»; социал-демократическая «Форвартс» говорила об «ошеломительной победе реакции, завоеванной из-за предательства республики коммунистами». Обе газеты сравнивали избрание Гинденбурга с одним из событий в недавней истории Третьей французской республики, на которое тогда же указал писатель Генрих Манн: это была победа клерикального монархиста, маршала Мак-Магона, на президентских выборах 1873 г. Но «Форвартс» черпала в исторических параллелях также и утешение: «Как пятьдесят лет назад во Франции, так и теперь в Германии после проигранной войны президентом республики становится маршал и монархист. Французской республике удалось благополучно преодолеть эту опасную зону. Вывести из нее Германию не менее удачно — вот задача немецких республиканцев, в особенности — немецких социал-демократов». Собственно, опасность немецкие республиканцы видели не столько в фигуре самого Гинденбурга, сколько в его окружении. «Необходимо воспрепятствовать всеми средствами новым попыткам прежней штабной камарильи за спиной Гинденбурга овладеть государственными делами», — говорилось в передовице «Берлинер Тагеблатт». «Если ее члены обладают мужеством править с конституционной ответственностью, то пусть они без страха предпримут эту попытку. Они тогда будут должны доказать перед всем народом, что необузданные нападки, которым подвергались прежние правительства, были оправданными, что только они в состоянии вести Германию навстречу блестящему будущему. Но этим элементам надо отбить охоту расценивать выборы Гинденбурга как разновидность капповского путча путем народного голосования, который приведет к рулю государства замаскированные силы. У немецкого народа нет желания менять дворцовую камарилью на камарилью президентскую». Другие наблюдатели попытались найти позитивный смыл в событиях 26 апреля 1925 г. Граф Гарри Кесслер, который на стороне ДДП боролся за победу Маркса, полагал 12 мая, спустя день после того, как президент рейхстага, социал-демократ Пауль Лёбе привел Гинденбурга к присяге, приняв от него клятву на конституции перед черно-красно-золотым стягом рейхспрезидента, что республика «с Гинденбургом будет теперь “принята при дворе”, включая черно-красно-золотые цвета, которые повсюду сопровождают Гинденбурга как цвета его персонального штандарта. Часть почитания Гинденбурга неизбежно наложит свой отпечаток на флаг республики. Молодчикам со свастикой теперь не так легко будет волочить его в уличной грязи. Уже сегодня на улицах в центре города вывешено больше государственных флагов, чем раньше. Вильгельмштрассе, которая отваживалась только по необходимости и весьма скромно вывесить флажок там или здесь, сегодня купается в черно-красно-золотом. Если республиканцы будут бдительны и едины, то выборы Гинденбурга еще могут принести большую пользу и республике, и гражданскому миру»{292}. Определенная противоречивость действительно была свойственна триумфу фельдмаршала. Он был монархистом, но своей победой он был обязан не только тому меньшинству, которое снова хотело видеть кайзера во главе Германии. Его выборы в большей степени стали выражением желания возрождения национального величия и сильного руководства — той потребности, которую не могла удовлетворить парламентская демократия Веймара и которую испытывало большое число граждан, даже не помышлявших о реставрации монархии. То, что Гинденбург пообещал уважать республиканскую конституцию, лишило некоторых противников республики возможности и далее коснеть в своей непримиримой ненависти к новому государству. Примечательным в этом отношении был реалистический поворот в политике евангелической церкви. Только начиная с 1925 г. она стала основывать свои действия на признании неприятного факта существования «республики», какие бы надежды церковь не питала в отношении отдаленного будущего. Если стало возможным выбрать легальным путем эрзац-кайзера, то можно было также допустить, что народ в один прекрасный день смирится с возвращением монархии или даже пожелает этого. Но, возможно, и это было вовсе не обязательным условием достижения того, чему черно-бело-красный лагерь придавал столь большое значение: развития сильного государства, которое могло бы поставить парламент и партии на место так, как это делало кайзеровское государство до 1918 г.noreferrer">{293} Самый большой повод праздновать победу Гинденбурга получила та среда, из которой вышел второй рейхспрезидент и с которой он по-прежнему чувствовал себя тесно связанным: мир военных и остэльбского дворянства. Для рейхсвера и крупных землевладельцев огромное значение имело то, что они получили непосредственный доступ к первомулицу в государстве, которому во времена кризиса фактически выпадала роль единоличного властителя. Соотношение сил в обществе после 26 апреля 1925 г. изменялось постепенно. Но с этого дня старопрусский руководящий слой дореспубликанской Германии снова получил в свои руки властный рычаг, который он мог использовать, если рейхстаг не пожелает осознавать того, что в настоящий момент является велением времени. С «правой» точки зрения это означало большой шаг вперед, и это без сомнения был шаг, сделанный прочь от Веймара 1918 г. То, что произошло весной 1925 г., было по меньшей мере молчаливым изменением конституции, консервативной переменой правовой формы республики. Республиканцы, конечно же, могли с полным правом указывать на то, что Гинденбургу не удалось повести за собой абсолютное большинство избирателей. Но то большинство, которое голосовало против него, было расколото изнутри и недееспособно. Массы, хотя бы только на мгновение объединившиеся под национальными лозунгами, были многочисленнее чем те, кто заявил о своей готовности вместе защищать республику. Первый плебисцит Веймарской республики был, таким образом, вотумом, вынесенным против Веймара. Формально государственное устройство образца 1919 г. осталось неизменным. Но исходя из его политического содержания с начала 1925 г. речь шла об иной республике, чем та, которая приобрела свои контуры в первые месяцы после падения монархии.Глава X Расколотое общество
Страна, которую весной 1925 г. возглавил фельдмаршал фон Гинденбург, представляла собой общество, расколотое по многим основаниям. Одна из важнейших разделительных линий пролегала, как и прежде, между классово сознательными рабочими и немарксистской Германией. Согласно данным Всеобщей, профессиональной и промышленной переписи 1925 г., 45 % самодеятельного населения по роду своей основной деятельности составляли рабочие, что было на процент меньше, чем по результатам предыдущей переписи 1907 г. Но только часть рабочего класса была классово сознательной в марксистском понимании, т. е. верила в неизбежность классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией и в конце концов в победу нового, социалистического общества, в котором частная собственность на средства производства будет заменена общественной. И как бы далеко ни расходились мнения о путях достижения этой цели, большинство сторонников социал-демократов и коммунистов разделяли основополагающую догму учения Маркса о предопределенности пути общественного развития. Конечно же, не все избиратели СДПГ и КПГ были рабочими, значительная часть служащих также склонялась к марксистским партиям, как правило, к социал-демократии. Таким образом, «классово сознательной», во всяком случае, можно назвать ту устойчивую треть немецкого электората, которая на выборах голосовала за обе левые партии и состояла не исключительно, но все же преимущественно из рабочих. От марксизма рабочие, как правило, перенимали то, что отвечало их сиюминутным нуждам. «Для нас существует только белое и черное, капитал — пролетариат, угнетатель — угнетенный. Все, что не подходит для этой системы, существует отдельно от нас, нас не касается и будет нами отклонено», — заявил в 1923 г. горняк «Генрих» студенту-производственнику графу Александру Стенбоку-Фермору. К этому он добавил: «Да, это то, что нам нужно, безграничная ненависть, ненависть против эксплуататоров и их прислужницы — буржуазии!…Мне не так важно, понял ли Маркс правду, прав он или заблуждается, мне важно только то, что материалистическое понимание истории Маркса сегодня единственно полезное учение для нашего движения. Каждому пролетарию необходимо вдолбить в голову, что рай можно построить только на земле и только кулаками пролетариата…» Этот горняк представлял радикальную часть пролетарской среды, которая рассматривала общество с точки зрения «лагеря», боевого содружества, сплотившего в себе заговорщиков и преследовавшегося властями. Для работяг-коммунистов марксизм имел цену только тогда, когда он служил моральным оправданием элементарной ненависти к эксплуататорскому обществу. Квалифицированный рабочий — социал-демократ наверняка высказался бы иначе и более взвешенно. Но неважно, социал-демократ или коммунист, они оба обыкновенно усваивали из мыслей Маркса только то, что не было чуждо их опыту{294}. Между 1929 и 1931 гг. в Германии проводилось обследование, организованное Франкфуртским институтом социальных исследований и возглавляемое психологом Эрихом Фроммом, которое должно было дать более детальные сведения в отношении политических и личных убеждений немецких рабочих и служащих. Его результаты были отрезвляющими для инициаторов: очевидно, немецкие рабочие идеологически были намного менее закалены, чем предполагали марксисты-интеллектуалы из франкфуртского института. Многие ответы опрошенных выдавали их «мелкобуржуазные» предрассудки и даже настоящее авторитарное мышление. Как оказалось, десятилетия социал-демократической просветительской работы принесли весьма скромные плоды. Таким, в любом случае, был вывод, к которому подводили наиболее поразительные результаты. Так, многие социал-демократы не видели ничего зазорного в том, чтобы причислить Бисмарка, а иногда и Гинденбурга, наряду с Марксом и Бебелем, к выдающимся историческим личностям, и неважно, относились ли опрошенные рабочие и служащие к левым, правым или к центристам — во всех лагерях великим человеком был признан Наполеон. Зачастую именно «частные» убеждения противоречили субъективному образу классово сознательного и готового к борьбе пролетариата. Десятилетиями рабочее движение требовало полного социального равноправия женщин и пропагандировало их трудовую деятельность как средство эмансипации. Большинство рабочих и служащих, опрошенных Фроммом, придерживались другого мнения. 68 % предпочитали видеть замужних женщин за кухонной плитой, а не за фабричным станком или в бюро. Среди социал-демократов таких было даже 71 %. Даже у коммунистов, особенно усердно занимавшихся вопросом «женского труда», 51 из каждой сотни опрошенных выступил против трудовой занятости замужних женщин. Соответственно только около трети социал-демократов и коммунистов заявили о своей приверженности к «либеральной» точке зрения, согласно которой при воспитании детей следовало полностью отказаться от побоев — особенно удручающий результат для марксистской реформы воспитания. Раннее просвещение детей в вопросах половой жизни поддерживал каждый третий коммунист и приблизительно каждый пятый социал-демократ. Авторы опроса сделали отсюда вывод, что «протестантская мораль среднего класса» еще широко распространена среди пролетариата. Более мягкие оценки вызвали ответы на вопросы о внутреннем обустройстве жилищ. «Прочь все безделушки, все картинки маслом в золоченных рамах и шпалеры», — призывала своих читателей «Форвартс» в мае 1927 г. для того, чтобы отучить их от «мелкобуржуазных» привычек и привить им новую разумную жилищную культуру. Но 10 % опрошенных Фроммом социал-демократов и ни много ни мало 4 % коммунистов чрезвычайно ценили безделушки. В отношении в среднем 40 % опрошенных, украшавших свои жилища «картинами и цветами», Фромм вероятно с полным правом предполагал, что эти данные были «выражением сравнительно общепринятого вкуса». Вывешиванием на стены фотографий или других картин с изображением социалистических вождей коммунисты и неквалифицированные рабочие занимались с большей охотой, чем социал-демократы и квалифицированные рабочие. Наряду с «политическими» изображениями большинство украшало помещения фамильными фотографиями. Личный интерес к искусству, насколько он выражался в украшении жилищ картинами, был более выражен у социал-демократов и квалифицированных рабочих, чем у коммунистов и неквалифицированных трудящихся. В других вопросах культурных предпочтений рабочий класс показал себя также не особенно авангардистским. Джаз, против которого консервативные круги выступали как против «декадентской» и «ненемецкой» музыки и который левыми композиторами, такими как Ганс Айслер и Курт Вайль, сознательно использовался как стильное средство художественного «агитпропа», не нашел поддержки у 50 % опрошенных и только 40 % высказались в его пользу. Традиционные театральные постановки были более популярны, чем пьесы революционной направленности, но более чем у половины опрошенных рабочих и служащих либо не было любимой пьесы, либо они вообще не дали ответа на этот вопрос. В делах моды рабочие и служащие шагали в ногу со временем. Около четырех пятых высказались позитивно о «современной женской моде» или о новой прическе Бубикопф. Как противное природе или предосудительное они, напротив, рассматривали использование пудры, парфюмерии и губной помады: 84 % высказали свое неприятие в той или иной форме. Пролетарское классовое сознание более отчетливо проявлялось при ответах на явно политические вопросы, чем на вопросы, кажущиеся аполитичными. 55 % коммунистов и 28 % социал-демократов считали виновными в инфляции капитализм, крупных предпринимателей или банки и биржи; каждый десятый возлагал ответственность за нее на правительство. Немецкую юстицию «негодной» находили 85 % коммунистов и 46 % социал-демократов. Как правило, социал-демократы выступали за демократическую республику как форму правления, чаще всего обосновывая свой ответ тем, что она лучше всего обеспечивает свободу и равенство граждан. Коммунисты, как и ожидалось, являлись сторонниками советской системы. Самой часто называемой причиной этого выбора были интересы рабочих. На вопрос, кто же обладает реальной властью в государстве, ответили «капитал», «капиталисты», «промышленность и банки» 60 % коммунистов и 58 % социал-демократов{295}. Дефицит классового сознания, который обнаружил франкфуртский опрос, если бы его результаты были опубликованы сразу, а не в 1980 г., должен был бы в первую очередь вызвать тревогу у организаций, занимавшихся культурой рабочего движения. Середина 1920-х гг. была временем расцвета социал-демократических союзов, большей частью образованных еще в кайзеровские времена, которые в своей совокупности формировали альтернативное социалистическое предложение господствующей «буржуазной» культуре. Среди них были богатые традициями объединения, такие как «Движение народных театров», «Певческий союз рабочих», социалистические союзы вольнодумцев и кремации, «Рабочий союз гимнастики и спорта», «Союз друзей природы» и «Рабочий союз трезвенников». Начиная с 1919 г., к ним среди прочих добавились «Рабочая благотворительность», «Юные социалисты», «Друзья детей», «Рабочий радиосоюз», «Рабочий рыболовный союз» и «Рабочий стрелковый союз». Социалистическая альтернативная культура окружала жизнь рабочего «от колыбели до смертного одра», и она обосновывала мировоззренческое притязание, которое трудно сформулировать точнее, чем это сделано в неосознанно самокарикатурном девизе Венского рабочего союза кремации «Пламя»: «По-пролетарски жил, по-пролетарски умер и кремирован согласно культурному прогрессу». Обследование Эриха Фромма и его сотрудников выявило то, в чем едва ли сомневаются также новейшие исторические исследования: культура рабочего движения была не рабочей культурой, а культурой классово сознательной антиэлиты. Степень ее воздействия была меньшей, чем давали основания предполагать массовые мероприятия наиболее многочисленных союзов, таких как «Рабочий союз гимнастики и спорта» и рабочий союз велосипедистов «Солидарность». Многие члены СДПГ входили не в социалистические, а в «буржуазные» футбольные клубы, но и тот, кто играл в «правильной» команде, тем самым еще не был неизбежно политизирован в духе СДПГ (или позднее, после последовательно осуществленной реорганизации коммунистических организаций проведения досуга, в духе КПГ). Унифицированный социалистический образ жизни всегда был делом только активного меньшинства, а отнюдь не широких масс сторонников СДПГ и КПГ. И все же не стоит недооценивать важность культуры рабочего движения, создававшую соответствующую идентичность. Она способствовала выработке у стойкого ядра рабочих партий чувства «мы — это — мы» и укрепила разделительную линию, пролегавшую между «социализмом» и «буржуазным» миром{296}. Среди рабочих-немарксистов самую большую группу образовывали рабочие-католики, голосовавшие за Центр или БФП, члены католических рабочих союзов, объединенных в рамках Христианско-национальной германской федерации профсоюзов. От марксистов они в первую очередь отличались тем, что не признавали себя сторонниками классовой борьбы и ликвидации частной собственности и стремились компенсировать противоположность интересов рабочих и предпринимателей в рамках существующего общественного порядка. Но не следует представлять общественное сознание католических рабочих слишком гармоничным. «Опрос о современном душевном положении католических рабочих в Германии», проведенный в 1926 г., содержит среди прочего сообщение из Нижнего Рейна, в котором речь идет о том, что рабочие-католики испытывали серьезное недоверие к предпринимателям. «Чисто капиталистическая установка большинства предпринимателей не дает возможности для зарождения доверительного сотрудничества. Католический рабочий упрекает предпринимателя за его нехристианское равнодушие, даже враждебность по отношению к насущнейшим жизненным потребностям рабочего и его семьи, когда тот снижает заработную плату, удлиняет рабочий день, выступает против профсоюзов, отвергает существование производственных советов, сопротивляется расширению социального законодательства». Политик Партии Центра Иосиф Йоос, председатель Союза объединений католических рабочих и шахтеров Западной Германии, таким образом резюмировал итоги опроса: «Головой рабочий-христианин осуждает классовую ненависть против имущих и зажиточных кругов общества. Однако эмоционально он также находится под влиянием сильной антипатии против имущих классов. С особенной неприязнью он осуждает спекулянтов, обогатившихся в результате войны, революции и инфляции». И тогда как имущие католики все более и более ориентировались на правые силы, среди рабочих-католиков усиливалась склонность клевой ориентации. Связь между католическими трудящимися и католической общностью все более ослабевала, в то же время осуществлялось их сближение с социалистическим движением. «Антагонизм еще существенно ощущается в мировоззренческих вопросах, но уже не так сильно — в преследовании социальных и экономических целей… Социалисты, которые переходят к позитивной культурной деятельности, в свою очередь, отказываются от вольнодумных убеждений. В местностях, населенных католиками, умеренные социал-демократы всеми силами стараются оставаться в контакте с демократической частью рабочих-католиков. Поэтому отношение к социал-демократическому движению стало спокойнее»{297}. Но, несмотря на это сближение, разница между католическими и марксистскими представлениями об общественном устройстве оставалась настолько очевидной, что в отношении рабочих-католиков середины 1920-х гг. можно, по-видимому, говорить только о зачатках классового сознания. Намного более слабым или соответственно совсем не проявлявшимся это сознание было у рабочих, традиционно голосовавших за одну из некатолических буржуазных партий. Это справедливо как для небольшого числа рабочих, организованных в либеральный, стоящий близко кДДП Хирш-Дункершен-Геверкферейн, так и для тех, кто в политическом плане испытывал симпатии к ДФП и ДНФП. Немецкие рабочие, настроенные националистически, как правило, были верующими протестантами и зачастую организовывались в экономически мирные, «желтые» союзы. Религиозная привязанность была в целом одной из самых серьезных преград, препятствовавших выработке у них классового сознания. Другие виды противодействия марксистской ориентации формировались на почве деревенской или захолустной формы бытования рабочей жизни, домовладения или сельскохозяйственного приработка, работы по специальности на мелких и средних предприятиях. Классовое сознание едва ли могло зародиться у рабочих ремесленных производств, которые еще могли питать надежду однажды стать самостоятельными владельцами, а также у надомников и прислуги. Типичный рабочий, обладавший марксистским классовым сознанием, трудился, если только в этот момент он не был безработным, на большом промышленном предприятии, жил в городе, насчитывавшем более 20 тыс. жителей, от своей связи с церковью он либо отрекся, либо никогда ее не имел. В этом смысле, вероятно, большинство рабочих, составлявших, однако, меньшинство немецкого общества, было «классово сознательным»{298}. От работников физического труда в синих робах «линией воротничка» была отделена еще одна группа лиц, работавших по найму, но обыкновенно носивших белые рубашки, если они относились к мужскому полу. Речь идет о служащих. К началу веймарского периода около половины всех организованных служащих входило в профессиональный социалистически ориентированный Всеобщий свободный союз служащих — АфА-Бунд. К АфА-Бунду в 1920 г. относилось 47,5 %, к «правому» Всеобщему союзу профсоюзов немецких служащих (Гезамтфербанд Дейчер Ангештельтен-Геверкшафтен, Гедаг) — 31,8 %, к либеральной Федерации профсоюзов служащих (Геверкшафтсбунддер Ангештельтен, ГдА) — 20,7 % всех служащих, организованных в профсоюзы. Наибольшую поддержку «левые» союзы имели у техников и фабричных мастеров, «буржуазные» — у канцелярских и коммерческих служащих. Но для многих служащих социалистическая ориентация в первые годы республики была только выражением политической конъюнктуры. С 1922 по 1927 г. количество членов «левого» АфА-Бунда ощутимо сократилось, в 1926 г. его впервые обогнал «правый» Гедаг. Во второй половине 1920-х гг. уже только треть организованных служащих относилась к лагерю свободных профсоюзов (тем самым политически ориентируясь на социал-демократию): 40 % принадлежали к Гедаг и четвертая часть — к ГдА. Ни одна из социальных групп Веймарской республики не была так неуверена во всем том, что касалось ее статуса и престижа в обществе, как служащие. Это превратило их в особо благодарных носителей изменчивых течений «духа времени» и сделало частью той ясно выраженной потребности в идеологизации, которая совершенно по-разному удовлетворялась «левыми» и «правыми» служащими. В то время как первые зачастую чувствовали себя авангардом классово сознательного пролетариата и пытались превзойти рабочих физического труда в марксистской ортодоксии, вторые отстранились от интернационального рабочего движения, заняв подчеркнуто «национальную» позицию. Самый большой отраслевой профсоюз служащих — организованный в 1893 г. Немецкий национальный союз торговых служащих — открыто афишировал национал-социализм рука об руку с антисемитизмом. «Правофланговые» служащие из-за своей юдофобии не только дистанцировались от предполагаемых «возмутителей спокойствия» из числа марксистского пролетариата, тем самым они также навели мосты ко многим своим работодателям из среднего сословия, видевшим в еврейских универсальных магазинах самых опасных конкурентов и главную причину своих материальных бед. Уже на рубеже XIX–XX веков социологи объединили служащих и чиновников под понятием «новый средний класс». Тем самым они точно угадали самооценку большой части служащих. В противовес прогнозам Маркса, экспансия работы по найму, вытеснявшей занятия собственным делом, ни в коей мере не означала пролетаризации общества. От субъективного сознания лиц, затронутых этим процессом, политически зависело больше, чем от их объективного бытия. И так как многие низкооплачиваемые служащие ни за что на свете не хотели становиться пролетариями, численное увеличение «нового среднего класса» не было тем событием, которое могло бы наполнить социалистов надеждой. Этот прирост, впрочем, стал одним из самых сенсационных результатов Всеобщей и профессиональной переписи населения 1925 г. По сравнению с 1907 г., доля служащих и чиновников повысилась от общего числа работающих с 12,6 % до 16,5 %. Если при этом учесть, что доля рабочих несколько понизилась, то вывод был очевиден: служащие и чиновники образовывали социальный сегмент роста, в то время как промышленные рабочие уже переступили через зенит своего общественного значения. Германия в середине 1920-х гг. находилась на пути к формированию общества услуг; процесс индустриализации еще не завершился, но уже серьезно замедлился{299}. Что касается большей части государственных служащих, то их стремление дистанцироваться от пролетариата было по меньшей мере таким же сильным, как и у «мещанских» союзов служащих. То, что разница между содержанием чиновников высшего ранга и заработной платой неквалифицированных рабочих сократилась с семи раз в 1913 г. до двух в начале 1922 г., хотя и означало мощнейшее материальное нивелирование, ни в коем случае не имело своим последствием пролетаризацию сознания у жертв такого развития событий (а к ним принадлежали, хотя и в разной степени, все группы чиновников). Низкие зарплаты и увольнения на ранней фазе стабилизации в большей степени привели к ослаблению «левых» тенденций, что выразилось в упадке социал-демократического крыла организованного чиновничества. Близкий к свободным профсоюзам Всеобщий союз немецких чиновников (Алльгемайнер Дейчер Беамтенбунд), который в момент своего основания насчитывал около 350 тыс. членов, между 1928 и 1932 гг. имел численность только в пределах 170 тыс. чел. В выигрыше от этого был в первую очередь политически нейтральный Немецкий союз чиновников (Дейчер Беамтенбунд), переваливший в 1928 г. за миллион. Существенным был также рост числа членов консервативного Имперского союза высокопоставленных чиновников (Рейхсбунддер хоерен Беамтен): с 40 тыс. в 1918 г., момента основания союза, до 100 тыс. в 1924 г.{300} От «нового среднего сословия» служащих и чиновников «старое среднее сословие» отличалось своей по меньшей мере формальной экономической самостоятельностью. Ремесленники и мелкие торговцы, ядро этой группы, традиционно воспринимали себя как социальный буфер между капиталом и трудом, что, конечно же, ни в коем случае не подразумевало равноудаленную дистанцию по отношению к капитализму и социализму. В большей степени объединения мелких предпринимателей занимали во времена республики, точно так же, как и во времена империи, преимущественно консервативные и, несомненно, антидемократические позиции, в то время как их антикапитализм был скорее риторической природы. Сотрудничество рабочих профсоюзов и промышленников в первые годы Веймарской республики сообщило ремеслу и мелкой торговле чувство, что они практически раздавлены между этими величинами. Вину за свою политическую изоляцию «старое среднее сословие» возложило с прекращением инфляции преимущественно на партии буржуазного центра, а именно на обе либеральные партии. Обращение мелких промышленников в сторону немецких националистов во время выборов в рейхстаг в 1924 г. было логичным следствием этой обиды. Другим признаком кризиса «старого среднего сословия» был подъем Экономической партии, за которую во время декабрьских 1924 г. выборов в рейхстаг проголосовало 4,5 % избирателей. Возврат к неприкрытым цеховым интересам был равнозначен выражению недоверия парламентской демократии веймарского образца{301}. Аналогичные тенденции наблюдались также и в сельском хозяйстве. Наряду с Ландбундом на сельских избирателей полностью или большей частью опирались многие региональные группировки, такие как Баварский союз крестьянства и среднего сословия, Вюртембергский союз крестьян и садоводов и Сельская партия Шлезвиг-Гольштейна. По своим политическим интересам сельские хозяева были расколоты на два лагеря: образованный на рубеже 1920–1921 гг. Имперский Ландбунд с центром влияния в северной и восточной Германии, характер которого соответствующим образом определялся крупным остэльбским землевладением, и противостоявшие ему объединения крестьян, представлявшие интересы католических сельских хозяйств Вестфалии, Рейнской области и Баварии. Насколько бы ни были различны интересы крупных зерновых хозяйств востока страны и более мелких животноводческих и агрокультурных предприятий севера, юга и запада, в одном важном пункте аграрные организации были едины: немецкое сельское хозяйство нуждалось в защите от дешевого зарубежного импорта продуктов и от дальнейшей индустриализации в Германии. Этой позицией были заданы и общие противники: с одной стороны — потребители, в первую очередь рабочие и служащие, с другой — часть промышленности, выступавшая против изоляции Германии от мирового рынка{302}. Ближе всего к сельскому хозяйству в его ориентации на протекционизм традиционно стояла тяжелая промышленность. С имперских времен приученные к военным заказам государства и от них же зависимые, предприниматели от горно-металлургической промышленности, согласно точной характеристике экономиста Морица Юлиуса Бонна, все больше и больше ориентировались на «идеал “экономики, свободной от покупателей”», а под «экономической жизнью подразумевали только изготовление и эксплуатацию технически превосходных устройств без какого-либо внимания к нуждам рынка». Резкое сокращение немецких вооруженных сил после 1918 г. обусловило определенную конверсию производства, но не либерализацию сознания промышленников. Угледобыча и сталелитейная индустрия располагались на крайнем правом фланге предпринимательского лагеря. Промышленники от горной металлургии отстаивали позицию «хозяина в доме», отклоняя идеи социального равенства между трудом и капиталом в целом и принцип тарифно-договорных соглашений об оплате труда в частности, выступали в своем большинстве за возврат к «сильному» авторитарному государству и гонке вооружений, от которой на деле ни одна из отраслей промышленности не могла получить столько прибыли, как сталелитейная{303}. Отрасли экономики, ориентированные на экспорт, среди них электротехническая, химическая и машиностроительная промышленность, как правило, были настроены более дружелюбно по отношению к профсоюзам и в меньшей степени ориентировались на власть, чем горнопромышленный сектор. В качестве динамично растущих производств они скорее могли позволить себе занять «либеральную» позицию, чем находившаяся в стагнации тяжелая промышленность. Как главные немецкие экспортеры, они были жизненно заинтересованы в респектабельности действующего имперского правительства на международной арене, что исключало заигрывание с планами «национальной диктатуры» a la Штиннес. Возраставший вес «новой индустрии» в Имперском союзе немецкой промышленности стал явно ощущаться в 1925 г., когда Карл Дуйсберг, председатель правления завода красителей Байер, в качестве преемника Курта Зорге, директора Круппа, взял на себя руководство ведущим союзом промышленности. Тем самым началась фаза реалистической политики промышленности, характеризовавшейся готовностью к компромиссам со всеми заинтересованными сторонами: «справа» — с крупным землевладением путем ратификации введенной в 1925 г. аграрной пошлины; «слева» — с рабочими и служащими, соглашаясь с введением в 1927 г. страхования по безработице. Кроме того, в зрелые годы республики был достигнут консенсус с профсоюзами, согласно которому форсированная рационализация немецкого промышленного производства отвечала общим экономическим интересам. На фоне подобного единения вряд ли могло вызвать удивление, что наиболее гибкая часть предпринимателей с 1926 г. снова стала свыкаться с мыслью о Большой коалиции. Относительное экономическое процветание открыло возможность для достижения нового взаимопонимания между работодателями и рабочими и служащими, а тем самым и для политической стабилизации республиканского государства{304}. В наибольшей степени дистанцировались от республики и демократии по большей части лица, получившие университетское образование (звучащий немного элитарно термин «просвещенная буржуазия» едва ли подходит к годам Веймарской республики). У них, как ни у кого другого, было ярко выражено стремление считать себя олицетворением нации. Военное поражение Германии было воспринято ими как личное оскорбление с удесятеренной силой, а революция, приведшая к власти социал-демократов, — как социальная деградация. Инфляция, уничтожившая их накопления и нивелировавшая их доходы, усилила социальную враждебность представителей интеллигенции. Излюбленным объектом антипатии для многих из них стали евреи. В той же мере, в какой евреи добились успеха в обществе, вырос и социальный уровень антисемитизма. Прежде всего студенты и представители «свободных профессий», такие как врачи и адвокаты, видели в своих коллегах и однокашниках — евреях зачастую только конкурентов, чей успех объяснялся не столько превосходством их личных достижений, сколько хитростью, свойственной расе, или даже прирожденным коварством. Но и здесь имелись различия. В больших городах, таких как Берлин, Франкфурт и Бреслау, где образованные и состоятельные евреи имели существенное влияние на культурную жизнь, «университетский» антисемитизм был гораздо слабее, чем в малых и средних городах, где проживало мало евреев. Протестанты, в особенности лютеране, были в среднем большими антисемитами, чем католики. То же самое верно и для отношения к парламентской демократии и республике: партии правых, выступавшие самыми ярыми противниками нового государства, имели в евангелической Германии существенно больше сторонников, чем в Германии католической{305}. В целом едва ли можно недооценивать роль конфессиональных границ в политической жизни Веймарской республики. Не только воцерквленные евангелические христиане, но и секуляризованные «культурпротестанты» все еще склонялись к тому, чтобы видеть в католиках немцев второго сорта. Тем самым они только усиливали тот католический комплекс неполноценности, который нередко находил свое выражение в компенсаторном национализме — усиленном стремлении католиков проявить себя особенно хорошими немцами. (Герман Брюнинг, бывший рейхсканцлером с 1930 по 1932 г., даст нам еще повод вернуться к этой причинной связи, которую немного карикатурно можно назвать «синдромом Брюнинга».) В сравнении с евангелической Германией католическая характеризовалась, как и прежде, высокой степенью политического конформизма. Из тех католиков, кто регулярно принимал участие в выборах, в среднем около 60 % голосовали в ходе первых четырех всенемецких выборных кампаний начиная с 1919 г. за Центр и Баварскую народную партию. Среди «воцерковленных» католиков таких было еще больше — 69 %. Опыт «культуркампфа» времен Бисмарка, сплотивший католиков, еще продолжал оказывать свое воздействие, правда, с тенденцией к постепенному затуханию: в 1881 г. свыше 86 % от всех католиков мужского пола (т. е. включая тех, кто не принимал участия в выборах) голосовали за Центр; в 1928 г., по оценкам католического исследователя Иоганна Шауфа, число католиков мужского пола, голосовавших за Центр или БФП, сократилось наполовину. Представлением об относительном постоянстве своих выборных предпочтений немецкие католики прежде всего были обязаны женщинам, которые отличались большей религиозностью и были более центристами, чем мужчины (к примеру, в 1920 г. 69 % всех голосов, поданных за Центр, принадлежало женщинам). Еще одно преимущество Партия Центра получила в результате введения системы пропорциональных выборов. Последняя давала возможность задействовать избирательный потенциал диаспоральных областей, который в условиях мажоритарной системы выборов кайзеровской Германии не использовался в полной степени. В дебет, напротив, можно было занести утихающий «восторг по отношению Центру» католиков-избирателей в больших городах, где в 1928 г. в среднем только 35 % католиков отдали свои голоса за Центр и БФП. «Недисциплинированно» вели себя также католики Баварии: во время выборов в рейхстаг в декабре 1924 г. только 44 % из них голосовали за БФП. Зато в преимущественно евангелической Пруссии в ходе тех же самых выборов за Центр отдали свои голоса 58 % католиков{306}. От эрозии католической среды в середине 1920-х гг. в большей степени выигрывали левые, чем правые. По подсчетам Шауфа, в ходе вторых выборов в рейхстаг в 1924 г. за социалистические партии голосовало 18,8 % католиков, причем 6,5 % из них отдали свои голоса коммунистам; 12,6 % проголосовали за обе либеральные и 9,3 % — за консервативные партии. Дополнительные голоса левым принесли рабочие-католики — та самая группа, в чьей поддержке Партия Центра была наименее уверена. Секуляризация их выборных предпочтений была тесно связана со всеобщим «обмирщением» пролетариата. У евангелических рабочих этот процесс к тому времени продвинулся гораздо дальше, чем у католиков. То, о чем пастор Гюнтер Ден сообщал в 1930 г. из Моабита, рабочего квартала Берлина, было типично для немецких городов в целом: только раз в год, в рождественский сочельник, рабочие принимали участие в богослужении, и только их жены настаивали на том, чтобы дети были крещены и прошли обряд конфирмации, а покойники преданы земле по церковному обряду. Для типичного пролетария, по меньшей мере мужского пола, с конфирмацией прекращались все его контакты с церковью{307}. Этот разрыв с церковью, особенно бросавшийся в глаза в случае с рабочим классом, был главной причиной того, почему католическая среда, когда-то одна из самых сплоченных в «социально-моральном» плане в кайзеровской Германии, ощущала себя в 1920-е гг. на грани распада. Традиционные религиозные связи в ходе секуляризации повседневности стремительно теряли свое былое значение, но все больший и больший вес приобретали материальные интересы. До определенной степени это развитие протекало в классовом направлении: часть католических рабочих приблизилась в том, что касалось позиции на выборах, к рабочим-«марксистам», из которых большинство номинально, как и прежде, были протестантами. Но рабочий класс в целом переживал процесс сокращения, а для сознательного обращения непролетарских слоев к социализму в 1925 г. было гораздо меньше причин, чем в первые годы республики. «Линия воротничка», отделявшая служащих от рабочих, между тем снова упрочилась, и различные буржуазные круги все еще были отделены пропастью от рабочей среды, в свою очередь, расколотой глубже, чем когда-либо{308}. Немецкое общество времен Веймарской республики было классовым обществом, хотя большинство немцев высказалось бы тогда против этого термина. Существовал преимущественно классово сознательный пролетариат, и классовая борьба велась как «снизу», так и «сверху». Заявления о классовом характере немецкой юстиции были не только полемическим девизом левых, но и отвечали политической реальности; университеты и высшие школы были буржуазными классовыми учреждениями; евангелическая церковь в отличие от католической все в большей степени становилась заведением для средних и верхних слоев общества, которое уже ничего не значило для массы рабочих и ничего не могло им сказать. Но в это же время стали зримыми границы классового общества. В 1920-е гг. формировалась новая массовая культура, ориентированная на потребление и досуг, в определенной степени размывавшая классовые культуры и культуры отдельных страт общества. Самыми важными «демократизаторами» были карманные книги и иллюстрированные журналы, пластинки и кинематограф, а с 1923 г. во все большей степени также и радио. Новые средства коммуникации буквально перепрыгнули через границы между бедными и богатыми, протестантами и католиками, городом и деревней, рабочим классом и буржуазией. Новый шлягер насвистывала и секретарша, и ее шеф, кино шли смотреть люди всех классов и сословий; чарльстон танцевали в Берлине и в глубокой провинции. Массовая культура, характеризовавшаяся консервативными критиками как духовное обмельчание и упадок ценностей, означала еще один шаг на пути демократизации: духовные богатства, бывшие ранее символом статуса «высшего сословия», стали теперь доступными широчайшим слоям населения. С другой стороны, популярная развлекательная продукция проникала и в возвышенную среду «яйцеголовых». Строгая инкапсуляция против «вульгарности» была столь же невозможной, как и изолирование социалистического рабочего класса от соблазнов капиталистической индустрии развлечений, прежде всего от тех, что исходили из Голливуда или от студии «Универсум фильм АГ» — «Уфа», располагавшейся в Бабельсберге под Потсдамом{309}. Итак, классовые границы постепенно размывались новой массовой культурой. В этом отношении при рассмотрении «веймарского» периода можно говорить о классовом обществе в переходном состоянии. Но протекавший тогда процесс не поддается описанию с помощью когда-то активно обсуждавшейся формулы «обуржуазивания пролетариата». Наряду с начавшейся ликвидацией пролетарского «гетто» налицо была и противоположная тенденция, вылившаяся в пролетаризацию повседневной культуры: распространение привычек и норм, заимствованных у городских низов и постепенно становившихся ведущими общественными навыками и нормами. Прослеживается целый ряд тенденций, резко противоречивших тезису об «обуржуазивании пролетариата» и более позднему утверждению о становлении «нивелированного общества среднего класса»: от разрыва с церковью через ослабление буржуазной сексуальной морали и вплоть до изменения свободного времяпрепровождения. Чего только стоит массовое увлечение определенными видами спорта, такими как изначально «пролетарский» футбол. Очевидно, правильнее этот процесс социального изменения, в котором 14 лет первой республики выступали не более чем важной стадией, описывать термином «классовое общество в плавильном котле», введенным в научный оборот после Второй мировой войны социологом Теодором Гейгером{310}. Веймарская Германия была расколотым обществом не только из-за той роли, которую играли в нем классовые и конфессиональные границы. К ним добавлялись также конфликты между поколениями и регионами. Что касается возрастных групп, то прежде всего следует отметить те пустоты, которые образовались в результате войны среди мужчин, находившихся в призывном возрасте между 1914 и 1918 гг. Возрастная пирамида образца переписи 1925 г. демонстрирует резкий излом прежде всего в отношении группы мужчин в возрасте между 30 и 40 годами и сильное превышение количества женщин. Соответственно сверхпропорционально представленными оказались также старшие и младшие поколения. Обстоятельством, чрезвычайно негативно воздействовавшим на рынок труда, стало то, что во времена Веймара трудоспособного возраста достигли те, кто родились в предвоенные годы, отличавшиеся высокой рождаемостью. Рабочих мест не хватало, чтобы дать возможность всей молодежи зарабатывать себе на хлеб. В результате безработица среди молодежи стала распространенным явлением уже задолго до мирового экономического кризиса. У безработной молодежи в отличие от более старших товарищей не было жизненного опыта «нормального времени», который мог бы их ободрить и поднять их дух. Чье раннее детство пришлось на войну, тот получил свой первый осознанный опыт в годы инфляции, где законом было поскорее потратить деньги, прежде чем они потеряют свою цену. Для ребенка рабочего, рожденного между 1910 и 1914 гг., трудовая жизнь началась в период относительной стабилизации после 1923 г. Когда разразился мировой экономический кризис, многие из них еще не закончили обучение, и только меньшинство могло претендовать на пособие по безработице. Неуверенность в отношении своего собственного будущего именно у рабочей молодежи породила чувство принадлежности к лишнему поколению. Кто вырос в таких условиях, того было трудно вовлечь в массовые организации рабочего движения, кто длительное время оставался безработным, тот, как правило, был потерян для этого навсегда. Вместо того чтобы активно участвовать в профсоюзах, рабочих партиях и пролетарских культурных союзах, безработная пролетарская молодежь больших городов вливалась в так называемые «дикие клики» — группы, в которых находил свое грубое материалистическое проявление молодежный протест, зачастую по ту сторону закона, против царивших в обществе отношений{311}. Для молодежи из буржуазных семей «веймарский» период также означал, но по другим причинам, время глубокой неуверенности. В родительских домах они ни в малейшей мере не были подготовлены к тем модернизационным сдвигам, которым Германия подверглась не только в 1918 г., но и переживала все сильнее с каждым годом. Развал старого монархического порядка потряс авторитет отцов, на который опиралась вильгельмианская эпоха и который ее олицетворял. Но в новом республиканском устройстве молодое поколение могло найти себя в столь же малой степени, как и в погибшем старом. Многие юноши и девушки выбрали после 1918 г. тот же самый путь романтического бунта, который уже был проложен молодежным движением довоенной эпохи. Годы Веймарской республики стали апофеозом юношества, объединенного в союзы и протестующего как против ритуализованной буржуазности отеческих домов, так и против «американизации» повседневности, определявшей 1920-е гг. Возврат к природе и культу содружества получил гораздо большее распространение,чем казалось на первый взгляд: это было бегство в преображенное прошлое. Но романтический габитус[36] еще не означал реакционного образа мыслей: социал-демократическая молодежь отправлялась в «странствие» точно так же, как и буржуазные «перелетные птицы»[37], и она звенела гитарами и пела песенки из «Цупфгайгенханзеля»[38]. Пути из молодежного движения вели более чем в один политический лагерь и более чем в одно будущее{312}. Жизнь тех, кто зачастую был старше лишь на несколько лет, но успел уже повоевать на войне солдатом, была тем самым определена навсегда. Многие из них так и не смогли внутренне вернуться к нормальности гражданской жизни и продолжили вооруженную борьбу во фрайкоре — на этот раз против внутреннего врага. Еще большим было число тех, кто принимал активное участие в полувоенных организациях, таких как образованный в 1918 г. «Стальной шлем»[39]. Там они могли дать выход своей антипатии к республике и левым. Другие, прежде всего рабочие, клялись никогда больше не браться за оружие и все же потом вынуждены были отвечать воинствующим правым теми же средствами и примыкали к «Железному фронту» или, если были коммунистами, становились членами Союза красных фронтовиков. К тому моменту, когда Германия вступила в фазу относительной стабильности, милитаризация политической жизни зашла уже далеко. То, в чем Германии было отказано на основании Версальского договора, а именно содержание большой армии, было возмещено по меньшей мере справа за счет подражания солдатчине. Литература, превозносящая войну, сделала свое дело, чтобы сохранить живым дух, который должен был создать тело: Германию — сильную в военном отношении и способную взять реванш за 1918 г.{313} Чем старше был человек на момент окончания войны, тем больше была статистическая вероятность того, что он больше не порвет с позицией, которую занимал до 1914 г. Приверженцы консервативных партий кайзеровского рейха мечтали в своем большинстве после 1918 г. о возвращении монархии, более «зрелые» социал-демократы в большей степени, чем их юные коллеги, склонялись к тому, чтобы остаться в «исконной» партии и только немногие примыкали к коммунистам; большинство «разумных республиканцев» рекрутировалось после 1918 г. из приверженцев либеральных партий и Центра. Политическое поведение женщин в некотором отношении было сопоставимо с мужским. В среднем женщины предпочитали менее радикальных политиков, чем мужчины. КПГ была в большей, НСДАП в меньшей и убывающей степени партиями мужчин, в то время как Центр и немецкие националисты — оба «лагеря», которые упорнее всех сопротивлялись предоставлению женщинам права голоса — получали серьезное преимущество от участия в выборах женщин-избирателей. Что касается либеральных партий, то соотношение избирателей мужского и женского пола было примерно одинаковым, а у социал-демократов наблюдался определенный, но не слишком резкий перевес в пользу мужчин. Во всех партиях, за временным исключением КПГ, пока ее возглавляла Рут Фишер, наиболее важные позиции занимали мужчины, а что касается традиционных партий, то среди них практически не было представителей юного поколения. Та притягательная сила, которую оказывали на молодежь радикальные крайние партии, в первую очередь в годы Великой депрессии, во многом объясняется также относительным старением традиционных партий{314}. Региональное многообразие Германии также оказалось чревато конфликтами для Веймарской республики. Перевес Пруссии вызывал недовольство не только в Баварии: между сельскохозяйственной Остэльбией и урбанистическим Западом, как и прежде, имелась структурная разница, также выражавшаяся в менталитете и резко контрастирующих политических культурах. Некоторые федеральные земли радикальным образом изменили в годы Веймарской республики свой политический профиль. Так, Тюрингия и Брауншвейг, где в первые послевоенные годы авторитетом пользовались СДПГ и НСДПГ, стали в 1930 г. первыми землями, выбравшими министрами национал-социалистов. Саксония, до 1923 г. самое «красное» из всех немецких государств, после раскола земельной организации социал-демократов стала начиная с 1929 г. управляться только буржуазными правительствами. Поворот направо отчетливо показал, на какой зыбкой почве основывалось временное господство левых. В Баварии, где эта гегемония никогда не находила поддержки большинства населения, правый поворот состоялся гораздо раньше, в связи с путчем Каппа — Лютвица в марте 1920 г. В то время как Пруссия начиная с этого момента все больше превращалась в образцовый оплот демократии, Бавария выступала ее самым сильным противником и опорой сил, стремившихся повернуть руль управления Германией вправо. Баварско-прусское противостояние частично было выражением общих напряженных отношений между «провинцией» и «метрополией». Берлин после 1918 г. оказывал мощнейшее притягательное воздействие: кто искал новое, тот чувствовал себя очарованным столицей. Тем сильнее была антипатия тех, кому концентрированная новизна Берлина внушала страх. Берлин ратовал за то, что они ненавидели, он был признан ответственным за все, что могло вызвать у них дискомфорт. «Мы, баварцы, знаем, что вся вина за несчастья Германии должна быть отнесена на счет бездарности Берлина, как старого, так и нового, — писал 28 ноября 1920 г. Людвиг Тома в «Мисбахер Анцайгер». — Там на нас накликали враждебность всего мира, оттуда Германия была отравлена ядом революции, там сегодня сидит правительство, которое своим действиями делает невозможным любое оздоровление. И если берлинские социалисты полагают, что мы дадим из себя сделать с помощью унитаризма молчаливых рабов свинячьей экономики, которая набивает им карманы, то они заблуждаются. Берлин не немецкий город, он сегодня его полная противоположность, он по-гальски обезображен и запачкан. И каждый порядочный мужчина в Пруссии знает сегодня, где ему искать фундамент честного немечества — в Баварии. И в этом нас не собьет с толку ни один еврей»{315}. Берлин и его евреи: они символизировали распространение всего того, что консервативная Германия ненавидела в Веймарском государстве. Непрерывное оспаривание традиций, воспринимаемое справа как фактор разложения, началось задолго до 1918 г. «Веймарский стиль», как заметил Петер Гай, возник еще до Веймара. Это справедливо для революции экспрессионизма в живописи, литературе и театре, состоявшейся в первом десятилетии XX века, и для не менее революционного прорыва к атональности в музыке. Равным образом это справедливо и в отношении великой революции в науке, включавшей психоанализ Зигмунда Фрейда, теорию относительности Альберта Эйнштейна и социологию Макса Вебера: все эти новаторские открытия были совершены до 1914 г. Даже истоки стиля «новой деловитости», вытеснившего после 1923 г. экспрессионизм из всех сфер искусства, и те прослеживаются еще в довоенном времени. Вальтер Гропиус, создавший в 1926 г. вместе с постройкой здания Баухауса в Дессау модель новой функциональной эстетики, которой так восхищались и которую так порицали, также развил свой стиль уже до Первой мировой войны. Итак, то, что составляло культуру Веймара, уже до известной степени было в наличии на момент возникновения республики. Но смена политического режима обладала освобождающим эффектом: для новаторов открывались огромные возможности, о которых они даже не мечтали при старом режиме. Благодаря этому они достигли такого влияния на массы, что Веймар можно рассматривать как масштабный эксперимент классического модерна{316}. Евреи играли выдающуюся роль среди тех, с кем обычно связывают дух Веймара. То, что в политике они никогда не занимали места среди правых, объясняется тем, что последние были антисемитами. Тот, кто выступал против дискриминации меньшинств, мог быть только либералом или левым. Участие многих евреев в рабочем движении объясняется тем, что больше нигде не было такого числа людей, готовых бороться за общество равных прав. Но так как Веймарская республика была весьма далека от состояния равенства, она не могла удовлетворить притязаний левых. В результате критика существующих отношений была наиболее ярким отличительным признаком левых интеллектуалов Веймарской республики, и неважно, были ли они евреями или нет. При значительном числе такого рода интеллектуалов их критика Веймара зашла настолько далеко, что высказывались огульные претензии к республике в целом. Для тех, кто примкнул к коммунистам или открыто выступал на их стороне, «буржуазная» республика не была тем, что стоило защищать. Интеллектуалы, собравшиеся под эгидой Вилли Мюнценберга, шефа печати и пропаганды КПГ, стремились к тому, что прокламировала партия: к революционному разрушению существующей системы и построению «немецкого Советского Союза». «Веймарские» интеллектуалы, в том числе и самые известные среди них: Бертольд Брехт, Арнольд Цвейг, Анна Зегерс, Иоганнес Р. Бехер и Курт Вайль, — были республиканцами только в силу того, что они являлись современниками республики 1919 г., но не в результате внутренней привязанности к ней{317}. К левым еврейским интеллектуалам, смотревшим на Веймарскую республику не сквозь коммунистические партийные очки, но тем не менее весьма критически, относился Курт Тухольски, один из главных авторов «Вельтбюне». В 1928 г. в своей статье подзаголовком «Берлин и провинция» он рассуждал о том, как в действительности обстоит дело с распространением «республиканского образа» мыслей. Тухольски пришел к выводу, что «снаружи, в стране», т. е. вне столицы, «его признаки можно увидеть только местами. Восточнее Эльбы он выглядит скверным, правее Одера — очень скверным». Берлин переоценивает себя безмерно, если он полагает себя сердцем и солью страны. «Сочинитель передовиц из Берлина поступил бы очень хорошо, однажды отправившись инкогнито в путешествие, чтобы посетить большое сельское поместье в Шлезвиге или в Восточной Пруссии или провинциальный город в Померании, и тогда приключения ему обеспечены. То, что в день триумфа Гинденбурга было выплеснуто на Берлин в виде персонажей из фарса, с цилиндрами времен кайзера Вильгельма, в столетних сюртуках и с бородами старших лесничих, было только небольшой демонстрацией образцов. Склады в маленьких городах имеют полный набор подобного ассортимента и могут быть представлены на обозрение в любое время, но не всегда с ними можно ознакомиться без риска. Опасность грозит тогда, если какой-нибудь «берлинец» захочет попытаться энергично выступить против террора, диктатуры и дерзости правящей там буржуазии. Ни один суд его не поддержит, ни одно административное учреждение, ни одна газета. Он проиграл и должен очистить поле битвы». Но даже если провинция во много раз была реакционнее метрополии, Тухольски отнюдь не желал объявлять Берлин оплотом свободы: «Берлин — это только большой город, а в большом городе одиночка исчезает, и целая группа может действовать здесь без помех, т. к. круг тех, кто насчитывает в Кельне 80 или 100 человек, в Берлине может составлять десятки тысяч, здесь все необходимо умножать на сотню… Упрек провинции в том, что берлинская шумиха не есть Германия, справедлив в той степени, насколько в действительности громкая репутация крупной демократической прессы, людей искусства и свободных союзов, не соответствует их реальной мощи. На другой же стороне почти бесшумно, но все время без остановки, значительно искуснее и прежде всего значительно нахальнее действуют силы реакции, поддерживаемые благочестивыми желаниями биржи и купечества, рукоплещущих на берлинских премьерах неопасным представлениям»{318}. Приговор Тухольского, вынесенный состоянию здоровья республики, не был преувеличенно пессимистичным. Один из примеров культурно-политической реакции он привел сам: длительную кампанию против Баухауса — цитадели архитектуры модерна. Свое первоначальное место пребывания в Веймаре Баухаус вынужден был оставить в 1925 г., после того как ландтаг Тюрингии осенью 1924 г. сократил наполовину средства, ассигнуемые учреждению, тем самым сделав невозможным продолжение его работы. Но и на новом месте в Дессау, столице Анхальта, где социал-демократы фактически без перерыва с 1918 по май 1923 г. делегировали министров-президентов, Баухаус был для правых как бельмо на глазу. Когда в 1929 г. торжественно было открыто построенное по проекту Гропиуса поселение для рабочих и служащих завода Юнкерса в Дессау-Тёртен, национал-социалисты и немецкие националисты разразились протестами в отношении «марокканских хижин» «негритянского поселения». Поводом для этой атаки было то, что дома в поселении имели не «немецкие» остроконечные крыши, а плоские, типичные для архитектуры «новой деловитости»{319}. Получили распространение и более утонченные формы борьбы против духа Веймара. Интеллектуальные критики справа видели в республике прежде всего продукт нивелирующего коллективизма, который дает возможность массе торжествовать над личностью. Мартин Хайдеггер писал в своем главном философском труде «Бытие и время», вышедшем в свет в 1927 г., о диктатуре «Man»[40]. «Man повсюду, где бытие требует решения. Но так как Man определяет все решения и вердикты, он соответственно лишает бытие ответственности. Man может также добиться того, чтобы к нему все время обращались. Man наилегчайшим образом может нести ответственность за все, так как на самом деле нет никого, кто должен за что-либо отвечать. Man был всегда, и все же можно сказать, что никто им не был. В повседневности бытия почти все совершается тем, о ком мы должны сказать, что это был никто из нас». Таким же расхожим, как клише о всеподавляющем коллективизме, был также тезис о разлагающей силе плюрализма, который деформирует парламентскую систему и в конце концов приведет к распаду государства. Так, правовед Карл Шмитт в 1926 г. в предисловии ко 2-му изданию своего труда «Духовно-историческое положение современного парламентаризма», впервые опубликованного в 1923 г., писал о том, что парламент сегодня не является более местом открытого и свободного обмена аргументами, но местом, где сталкиваются организованные интересы. Вместо рациональной аргументации — повсюду идеологическая поляризация, вследствие чего современная парламентская система лишена способности достигать политического единства. «В некоторых государствах парламентаризм уже привел к тому, что все общественные дела превратились в объекты добычи или компромисса партий и клик, и политика, ставшая слишком далекой от того, чтобы быть делом элиты, превратилась в презираемое занятие презираемых человеческих классов». Однако с момента избрания Гинденбурга правые интеллектуалы, такие как Карл Шмитт, больше не испытывали сомнений в том лекарстве, которое исцелит болезнь парламентаризма: этим лекарством была плебисцитарная демократия, назначившая рейхспрезидента носителем всеобщей воли. Глава государства, избранный путем прямого голосования, как воплощение «volonté générale» в интерпретации Руссо, должен был быть сильнее парламента, в котором артикулировалась «volonté de tous», сумма многих отдельных воль. Таким образом, демократия использовалась против парламента, а народ был призван в свидетели против своих представителей{320}. Идеологией, которую правые противопоставили мнимому плюралистическому разрушению государства, выступил радикальный национализм. На место расколотого общества должна была встать единая нация. Из этой перспективы безраздельный национализм был ответом на марксизм и либерализм. Последний расценивался как условие возможности появления первого, а первый — как главный враг. Никто не понял и не обосновал возможность внутриполитического применения немецкого национализма лучше, чем Гитлер. В одной из своих статей, сочиненных с целью защиты путча 9 ноября 1923 г., фюрер национал-социалистов писал в начале 1924 г.: «Марксистский интернационализм будет сломлен только фанатическим крайним национализмом, обладающим высшей социальной этикой и моралью. Нельзя отобрать у народа фальшивых идолов марксизма, не дав ему гораздо лучшего бога… Яснее всего это увидел и наиболее последовательно реализовал Бенито Муссолини, что является его всемирной заслугой. На месте искорененного интернационального марксизма он насадил национальный фанатический фашизм, что привело к успешному, практически повсеместному роспуску всей совокупности марксистских организаций Италии»{321}. Притягательность, исходившая от итальянского фашизма, не ограничивалась только национал-социалистами. Но только крайне правые силы вокруг Гитлера требовали в середине 1920-х годов введения политической системы по образцу той, что была создана Муссолини. То же самое можно утверждать в отношении пропагандировавшейся национал-социалистами борьбы против евреев. В годы относительной стабилизации враждебность к евреям не получила столь широкого распространения и такой силы, как в первое пятилетие республики, но антисемитизм все еще сохранял заметное присутствие в немецком обществе. В первую очередь он был направлен против предполагаемого засилья евреев в культуре, т. е. против той роли, которые евреи играли как журналисты, издатели, деятели театра и кино. Кто связывал еврейский дух с разлагающей интеллектуальностью и декадансом цивилизации больших городов, тот мог ожидать одобрения от правых сил или даже среди членов партии Центра. «Дер гроссе Гердер», католический справочник, отмечал в 1926 г. в одной из своих статей под соответствующим заголовком, что антисемитизм является «в своей сущности антипатией большинства народа по отношению к инородному, частично замкнувшемуся в себе, однако необычно влиятельному меньшинству, демонстрирующему высокие духовные ценности, но также и завышенную самооценку». Расовая ненависть, практиковавшаяся национал-социалистами, напротив, расценивалась в умеренных консервативных кругах как вульгарность и нарушение хорошего тона. Таким образом, антисемитизм был «пристоен» в обществе, но только до тех пор, пока он не выходил за определенные рамки общественного приличия{322}. Большинство интеллектуалов, выступавших в защиту Веймара, осознавали шаткость внутренних отношений. Томас Манн, еще в годы войны бывший защитником авторитарного государства и «обороняемой властью самобытности», в октябре 1922 г., выступая в Берлине по поводу 60-летия Герхарда Хауптмана перед частично враждебно настроенной студенческой аудиторией, принес клятву Веймарской республике, привлекшую к себе много внимания. В конце ноября 1926 г. он, мюнхенский избиратель, говорил в столице Баварии с гневом и печалью о том, как сильно с довоенного времени изменилось соотношение между столицами Баварии и Германии. Тогда Мюнхен был демократическим городом, а Берлин — военно-феодальным, но с тех пор ситуация поменялась почти с точностью до наоборот. «Мы стыдились того строптивого пессимизма, который Мюнхен противопоставил политическому благоразумию Берлина и устремлениям всего мира; мы с тревогой наблюдали, как его живая и горячая кровь отравлялась антисемитским национализмом и Бог знает еще какими темными глупостями. Мы должны были пережить то, что Мюнхен был ославлен во всей Германии и за ее границами как оплот реакции, как место сосредоточения косности и строптивости, направленных против веления времени, мы должны были слушать, когда его называли глупым-преглупым городом». Томас Манн, как и его брат Генрих, также выступавший на этом собрании, организованном Немецкой демократической партией, надеялся добиться улучшения ситуации тем, что без обиняков называл вещи своими именами. Однако оборонительная позиция Манна была столь же несомненной, как и берлинского историка Фридриха Мейнеке, который попытался в апреле 1926 г. на Веймарском съезде преподавателей высшей школы — форуме республиканских профессоров и доцентов, перебросить мостик к умеренным сторонникам немецких националистов. «Разумный республиканец» Мейнеке выразил особое сожаление по поводу того, что в 1919 г. произошло не примирение между черно-бело-красным и черно-красно-золотым, а случилась «полная смена цвета». Он также признал, что парламентаризм не обязательно является неотъемлемым следствием существования демократической республики и год спустя после избрания Гинденбурга выразил свою готовность поразмыслить над вопросом, «не стоит ли усовершенствовать Веймарскую конституцию, увеличив властные полномочия рейхспрезидента». Нерешительность, которой насквозь пропитаны подобные высказывания, была весьма типичной для либерального «разумного республиканизма». Однако Мейнеке далеко опередил большинство «универститетской» Германии, напомнив о законе, по сути дела, легшем в основу Веймара: «Республика представляет из себя большой вентиль для классовой борьбы между рабочим классом и буржуазией, это государственная форма социального мира между ними», заявил он в 1925 г. во время выступления перед членами Демократического студенческого союза в Берлине. «Социальное недовольство наличествует теперь не только между рабочими и буржуазией в целом, но трещина уже подвинулась вправо и пролегает теперь насквозь через саму буржуазию»{323}. Мейнеке также мог бы сказать, что трещина сдвинулась и вправо, и влево и прошла как через буржуазию, так и рабочий класс. Ведь ситуация в Веймарской республике отличалась тем, что политические разделительные линии совпадали с общественными менее, чем когда-либо. Пропасть разверзлась между буржуазными «разумными республиканцами» и крайне правыми, однако то же самое было справедливо и для отношений между социал-демократами и коммунистами. Обе рабочие партии использовали отчасти все еще одни и те же марксистские понятия, но понимали под ними весьма различные вещи. Так, классовая борьба обозначала для коммунистов обострение социальных конфликтов, ее конечной целью была пролетарская революция. Для социал-демократов и свободных профсоюзов под ней, напротив, подразумевалось осуществление плюралистической политики в интересах рабочих и служащих. Республика, как и прежде, опиралась на плечи умеренных сил среди буржуазии и рабочего класса. В середине 1920-х годов имелись как признаки, указывавшие на возобновление «классового компромисса» 1918–1919 гг., так и тенденции, скорее, говорившие о политической поляризации. Несомненным было одно: стабилизация Веймарской республики после 1923 г. была относительной, о ней можно было говорить лишь в сравнении с нестабильностью предыдущих лет. Внутренняя угроза демократии не была устранена, она лишь ослабла.Глава XI Консервативная республика
1925 год попал в немецкие школьные учебники истории по двум причинам: во-первых, из-за выборов Гинденбурга в рейхспрезиденты, во-вторых — благодаря подписанию Локарнских соглашений, которые знаменовали собой возвращение Германии в клуб великих европейских держав. Еще в начале года очень трудно было представить себе подобный триумф. Рейх по многим причинам ощущал себя сидящим на скамье подсудимых, не в последнюю очередь из-за большого числа добровольческих отрядов, с помощью которых рейхсвер стремился преодолеть ограничение численности вооруженных сил в 100 тыс. человек, тем более что полувоенная активность правых все время давала Лондону и Парижу поводы для обвинений. 5 января 1925 г. союзные державы отказались осуществлять вывод оккупационных войск из первой («Кельнской») Рейнской зоны, который должен был состояться через пять дней, мотивировав свой шаг повсеместными нарушениями немецкой стороной пунктов о разоружении Версальского договора. Главной причиной такого вердикта союзников был нерешенный «вопрос о залогах безопасности». Франция страшилась ремилитаризации Германии и пыталась вследствие этого сохранить те гарантии, которые еще оставались в ее распоряжении после подписания Лондонского соглашения в августе 1924 г. Так как британцы оказали Франции поддержку, Вильгельмштрассе была вынуждена реагировать гибко. 20 января 1925 г. министр иностранных дел Штреземан ознакомил британскую сторону со своим тайным меморандумом, который был им, в свою очередь, также передан французам 9 февраля. Из-за недоверия, которое Штреземан питал в отношении своих коллег — министров от партии немецких националистов, он информировал об этом меморандуме сначала не весь кабинет, а только рейхсканцлера Лютера. Штреземан предлагал в нем подписать договор, который обязывал «державы, заинтересованные в Рейнской области», решать все проблемы мирным путем. Германия также заявляла о своей готовности заключить гарантийный пакт о «настоящем состоянии владений на Рейне», а также подписать договоры об арбитраже с Францией и всеми другими заинтересованными странами{324}. Инициатива немецкого министра иностранных дел была первым шагом на пути к Локарно. В самой Германии с марта 1925 г. разразились бурные дебаты начиная с того момента, как министры от партии немецких националистов были проинформированы о намерениях Штреземана. Самая правая из парламентских партий обвинила шефа германской дипломатии в неоправданной уступчивости перед лицом союзников и развязала в прессе в июне настоящую кампанию травли министра иностранных дел. Западные державы отнюдь не облегчили Штреземану отражение направленных на него ударов: детальные претензии к Германии в области разоружения, перечисленные в союзнической ноте от 4 июня 1925 г., даже Штреземан охарактеризовал как «мелкие и жалкие». Не мог он примириться и с тем, что потребовало от Германии 16 июня 1925 г. ведомство с Кэ д’Орсэ: вступление в Лигу Наций без всяких предварительных условий с ее стороны и гарантий восточной границы Германии всеми странами, как подписавшими Версальский договор, так и теми, кому предстояло подписать «Рейнский пакт». Инициатором вступления Германии в Лигу Наций стал в сентябре 1924 г., вскоре после завершения Лондонской конференции, тогдашний премьер-министр Великобритании от лейбористов Макдональд. Правительства Маркса и Лютера полностью поддерживали эту инициативу, но выдвигали несколько встречных условий: постоянное место для Германии в Совете Лиге Наций, освобождение от обязанности участия в военных операциях лиги (условие, которое обосновывалось небольшой численностью рейхсвера) и участие Германии в мандатной системе Лиги Наций. В отношении восточных границ рейха был достигнут широкий «ревизионистский консенсус» ведущих политических сил Германии, к которому также примкнули и социал-демократы: Германия не могла пренебречь возможностью добиваться мирных изменений границы в своих интересах{325}. Перед лицом враждебной кампании, развязанной немецкими националистами, для Штреземана большое значение имело то, что его политика компромиссов с Западом поддерживалась наряду с крупными либеральными газетами также ведущей оппозиционной партией — СДПГ. Что касается кабинета, то министр внутренних дел смог в конце июня убедить правительство, однако с большим трудом и только при поддержке Лютера, чтобы его уполномочили продолжить ведение переговоров с Англией и Францией. Переговоры протекали настолько успешно, что 5 октября 1925 г. в Локарно началась немецко-союзническая конференция по проблемам безопасности. То, что в ней наряду со Штреземаном принимал участие также Лютер, противоречило ясно выраженной воле немецких националистов. Но особенно ожесточило ДНФП то, что канцлер и министр иностранных дел 26 октября 1925 г. парафировали результаты переговоров. Остававшиеся в Берлине члены кабинета под натиском одного из министров от националистов, а именно министра внутренних дел Шиле, по телеграфу выступили против парафирования, предлагая вместо этого менее обязательные формы протоколирования. Но Лютер и Штреземан с полным основанием были убеждены, что только путем незамедлительного парафирования они могли закрепить «существенные преимущества, полученные Германией». Договор в Локарно действительно был выгоден немцам. В соответствии с его положениями западные границы рейха теперь находились под защитой международного права. Германия, Франция и Бельгия отказывались от насильственного изменения существующих границ, что гарантировалось Англией и Италией. Со своими восточными соседями, Польшей и Чехословакией, рейх заключил только договоры о третейском арбитраже, при этом Франция брала на себя обязательства оказать военную помощь Польше и Чехословакии в случае нападения на них Германии. Таким образом, мирная «ревизия» немецкой восточной границы в результате Локарно никоим образом не исключалась. Что касается вступления в Лигу Наций, то и здесь Штреземан мог записать на свой счет первый успех. Союзники заверили Германию в том, что статья 16 Устава Лиги Наций, в которой речь шла об интервенции, в отношении Германии будет толковаться в смысле, наиболее соответствующем пожеланиям немецкой стороны, а именно: Германия будет обязана принимать участие в санкциях Лиги Наций только в той степени, в какой ей это позволяют ее географическое и военное положение. Таким образом, Германия не должна была страшиться против своей воли оказаться участницей экономических санкций против СССР или вовсе в случае советско-польской войны быть обязанной разрешить французским войскам проход через свою территорию. Западные страны пошли на уступки Германии потому, что взятые на себя немцами договорные обязательства должны были оказать в целом сдерживающее и умиротворяющее воздействие. Членство в Лиге Наций казалось союзникам особенно подходящим средством, чтобы держать в узде немецкий ревизионизм, поэтому договор в Локарно приобретал силу только в случае вступления Германии в Лигу Наций. С точки зрения Штреземана, Локарнские соглашения также способствовали упрочению мира. Но в то же время достигнутые договоренности были для него только очередным этапом на пути к всеобъемлющему пересмотру послевоенного миропорядка. Октябрьский договор 1925 г. означал для Штреземана достижение ближайшей промежуточной цели: настолько расширить сферу действия Германии путем договоренностей с Западом, чтобы рейх, несмотря на все еще остававшиеся ограничения немецкого суверенитета, мог снова вести политику, присущую великой европейской державе. Составной частью такой политики была более жесткая позиция в отношении Польши, которая не смогла добиться осуществления своих требований «восточного Локарно». О том, что именно подразумевал Штреземан после Локарно под мирной ревизией восточной границы, он открытым текстом уведомил 19 апреля 1926 г. посольство Германии в Лондоне: «Мирное решение пограничного вопроса с Польшей, которое действительно удовлетворяло бы наши требования, не будет достигнуто, пока бедственное экономическое и финансовое положение Польши не дойдет до своего максимума и не приведет все ее государственное тело в состояние бессилия… Таким образом, по большому счету нашей целью является задержка на как можно более длительный срок окончательной и долговременной санации Польши, пока эта страна не созреет для урегулирования пограничного вопроса сообразно нашим пожеланиям, и пока наша политическое могущество не усилится в достаточной мере… Нас может удовлетворить только неограниченное обретение суверенитета над спорными областями»{326}. Уступки, на которые пошли в Локарно западные державы, еще долго казались немецким националистам недостаточными. ДНФП была не особенно впечатлена также и тем, что союзники обещали очистить «Кельнскую зону» после ратификации договора, не посчитавшись с тем, что, беря на себя это обязательство, они молчаливо обходят нарушение немецкой стороной версальских пунктов о разоружении. 22 октября 1925 г. фракция немецких националистов в рейхстаге заявила, что не может одобрить результаты переговоров в Локарно. Она якобы не увидела со стороны других держав встречных усилий, соразмерных немецким жертвам, и подтвердила, что не даст своего согласия ни одному договору, «который не отвечает жизненным потребностям Германии и который в особенности не исключает отказа Германии от немецкой земли и немецкого населения» (при этом имелись в виду Ойпен-Малмеди и Эльзас-Лотарингия). И Лютер, и министр внутренних дел Шиле напрасно пытались переубедить немецких националистов. 23 октября 1925 г. руководство партии и председатель ДНФП заявили о том, что результаты переговоров в Локарно являются для партии «неприемлемыми». Спустя еще два дня фракция немецких националистов в рейхстаге приняла решение о незамедлительном выходе из правительственной коалиции{327}. Решение о выходе из кабинета Лютера далось ДНФП отнюдь не легко. Как бы то ни было, но правофланговая партия «буржуазного блока» смогла добиться в августе 1925 г. осуществления одного из своих главных требований — возвращения к протекционистским пошлинам в отношении зерна и других продуктов сельского хозяйства в соответствии с «тарифом Бюлова» 1902 г. Поэтому крупное сельское хозяйство не было той силой, которая осенью 1925 г. стремилась к развалу коалиции. За него ратовал печатный концерн правого члена ДНФП, одного из основателей Пангерманского союза, многолетнего председателя Союза шахтовладельцев и депутата рейхстага Альфреда Гугенберга. С помощью разветвленной газетной империи Гугенбергу удалось переманить на свою сторону сначала земельные союзы, а потом и руководство партии вместе с фракцией в рейхстаге. Гугенеберг стоял на позициях радикального национализма, делавшего главную ставку на эмоциональную мобилизацию масс и считавшего организационные интересы второстепенными{328}. Выход министров от немецких националистов из кабинета Лютера знаменовал собой начало «Локарнского кризиса». 25 октября 1925 г. правительство утратило парламентское большинство; ратификация договора была теперь возможной только в том случае, если бы социал-демократы заполнили собой брешь, оставленную немецкими националистами. Поначалу социал-демократы продемонстрировали небольшую склонность сделать это, хотя «Форвартс» еще 17 октября 1925 г. прославляла Локарно «как одно из самых великих событий в мировой политике». Большинству партийных лидеров казалось тактически более предпочтительным отказать правительству в поддержке и стремиться к роспуску рейхстага и новым выборам, из которых социал-демократия надеялась выйти победителем. Когда министр-президент Пруссии Отто Браун выступил за принятие договоров и одновременно за образование правительства Большой коалиции, он оказался фактически в полной изоляции в своей собственной партии. В действительности же его предложение было единственным реалистическим: социал-демократия могла бы назначить за свое одобрение договоренностей, приветствовавшихся почти всеми предпринимателями, цену в виде участия в правительстве. Напротив, в высшей степени спорным был вопрос: сможет ли СДПГ, если договор не получит поддержки в рейхстаге, после этого вести заслуживающую доверия избирательную кампанию в духе Локарно. В течение первых трех недель ноября верх в стане социал-демократов одержали те силы, которые считали линию парламентской обструкции опасной, а исходновых выборов — неопределенным. Но социал-демократы даже не помышляли о переговорах об образовании Большой коалиции. Как свой успех они рассматривали в большей степени принятое кабинетом Лютера 19 ноября 1925 г. решение, подать в отставку сразу же после того, как произойдет подписание Локарнских соглашений. Таким образом, социал-демократы могли проголосовать за одобрение результатов Локарно, не вынося одновременно вотум доверия правительству Лютера. 27 ноября 1925 г. фракция СДПГ в рейхстаге сплоченно проголосовала за ратификацию договоров, это решение было принято 291 голосом против 174 при трех воздержавшихся. В течение следующих восьми дней разом последовали три важных события: 30 ноября оккупационные власти начали очистку «Кельнской зоны», 1 декабря в Лондоне были подписаны Локарнские соглашения, а 5 декабря подал в отставку, как об этом и было объявлено, кабинет Лютера{329}. Тем самым немецкий правительственный кризис вступил в очередную стадию. Теоретически было очевидным, что СДПГ, после того как партия сделала возможным подписание договоров, должна снова принять участие во власти. В пользу Большой коалиции высказывались также Центр и ДДП; БФП и ДФП в отношении этого предложения заняли либо холодную, либо отрицательную позицию. Дальнейшее развитие кризиса проходило по сценарию госсекретаря Мейснера из бюро рейхспрезидента, чиновника, унаследованного Гинденбургом от Эберта. 2 декабря Мейснер выступил инициатором ведения «чрезвычайно серьезных» переговоров о Большой коалиции, которые неминуемо должны были закончиться ничем в результате существенных разногласий между СДПГ и ДФП и завышенных требований со стороны социал-демократов. Тем самым должна была быть убедительно продемонстрирована необходимость формирования нового центристского правительства под руководством Лютера, которое не обладало бы парламентским большинством, но и не нуждалось бы в нем столь остро, так как в ближайшее время не ожидалось принятия серьезных внешнеполитических решений. Что же касается области внутренней политики, а именно реформы оплаты труда чиновников и смягчения бремени социальных расходов государства, то такой кабинет мог бы рассчитывать на поддержку правых партий. Посвященный Мейснером в этот план, председатель фракции ДФП в рейхстаге Эрнст Шольц дал свое согласие на ведение переговоров с СДПГ. Но теперь свою арию, предназначенную им советником Гинденбурга, с блеском исполнили социал-демократы: среди прочего они потребовали повторного введения 8-часового рабочего дня, дав тем самым Шольцу повод объявить требования СДПГ неприемлемыми. Если бы СДПГ всерьез стремилась получить доступ к власти, то она должна была начать торги о Большой коалиции еще до одобрения соглашений в Локарно. После 27 ноября 1925 г. у нее уже не было ничего, что она могла бы положить на чашу весов и подвигнуть ДФП к уступкам в сфере экономической и социальной политики. Но большинство социал-демократов отнюдь не стремились к власти зимой 1925–1926 гг. Перед лицом тяжелого экономического кризиса — число безработных, получавших пособие, составило в декабре 1925 г. 1,8 млн человек, а в январе 1926 г. уже свыше 2 млн — они должны были считаться с тем, что участие в правительстве резко снизит их популярность. Попытка лидера ДДП Эриха Кох-Везера создать правительство Большой коалиции закончилась провалом, прогнозируемым с самого начала. 13 января 1926 г. Гинденбург поручил Лютеру сформировать кабинет, и спустя неделю исполняющий обязанности рейхсканцлера смог представить новое центристское буржуазное правительство, в которое входили политики от ДФП, ДДП, Центра и БФП. Впервые в истории Веймарской республики рейхспрезидент, хотя и в скрытой форме, выступил не «за», а «против» создания правительства парламентского большинства{330}. Второй кабинет Лютера просуществовал всего лишь несколько месяцев. Основу его падения заложил сам рейхсканцлер в своем письме министру иностранных дел Штреземану от 20 апреля 1926 г. Ссылаясь на пожелания немцев, проживавших за рубежом, прежде всего в Латинской Америке, Лютер хотел предоставить дипломатическим миссиям Германии право наряду с черно-красно-золотыми цветами республики демонстрировать также цвета императорского флага — в форме черно-бело-красного флага торгового флота с маленьким черно-красно-золотым верхним углом. Правительство, очевидно, совершенно не распознавшее политическую взрывоопасность этого предложения, 1 мая согласилось с ним в смягченной форме: в будущем не все иностранные миссии, а только посольские и консульские учреждения должны были наряду с флагом республики вывешивать также торговый флаг. Решение правительства вызвало бурю возмущения у социал-демократов, свободных профсоюзов и у стоящей близко к ним боевой республиканской организации — «Железного фронта». Центристы и демократы также протестовали против реставрационного, по своей сути антиреспубликанского нововведения, о котором они узнали только из газет. Сопротивление оказалось настолько массовым, что правительство было вынуждено отступить: постановление, подписанное Гинденбургом 5 мая 1926 г., разрешало демонстрацию торгового флага только за пределами Европы, а внутри нее — только в тех местах, в которые заходили торговые морские суда. Но эта уступка уже не могла успокоить возмущение республикански настроенных сил. 6 мая социал-демократы внесли в рейхстаг запрос о флаге и предложение о вотуме недоверия Лютеру. Это предложение не было одобрено, зато большинство по инициативе ДДП проголосовало за вынесение порицания правительству: депутаты приняли его 12 мая 1926 г. 176 голосами против 146 при 103 воздержавшихся. Кроме демократов «за» проголосовали депутаты от СДПГ и КПГ. ДФП, Центр и БФП голосовали против, немецкие националисты воздержались от голосования. В тот же день второй кабинет Лютера подал в отставку. Возможно, правительство могло бы отменить свое решение от 1 мая 1926 г., если бы человек, возглавлявший пирамиду власти в Германии, не был бы столь убежденным монархистом. Однако Гинденбург воспринял инициативу Лютера настолько близко к сердцу, что для правительства уже не существовало возможности отступить с наименьшими потерями. Не только беспартийный рейхсканцлер, но и все члены его кабинета утратили в вопросе с флагом тонкое политическое чутье: они не осознали, что своим решением вторгаются в область символической политики — область, которая способна в большей степени, чем чисто практические вопросы, будить и страсти, и призраки прошлого{331}. К области символической политикиотносился также другой крупный спорный вопрос первой половины 1926 г. — борьба за имущество бывших немецких князей. Во время революции 1918–1919 гг. в Германии собственность когда-то владетельных аристократических домов нигде не была отчуждена безвозмездно. В последующие годы происходили сложные примирительные разбирательства, причем суды все более склонялись к тому, чтобы соглашаться с точкой зрения лишенных имущества владельцев. В конце ноября 1925 г. ДДП внесла в рейхстаг законопроект, согласно которому федеральным землям давалось право решать свои споры с бывшими владетельными князьями на основании закона, т. е. без права обращения последних в суд. Следом выступила КПГ с более чем радикальным законопроектом, предусматривавшим безвозмездное отчуждение бывших княжеских имуществ. Коммунисты с большим популистским мастерством потребовали разделить земельную собственность бывших владетельных князей между мелкими крестьянами и арендаторами, замки должны были использоваться для смягчения дефицита жилья или превращены в дома отдыха, а экспроприированная наличность — пойти на нужды инвалидов войны и членов семей погибших. Конечно же, КПГ осознавала, что парламентское большинство никогда не проголосует за принятие этого закона. Но, затевая свою акцию, коммунисты думали о народном представительстве еще меньше, чем о народе. 4 декабря 1925 г. газета «Роте Фане» опубликовала открытое письмо ЦК КПГ к руководству СДПГ и ведущим союзам Свободных немецких профсоюзов, а также к федеральному руководству «Железного фронта» и к «Союзу красных фронтовиков». КПГ предлагала организовать совместное предварительное обсуждение вопроса в интересах проведения плебисцита. Учитывая высокий уровень безработицы, коммунисты могли надеяться на мощную поддержку своих требований. Их призыв к «реформистам» соответствовал той новой тактике «единого фронта», курс на которую осенью 1925 г. взял Коминтерн, недовольный ультралевой политикой руководства КПГ в лице Фишера-Маслова, отталкивавшей многих рабочих избирателей. Плебисцит по вопросу экспроприации имущества князей предлагал, сточки зрения коммунистов, уникальный шанс вогнать клин между руководством СДПГ и профсоюзов и их членами. Если некоммунистические организации отклоняли требование безвозмездного отчуждения, то их можно было бы заклеймить как предателей классовых интересов. Если же они выступали «за», то очень скоро должен был наступить момент, когда КПГ смогла бы обвинить их в неискренности и непоследовательности. Позитивные отклики на инициативу коммунистов среди членов СДПГ в действительности были настолько сильными, что руководство партии, первоначально настроенное против, приняло в середине января 1926 г. решение, несмотря на серьезные сомнения, подготовить совместно с коммунистами плебисцит о безвозмездном отчуждении княжеских имуществ. 19 января 1926 г. партийный комитет обратился с просьбой к руководству АДГБ выступить в качестве посредника в деле выработки совместного законопроекта. Уже спустя три дня по приглашению АДГБ в здании рейхстага встретились представители СДПГ, КПГ и «Комитета по реализации решения плебисцита о безвозмездной экспроприации князей», возглавляемого статистиком Рене Робертом Кучински. Результатом обсуждения стал совместно выработанный текст законопроекта. Он предусматривал безвозмездное отчуждение совокупного имущества правивших до 1918 г. владетельных князей «в интересах всеобщего блага». 25 января 1926 г. проект был передан министерству внутренних дел с просьбой допустить его как можно скорее к процедуре «народной инициативы», которая являлась предварительным этапом плебисцита. Министерство определило в качестве срока проведения «народной инициативы» время с 4 по 17 марта 1926 г. В поддержку сторонников экспроприации выступили многие знаменитые интеллектуалы и деятели искусств, среди них — Альберт Эйнштейн, Курт Тухольски, Альфред Керр, Эрвин Пискатор, Кете Кольвиц, Макс Пехштейн и Генрих Цилле. Фронт противников образовали буржуазные партии, «национальные» союзы, Ландбунд и христианские церкви. Результат «народной инициативы» стал большим успехом для левых: 12,5 млн избирателей внесли свои имена в официальные списки. Это было почти на 2 млн голосов больше, чем совокупное число избирателей, голосовавших в декабре 1924 г. во время выборов в рейхстаг за социал-демократов и коммунистов. Обратили на себя внимание результаты голосования в «цитаделях» Центра: идея безвозмездного отчуждения княжеского имущества пользовалась большей популярностью среди многих католиков, и не только среди католиков-рабочих, чем ожидала их партия. В соответствии со статьей 73 Веймарской конституции «народная инициатива» признавалась успешной, если она была поддержана одной десятой частью избирателей. За законопроект левых проголосовало в три раза больше избирателей, чем это было необходимо — 31,8 %. Теперь правительство было обязано внести законопроект в рейхстаг. Процедура плебисцита отпадала только в том случае, если в рейхстаге проект принимался в первоначальном виде. 6 мая 1926 г. рейхстаг отклонил законопроект СДПГ и КПГ 236 голосами против 141. После этого министерство внутренних дел назначило день проведения плебисцита на 20 июня 1926 г. Так как правительство по запросу Гинденбурга объявило законопроект вносящим изменения в конституцию, барьер для сторонников экспроприации стал еще выше: теперь для победы им было необходимо получить не простое, а абсолютное большинство голосов избирателей. И хотя ДДП недвусмысленно предоставила своим сторонникам свободу выбора, а головной Союз жертв ревальвации[41] даже рекомендовал голосовать «за», левые партии вряд ли могли ждать прироста в размере 18 % голосов в сравнении с этапом «народной инициативы». Результат плебисцита оправдал ожидания скептиков: 20 июня 1926 г. в его проведении приняли участие 15,6 млн, или 39,3 % избирателей, из которых «за» голосовали 14,5 млн, или 36,4 %, Таким образом, инициаторы плебисцита однозначно не достигли своей цели. В крайнем случае они могли записать себе в кредит относительный успех плебисцита. Первый референдум в истории Веймарской республики раскрыл все подводные камни плебисцитарной демократии. Законопроект о безвозмездном отчуждении княжеского имущества свел воедино силы, отнюдь неспособные к длительному конструктивному сотрудничеству, и он же создал глубокие рвы между теми, на кого только и могла опереться республика: между умеренными частями рабочего движения и буржуазии. Внутри рабочего класса временное единство действий социал-демократов и коммунистов не способствовало даже сглаживанию противоречий. Напротив, как только плебисцит завершился, КПГ в привычной для себя манере снова обвинила социал-демократов в классовом предательстве. После 20 июня 1926 г. СДПГ с большим трудом далось возвращение на привычный путь классовых компромиссов. 2 июля 1926 г. в результате сопротивления СДПГ был провален предложенный правительством законопроект о выплатах компенсации князьям. Напротив, в Пруссии 15 октября 1926 г., когда СДПГ воздержалась от голосования, между земельным правительством и Гогенцоллернами было достигнуто соглашение о компенсациях. Если бы не угроза социал-демократического министра-президента Отто Брауна подать в отставку в случае отклонения соглашения, то и в самой большой из немецких федеральных земель его партия также проголосовала бы против компромиссного решения проблемы, что, вероятно, означало бы конец правящей здесь Веймарской коалиции{332}. Правительство, действовавшее на тот момент в Германии было, как и предыдущее, правительством буржуазного центра: 17 мая 1926 г. кабинету парламентского меньшинства Лютера наследовал кабинет парламентского меньшинства под руководством предшественника Лютера, Вильгельма Маркса. И этому правительству социал-демократы оказывали свою поддержку, если на повестке дня стояли вопросы внешней политики. 10 июня 1926 г. рейхстаг почти единогласно одобрил Берлинский договор с СССР. В результате его подписания обе державы обеспечивали себе обоюдный нейтралитет в случае, если одна из них, несмотря на миролюбивый образ действий, подвергнется нападению третьей стороны. Помимо этого, они обязывались не вступать в коалиции с целью подвергнуть экономическому или финансовому бойкоту одну из сторон. Во всех остальных случаях основой советско-немецких отношений продолжал выступать договор в Рапалло, заключенный в 1922 г. Берлинский договор был призван в первую очередь устранить то недоверие, с которым Москва наблюдала за немецкой политикой в духе Локарно. Германия еще раз недвусмысленно пообещала Советскому Союзу то, что она в октябре 1925 г. выторговала себе у Запада: фактическое неучастие в возможных санкциях Лиги Наций в его отношении. Вильгельмштрассе питала также другие ожидания: соглашение с Советским Союзом должно было усилить давление на Варшаву и в конце концов подвигнуть Польшу пойти навстречу немецким требованиям пересмотра границы. Но этим надеждам не суждено было сбыться: после прихода в мае 1926 г. в результате государственного переворота к власти маршала Пилсудского началась политическая и экономическая стабилизация восточного соседа рейха. В обозримом будущем немцы и русские не могли теперь рассчитывать на «мирную» уступку территорий в их пользу{333}. Второе большое внешнеполитическое событие 1926 г. состоялось 10 сентября, день в день спустя четверть года после подписания Берлинского договора: вступление Германии в Лигу Наций. Рейх сразу же стал, как того упорно требовали правительства Лютера и Маркса, постоянным членом важнейшего органа этой организации, Совета Лиги Наций, в то время как Польша, главный конкурент за получение такого же статуса, должна была довольствоваться временным членством и обещанием ее избрания в Совет. Социал-демократы, которые раньше и последовательнее, чем какая-либо другая немецкая партия, выступали за вхождение Германии в Лигу Наций, праздновали достижение этой цели как звездный час. «Германия и Европа прошли путь от бедственного положения всеобщей анархии до состояния международной организации, в рамках которой постепенно должна осуществиться свобода всех народов», — писала «Форвартс», и, по ее словам, это, несомненно, был «шаг всемирно-исторического значения»{334}. Спустя неделю после праздничной церемонии в женевском Дворце Лиги Наций, 17 сентября министры иностранных дел Франции и Германии встретились в расположенной близ Женевы французской деревушке Туари для взаимного обмена мнениями. Прекрасная еда и обилие вина в ресторане Леже способствовали тому, что Бриан и Штреземан пришли в состояние эйфории. Оба согласились с тем, что Германия за свою материальную помощь в деле стабилизации франка — конкретно речь шла о досрочном погашении части немецких репараций — должна получить политические уступки. Важнейшими из них были заблаговременное возращение рейху Саарской области, скорейшее прекращение военного контроля, досрочная эвакуация Рейнской области до конца сентября 1927 г. и согласие Франции в отношении немецко-бельгийских договоренностей о возвращении рейху Ойпена-Малмеди. Но вслед за радужным настроением незамедлительно последовало горькое похмелье. Премьер-министр Пуанкаре отнюдь не думал о том, чтобы выполнять обещания своего министра иностранных дел. Тем временем в Германии также стали раздаваться голоса, выражавшие сомнения по поводу цены, которую Штреземан намеревался заплатить западным державам. В конце концов встречи у месье Леже принесли не более чем соглашение о том, что Международная военная комиссия должна покинуть Германию 31 января 1927 г. Туари оказался как высшим, так и конечным пунктом политики в духе Локарно. После этого в германо-французских отношениях, пока Штреземан занимал пост министра иностранных дел, не было больших подъемов. Они были не хороши и не плохи. Если не принимать во внимание случайных обострений, они определялись рутиной урегулированного совместного существования{335}. Во внутренней политике Германия переживала во время правления третьего кабинета Маркса относительное спокойствие. Правда, парламентская база правительства был настолько узка, что дискуссия о расширении существующей коалиции прямо-таки висела в воздухе. Самый сенсационный вклад в нее внес 4 сентября 1926 г. Пауль Сильверберг, один из ведущих предпринимателей буроугольной промышленности и одновременно заместитель председателя Имперского союза немецкой промышленности. Это произошло в Дрездене на ежегодной конференции союза. Сильверберг заявил, что «сохраняющееся в течение долгого времени положение, когда такая большая партия, как социал-демократическая, в условиях парламентаризма находится в более или менее безответственной оппозиции, является общеполитически и экономически непереносимым и вредным. Однажды было сказано, что нельзя осуществлять власть против рабочего класса. Это неверно, это высказывание должно звучать так: нельзя осуществлять власть без участия рабочего класса. И если это так, то необходимо найти мужество сделать последовательный вывод о том, что нельзя управлять страной без социал-демократии, в которой подавляющее большинство немецкого рабочего класса видит своего политического представителя». Сильверберг не выражал здесь мнение ведущего союза индустрии в целом, но все же он представлял влиятельное, сравнительно умеренное и гибкое направление в лагере предпринимателей, прежде всего опиравшееся на современные отрасли химической, электротехнической и текстильной промышленностей, машиностроение и производство готовой продукции. Своей речью в защиту Большой коалиции второй человек в Имперском союзе отнюдь не стремился ослабить властные претензии промышленников и изменить баланс сил в пользу рабочего класса. В большей степени для Сильверберга речь шла о том, чтобы возложить на социал-демократов ответственность за проведение непопулярных мер, таких как сокращение государственных социальных программ. За свое участие в правительстве СДПГ должна была заплатить значительную цену: отказ от классовой борьбы и признание политико-экономических притязаний буржуазии на ведущую роль. Несмотря на эти условия, дрезденская речь Сильверберга была свидетельством реалистической политики предпринимателей. Впервые ведущий промышленник во всеуслышание официально заявил о том, что в тот момент еще было небольшим преувеличением — а именно заверил в том, что немецкие предприниматели сегодня стоят «целиком на позиции положительного отношения к существующему государству», а тем самым — «на почве сегодняшнего государства и его конституции»{336}. Политические лозунги другой «современно» мыслящей властной элиты — рейхсвера, также отличались в это время реализмом. В конце сентября 1926 г. одна из южно-немецких газет первой сообщила о том, что принц Вильгельм Прусский, старший сын кронпринца, облачившись в мундир, принял участие в учениях считавшегося особенно «прусским» 9-го пехотного полка. Когда спустя неделю этой историей занялись берлинские газеты, под перекрестным огнем общественной критики оказался командующий сухопутными силами рейхсвера. Министр рейхсвера Гесслер потребовал от Секта объяснений за его самоуправство и 5 октября отправил его в отставку. Преемником Секта Гинденбург назначил командующего Первым военным округом, генерал-лейтенанта Хейе, одного из ближайших сотрудников Секта, который однако имел несравненно меньше политического честолюбия, чем его предшественник. Под эгидой Хейе ряд офицеров рейхсвера, таких как полковник Курт фон Шлейхер, глава вновь образованного отдела вооруженных сил в министерстве рейхсвера, получил возможность развивать идеи, которые были немыслимы или в любом случае не подлежали высказыванию до избрания Гинденбурга в рейхспрезиденты. Но по мере того как Веймарское государство все более отчетливо дрейфовало в направлении консервативной республики, молодые офицеры все более склонялись к тому, чтобы заново определить политическое местоположение рейхсвера. В декабре 1926 г. Шлейхер подготовил меморандум об «Отношении рейхсвера к государству». В нем утверждалось, что сегодня проблемой является не вопрос выбора республики или монархии, а то, как эта республика должна выглядеть. «И тогда становится совершенно очевидным, что она может быть выстроена по нашему желанию, если мы с радостью и неустанно будем над этим работать. Если мы усвоим эту мысль, то не будем больше пугливо вздрагивать от страха при слове “республика” или оглядываться со страхом, не услышал ли его кто-нибудь». В отличие от Сильверберга, Шлейхер не приветствовал участие социал-демократов в правительстве. Напротив, оптимальным рецептом он считал «развитие правительственного курса вправо, в соответствии с добрым старым правилом, что легче всего делиться, будучи в выигрыше». Однако сказанное Шлейхером «да» республиканской форме правления, хотя бы и в тактических целях, означало приспособление армии к реальности. Тем самым забвению предавались застарелые предрассудки, определявшие в эру Секта отношение армии к Веймарской республике. Помимо своей воли Гинденбург сделал республику «пристойной» для определенной части правых сил. В то же время кампания за экспроприацию имуществ княжеских домов ясно продемонстрировала, насколько непопулярными были в обществе реставрационные устремления. Это способствовало тому, что политики-реалисты, как Шлейхер, по возможности стремились избегать дискуссий по вопросу о форме государства. Рейхсвер мог сосуществовать с республикой, во главе которой стоял фельдмаршал, тем более если ее правительство еще и получало поддержку от правых партий{337}. Однако осенью 1926 г. какое-то время положение дел выглядело так, что правительство парламентского меньшинства Маркса скорее сможет договориться с социал-демократами, чем с немецкими националистами. 10 ноября, после одного из проигранных голосований в рейхстаге, правительство приняло решение вступить в переговоры с СДПГ о возможном «modus vivendi». День спустя рейхсканцлер смог сообщить министрам, что социал-демократы не готовы к вступлению в коалицию или к деловому сотрудничеству, но они хотят «от случая к случаю» поддерживать контакт с правительством. Но этой «негласной коалиции» была суждена недолгая судьба. Через два дня после того, как 3 декабря в рейхстаге при поддержке голосов от ДНФП (и не взирая на сопротивление СДПГ) был принят закон, призванный «охранить» молодежь от «грязи и скверны», председатель фракции ДФП Эрнст Шольц заявил в прусском Инстербурге, что внутреннее согласие между немецкими националистами и партиями буржуазного центра гораздо прочнее, чем между буржуазным центром и социал-демократами. СДПГ оценила эту речь как открытое объявление войны, а свое соглашение с рейхсканцлером — утратившим силу{338}. В тот же день, 5 декабря 1926 г., когда Шольц в Инстербурге бросил вызов социал-демократии, «Форвартс» опубликовала статью, которая стала началом конца третьего кабинета Маркса. Подзаголовком «Советские снаряды для орудий рейхсвера» орган социал-демократической партии сообщил о сенсационном разоблачении «Манчестер Гардиан» (источник которого скорее всего происходил из рядов самой СДПГ). Согласно публикации, фирма «Юнкере» по заказу рейхсвера построила в СССР авиационный завод, чтобы выпускать военные самолеты как для советского, так и немецкого потребления. Военные эксперты обеих стран подготовили в России сооружение химической фабрики, которая должна была производить отравляющие вещества; офицеры рейхсвера с этой целью по фальшивым паспортами ездили в Россию. Советские корабли в ноябре 1926 г. привезли в Штеттин партию оружия и боеприпасов для рейхсвера. Публикацией этой статьи СДПГ преследовала две цели. Во-первых, социал-демократы хотели указать рейхсверу его место и тем самым не давать союзным державам обоснованного повода для недоверия в отношении Германии. Во-вторых, статья «Форвартс» была направлена против коммунистов. Москва, писала газета, проповедует мировую революцию и при этом одновременно снабжает оружием и боеприпасами рейхсвер, который использует их для подавления восстаний пролетариата. «Немецких рабочих гонят под пулеметы, заряженные русскими патронами!» Правая пресса тотчас же ответила на атаку «Форвартса» обвинениями в том, что социал-демократы преследовали изменнические намерения. Но правительство взяло другой тон. Из Женевы, где Штреземан вел переговоры с державами-победителями о прекращении союзнического военного контроля, он предостерег об опасности правительственного кризиса в данной ситуации. После того как 12 декабря были достигнуты поставленные внешнеполитические цели, Штреземан вернулся в Берлин и предпринял там энергичные меры, чтобы не допустить в рейхстаге дебаты по военному вопросу, проведения которых требовала СДПГ. Министр иностранных дел расценивал их настолько опасными, что за отказ от дебатов был готов заплатить высокую цену: вхождение социал-демократов в правительство. 15 декабря 1926 г. кабинет под давлением доводов Штреземана единогласно принял решение предложить СДПГ начать переговоры с целью образования Большой коалиции. Председатель партии Герман Мюллер, насколько знал Штреземан, был готов к такому драматическому повороту событий. Но в рядах своей фракции в рейхстаге Мюллер не смог заручиться поддержкой. Вечером 15 декабря депутаты от СДПГ проголосовали за начало переговоров о формировании Большой коалиции, но обставили свое согласие условием, которое было неприемлемым для кабинета Маркса, а именно — отставка правительства. Кроме того, фракция выразила вотум недоверия министру рейхсвера Гесслеру. На следующий день правительство ответило отказом на все требования СДПГ и теперь должно было считаться с выражением вотума недоверия правительству в целом. Прежде чем это предложение было внесено в рейхстаг, 16 декабря 1926 г. Филипп Шейдеман выступил на послеобеденном заседании парламента с речью, ставшей сенсацией. Бывший министр-президент Германии говорил о тайном финансировании армии и о том, как это финансирование маскируется. Он описывал совместную деятельность рейхсвера и праворадикальных организаций, упомянул о военизированных союзах, с помощью которых рейхсвер обходил наложенное ограничение численности войск в 100 000 чел., т. е. о «черном рейхсвере». Шейдеман привел коммунистов в состояние наивысшего возбуждения, заявив, что штеттинская портовая ячейка КПГ была полностью проинформирована о содержании груза тех советских судов, которые в сентябре и октябре привезли оружие и боеприпасы в Германию. Политические требования, которые потом выставил оратор, были намного умереннее тона его выступления. Среди прочего он потребовал запрета частных пожертвований в пользу рейхсвера, разрыва всех его контактов с праворадикальными союзами и участия гражданских комиссий в ходе призыва офицеров и рядового состава. Тем не менее воздействие речи было фатальным. Шейдеман настроил этими разоблачениями, которые в своей массе отнюдь не были новыми, против социал-демократов не только правых, но и центристские партии. Центр и демократы едва ли менее, чем Немецкая народная партия и националисты, видели в ограничениях Версаля главную опасность для безопасности Германии и поэтому прикладывали все усилия, чтобы покрывать незаконное вооружение армии. Но ведь социал-демократы сами были кровно заинтересованы в поддержке центристских партий, если они хотели хоть что-нибудь изменить в положении рейхсвера, а именно — прервать его прямые связи с радикальными правыми. Посчитав свое участие в правительстве менее важным, чем эффект от одной-единственной сенсационной парламентской речи, социал-демократы утратили эту возможность{339}. На следующий день после выступления Шейдемана, 17 декабря 1926 г., правительство Маркса было отправлено в отставку рейхстагом 249 голосами против 171. За предложение социал-демократов о вынесении вотума недоверия голосовали также представители «народников», немецких националистов и коммунистов. Вопрос о Большой коалиции был похоронен сам собой речью Шейдемана: среди буржуазных партий больше не было никого, кто выступил бы за такое разрешение кризиса или хотя бы серьезно рассмотрел эту возможность. В отличие от социал-демократов немецкие националисты были полны решимости не упустить свой шанс войти в правительство. ДНФП выигрывала от того, что Гинденбург по совету своего госсекретаря Мейснера и полковника фон Шлейхера с самого начала стремился к образованию правого правительства, если возможно, на основании парламентского большинства. Но в случае необходимости это мог быть и президентский кабинет, опиравшийся на статью 48 конституции и, по выражению Шлейхера, имевший «у себя в кармане ордер на роспуск рейхстага». Глава отдела вооруженных сил в министерстве рейхсвера, зимой 1926–1927 гг. впервые повлиявший на образование нового правительства, рассматривал кабинет с участием немецких националистов в качестве наиболее вероятного исхода правительственного кризиса, а угрозу применения статьи 48 как наиболее подходящее средство достижения этой цели. События развивались так, как и предполагал Шлейхер. 16 января 1927 г. исполняющий обязанности рейхсканцлера Вильгельм Маркс вновь получил поручение сформировать правительство. Сначала он повел переговоры с социал-демократами о поддержке центристского правительства. Но так как Маркс вслед за Гинденбургом ни в коем случае не хотел отказываться от кандидатуры Гесслера в качестве министра рейхсвера, этот круг переговоров мог завершиться только неудачей. После того как рейхспрезидент потребовал от Маркса «в интересах отечества» образовать «правительство, опирающееся на правое большинство в рейхстаге», Партия Центра, которой снова досталась ключевая роль в политическом покере, отреагировала в соответствии с ожиданиями. В своем «манифесте» партия канцлера изложила условия создания правой коалиции. К ним относились безусловное «да» по отношению к республиканской конституции и ее символам, строгая внепартийность рейхсвера, политика социального примирения в смысле предоставления равных прав работодателям и рабочим и служащим, а также христианский школьный закон. Немецкие националисты согласились с этими условиями и тем самым сделали возможным образование четвертого правительства под руководством Маркса. 29 января 1927 г. Гинденбург вновь назначил этого политика партии Центра рейхсканцлером. Отто Гесслер, днем ранее заявивший о своем выходе из ДДП, в новом правительстве снова возглавил министерство рейхсвера. Прочие министры были делегированы Центром, БФП, ДФП и ДНФП{340}. Правительственный кризис зимы 1926–1927 гг. мог бы закончиться иначе. Готовность к коалиции с социал-демократами в буржуазном лагере была гораздо выше, чем годом ранее. То обстоятельство, что для такого союза была открыта также Немецкая народная партия, во многом было продиктовано влиянием тех сил предпринимательского лагеря, символом которых с сентября 1926 г. стало имя Пауля Сильверберга. Но большинство социал-демократов по-прежнему все еще не желало выслушивать аргументы в пользу нового правительства Большой коалиции, и Штреземан, возможно, был прав в своем предположении, что здесь решающим фактором, скорее, был все же спорный вопрос о продолжительности рабочего времени, а не политика в отношении вооруженных сил. Недостаточная гибкость СДПГ вызывала глубокую озабоченность некоторых ее вождей, в том числе многолетнего министра внутренних дел Пруссии Карла Северинга и председателя партии Германа Мюллера. Но они ничего не могли поделать с большинством, так еще и не оправившимся от травмы осени 1923 г. Авторитетная газета Партии Центра «Германия» уже в начале января 1927 г., когда исход кризиса еще не был ясен, видела все основания для удручающей констатации: нужно быть убежденным сторонником парламентской системы, чтобы поверить в возможность ее существования в Германии{341}. В четвертый кабинет Маркса немецкие националисты делегировали министров внутренних дел, юстиции, сельского хозяйства и транспорта, т. е. на одного министра больше, чем в первом «буржуазном блоке» под руководством Лютера. Министр внутренних дел Кейдель, который, будучи в должности ландрата Кенигсберга, в Неймарке сотрудничал в марте 1920 г. с путчистским правительством Каппа — Лютвица, был излюбленной мишенью для критики слева. Но и этот политик между тем уже принадлежал к «реалистическим» силам ДНФП, смирившимся с существованием республики как с непреложным на тот момент фактом. 17 мая 1927 г. Закон о защите республики был продлен еще на два года в смягченной редакции — немецкие националисты проголосовали «за» и тем самым помогли нелюбимому ими законопроекту набрать ¾ голосов, необходимых для внесения изменения в конституцию. В качестве компенсации этой вынужденной дани, принесенной в жертву отношениям большинства в рейхстаге, Кейдель в своей внутренней политике где только мог расставлял ясно выраженные «правые» акценты. Так, 27 ноября 1927 г. он заверил телеграммой Союз немецкого студенчества в своем «внутреннем» с ним «единении». Эта декларация носила крайне демонстративный характер, так как головной союз немецкого студенчества находился в это время в состоянии глубокого конфликта с прусским правительством. В Союз немецкого студенчества входили также союзы австрийских студентов, категорически исключавшие возможность членства для евреев. В сентябре 1927 г. беспартийный прусский министр культуры Карл Генрих Беккер, один из самых выдающихся реформаторов высшей школы времен Веймара, подвигнул правительство Брауна к лишению союзов студентов высшей школы Пруссии государственного признания, т. к. те упорно отказывались выйти из состава Союза немецкого студенчества. 27 ноября 1927 г. Браун в своем письме, адресованном рейхсканцлеру Марксу, пригрозил, что прусское правительство прервет любые контакты с министром внутренних дел, если повторятся такие инциденты, как публичное выражение солидарности с Союзом немецкого студенчества. Предложения о вынесении вотума недоверия, инициированные СДПГ и КПГ, обосновывавшиеся «делом Кейделя», были отклонены в рейхстаге 6 декабря 1927 г. большинством голосов коалиционных партий. В свою очередь, неудачей закончилась попытка Кейделя запретить полувоенную «руку» КПГ — «Союз красных фронтовиков». Соответствующий запрос от немецких националистов министр внутренних дел направил правительствам федеральных земель 16 апреля 1928 г. со ссылкой на Закон о защите республике. Большинство его коллег по кабинету и сам Маркс не одобряли выбранный момент: Германия находилась в фазе предвыборной борьбы, и четвертое правительство Маркса было только исполняющим обязанности. Реакция земель была преимущественно негативной: за исключением Баварии и Вюртемберга, все они отказались от ввода запрета. 2 мая 1928 г. Имперский верховный суд объявил этот отказ обоснованным, что поставило окончательный крест на акции Кейделя. Безоговорочно консервативной, иначе и не ожидалось, была политика правоцентристского правительства в области сельского хозяйства. Для осуществления своих требований о введении протекционистских пошлин Ландбунд вынудил ДНФП войти в четвертый кабинет Маркса, и министр сельского хозяйства от немецких националистов Мартин Шиле, крупный функционер Союза аграриев, делал все, чтобы оправдать возложенные на него надежды. Дополнения к закону о пошлинах, принятые рейхстагом 9 июля 1927 г., продлевали на два года установленные в 1925 г., но частично все еще не вступившие в силу тарифы на ряд сельскохозяйственных продуктов. В отдельных случаях в отношении картофеля, сахара и свинины были также повышены сами пошлины. Партия Центра, руководствуясь социально-политическими соображениями, выступала против дальнейшего повышения цен на продукты питания, но и она в конце концов сдалась, т. к. в противном случае немецкие националисты покинули бы коалицию. ДФП, также выступавшую против протекционистских пошлин исходя из интересов экспортных отраслей промышленности, настроил на новый лад Имперский союз немецкой промышленности. Ведущий союз предпринимателей рассматривал полюбовное сотрудничество с крупным сельских хозяйством как шанс добиться стабилизации республики в консервативном направлении. Так как немецкий экспорт в 1926 г. имел хорошие показатели, Имперский союз полагал, что ориентированные на внешние рынки отрасли смогут компенсировать уступки аграриям в сфере таможенной политике{342}. В области социальной политики линия кабинета Маркса была менее реакционной, чем полагали профсоюзы и рабочие партии. Для Центра было важно именно в составе правой коалиции продемонстрировать свою социальную направленность и тем самым успокоить левое крыло партии. Генрих Браунс, который в новом правительстве привычно вновь занял пост министра труда, по мере своих сил стремился противостоять впечатлению об особой дружественности кабинета к работодателям. В чрезвычайном законе о продолжительности рабочего дня, принятом 8 апреля 1927 г. минимальным большинством голосов, это удалось ему с большим трудом: теперь сверхурочная работа, выходившая за пределы нормального рабочего дня, оговоренного в тарифных соглашениях, должна была в будущем оплачиваться с надбавкой в 25 % от почасовой оплаты. Социал-демократы и Свободные профсоюзы отклонили это правило как совершенно неудовлетворительное. Однако на практике введенные доплаты, равно как и растущая конъюнктура, оказывали свое воздействие против сверхурочной работы. В среднем рабочее время понизилось: в то время как в конце апреля 1927 г. 48 % всех рабочих, занятых полный рабочий день, работали более 48 часов в неделю, в конце октября 1927 г. — еще 42,7 %, а в конце октября 1928 г. — только 26,6 %{343}. Сравнительно менее спорным был закон о страховании безработных 1927 г. — один из важнейших социально-политических законов Веймарской республики. Он превратил, как того и добивались уже долгое время профсоюзы, попечение безработных в страхование, причем работодатель и наемный работник уплачивали свой взнос в равном размере — 3 % от размера заработной платы. Организатором страхования безработных, равно как и посредничества по трудоустройству, было самостоятельное имперское учреждение, имевшее свои окружные и местные структуры. На всех уровнях представители страхователей, работодателей и общественных корпораций образовывали единый управляющий орган, в котором они имели равное количество голосов. Принцип самоуправления восходил к АДГБ, что вызвало одобрение Центра и работодателей. 9 июля 1927 г. рейхстаг принял законопроект подавляющим большинством голосов: 356 депутатов проголосовали «за», 47 — среди них коммунисты и «народники» — «против», и 16 депутатов воздержались. Закон о страховании безработных означал самое значительное увеличение социальных гарантий, которое рабочие и служащие могли занести на свой счет за все время существования Веймарской республики. Закон 1927 г. руководствовался одной из основных идей социальной политики Бисмарка: связь профессиональной и государственной ответственности. Стоимость страхования безработицы оплачивали не только работодатели и наемные работники, но и — в случае серьезной необходимости — государство. На него была возложена обязанность предоставить заем Имперскому учреждению по посредничеству в сфере занятости и страхованию безработных, если последнее не могло покрыть возросшие финансовые траты из своего собственного капитала. Прямых государственных дотаций закон однако не предусматривал. Правительство, рейхстаг и профсоюзы, очевидно, даже не могли себе представить массовой безработицы грандиозных размеров. Но когда такая ситуация наступила, система страхования образца 1927 г. была потрясена в самих своих основах. Поддержка реформы страхования отнюдь не была бы такой широкой, если бы летом 1927 г. в стране насчитывалось много безработных. Однако принятие закона пришлось на время конъюнктурного взлета в экономике: ни в какой другой год Веймарской республики немецкая промышленность не добивалась такой высокой прибыли, как в 1927 г., а число безработных, получавших пособие, составило в июле этого года 633 тыс. человек, что являлось одним из самых низких показателей. Перед лицом таких благоприятных предзнаменований кабинет Маркса мог позволить себе делать то, что, собственно, и является целью консервативного правительства в условиях парламентской демократии: путем социальных уступок освободиться от репутации вульгарного исполнительного органа воли имущих{344}. Не только для рабочих и служащих, но и для чиновников 1927 г. также стал хорошим годом. Министр финансов Германии Генрих Кёлер, представлявший Центр, сам бывший сыном железнодорожника из Бадена, стремился к проведению реформы оплаты труда государственных служащих, которая прежде всего была направлена на достижение двух целей: во-первых, их заработная плата должна была серьезно увеличиться и тем самым предполагалась корректировка процесса прогрессирующего нивелирования между денежным содержанием рабочих и чиновников, начавшегося в годы Первой мировой войны и усилившегося в период инфляции. Во-вторых, Кёлер хотел сохранить сглаживание разницы в доходах внутри чиновничьей касты, поэтому доходы госслужащих низкого ранга выросли гораздо сильнее, чем жалованье высокопоставленных чиновников. Реформа оплаты труда госслужащих, одобренная рейхстагом 15 декабря 1927 г. 333 голосами против 53 при 16 воздержавшихся, выполнила обе эти цели. Среднее повышение оплаты труда всех групп чиновников составило 16–17 %. Кёлер оправдывал это значительное повышение тем, что начиная с декабря 1924 г. зарплата рабочих увеличилась на 24 %, в то время как доходы чиновников выросли только на 4–6 %. Относительное улучшение положения низшего слоя чиновничества облегчило для СДПГ одобрение закона. Внутри же собственной партии Кёлера — Центра налицо было резкое неприятие закона. Христианские профсоюзы во главе с христианским профсоюзом горняков высказались против неравного обхождения с чиновниками и рабочими. Во время встречи профсоюзных христианских деятелей с рейхсканцлером в конце сентября 1927 г. Адам Штегервальд, председатель Германской федерации профсоюзов (Дейчер Геверкшафтсбунд), сделал логичный вывод из законопроекта Кёлера: если экономика в состоянии нести чрезмерные тяготы, обусловленные повышением жалованья чиновникам, то будет несправедливо и далее отказывать рабочим в увеличении заработной платы. В конце концов правительство было вынуждено предоставить рабочим компенсацию за повышение содержания чиновников: кабинет увязал реформу денежного содержания служащих с чувствительным снижением подоходного налога с трудящихся. Но самая большая проблема, которую породило повышение жалованья государственных служащих — отягощение общественных бюджетов, — тем самым не только не была решена, но и дополнительно обострилась. Государство, федеральные земли и общины должны были нести огромные дополнительные расходы, а увеличения доходов, необходимых для погашения векселя, выданного в декабре 1927 г., они могли ожидать только в случае сохранения продолжительной положительной экономической конъюнктуры. Некоторые политические деятели прекрасно осознавали, что финансовая политика Кёлера (точно так же, как и его предшественника, Петера Рейнхольда из ДДП) опирается на в высшей степени нестабильное основание. К этому меньшинству принадлежал бюджетный эксперт партии Центра Генрих Брюнинг, который воздержался во время заключительного голосования 15 декабря 1927 г. Но так как в 1928 г. должны были состояться выборы в рейхстаг, ни одна партия в гонке за голосами чиновников не захотела оказаться позади других. Кто в такой ситуации указывал на финансово-политические проблемы платежеспособности, тот плыл против течения{345}. Такие политики, как Брюнинг, находили своих единомышленников в рядах союзов промышленников, в лице президента рейхсбанка Ял мара Шахта, занимавшего эту должность с декабря 1923 г., и в лице агента по репарациям американца Паркера Гилберта. В одном из своих меморандумов Гилберт в конце октября 1927 г. высказал в первую очередь упреки в адрес местного самоуправления по поводу легкомысленного ведения финансовой деятельности. Порицаемая им «тенденция к непомерной трате финансовых средств и чрезмерного кредитования» действительно существовала, но она в значительной степени была также следствием финансовой реформы Матиаса Эрцбергера 1919–1920 гг. Тогда муниципалитеты были лишены права на получение дополнительных сборов с подоходного налога и налога с корпораций, в их распоряжении остались только прямые налоги, однако среди последних значение имели только поземельный и промысловый налоги. К последним добавлялись дотации земель, которых, однако, далеко не было достаточно, чтобы покрыть финансовые нужды общин. Ведь в то время как уменьшались их доходы, серьезно выросли расходы, в первую очередь в социальной сфере. Таким образом, путь в финансовую кабалу был уже давно предопределен. Критики местного самоуправления, среди которых с лета 1927 г. стал явственно раздаваться голос президента рейхсбанка, а немного позднее и голос Имперского союза немецкой промышленности, особенно охотно клеймили «расходы на роскошь» в виде якобы расточительных общественных построек. Примеров этому было хоть отбавляй, и все же все они, скорее, вводили в заблуждение. Кредитные средства, поступавшие из-за границы, были практически все использованы продуктивно, главным образом они вкладывались в учреждения по обслуживанию населения. Зачастую поборники экономии расценивали как «роскошь» то, что в действительности было уже давно просроченной инвестицией в инфраструктуру: расходы на плавательные бассейны, спортивные залы, парки, больницы, школы и не в последнююочередь на санацию городов. Жилищное строительство, поддерживаемое государством, финансировалось не за счет заграничных кредитов, но большей частью — за счет введенного в 1924 г. налога на квартирную плату. Но это не помешало некоторым современникам заклеймить как свидетельство общественного расточительства также строения, сооруженные в стиле «новой деловитости» — начиная от поселения Хуфайзен в Берлин-Бритце и заканчивая Отто-Штолтенгоф в Гамбурге и Штутгарт-Вайсенгоф{346}. Наряду с муниципалитетами критику в адрес ведения домашнего хозяйства должны были выслушивать федеральные земли и начиная с момента реформы жалованья госслужащих также рейхспрезидент. Ключевым моментом большинства критических замечаний было заявление о том, что общественные корпорации так и не научились той бережливости, к которой их должны были бы обязывать репарационные обязательства. Действительно, иностранные кредиты, которые с момента вступления в силу летом 1924 г. плана Дауэса, широкой рекой потекли в Германию, поощряли складывание конъюнктуры жизни в долг, которая, в свою очередь, вызывала неоправданный оптимизм у политиков. Пока существовала возможность получать кредиты, продление их срока в случае необходимости также не было проблемой. При этом органы власти не видели ничего плохого в том, чтобы использовать кратко- и среднесрочные кредиты на долгосрочные нужды. Репарационный трансферт также осуществлялся не так, как это предусматривалось «отцами» плана Дауэса: он финансировался не за счет чистой прибыли немецкого экспорта, а за счет иностранных кредитов. И насколько было далеко от действительности огульное обвинение в том, что американские кредиты используются для финансирования общественной роскоши, настолько же трудно было бы отрицать то, что Германия начиная с 1924 г. жила не по средствам{347}. В ноябре 1927 г. Имперский союз немецкой промышленности использовал критику агента по выплатам репараций в качестве повода для того, чтобы потребовать осуществления решительного поворота в экономике. В своем меморандуме предприниматели призвали сократить общие расходы рейха, земель и муниципалитетов на 10 % в 1928 г. в сравнении с предыдущим годом, а также принятия закона о введении чрезвычайного финансового положения, запрещавшего землям и муниципалитетам получение кредитов и препятствующего рейхстагу принимать законы, вынуждавшие правительство или коммунальные самоуправления к повышению их расходов. Имперский союз не оставил никаких сомнений в том, что его акция нацелена на «коренное изменение конституции». С его точки зрения, правительство рейха было обязано и должно нести единоличную ответственность за ведение финансов и за адекватную репарационную политику: «После того как земли и муниципалитеты годами проводили политику, манкировавшую требования нашего фактического положения, уважение к исторической традиции и конституционной данности должно отступить на второй план перед благом рейха и всего немецкого народа». Вопросом о том, как получить поддержку парламентского большинства для осуществления «коренного изменения конституции», Имперский союз первоначально вовсе не задавался. Рейхсканцлер Маркс, принимая у себя 24 ноября 1927 г. руководство союза, сослался на известное всем обстоятельство, что нынешний рейхстаг находится в конце срока своих полномочий, а с «умирающим» рейхстагом едва ли можно добиться внесения требуемых изменений. Вопрос о том, будет ли следующий рейхстаг, даже если выборы в него пройдут досрочно, как это предлагал Пауль Сильверберг, более склонен поддержать требования промышленников, чем его предшественник, оставался весьма спорным. На тот случай, если рейхстаг останется по-прежнему терпимым к бюджетным тратам, логика меморандума диктовала требование перехода к президентской форме правления. Имперский союз немецкой промышленности осенью 1927 г. еще не сделал такого вывода, но все говорило в пользу того, что он уже пришел к его осознанию{348}. В совершенно противоположном направлении развивались замыслы Свободных профсоюзов. На своей конференции в Бреслау в августе-сентябре 1925 г. они объявили о своей приверженности к демократизации экономики. Между тем группа экспертов под руководством Фрица Нафтали уже работала над содержательным наполнением термина «экономическая демократия». Для генераторов идей социал-демократического профсоюзного движения речь при этом шла не менее чем о постепенном вытеснении капиталистической экономической системы социалистическим коллективным хозяйством. Все, что профсоюзы и социал-демократия уже приобрели в сфере социальных завоеваний, расценивалось как этап на пути к указанной цели. Это в первую очередь относилось к межзаводскому рабочему контролю за производством. Демократизация экономики исходя из подобной перспективы представляла собой расширение этого контроля, а социализм — его окончательное складывание. Стремление приравнять социализм к экономической демократии и осознание достижения социализма как процесса означало, что профсоюзному движению была начертана такая перспектива, которая далеко выходила за рамки повседневной борьбы за права рабочих и даже превосходила их исторически. Тогда как предпринимателям казалось, что пришло время ограничить политическую демократию, Свободные профсоюзы стремились к расширению демократии за счет перенесения ее из политики в экономику. Но как бы ни были резки противоречия этих двух проектов, у них была одна общая черта: им не хватало поддержки такого большинства голосов, которое в условиях парламентской демократии требуется для осуществления системных изменений{349}. Среди актуальных вопросов социального устройства был один, по которому предприниматели и профсоюзы на первый взгляд имели схожее мнение: и те, и другие все более критично высказывались по поводу введенной 30 октября 1923 г. директивным путем процедуры принудительного разрешения трудовых конфликтов. В соответствии с этим постановлением, автором которого выступило правительство Большой коалиции под руководством Густава Штреземана, основывавшееся на Законе о предоставлении чрезвычайных полномочий от 13 октября 1923 г., самый нижний уровень процедуры согласительного урегулирования тарифных конфликтов образовывали, как и прежде, согласительные комитеты, формировавшиеся работодателями и наемными работниками на паритетной основе. Их возглавлял беспартийный председатель, назначавшийся властями земли. Если комитет не приходил к согласию, то председатель организовывал на паритетных началах палату по выработке соглашения. Ее необязательное третейское решение в случае его принятия обеими сторонами выступало в качестве действующего тарифного договора. Если же с третейским решением была согласна только одна из двух сторон, то она могла ходатайствовать о признании его обязательным. Вынесение соответствующего решения относилось уже к компетенции уполномоченного третейского судьи — имперского-министра труда или одного из назначенных им сверхштатных судей. Но процедура признания обязательности решения могла быть начата также по распоряжению властей, а именно в том случае, «если… соответствующее урегулирование при тщательном взвешивании интересов обоих сторон справедливо и его проведение целесообразно по хозяйственным соображениям». Таким образом, министр труда Германии обладал почти безграничным правом вмешательства в трудовые конфликты по вопросам тарифов и разрешать их по своему усмотрению. Авторитарный характер согласительного производства усугублялся еще и тем, что подзаконный акт от 29 декабря 1923 г. вводил принцип «единолично выносимого третейского решения»: если согласительный комитет не мог прийти к решению, которое поддерживало большинство голосов, то решающим становился голос его государственного председателя. Таким образом в случае, если дело принимало серьезный оборот, от тарифной автономии практически ничего не оставалось. Свободные профсоюзы на своем конгрессе в Бреслау в 1925 г. со всей энергией ополчились против принудительных тарифов. Но уже тогда враждебность к государственному урегулированию конфликтов не была безусловной: небольшие союзы, как Союз сельскохозяйственных рабочих, по большей части воспринимали приговоры государственных арбитров как социальную защиту. Рабочим и служащим также следовало задуматься над тем, что в случае тарифных конфликтов они гораздо чаще апеллировали к государству, чем работодатели. Так, в 1926 г. более чем ¾ всех согласительных процедур были инициированы профсоюзами. То, что решения третейских судей, вынесенные в 1926–1927 гг., оценивались Свободными профсоюзами более позитивно, чем прежде, легко объяснимо: если в 1926 г. государственным арбитрам еще удавалось до некоторой степени удерживать рост заработной платы, то в 1927 г. экономическая конъюнктура была благоприятной, что давало арбитрам возможность в большей степени идти навстречу требованиям наемных работников, чем во времена «кризиса стабилизации» 1925–1926 гг. В результате принудительный тариф впервые мог в большом объеме стать тем, чем он изначально задумывался министром труда Браунсом: социальной компенсацией за экономическую политику правительства Германии, дружественную по отношению к предпринимателям. На партийном съезде СДПГ в Киле в мае 1927 г. Рудольф Гильфердинг, «шеф по идеологии» немецкой социал-демократии, охарактеризовал назначаемую государственными арбитрами «политическую заработную плату» как доказательство того, что рыночные законы все в большей степени заменяются «организованным капитализмом», и время для введения социализма уже пришло. Полгода спустя, в ноябре 1927 г., на заседании федерального комитета АДГБ выяснилось, что государственную практику улаживания конфликтов отвергает только меньшинство профессиональных организаций, группировавшихся вокруг Фрица Тарнова, председателя Союза работников деревообрабатывающей промышленности. Самый большой самостоятельный немецкий профсоюз — работников металлообрабатывающей промышленности, также тем временем высказывался уже не за ликвидацию, а лишь за ограничение принудительных тарифов. В качестве причины этого решения представитель союза назвал отсутствующий со стороны работодателей «восторг по поводу тарифов»{350}. В лагере предпринимателей принудительные тарифы комментировались настолько враждебно, насколько часто они шли на пользу противной стороне. Начиная слета 1927 г. «Арбайт Нордвест», головная организация работодателей Рейнской области и Вестфалии, готовилась к масштабному противостоянию с министром труда Браунсом. Пока он занимал эту должность, как заявлялось, к примеру, в циркуляре Крефельдского союза металлопромышленников от 28 августа 1927 г., экономика не могла от него ничего ожидать. Исходя из этого работодатели должны были сделать свои выводы. Планировалось «дать наконец-то отпор министру труда, и если в результате начнется борьба, вести ее самоотверженно и всеми средствами». Первой пробой сил стала массовая подача заявок на вывод предприятий из эксплуатации в начале декабря 1927 г. Этой акцией предприниматели ответили на отказ Браунса разрешить им отодвинуть сроки введения трехсменной восьмичасовой системы организации труда. Заявки на вывод предприятий из эксплуатации были поданы еще до того, как вообще начались согласительные процедуры по тарифам. В последний момент под давлением государственных учреждений заявки были отозваны, причем Браунс 20 декабря 1927 г. объявил все принятые между тем третейские тарифные решения обязательными. В этот раз большая проба сил не состоялась, но всем участникам конфликта было ясно, что речь идет только об отсрочке. С точки зрения предпринимателей, принудительные тарифы практически неизбежно вели к завышению уровня заработной платы, чрезмерно обременительной для экономики. Но факты не подтверждают этот вывод. В целом заработная плата выросла в областях экономики, в которых она формировалась путем свободной договоренности, не больше, чем там, где ее устанавливал государственный третейский арбитр. Принудительные тарифы отучали партнеров от ответственности, а значит, они были частью процесса утраты экономикой демократичности. Но то, что государственные третейские арбитры искусственно загоняли уровень заработной платы вверх, является не более чем утверждением одной из сторон конфликта. Вплоть до сегодняшнего дня остается спорным, в действительности ли заработная плата, независимо от того, как она достигла своего уровня, росла в зрелые годы Веймарской республики быстрее, чем производительность экономики. Что это было именно так, работодатели утверждали уже в те времена. В действительности после 1924 г. произошел взлет уровня заработной платы, производивший сильное впечатление, но он был менее неожиданным, если принять во внимание экстремально низкий исходный уровень зарплаты в конце периода инфляции. В сравнении с международной практикой Германия со своим уровнем заработной платы образца 1927 г. вообще не выходила за общие рамки. В этом году реальная недельная оплата труда немецких рабочих еще не достигла уровня 1913 г. У этого было свое объяснение: одновременно произошедшее сокращение рабочего времени. Это социальное достижение привело к тому, что рабочие, работая в 1927 г. меньше, получали соответственно также меньше, чем перед войной. Такой результат не мог удовлетворить ни одного из «тарифных партнеров». Проблемы веймарской экономики невозможно объяснить какой-либо одной причиной, например якобы завышенным размером оплаты труда. Напротив, свою роль в равной степени сыграл целый ряд факторов: как повальное создание картелей в немецкой промышленности, субсидии крупному сельскому хозяйству и тяжелой индустрии, протекционистские пошлины, так и «экономика в долг», как содержание чиновников, действительно завышенное начиная с 1928 г., так и принудительное урегулирование тарифных споров. Формула Гильфердинга об «организованном капитализме» чрезмерно приукрасила веймарскую действительность. Гораздо точнее было бы говорить, принимая во внимание прогрессирующее бессилие рынка, о плохо организованном капитализме{351}. К «проблемным» факторам веймарской экономики можно также отчасти включить тенденцию развития, одинаково позитивно оценивавшуюся и работодателями, и профсоюзами: форсированную рационализацию немецкой промышленности в постинфляционное время. Всеобъемлющая модернизация предприятий и производства, с помощью которых немецкие промышленники стремились улучшить свою позицию на мировом рынке, прежде всего в отношении уже в значительной степени более рационализированной американской промышленности, привела не только к сокращению множества рабочих мест, но и обусловила возникновение в ряде отраслей, как угледобыча и сталелитейная промышленность, серьезных избыточных мощностей. Вследствие этого безработица даже в самые лучшие годы Веймарской республики существенно превышала довоенный уровень, а склонность «старых» отраслей к кризисам увеличилась. Для профсоюзов принципиальное «да» рационализации было логическим следствием их борьбы за сокращение рабочего дня: только при условии увеличения производительности труда было возможно сокращение рабочих часов без потерь в заработной плате. И лишь после того, как Германия была захвачена водоворотом мирового кризиса, распался консенсус относительно рационализации: то основополагающее согласие между работодателями и наемными работниками, которое в зрелые годы Веймарской республики оказывало такое же социально стабилизирующее действие, как и временный «инфляционный» консенсус между 1919 и 1921 гг.{352} О политической стабильности в 1927 г. можно говорить только применительно к первой половине года. Сплоченность четвертого кабинета Маркса не подвергалась серьезному испытанию на прочность вплоть до начала лета. Но после этого ясно стала видна линия разлома между Центром, Баварской народной партией и немецкими националистами, с одной стороны, и Немецкой народной партией — с другой. Поводом к быстро развивавшемуся конфликту стал проект «христианского» школьного закона, предложенный министром внутренних дел Кейделем в начале июля 1927 г. Либеральные члены правительства, министр иностранных дел Штреземан и министр экономики Куртиус, выступили против двух существенных положений законопроекта: участия церкви в вопросах преподавания религии и правового равенства христианской школы совместного обучения и конфессиональной школы[42]. Этот паритет противоречил приоритету христианской школы совместного обучения или общинной (неконфессиональной) школы, как его определяла статья 146 конституции Германии. Если бы католические партии и ДНФП добились своего, то в Бадене и Гессене, в которых существовали только школы совместного обучения, должны были быть введены конфессиональные школы. С этим не могла примириться ДФП, воспитанная в традициях культуркампфа национального либерализма. Во время заключительного обсуждения законопроекта 13 июля 1927 г. заявление Штреземана и Куртиуса, стремившихся сохранить монополию школы совместного обучения на юго-западе Германии, было отклонено. Вслед за этим оба министра потребовали внести в протокол, что они настаивают на своем мнении и фракция ДФП не будет по этому вопросу чувствовать себя связанной решением правительства. Так как для Центра школьный вопрос имел приоритетное значение и партия не собиралась идти на какие-либо компромиссы, уже начиная с середины июля 1927 г. можно было предсказать конец четвертого кабинета Маркса. Во время парламентских консультаций, начавшихся после завершения летних каникул, либеральные партии и социал-демократы зачастую выступали единым фронтом, что дополнительно ухудшило климат в правительственном лагере. 15 февраля 1928 г. граф Вестарп, председатель фракции ДНФП и одновременно глава заседаний коалиционного комитета партий, был вынужден констатировать, что достижение единства по спорным вопросам больше невозможно и правительственная коалиция вследствие этого подлежит роспуску. Очевидно любая форма правительства парламентского большинства времен Веймарской республики несла в себе зародыш распада. В то время как для Большой коалиции главным источником опасности выступали социально-политические противоречия между крайнефланговыми партиями, то для правой коалиции неизбежными кризисными зонами была внешняя политика и политика в области культуры. Кабинет Лютера, первое правительство с участием немецких националистов, распался в октябре 1925 г. в результате спора по внешнеполитическому вопросу — договору в Локарно. Четвертый кабинет Маркса, которому не выпало решать больших вопросов внешней политики, потерпел неудачу на классическом поле мировоззренческой борьбы: по вопросу школьной политики. Не вынесшие из времен конституционной монархии привычку к вынужденным компромиссам партии Веймарской республики все чаще склонялись к тому, чтобы рассматривать свои частные цели не подлежащими обсуждению. Это наследие кайзеровских времен во многом объясняет ту шаткость, которая была отличительной чертой немецкого парламентаризма и в редкие относительно спокойные годы первой республики{353}. Необходимость новых выборов в рейхстаг в 1928 г. осознавалась в ходе кризиса четвертого кабинета Маркса всеми партнерами по коалиции, что отнюдь не добавляло им стремления к взаимопониманию. Напротив, удивительную готовность к компромиссу демонстрировали СДПГ иДДП. Обе партии дали понять, что вплоть до выборов они хотя и не будут поддерживать правительственную программу действий, но готовы не выступать против нее. 31 марта 1928 г. рейхспрезидент распустил избранный в декабре 1924 г. третий рейхстаг Веймарской республики и назначил днем новых выборов 20 мая. Во время отсутствия парламента общественное внимание обратилось на те конституционные органы, которые остались не затронуты правительственным кризисом: на рейхспрезидента, который более чем когда-либо представлялся многим надежной точкой опоры и воплощением той общей воли, которую парламент был не в состоянии выразить подобающим образом, а также на рейхсрат{354}. 31 марта 1928 г., в день роспуска рейхстага, в рейхсрате было принято решение по поводу одного проекта, который спустя несколько месяцев вверг очередной правительственный кабинет в его первый серьезный кризис: проекта строительства броненосного крейсера «А». Имперский военно-морской флот хотел начать этим кораблем ряд якобы уже давно назревших построек судов и связать законодателей долгосрочной программой финансирования, рассчитанной на многие легислатуры. В декабре 1927 г. рейхсрат под председательством Пруссии уже высказывался против выделения соответствующей бюджетной статьи, однако в рейхстаге сформировалось большинство из партий буржуазного блока, которое в итоге приняло решение о предоставлении первого взноса на строительство. На это решение рейхсрат и ответил четыре дня спустя, 31 марта 1928 г., ходатайством, адресованным к правительству, в котором просил возобновить работы над сооружением крейсера только после повторной проверки сметы и ни в коем случае не ранее 1 сентября 1928 г. Так как правительство в течение следующих недель более чем когда-либо ранее было заинтересовано в сотрудничестве с рейхсратом, беспартийный министр рейхсвера Вильгельм Грёнер, сменивший на этом посту 19 января 1928 г. уставшего от исполнения своих обязанностей Отто Гесслера, высказал свое вынужденное согласие с этим поручением{355}. Броненосец «А» дал избирательной кампании левых партий такой зажигательный лозунг, лучше которого они едва ли могли бы себе пожелать. КПГ, ставшая за предыдущие годы под руководством Эрнста Тельмана все более послушным орудием советской политики, противопоставила строительству крейсера популярное требование введения бесплатного питания в школах (выделение предусмотренных для этого 5 млн марок было отклонено в рейхстаге правым буржуазным большинством). Лозунг «Детские завтраки вместо броненосца» также использовали социал-демократы, которые тем самым пытались выглядеть радикальнее, чем были на самом деле. На партийном съезде в Киле в мае 1927 г. СДПГ не оставила никакого сомнения в том, что она полна решимости всеми силами препятствовать образованию нового правого правительства и готова для этого при благоприятном исходе выборов взять на себя ответственность по формированию правительства. В предвыборную кампанию 1928 г. самая большая немецкая партия включалась более сплоченной, чем в предыдущие годы. После того как в Саксонии в апреле 1926 г. из СДПГ было исключено правое крыло партии под руководством министра-президента Макса Хельдта, в свою очередь, образовавшее «Традиционную социал-демократическую партию», казалось, что в настоящий момент единству социал-демократии ничто не угрожает. Левая «группа классовой борьбы» под руководством Пауля Леви хотя и была против готовности большинства образовать коалицию, но пока партия на деле не получила власти в государстве, вела себя сдержанно{356}. Из буржуазных партий ближе всего к СДПГ в оценке проекта строительства крейсера «А» стояла ДДП: большинство демократов также расценивали строительство корабля как бессмысленный в военном отношении объект престижа военно-морского флота. В то время как ДДП недвусмысленно высказалась за создание Большой коалиции, другая классическая центристская партия — католический Центр — вела себя весьма холодно в отношении вопроса о будущем коалиционном правительстве. Вторжение в ряды католического рабочего класса, которое удалось левым партиям в 1926 г. в ходе плебисцита об экспроприации княжеских имуществ, побудило Центр усиленно выдвигать на первый план конфессиональную общность. Борьба за принятие христианского закона о школах полностью соответствовала этой линии. После того как партия Центра не смогла добиться своей важнейшей культурно-политической цели в составе правоцентристской коалиции, она не могла всерьез рассчитывать на успех в этой области, будучи членом левоцентристского правительства. Глубокий скепсис в отношении возможностей коалиции был результатом свежего опыта партии, которая с 1919 г. последовательно входила в каждое правительство рейха. Немецкая народная партия во время предвыборной борьбы сделала главную ставку на популярность своего руководителя, министра иностранных дел Германии. «Пускай других возьмут обманом — ты выбирай со Штреземаном», — гласил один из ее лозунгов. Для Штреземана, который подвергался, прежде всего в Баварии, острейшим нападкам национал-социалистов, после неудачи четвертого кабинета Маркса было очевидно, что в обозримом будущем не существует реальной альтернативы Большой коалиции с участием социал-демократов. Немецкие националисты, у которых все большим влиянием пользовался «царь прессы» Альфред Гугенберг, напротив, пытались своими атаками на политику компромиссов Штреземана позиционировать себя как можно правее. Эта партия разочаровала своей практической политикой в двух имперских правительствах значительную часть своих сторонников из среднего сословия, благодаря которым она и достигла сенсационных успехов во время обоих выборов в рейхстаг в 1924 г. В первую очередь разочарование постигло жертв ревальвации, но не только их. Удастся ли немецким националистам вновь завоевать на свою сторону при помощи националистических лозунгов эти разочарованные электоральные группы, в начале 1928 г. было большим вопросом{357}. Крайне правые радикалы консолидировались за предшествовавшие годы. Адольф Гитлер стал бесспорным лидером национал-социалистов. Левое крыло партии вокруг братьев Отто и Грегора Штрассеров, наиболее сильное в Северной Германии, с момента Бамбергского «Фюрертагунга»[43] не являлось более противовесом партийному центру в Мюнхене. НСДАП и далее позиционировала себя как рабочая и «социалистическая» партия, но уже перед выборами в рейхстаг 1928 г. было очевидно, что наибольший отклик ее лозунги находили не в больших городах, а в сельской местности, особенно затронутых обвалом цен на свинину в 1927 г. — этим прологом к мировому сельскохозяйственному кризису. Однако в обществе в целом накануне выборов кризисное настроение практически не ощущалось. Показатели экономической конъюнктуры указывали вверх, безработица была ниже уровня предыдущего года. Еще ни перед одними другими выборами в рейхстаг республиканские силы не имели столь много поводов для оптимизма, как перед голосованием 20 мая 1928 г.{358}Глава XII Отказ от демократии
Главными победителями выборов в рейхстаг 20 мая 1928 г. стали социал-демократы, проигравшими — немецкие националисты, за которыми следовали центристские буржуазные партии. За СДПГ проголосовало 29,8 % избирателей, что было на 3,8 % больше, чем в декабре 1924 г. ДНФП подсчитывала горькие потери: число ее избирателей снизилось с 20,5 %до 14,3 %. Среди умеренных партий наибольшие потери понесла партия католического Центра, получившая теперь на 1,5 % голосов меньше. Обе либеральные партии потеряли соответственно по 1,4 %. Если бы в Веймарской республике для прохождения в парламент был установлен 5 %-й барьер, тоуДДП не было бы шансов преодолеть его: партия набрала только 4,9 % голосов. Зато к победителям выборов можно было также причислить мелкие «партии интересов»[44], в том числе Имперскую партию немецкого среднего сословия, коротко именовавшуюся Экономической партией, доля избирателей которой выросла с 3,3 % до 4,6 %, а также Христианско-национальную крестьянскую сельскую партию, набравшую одним ударом 2,9 % голосов. Заметным был также успех коммунистов, увеличивших свои показатели с 9,0 % до 10,6 %. Их антиподы в лице крайне правых имели меньше поводов для радости. Национал-социалисты должны были удовлетвориться 2,6 %. Единственным утешением для них стали хорошие показатели, полученные партией в аграрных областях, охваченных кризисом. Так, в небольших общинах голштинского Геста они добились сенсационных показателей: в Нордердитмарше[45] за них проголосовало 28,9 % избирателей, а в Зюдердитмарше — даже 36,8 %. Таким образом, результаты выборов отнюдь не свидетельствовали о безоговорочной победе республиканских сил, как это казалось на первый взгляд. Потери, которые понесли немецкие националисты, пошли на пользу не центристским партиям, а «партиям интересов» среднего класса и аграриев, спектр отношения которых к республике колебался от холодного до отрицательного. Ослабление буржуазного центра и раздробленность партийного ландшафта были такими же сигналами тревоги, как и успехи национал-социалистов на местах. Сторонники Веймара с удовлетворением могли воспринимать только победу самой сильной республиканской партии: после того как выборы, по сути дела, стали плебисцитом против всех партий «буржуазного блока», роль лидера отныне однозначно принадлежала социал-демократии{359}. СДПГ была полна решимости использовать свои шансы. В пользу образования коалиционного правительства с участием умеренных буржуазных партий говорили три причины: во-первых, сильная позиция, которую социал-демократы получили в результате выборов; во-вторых, их стремление во что бы то ни стало и ни при каких обстоятельствах не допустить формирования нового правительства буржуазного блока; и, в-третьих, позитивное воздействие примера Пруссии, где от СДПГ избирались министры-президенты, за исключением двух коротких перерывов, с момента установления республики. В результате самая большая федеральная земля стала своего рода образцом немецкого республиканизма. Среди потенциальных партнеров СДПГ, вплоть до Немецкой народной партии, царило единодушие в том, что при существующем положении вещей формирование нового правительства может быть возложено только на социал-демократов. Одним из тех, кто принимался в связи с этим в расчет, был министр-президент Пруссии Отто Браун. Дипломированный книгоиздатель из Кенигсберга, которому в январе 1928 г. исполнилось 58 лет, победил на выборах в прусский ландтаг с еще большим триумфом, чем СДПГ в целом. Если бы Браун наряду с должностью министра-президента Пруссии получил пост рейхсканцлера, то открылись бы новые возможности для проведения «реформы рейха», к которой часто призывали, но к осуществлению которой до того времени так всерьез и не приступили. Персональная уния могла бы также устранить или смягчить многочисленные противоречия между рейхом и самой большой из федеральных земель. Браун сам перед выборами подумывал о возможности такого решения. Но после 20 мая 1928 г. прусского министра-президента обуяли сомнения. ДФП, и это было совершенно очевидно, в качестве ответной услуги потребовала бы вхождения в прусское правительство и смогла бы настоять на своем. Это было не по душе Брауну, который с апреля 1925 г. стоял во главе правительства Веймарской коалиции из СДПГ, Центра и ДДП, добившегося на пути реформ, таких как, например, демократическое обновление чиновничества, гораздо большего, чем правительство Большой коалиции за четыре предшествующих года. Браун также сомневался, согласятся ли рейхспрезидент и Партия Центра на совмещение двух важнейших правительственных должностей в Германии в одном лице. В отношении своей собственной партии Браун также отнюдь не мог быть уверен в том, что ему на посту рейхсканцлера будет оказана такая же последовательная поддержка, к какой он привык со стороны прусских социал-демократов и их фракции в ландтаге. В заключение приходилось также учитывать личные проблемы: болезнь жены и собственное ослабленное здоровье, которые вынудили его отказаться от принятия политического вызова в виде рейхсканцлерства. Тем самым дорога оказалась открытой для Германа Мюллера. Председатель СДПГ, уже возглавлявший однажды имперское правительство два с половиной коротких месяца после путча Каппа — Лютвица, ощущал за собой поддержку партии и фракции. Человек компромисса, не имевший ярко выраженных персональных черт, Мюллер был в СДПГ более популярной фигурой, чем его сопредседатель Отто Веле. То, что урожденной маннхеймец терял в ораторском даре и харизматическом обаянии, он стремился компенсировать прилежанием и компетентностью. Когда Мюллер во второй раз готовился стать рейхсканцлером, ему было уже 56 лет. Дела со здоровьем, как это показали события следующего года, обстояли у него не блестяще. Однако Мюллер был человек долга, поэтому И июня 1928 г. он заручился поддержкой фракции рейхстага на тот случай, если рейхспрезидент поручит ему формирование нового правительства. Официальное поручение сформировать правительство «на возможно более широкой основе» Мюллер получил уже на следующий день. Гинденбург приучал себя к мысли о Большой коалиции с тех пор, как его важнейшие военные советники, новый министр рейхсвера Вильгельм Грёнер и полковник Курт фон Шлейхер, порекомендовали это сделать, аргументируя тем, что участие СДПГ в правительстве поможет настроить социал-демократов более дружелюбно по отношению к армии. Но даже если рейхспрезидента и мучили тяжелые сомнения в отношении такого правительственного союза, то после выборов 20 мая 1928 г. у него не было иного выхода, чем предложить социал-демократам пост рейхсканцлера. Но от поручения сформировать правительство до назначения рейхсканцлером был долгий путь. ДФП стремилась как можно скорее войти как в имперское, так и в прусское правительство, что было отклонено Отто Брауном, который вызвал тем самым глубокое недовольство Штреземана. Другим спорным пунктом был броненосец «А». Новое правительство было обязано проверить перед началом строительства корабля имевшиеся финансовые возможности, как это предусматривалось решением рейхсрата от 31 марта 1928 г. СДПГ вела свою предвыборную кампанию не в последнюю очередь под лозунгом «Детские завтраки вместо броненосца — долой броненосец». ДФП сослалась на положительное решение в отношении броненосца последнего рейхстага, ее в этом поддержала, хотя и без особой настойчивости, Партия Центра, в то время как ДДП воздержалась. В конце концов уполномоченные от фракций договорились отсрочить конфликт: решение должно было быть теперь принято имперским правительством до установленного рейхсратом срока — 1 сентября 1928 г. Масла в огонь подлили финансово-политические и, скорее, «символические» вопросы. Так, буржуазные партии отказались поддержать предложенный СДПГ налог на прирост имущества, а ДФП выступила в придачу против увеличения размеров прожиточного минимума, свободного от налогообложения. Немецкая народная партия также отнюдь не стремилась оказать поддержку инициативе социал-демократов объявить 11 августа, День конституции, законным днем отдыха. И, в заключение, усиливалось противостояние по «прусскому вопросу»: ни Браун, ни ДФП не желали идти на уступки. 23 июня 1928 г. «Форвартс» вышла под заголовком «Большая коалиция потерпела фиаско». Это утверждение соответствовало оценке положения, высказанной Мюллером днем ранее. Однако Гинденбург не отозвал своего поручения, напротив, он попросил теперь лидера социал-демократов сформировать правительство на менее широкой основе, а именно в формате Веймарской коалиции. Такая коалиция могла бы располагать большинством мандатов только при поддержке Баварской народной партии, но было в высшей степени сомнительно, что БФП пойдет на это. Так как советники Гинденбурга были прекрасно осведомлены об этом обстоятельстве, новое поручение Мюллеру скорее всего задумывалось как тактический шаг, призванный оказать давление на партии и принудить их к вступлению в Большую коалицию. Успех подтвердил правоту рейхспрезидента. 23 июня обиженный Штреземан говорил с Мюллером по телефону из курортного местечка Бюлерхёе в Шварцвальде. О содержании разговора можно судить по телеграмме, которую министр иностранных дел отправил сразу же после завершения переговоров исполняющему обязанности министра экономики Куртиусу и председателю фракции ДФП в рейхстаге Эрнсту Шольцу. Согласно телеграмме, Штреземан и далее расценивал Большую коалицию как лучшее практическое средство для создания мало-мальски сносных стабильных отношений в правительстве. Но что касалось выработки долгосрочной правительственной программы, которая получила бы поддержку всех партий, председатель ДФП был настроен скептически. «Я как и прежде полагаю, что кооперация политических сил от социал-демократов до Народной партии является необходимой и возможной. Это сотрудничество быстрее всего приведет к успеху при условии, если политики от фракций, вошедших в Большую коалицию, ясно осознают себе программу действий, с которой они выступят перед рейхстагом, и будут готовы как выстоять, так и пасть вместе с этой программой. Такой принцип формирования кабинета соответствует духу нашей конституции, которая признает персональную ответственность только рейхсминистров, но не фракций рейхстага». В воскресение, 24 июня, Штреземан уполномочил Куртиуса опубликовать эту телеграмму. В понедельник пресса писала о «выстреле из Бюлерхёе». Фактически министр иностранных дел придал новый поворот делу, договорившись с Германом Мюллером об образовании правительственной коалиции через голову председателя партийной фракции в рейхстаге. Шольц был весьма задет этим и сначала хотел удержать Куртиуса от участия в правительстве в качестве второго министра от ДФП. 25 июня он все же дал свое согласие на вхождение Куртиуса в кабинет, но фракция оговорила весьма важное условие: депутаты рейхстага от ДФП официально занесли в протокол, что принадлежность Штреземана и Куртиуса к правительству ни в коей мере не накладывает на фракцию обязательство голосовать за кабинет в случае вынесения ему вотумов недоверия или доверия. Кроме того, Штреземан за свое самоуправное поведение подвергся слегка завуалированному общественному порицанию. ДФП была отнюдь не единственной партией, которая выдерживала дистанцию от будущего правительства. Партия Центра, разозленная тем, что ей не дали возможность делегировать вице-канцлера и получить в свое распоряжение такое важное ведомство, как министерство внутренних дел, отозвала министра труда Браунса и теперь ее в качестве «наблюдателя» представлял только министр транспорта фон Герард. БФП аналогичным образом оценивала роль своего представителя в правительстве, министра почт Шетцеля. Настоящими партнерами по коалиции себя воспринимали только СДПГ и ДДП. Но и среди социал-демократов многие склонялись к тому, чтобы рассматривать «своих» министров только как исполнителей воли парламентской фракции. Такая оценка только на первый взгляд противоречила взгляду ДФП на «ее» министров как на частных лиц, делающих политику на свой страх и риск. Ведь результат был одинаковым: правительство не получало в рейхстаге доверительную поддержку, в которой оно так нуждалось, если хотело быть ведущей политической силой{360}. Вследствие этого второй кабинет Мюллера представлял собой сначала только латентную Большую коалицию. Лишь в том случае, если бы фракции формально объединились вокруг коалиционного правительства, из так называемого «правительства личностей» могло бы получиться нечто большее, чем просто группа представителей партий, над которой постоянно висел дамоклов меч вотума недоверия. Спустя десять лет после перехода к парламентской республике, главные общенемецкие политические партии по-прежнему еще были далеки от понимания того, что в парламентской демократии, в отличие от конституционной монархии, решающая разделительная линия проходит не между правительством и парламентом, а между правительственным лагерем и оппозицией. Кризис немецкого парламентаризма отнюдь не был преодолен в результате утомительного формирования правительства образца 1928 года, он просто вступил в новую фазу. 28 июня 1928 г. рейхспрезидент наконец-то смог назначить членов нового правительственного кабинета. В него вошли: Рейхсканцлер Герман Мюллер (СДПГ) Министр иностранных дел Густав Штреземан (ДФП) Министр внутренних дел Карл Северинг(СДПГ) Министр юстиции Эрих Кох-Везер (ДДП) Министр финансов Рудольф Гильфердинг(СДПГ) Министр рейхсвера Вильгельм Грёнер (беспартийный) Министр экономики Юлиус Куртиус (ДФП) Министр труда Рудольф Виссель (СДПГ) Министр транспорта Теодор фон Герард (партия Центра) Министр продовольствия Герман Дитрих (ДДП) Министр почт Георг Шетцель (БФП). Восемь из одиннадцати министров уже входили ранее в один из правительственных кабинетов Германии, из них четверо — Штреземан, Куртиус, Шетцель и Грёнер — были министрами в непосредственном предшественнике свежеиспеченного правительства — четвертом кабинете Маркса. Только трое были «новичками» — Дитрих, Герард и Северинг. Однако социал-демократический министр внутренних дел был достаточно долго — первоначально с марта 1920 по февраль 1921 г. и потом без перерыва с октября 1922 по октябрь 1926 г. — министром внутренних дел Пруссии, для того чтобы внести солидную практическую основу в свою новую деятельность. Свое правительственное заявление Герман Мюллер сделал 3 июля 1928 г. Оно было выдержано настолько в примиренческом духе, насколько это соответствовало природе самого рейхсканцлера и нестойкой парламентской базе кабинета. Больше всего бросалось в глаза то, что Мюллер не упомянул в своей речи: выражение позиции правительства по поводу броненосного крейсера «А». Только в ответ на упреки коммунистов рейхсканцлер в ходе дебатов дал понять, что правительство должно исходить из договоренностей, которые были достигнуты его предшественником. Кабинет Мюллера не настаивал на вынесении ему специального вотума доверия. Напротив, он удовлетворился тем, что представленные в нем фракции внесли предложение, согласно которомурейхстаг одобрял заявление правительства и без рассмотрения других предложений переходил к повестке дня. Это заявление было принято 5 июля 1928 г. подавляющим большинством рейхстага: из 423 делегатов, подавших действительный бюллетень, 261 проголосовал «за», 134 — «против», и 28 воздержались. Лишь из рядов социал-демократов раздался тихий протест: семь депутатов левого крыла, среди них Пауль Леви, не участвовали в голосовании. Это была та форма нарушения фракционной дисциплины, с которой СДПГ обыкновенно еще мирилась, не делая серьезных выводов{361}. Отложенный конфликт вокруг броненосца настиг правительство 10 августа 1928 г. Министр рейхсвера Грёнер сообщил, что министр финансов в разговоре с ним 20 июля не высказал никаких сомнений по поводу того, что строительство крейсера может быть начато 1 сентября. Гильфердинг в ответ на вопрос Мюллера подтвердил это. Северинг, в свою очередь, истолковал заявление Тренера в том смысле, что расходы на крейсер не могут быть внесены в военный бюджет в качестве постоянной статьи расходов вследствие дальнейших мер экономии. После этого правительство приняло решение приступить к строительству крейсера, присовокупив в качестве разъяснения своей позиции примечание, соответствующее интерпретации Северинга. Принятию этого решения предшествовали события, не нашедшие отражения в официальном протоколе. Министр юстиции Кох-Везер высказал в своем дневнике предположение, что Грёнер угрожал за кулисами в случае отказа своей отставкой и получил в этом энергичную поддержку от Гинденбурга. В действительности Грёнер не мог бы оставаться министром рейхсвера, окажись он в меньшинстве. Но речь здесь шла уже не о судьбе отдельного министра, а правительства в целом. ДФП и Центр связали себя со строительством броненосного крейсера. В столь же малой степени они были готовы мириться с ведущей ролью министерского большинства СДПГ и ДДП, как и с директивным решением рейхсканцлера против начала строительства корабля. Таким образом, решение, вынесенное против Грёнера, означало бы конец правительства Мюллера. Строительство броненосца летом 1928 г. в военном смысле было не более рациональным, чем в начале года. Мало что свидетельствовало в пользу заверений министерства рейхсвера о том, что строительство кораблей ВМФ взамен устаревших поможет защитить немецкое Балтийское побережье от нападения Польши. Как и ранее справедливо считалось, что фиксирование расходов на осуществление долгосрочных планов военного министерства угрожает подорвать право рейхстага на ежегодное одобрение бюджета. В пользу строительства броненосного крейсера министры от социал-демократов могли в действительности высказать только один политический аргумент, но высшего порядка: речь шла о том, чтобы избежать тяжелого правительственного кризиса с непредсказуемыми последствиями, который неминуемо последовал бы, выскажись большинство кабинета против проекта рейхсвера{362}. Большинство активных членов СДПГ видели дело в ином свете и дали выход своему возмущению в бесчисленных резолюциях, некоторые из них даже требовали отставки министров социал-демократов. КПГ предприняла попытку расширить трещину, возникшую у конкурента, за счет акции плебисцита. В начале августа коммунисты инициировали процедуру «народной инициативы» с целью запрета строительства броненосных судов и крейсеров. Так как СДПГ тотчас же выступила против, предприятие коммунистов закончилось безуспешно: только 2,94 % избирателей высказались до 24 октября, конца срока, установленного для подачи подписей, за вынесение вопроса на референдум. Это было намного меньше 10 % голосов, предусмотренных в данном случае конституцией. Исходя из этого, социал-демократы могли бы сделать вывод, что общественное возбуждение по вопросу о броненосце к тому времени уже улеглось. Однако Отто Веле, который во времена канцлерства Мюллера фактически единолично руководил партией, посчитал необходимым после завершения летних парламентских каникул еще раз наглядно продемонстрировать министрам социал-демократам волю партийного большинства. 31 октября 1928 г. по его настоянию парламентская фракция внесла в рейхстаг запрос, согласно которому постройка крейсера должна была быть остановлена, а сэкономленные средства направлены на финансирование детского питания. Если запрос уже сам по себе был пощечиной Герману Мюллеру, то тем более оскорбительным было требование, адресованное канцлеру и министрам — социал-демократам, обязывавшее их голосовать вместе с фракцией против решения, принятого ими же 10 августа в составе правительства. Тем не менее это случилось 16 ноября 1928 г. на пленарном заседании рейхстага: Мюллер, Гильфердинг, Северинг и Виссель, проголосовав «за» предложение фракции, по сути дела сами себе вынесли вотум недоверия. Однако это не принесло социал-демократам большинства голосов, так как все буржуазные партии и национал-социалисты голосовали против. Зато общественное эхо самоунижения правящих социал-демократов было оглушающим. Депутат Йозеф Вирт, представлявший левое крыло партии Центра, заявил о «ползучем кризисе немецкого парламентаризма», который теперь снова был налицо. Эрнст Леммер, представлявший ДДП, критиковал левые силы всех республиканских партий за их «проклятую склонность демонстрировать свою волю к власти и держаться за правительственную власть так долго, насколько только это возможно». «Фоссише Цайтунг» в конце концов упрекнула СДПГ в отсутствии правдивости. Веле выступил, как писала либеральная немецкая газета, «с оппозиционной речью самого тяжелого калибра». «Это было бы сенсационным событием, если бы оно всерьез таким задумывалось. Логическим следствием было бы объявление об отзыве социал-демократами их министров из правительства. Но партия об этом даже не помышляла. Она только желала править дальше и при этом сохранить свое лицо… Все ли примирятся с тем, что социал-демократы стучат в доме кулаком по столу, и очень рады, если другие не дают чему-нибудь разбиться?»{363} Внутри СДПГ также было очевидно недовольство исходом кризиса вокруг броненосца «А». Юный депутат рейхстага Юлиус Лебер полагал в редактируемом им «Любекер Фольксботен», что самая глубокая причина поражения СДПГ заключается в эмоциональном антимилитаризме рабочих. Изменить ситуацию могла только военная программа, решение о выработке которой было принято в сентябре 1928 г. комитетом партии (и которая будет принята Магдебургским партийным съездом в мае 1929 г.): «Если не будет достигнуто коренного изменения установок в отношении армии, то дело с участием социал-демократов в правительстве будет обстоять скверно. Такой кризис, которые случился в последние дни, ни одно правительство не сможет выдержать несколько раз». Аналогичным образом оценивал ситуацию Гильфердинг. «Весь кризис обусловлен полной неясностью в военном вопросе, — писал он. — В своей основе это старый довоенный взгляд на милитаризм, помноженный на усилившуюся в результате войны враждебность ко всему, что выглядит как вооружение, а также на недоверие к рейхсверу»{364}. Спор вокруг броненосца еще не был разрешен, когда уже разразился следующий кризис — Рурский локаут. 30 октября заканчивалось действие решения третейского суда в отношении тарифов на предприятиях черной металлургии Рурской области, которое 27 декабря 1927 г. предыдущий министр труда Браунс объявил имеющим обязательную силу. Чтобы лишить очередное третейское решение силы, и одновременно вышибить из колеи всю систему «политической заработной платы», работодатели сознательно пошли на провокационный шаг: к 1 ноября 1928 г. они уволили около 230 000 тыс. рабочих и служащих. Массовый локаут параллельно сопровождался борьбой в судах по разрешению трудовых конфликтов. Работодатели обжаловали, подав иск, единолично вынесенное арбитром Иоттеном 26 октября 1928 г. третейское решение, устанавливавшее новые тарифы, в свою очередь, объявленное министром труда Висселем обязательным к исполнению. Поначалу им сопутствовал успех: 12 ноября суд по разрешению трудовых конфликтов г. Дуйсбурга удовлетворил их исковое требование. Но вторую инстанцию им преодолеть не удалось. Окружной трудовой суд Дюссельдорфа, куда профсоюзы незамедлительно обратились с апелляцией, отклонил 24 ноября 1928 г. претензии работодателей, после чего они обратились в третью и последнюю инстанцию — Имперский суд по разрешению трудовых конфликтов. В прессе действия представителей тяжелой промышленности подверглись острой критике. «Франкфуртер Цайтунг» назвала саботаж обязательного к исполнению третейского решения «революционным актом», направленным против государства. Рейхстаг, в свою очередь, 17 ноября принял подавляющим большинством голосов постановление о выделении в распоряжение Пруссии средств, которые должны были быть направлены муниципалитетам для материальной поддержки наемных работников, подвергшихся локауту. Вследствие этого профсоюзы, тем временем уже готовые пойти на замену принудительного тарифа процедурой свободного согласования, ужесточили свою позицию. Но и в лагере работодателей сторонники жесткого курса получили дополнительный импульс. Если до принятия решения в рейхстаге представители тяжелой индустрии находились в изоляции, то после этого они получили солидарную поддержку ведущих союзов промышленников. 28 ноября имперское правительство решилось предпринять попытку выступить в качестве посредника: оно поручило министру внутренних дел Северингу исполнить роль верховного третейского судьи и вынудило конфликтующие партии заранее дать согласие подчиниться его решению. Предприниматели сделали это тотчас же, профсоюзы — 2 декабря 1928 г. только после тяжелых внутренних споров. На следующий день самый продолжительный и массовый локаут в истории Германии завершился. 21 декабря Северинг вынес свое третейское решение. В нем он пошел навстречу профсоюзам в том, что касалось рабочего времени, работодателям — по вопросу тарифов. Чтобы не нарушать принцип, в соответствии с которым объявленный обязательным к исполнению приговор третейского арбитра получал силу закона, оспоренное единоличное решение судьи Йоттена было признано действительным на время с 3 до 31 декабря. Формальную точку в Рурском металлургическом споре поставило однако не решение Северинга, а приговор Имперского суда по разрешению трудовых конфликтов от 22 января 1929 г. Суд последней инстанции признал единоличное решение Йоттена юридически ничтожным с момента его вынесения, а также в принципе недопустимой подобную практику единоличных третейских решений. Собственно, проигравшей стороной конфликта тем самым стало министерство труда, что с удовлетворением было отмечено работодателями. Но их успех ни в коем случае не стал триумфом тарифной автономии. Выразители интересов тяжелой промышленности хотели бы видеть на месте принудительного урегулирования отнюдь не тарифы, установленные в ходе свободного согласования с профсоюзами, а производственные договоренности, которые должны были бы ослабить влияние профсоюзов на длительное время. Этой цели предпринимателям Рура в 1928–1929 гг. не удалось достичь. Они даже не смогли устранить процедуру принудительной тарификации как таковую, была убрана лишь ее наиболее одиозная черта — единоличное решение арбитра, да и то на время: в 1931 г. оно было введено вновь в слегка модифицированном виде. Таким образом, политическое значение кризиса заключалось не столько в его непосредственных результатах, сколько в его показательном характере: правое крыло предпринимателей искало конфронтации с государством и нанесло ему поражение. Принудительная тарификация была в высшей степени антилиберальным достижением республики, но мишенью критики предпринимателей стала Веймарская демократия в целом{365}. В конце 1928 г. едва ли кому-либо пришло бы в голову назвать кабинет Мюллера особенно успешным. Принимая во внимание кризисы, которым правительство обязано было противостоять первые пять месяцев своего существования, то, что Герман Мюллер все еще был канцлером, почти граничило с чудом. Но кабинет мог также с полным правом указать и на свои успехи — как правило, в сфере внешней политики. Для Штреземана, который после перенесенного серьезного заболевания в ходе избирательной борьбы долгие месяцы был не в состоянии исполнять свои официальные обязанности, большим личным триумфом стало подписание в начале сентября в Париже от имени Германии пакта об отказе от войны как средстве достижения политических целей, названного в честь госсекретаря США Келлога, а также то, что он смог использовать свое пребывание во французской столице для переговоров с премьер-министром Пуанкаре. Еще более значительным событием в политическом отношении была поездка, предпринятая рейхсканцлером Мюллером в качестве исполняющего обязанности министра иностранных дел в сентябре 1928 г. в Женеву для участия в конференции Лиги Наций. Двумя его важнейшими задачами были досрочный вывод войск из оккупированной Рейнской области и окончательное урегулирование вопроса о репарациях. Соглашение по плану Дауэса 1924 г. обеспечило лишь временное решение этой проблемы, и в 1928–1929 гг. аннуитеты — годичные выплаты по плану Дауэса — впервые достигли максимально предусмотренного размера в 2,5 миллиарда рейхсмарок. Принимая во внимание ухудшение экономической конъюнктуры, все правящие партии Германии были заинтересованы в наискорейшем смягчении этого бремени. Примечательно, что за ревизию плана Дауэса высказался также агент по репарациям. Пока Паркер Гилберт принимал решение о том, допускают ли платежный баланс Германии и стабильность марки осуществление репарационного трансферта или нет, немцы до некоторой степени могли им прикрываться. Гилберт считал эту практику вредной и хотел принудить Германию в результате подписания нового соглашения самой нести экономическую ответственность. Выдержанные в подчеркнуто национальном тоне выступления Мюллера в Женеве, а именно его атаки на отказ Франции от разоружения, вызвали горячее одобрение в Германии, но сначала в Женеве ему пришлось выслушать резкую отповедь французского министра иностранных дел Бриана. Тем не менее результаты совещания соответствовали устремлениям немецкого правительства: Германия и союзники, включая Японию, 16 сентября договорились о создании комиссии экспертов, которая и должна была выработать окончательный порядок выплаты репараций. В вопросе досрочной эвакуации Рейнской области также было достигнуто соглашение о времени начала официальных переговоров. И хотя немецкая сторона оспаривала связь между этими двумя проблемами, было очевидно, что Франция будет готова пойти Германии навстречу в рейнском вопросе только тогда, когда выполнение ее репарационных требований будет гарантировано на будущее{366}. Было неясно, насколько позитивно немецкая общественность воспримет новое соглашение по репарациям: с осени 1928 г. имелись несомненные признаки подвижки общества вправо. В октябре Альфред Гугенберг унаследовал пост председателя ДНФП, сменив, скорее, умеренного политика графа Вестарпа. Победа радикального националиста Гугенберга выбила почву из под ног у тех сил в партии, которые признавали республику как свершившийся факт или которые вовсе, как Вальтер Ламбах, управляющий Немецким национальным союзом торговых служащих, больше не считали актуальным возврат к монархии. С этого момента ДНФП все большей степени превращалась в партию безусловной националистической оппозиции. С самого начала не вызывало сомнения, что немецкие националисты под руководством Гугенберга будут остро выступать против любого нового репарационного соглашения{367}. Подвижку вправо в конце 1928 г. пережила также классическая центристская партия республики. 8 декабря на партийном съезде в Кельне председателем партии Центра был избран трирский прелат и церковный правовед Людвиг Каас, сменивший на этом посту желавшего уйти на покой Вильгельма Маркса. За Кааса было продано 184 из 318 голосов, т. е. намного больше, чем требуемое абсолютное большинство. Йозеф Йосс, кандидат от Католического рабочего союза, получил 92 голоса, а Адам Штегервальд, председатель Христианских профсоюзов — только 42. Избрание священника прекрасно характеризовало тот сознательный возврат к конфессиональным ценностям, с помощью которого Партия Центра пыталась остановить прогрессирующую эрозию «католической среды», в первую очередь — в городах. В каком направлении Каас стремился вести партию, можно было понять из его речей, с которыми он выступил на следующий год. Со все возрастающей резкостью Каас высказывался против партийного государства и заявлял о своей приверженности государственному устройству с четко выраженными авторитарными чертами. Его выступление на католическом съезде во Фрейбурге в конце августа 1929 г. особенно выразительным образом характеризует поворот партии вправо: «Никогда еще тоска по великому вождю не находила такого живого и нетерпеливого отклика в немецкой народной душе чем в дни, когда беды отечества и культуры угнетают наши души»{368}. Первым практическим следствием смены руководства Центра стал правительственный кризис. 24 января 1.929 г. католическая партия объявила рейхсканцлеру условия образования формальной Большой коалиции. Самым главным было требование выделения Центру трех министерств. К министерству транспорта, которое с июня 1928 г. возглавлял Теодор фон Герард, должны были добавиться еще два: самостоятельное министерство оккупированных областей и министерство юстиции. Это важное ведомство в июне 1928 г. перешло в ведение демократов, однако с оговоркой, что это только предварительное решение. ДДП была готова уступить министерство юстиции ДФП, но отнюдь не Центру. ДФП, в свою очередь, выступила против создания самостоятельного «Рейнского министерства» (до этого управлявшегося Герардом методом личной унии) и потребовала со своей стороны, чтобы наряду с Большой коалицией в имперском правительстве была также образована Большая коалиция в Пруссии. Против этого плана у Центра были еще более весомые возражения, чем у социал-демократов Отто Брауна. На тот момент в Пруссии вступила в свою завершающую стадию подготовка к заключению конкордата[46], и никто в этом не был заинтересован больше, чем Центр. ДФП, воспитанная в традициях «культуркампфа», относилась к наиболее решительным противникам конкордата — достаточная причина для того, чтобы Центр резко выступал, по крайней мере в данный момент, против Большой коалиции в Пруссии. 6 февраля 1929 г. жесткие переговоры между партиями закончились скандалом: Центр отозвал Герарда из правительства Мюллера, в результате чего правящий кабинет лишился поддержки большинства в рейхстаге{369}. Рейхсканцлер оценил случившееся как выражение масштабного кризиса. «Выход Центра из правительства усилил в среде немецкой буржуазии те течения, которые, принимая во внимание распри между партиями, стоящими на почве конституции, а также обусловленное этими распрями бессилие рейхстага, видят свое спасение в сильном надпартийном правительстве», — писал Герман Мюллер 12 февраля 1929 г. Отто Велсу. «События за границей направляют течения в буржуазном лагере в этом же направлении. Победа диктатуры над демократией в Сербии. Едва завуалированная диктатура Пилсудского в Польше, которая вскоре перейдет в открытую диктатуру военного фашистского режима… Если мы не сможем обеспечить в Германии устойчивые правительственные отношения, то банкротом окажется немецкий парламентаризм, возникший на почве Веймарской конституции. Но такое банкротство очень скоро скажется также на правительственных отношениях в федеральных землях и далее, вплоть до уровня общин. Кроме того, широкие народные массы не понимают, почему правительство должно терпеть крах из-за трудностей с распределением портфелей». Не менее пессимистично вскоре вслед за этим высказался Густав Штреземан. «Мы не должны обманывать себя: сегодня мы переживаем кризис парламентаризма, который уже перерос обыкновенный кризис доверия», — заявил он, выступая 26 февраля 1929 г. перед партийным руководством ДФП. «Этот кризис обусловлен двумя причинами: во-первых, это та карикатура, в которую превратилась парламентская система в Германии; во-вторых, это полностью ложное понимание парламентаризмом своей ответственности перед нацией… Что это вообще за гротескная точка зрения, согласно которой полагают, что если мы в результате парламентского режима де-факто имеем правительство партий, то по отношению к этому же сформированному партиями правительству необходимо постоянно находиться в оппозиции? Это старая обывательская точка зрения, согласно которой каждый депутат должен быть прирожденным противником государства»{370}. В середине марта Штреземан должен был угрожать своей отставкой с поста председателя партии и вообще выходом из нее, прежде чем ДФП склонилась к тому, чтобы поддержать инициативу канцлера и делегировала своего представителя в межфракционную комиссию бюджетных экспертов. Так как Центр предпринял такой же шаг, снова наметилась, совершенно неожиданно для большинства наблюдателей, еще одна возможность создания Большой коалиции. Эта робкая возможность постепенно перешла в вероятность, когда комиссия 5 апреля 1929 г. предложила к рассмотрению результаты своей деятельности. В соответствии с ними бюджет рейха 1929 г. должен был быть сбалансирован в первую очередь не за счет повышения налогов, как это предусматривал Гильфердинг в своем варианте проекта бюджета, а за счет сокращения расходов. Чтобы облегчить достижение консенсуса, эксперты, как ранее и министр финансов, недолго думая внесли поправки в предварительные оценки налоговых поступлений, пойдя на их увеличение. 7 апреля правительство одобрило предложения комиссии. Лишь Гильфердинг прогнозировал, что чрезмерная оптимистичность оценок экспертов обнаружится уже очень скоро. Однако в ситуации, когда создание прочного правительственного фундамента было возможно только в случае, если кабинет становился на почву компромиссного предложения, министр финансов был вынужден рекомендовать принять его. Однако единства по финансово-политическим вопросам было еще недостаточно для создания Большой коалиции. Буржуазные партии хотели, перед тем как они скрепят пакт, получить от СДПГ гарантии того, что во время решения вопроса о выделении второго транша на строительство броненосного крейсера «А» она не будет голосовать против. Сославшись на коммунистическую агитацию, Отто Веле отклонил это унизительное требование. Спор без сомнения вспыхнул бы с новой силой, если бы правительственные буржуазные партии и Центр не осознали в высшей степени нежелательные последствия правительственного кризиса: возникновение угрозы для переговоров о репарациях, начавшихся в Париже в первых числах февраля 1929 г. Совместный интерес в более выгодном урегулировании репарационного вопроса, т. е. внешнеполитический момент, стал крестным отцом решения об образовании формального правительства Большой коалиции, несмотря на неурегулированные разногласия по вопросу строительства крейсера. 9 апреля 1929 г. заявление кабинета о намерениях, подготовленное статс-секретарем Пюндером, одобрили социал-демократы, а на следующий день — буржуазные партии. 11 апреля министр юстиции отДДП Кох-Везер подал в отставку, чтобы открыть возможность для нового передела министерских постов. Его преемником стал бывший министр транспорта фон Герард, входивший до начала февраля в кабинет Мюллера на правах «наблюдателя» от Центра. Вместе с Герардом в правительство вошли два его товарища по партии: Адам Штегервальд в качестве министра транспорта и Йозеф Вирт как министр оккупированных территорий. Тем самым упорство Центра вполне оправдало себя. ДФП, выступавшая против образования «Рейнского министерства», должна была смириться с неизбежностью. В Пруссии Немецкая народная партия также не достигла поставленной цели: она не смогла добиться ни образования правительства Большой коалиции, ни воспрепятствовать заключению конкордата, одобренного ландтагом 9 июля 1929 г. голосами СДПГ, Центра и ДДП{371}. Парижские переговоры по вопросу о репарациях, которые в апреле 1929 г., по сути дела, «склеили» Большую коалицию, все больше вызывали как внутри страны, так и за границей впечатление, что они в первую очередь представляют из себя только одно: продолжение немецкой внутренней политики другими средствами. Подобные комментарии в первую очередь вызвал своими действиями президент рейхсбанка Ялмар Шахт. Он и Альберт Фёглер, генеральный директор «Ферайнигте Штальверке АГ», были главными делегатами Германии на Парижской конференции, в качестве их заместителей фигурировали банкир Карл Мельхиор из банковского дома «Варбург» и член-распорядитель Имперского союза немецкой промышленности Людвиг Кастл. Правительство Германии совершенно сознательно отдало дань притязаниям экономики на власть, послав представителей от промышленности и банков на переговоры о репарациях и сверх этого по настоянию Шахта отказавшись от каких-либо предварительных инструкций. Шахт был одним из основателей ДДП, но с тех пор все больше сближался с позицией правых националистов. Ту линию, осуществления которой он пытался добиться на переговорах в Париже, Шахт обозначил уже в середине февраля 1929 г. в одном из разговоров с Оуэном Д. Янгом, американским главой конференции по репарациям и членом наблюдательного совета компании «Дженерал Электрик»: во-первых, немецкие репарации зависели от готовности остальных стран открыть ворота для немецкого экспорта; во-вторых, возрождение немецкого сельского хозяйства должно было быть обеспечено за счет возвращения «польского коридора», в-третьих, Германия должна была быть допущена к эксплуатации сырьевых ресурсов колониальных трансатлантических стран. Фёглер, по согласованию с Шахтом и Имперским союзом немецкой промышленности, в свою очередь, выдвинул в конце марта требование, больше адресованное к Германии, чем к Америке: агент по репарациям должен был быть заменен отечественным контрольным органом, который бы консультировал имперского министра финансов и обладал неограниченным правом вето против решений рейхстага, касающихся расходов и налогов. В середине апреля, спустя несколько дней после реорганизации правительства в Берлине, Парижская конференция вступила в фазу тяжелого кризиса. Главные кредиторы требовали увеличения ежегодных платежей в размере между 1,8 и 2,4 млрд рейхсмарок, в ответ на что Шахт, со своей стороны, предложил два варианта ежегодных выплат, связав более высокую выплату с выполнением его политической программы. Было очевидно, что в этой ситуации президент рейхсбанка скорее сделал ставку на разрыв переговоров, чем на их успешное завершение. Но кредитный кризис, последовавший непосредственно вслед за конфронтацией в Париже, все же принудил Шахта сдать позиции. Немецкая банковская учетная ставка, отреагировав на внезапный дефицит иностранных капиталов, поднялась с 6,5 % до 7,5 %, и, когда Янг в конце апреля представил новые аннуитеты, президент рейхсбанка отступил с арьергардными боями. Окончательное решение Шахт отставил на усмотрение имперского правительства, которое 3 мая 1929 г. согласилось с новыми предложениями. Спустя три недели последовал новый скандал. 23 мая от своей должности отказался второй главный делегат Германии на переговорах — Альберт Фёглер. Обосновывая свой шаг, он назвал репарации экономически невыносимыми, что было согласовано с правым политическим крылом тяжелой промышленности и подействовало так, как и было задумано: в качестве сигнала к выступлению против министра иностранных дел Штреземана и его политики переговоров. Имперский союз немецкой промышленности был не готов к такой коллизии и заявил о согласии назначить своего управляющего Кастла преемником Фёглера. Линии разлома внутри блока промышленников, которые стали видны уже в ходе Рурского локаута, весной 1929 г. выступили еще более осязаемо, чем осенью предыдущего года. Результатом Парижской конференции экспертов стало подписание 7 июня 1929 г. плана Янга. Согласно достигнутым договоренностям, Германия была обязана выплачивать репарации до 1988 г., т. е. еще почти шесть десятилетий. В течение первых десяти лет ежегодные выплаты были установлены в среднем размере около 2 млрд рейхсмарок, потом еще увеличивались, чтобы по истечению 37 лет снова уменьшиться. Иностранный контроль за немецкими финансами больше не предусматривался, равно как и передача в залог промышленных облигаций и доходов рейха. Что же касается ответственности за осуществление трансферта, то место агента по репарациям заняло имперское правительство. Ему была предоставлена возможность выбирать между «защищенной» и «незащищенной» частями репарации, причем вторая подлежала безусловной выплате в срок, в то время как в отношении первой можно было обратиться с заявлением об отсрочке платежа сроком до двух лет. Получателем платежей была инстанция, которую еще надлежало создать, — Банк международных расчетов в Базеле. Если Германия испытывала трудности с производством выплат, была предусмотрена возможность сделать представление международному комитету экспертов. Последний, в свою очередь, должен был также подготовить свои соображения по ревизии плана Янга, в том случае, если бы Германия экономически оказалась не в состоянии выполнять свои обязательства по репарациям. Была предусмотрена еще одна возможность: если бы США предоставила своим межсоюзническим должникам освобождение от уплаты долгов, то ⅔ от этой суммы были бы засчитаны в счет немецкого репарационного долга. В сравнении с планом Дауэса план Янга обладал преимуществом для Германии прежде всего потому, что она вернула себе суверенитет в политико-экономической сфере. Но это было тесно связано с серьезным недостатком: исчезла защита трансфертов агентом по репарациям. То есть Германия теперь была обязана производить выплаты даже в случае экономической депрессии, что, в свою очередь, могло привести к усилению кризиса. То, что первые выплаты были ниже, чем предусмотренные по плану Дауэса, принесло Германии только краткосрочное облегчение. Перспектива выплачивать репарации еще 58 лет была угнетающей. Более великодушное решение было бы без сомнения и более политически умным. Но правительства стран-кредиторов находились поддавлением своих собственных общественных сил, настаивавших на принципе обязательной компенсации. Из этого следовало, что Германия и далее должна была возмещать нанесенные войной убытки, а европейские державы-победительницы — платить по своим долгам, сделанным в Америке во время войны. Наибольший выигрыш, который план Янга принес Германии, не упоминался в отчете экспертов вовсе, он был его опосредованным следствием. Согласие правительства Германии подписать новое соглашение по репарациям побудило Францию сделать решительный шаг навстречу Германии в разрешении Рейнского вопроса. В завершение конференции в Гааге, в которой участвовали Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Япония и Германия, 30 августа 1929 г. было заключено соглашение о досрочном освобождении Рейнской области. Из второй зоны оккупации (первая была очищена уже зимой 1925–1926 гг.) войска союзников должны были быть выведены до 30 ноября 1929 г., а из третьей и последней зоны — до 30 июня 1930 г., т. е. на пять лет ранее срока, установленного в Версальском договоре. Меньше успеха имперское правительство добилось в деле освобождения Саара. Его будущее, согласно мирному договору, должен был решить референдум только в 1935 г. Вынудить французов пойти на соглашение о более раннем воссоединении Саарской области с рейхом не удалось. И все же Штреземан добился еще одной уступки: Бриан, наследовавший в конце июля Пуанкаре в должности премьер-министра, пообещал министру иностранных дел Германии организовать переговоры по вопросу Саара. Но и на Гаагской конференции вопрос о репарациях не был окончательно урегулирован. Страны-кредиторы в принципе были согласны с отчетом экспертов, но считали необходимым внести отдельные поправки. В свою очередь, правительство Германии не захотело ставить на кон позитивные результаты конференции и поэтому согласилось, проигнорировав возражения Шахта, на дальнейшее обсуждение вопроса в подкомиссиях. Эти согласительные комиссии заседали намного дольше, чем ожидалось — всю осень. В результате заключительная — Вторая гаагская конференция, смогла начать свою работу только в январе 1930 г.{372} Немецкие правые не хотели признавать успехов, которых имперское правительство добилось в Париже и Гааге. Их суждение в отношении плана Янга с самого начала было предвзятым и не могло быть поколеблено соглашениями об эвакуации Рейнской области. 6 июля Имперский комитет немецкого сельского хозяйства признал план Янга экономически неприемлемым. Спустя два дня Союз тяжелой индустрии (Лангнам-Ферейн)[47], рассмотрев отчет экспертов, заявил, что на немецкую экономику взваливают «неподъемный груз». 9 июля в Берлине собрался «Имперский комитет по проведению немецкой народной инициативы». Участие в нем приняли представитель Пангерманского союза Генрих Клас, от «Стального шлема» — Франц Зельдте, от Немецкой национальной народной партии — Альфред Гугенберг и от Национал-социалистической немецкой рабочей партии — Адольф Гитлер. Они подписали совместное заявление, в котором призывали немецкий народ к борьбе против плана Янга и «виновников войны» и объявляли об инициировании процедуры проведения «народной» инициативы{373}. Пока правые собирали свои силы, пропасть, разделявшая умеренных и радикальных левых, все углублялась. Уже летом 1928 г. VI конгресс Коминтерна в Москве задал направление форсированного левого курса, обосновав это началом нового исторического периода в послевоенном развитии. Согласно этой теории, острый революционный кризис 1917–1923 гг. сменился фазой относительной стабилизации капитализма, которая между тем уже закончилась. Новый, «третий», период характеризовался тяжелыми экономическими и политическими кризисами, открывавшими для пролетарской революции новые перспективы. Поэтому необходимо было повести общее наступление против главного препятствия, стоящего на пути революционного обострения кризиса — социал-демократии, которая в своей политике, как утверждал Коминтерн, все более приближалась к фашистам. У «ультралевого» поворота Коминтерна были причины как внутрисоветские, так и германские. В СССР шла борьба за власть между генеральным секретарем ЦК ВКП(б) Сталиным и группой Николая Бухарина, на которую был навешен ярлык «правых уклонистов». Бухаринцы в отличие от Сталина выступали против форсированной коллективизации и повышения темпов роста индустриализации. Если бы Сталину удалось настроить остальные партии Коминтерна выступить против «правых» тенденций, то это оказало бы ему помощь в борьбе против Бухарина. После произошедшего уже достаточно давно отстранения от власти «левого» Троцкого, исключенного в 1927 г. из ВКП(б) и в 1929 г. высланного из СССР, уничтожение «правой» оппозиции было следующим шагом на пути к личной диктатуре Сталина. «Немецкой» причиной дрейфа курса Коминтерна влево был факт существования с июня 1928 г. Большой коалиции, правившей страной под руководством канцлера — социал-демократа. СДПГ рассматривалась как партия, которая больше, чем кто-либо, выступала за достижение взаимопонимания с западными державами, и особенно с Францией, и уже этого было достаточно, чтобы сделать ее в глазах Сталина опасным внешнеполитическим противником СССР{374}. Для масс, поддерживавших КПГ, тезис о прогрессирующей фашизации социал-демократии возможно остался бы не более, чем абстрактной формулой, если бы не было поводов, которые, казалось бы, подтверждали лозунги Коминтерна. Когда, к примеру, прусская полиция принимала меры в отношении коммунистов, удобно было клеймить социал-демократию как холуя капиталистического государства. Событием, в наибольшей степени способствовавшим распространению враждебного образа усиливающейся фашиствующей социал-демократии и вызвавшим длительное незатихающее эхо, стал берлинский «кровавый май» 1929 г. Полицай-президент столицы Германии, социал-демократ Карл Фридрих Цёргибель ответил на ряд кровопролитных столкновений между коммунистами и национал-социалистами, а также между коммунистами и социал-демократами введением в декабре 1928 г. запрета на проведение всех собраний и демонстраций под открытым небом. В апреле 1929 г. он принял решение распространить его действие также на 1 мая. Это решение, принимая во внимание боевой настрой коммунистов, вряд ли было подходящим средством для поддержания «спокойствия и порядка» в традиционный праздничный день Труда, не являвшийся узаконенным праздником. В ответ КПГ оперативно призвала к проведению массовых демонстраций, что побудило Франца Кюнстлера, председателя Берлинской окружной организации СДПГ, к спекуляциям на тему, что КПГ ожидает «1 мая около 200 убитых». В действительности в первые майские дни погибло свыше 30 человек, которые все были гражданскими лицами, а также 194 человека получили ранения, 1128 — арестованы. Наиболее тяжелые столкновения бушевали в «красном» Веддинге, где вечером 1 мая на некоторых улицах были воздвигнуты баррикады. На Кёслинерштрассе с крыш была открыта стрельба по выдвигавшимся полицейским, которые, в свою очередь, применили броневики и открыли стрельбу на поражение. Цёргибель был полон решимости при любых обстоятельствах преподать мятежникам урок, заручившись полной поддержкой своей партии. Нет свидетельств в пользу того, что КПГ стремилась развязать 1 мая 1929 г. гражданскую войну. Не было предпринято целенаправленных попыток вооружения ее сторонников; оружием, которое чаще всего использовалось, были не пистолеты и винтовки, а бутылки, камни и ножи. Отсутствуют доказательства активной роли в событиях Коминтерна и контролируемого им «Военного аппарата» (М-Аппарата)[48] КПГ, и скорее всего они действительно не были задействованы, так как в противном случае полиция во время обысков изъяла бы гораздо больше оружия{375}. Только после начала столкновений из Москвы в Берлин были направлены телеграммы, в которых майские бои уже рассматривались как часть общей революционной борьбы. Но эти телеграммы попали однако не к КПГ, а в руки правительства Германии. Министр внутренних дел Пруссии Гржезинский, поддержанный Отто Брауном, выступил за запрет КПГ и ее дочерних организаций. Однако рейхсминистр внутренних дел Северинг не хотел заходить настолько далеко. Запрет партии он расценивал как неразумный шаг, поскольку его невозможно была осуществить и который вскоре обернулся бы фиаско. Зато взамен Северинг поддержал принятое прусским правительством решение о запрете «Союза красных фронтовиков» и потребовал от остальных федеральных правительств предпринять аналогичные действия. Земли Гессен, Баден и Брауншвейг, находившиеся под управлением социал-демократов, высказали свои возражения, поскольку указ Гржезинского был односторонне направлен только против полувоенной организации крайне левых, не затрагивая правых организаций — «Стальной шлем» или СА — гитлеровских штурмовых отрядов. Но в конце концов Гржезинский и Северинг добились своего: конференция министров иностранных дел федеральных земель 10 мая 1929 г. приняла решение об общегерманском запрете «Союза красных фронтовиков». Только в отношении сопротивлявшегося до последнего Брауншвейга Северинг был вынужден своей властью издать постановление о роспуске всех местных организаций коммунистического полувоенного союза{376}. В результате запрета «Союза красных фронтовиков» с его 80 000 членами КПГ была организационно отброшена назад, но в пропагандистском плане партия сумела извлечь пользу из вмешательства государства. Вместе с «кровавым маем» запрет «Союза красных фронтовиков» послужил для коммунистического руководства убедительным доказательством того, что социал-демократия стала на путь «социал-фашизма». На XII партийном съезде КПГ, который собственно должен был состояться в Дрездене, но после «кровавого мая» местом его проведения была выбрана главная арена боев — Веддинг, Эрнст Тельман в своем выступлении охарактеризовал «социал-фашизм» СДПГ как особенно опасную форму развития фашизма. По его словам, последний съезд СДПГ в Магдебурге наглядно представил немецкую социал-демократию как социал-фашистскую партию, что продемонстрировал и социальный состав делегатов: центр тяжести СДПГ все более смещался в направлении мелкой буржуазии. Тельман, бывший рабочий гамбургской верфи, с осени 1925 г. был фактическим председателем КПГ. В конце 1928 г. в результате попытки замять дело, связанное с растратой, Тельман был лишен всех постов, однако после бесцеремонного вмешательства Сталина снова восстановлен в прежних должностях. Партийный съезд в Веддинге славил Тельмана таким образом, что можно описать только как «культ вождя». Перед началом его двухчасового выступления делегаты, согласно протоколу, встретили Тельмана криками «Браво!» и продолжительными аплодисментами: «Партийный съезд встретил тов. Тельмана громовой овацией. Делегаты стоя пели “Интернационал”. Представители от молодежи приветствовали его троекратным “Да здравствует Москва!”» Кровавые события мая 1929 г. пролили свет не только на политический антагонизм между двумя партиями рабочего класса, но и на социальную дивергенцию внутри пролетариата. Социал-демократы представляли, как правило, более образованных рабочих, находившихся в лучшем материальном положении, а также меньшинство служащих. В то же время коммунисты, несмотря на определенную поддержку среди квалифицированныхрабочих, прежде всего металлистов, в первую очередь были партией простых рабочих и безработных. Сторонники социал-демократии из числа рабочих и служащих жили зачастую в социально неоднородных городских кварталах, оживленных новыми постройками, а коммунисты — в старых рабочих казармах чисто пролетарских частей городов. Поэтому руководству КПГ не представляло труда навесить на функционеров Социал-демократической партии и Свободных профсоюзов ярлык привилегированных «бонз», которые между тем совсем обуржуазились и перебежали в лагерь классового врага. Если шаблонные лозунги такого рода находили плодотворную почву особенно у молодых безработных, то и у социал-демократов также были распространены аналогичные предрассудки в отношении коммунистов. Последние расценивались как закоренелые хулиганы, даже как люмпен-пролетарские элементы, сознательно провоцировавшие жесткие действия полиции в своем отношении. В конце 1920-х гг. пролетарская среда уже давно не была единой, и политическая пропасть между социал-демократами и коммунистами в целом соответствовала социальным разломам, пролегавшим через рабочий класс{377}. С каждым днем 1929 г. безработные становились все более серьезной проблемой внутренней политики Германии. Спад экономической конъюнктуры привел к повышению числа безработных, в феврале 1929 г. их число впервые перевалило за 3 млн человек. Традиционный весенний рост занятости на этот раз воздействовал слабо: в марте все еще насчитывалось 2,7 млн безработных. Имперское учреждение по посредничеству в сфере занятости и страхованию безработных могло обеспечивать исходя из своих средств только 800 000 получателей так называемого «главного пособия» и было вынуждено обратиться за кредитом к государству. Но так как получить требуемые средства из государственной кассы было невозможно, министерству финансов не оставалось ничего другого, как прибегнуть к помощи банковского консорциума. Только этим необычным путем правительство смогло предотвратить банкротство Имперского учреждения в марте 1929 г. Самое позднее начиная с этого момента стало ясно, что нельзя добиться оздоровления государственных финансов без реформы страхования безработных. Зато мнения «фланговых» партий о способе санации существенно разошлись: СДПГ, заручившись поддержкой Свободных профсоюзов, высказывалась за повышение взносов работодателей и наемных работников. ДФП, действуя в интересах предпринимателей, решительно отклонила это предложение и, в свою очередь, потребовала уменьшения социальных выплат. Комиссия экспертов оказалась не в состоянии навести мосты между столь противоположными точками зрения, конфликт обострялся. Министр труда Виссель 10 августа 1929 г. впервые открыто заявил о возможности своей отставки. Но правительственного кризиса при любых обстоятельствах хотел избежать прежде всего министр иностранных дел Штреземан, который в это время вместе с Куртиусом, Гильфердингом и Виртом вел переговоры в Гааге по вопросам репараций и эвакуации Рейнской области. Мнение председателя ДФП сыграло существенную роль в том, что летом 1929 г. удалось избежать очередного правительственного скандала, но конца спора партий не было видно. Самый продолжительный правительственный кризис выпал на то время, когда кабинет был политически обезглавлен. Герман Мюллер, который вот уже много месяцев страдал от болезни желчного пузыря и печени, в конце июня тяжело занемог и до конца сентября не был в состоянии исполнять свои обязанности. Вице-канцлера у Мюллера не было, следствием этого стало то, что координация немецкой политики во все большей степени становилась делом одного высокопоставленного чиновника, а именно статс-секретаря имперской канцелярии Германа Пюндера, близкого к Партии Центра. Именно Пюндер был тем человеком, которому в начале сентября пришла в голову мысль просить правительство Пруссии выступить в роли посредника в конфликте по страхованию безработицы. Действительно, СДПГ и Центр пришли на лоне прусского кабинета к компромиссу, который рейхсрат одобрил 16 сентября 1929 г. минимально допустимым большинством в один голос. В соответствии с принятым решением все злоупотребления и непорядки в деле страхования безработных должны были быть оперативно устранены, размеры социальных пособий сокращены, а взносы страхования увеличены на 0,5 % на срок до 31 марта 1931 г. Свои серьезные сомнения в отношении решения рейхсрата тотчас же высказал министр труда Виссель и еще более веские — ведущие союзы промышленности. Таким образом, было неясно, сможет ли компромиссное решение получить большинство также и в рейхстаге. В правительстве, которое 28 сентября в первый раз за три месяца снова заседало под председательством рейхсканцлера, Мюллер и Гильфердинг выступили в ответ на это с предложением (автором которого был Штреземан) заново урегулировать страхование по безработице в ходе финансовой реформы. Однако условием проведения такой реформы было вступление в силу льготных положений плана Янга. Эти расчеты ни в коем случае нельзя было заранее делать достоянием общественности, так как это ослабило бы немецкую позицию на переговорах о репарациях. При этом ожидаемый эффект взаимообусловленности законопроектов с самого начала был под вопросом: ничто не говорило в пользу того, что союзы промышленников прекратят свою агитацию против повышения страховых взносов, вследствие этого позиция ДФП, как и прежде, оставалась неопределенной. 30 сентября 1929 г. социально-политическая комиссия рейхстага отклонила ряд постановлений, представленных рейхсратом, в том числе решение о повышении страховых взносов по безработице. Консультации рейхсканцлера с главами фракций утром 1 октября 1929 г. также не принесли успеха, что дало Мюллеру повод констатировать: поражение в ходе голосования было чревато для правительства окончательной потерей престижа, исходя из которой он должен был бы сделать соответствующие выводы. Но во время послеобеденного разговора с лидерами фракций внезапно наметился признак готовности ДФП пойти на уступки: министр экономики Куртиус и зампредседателя фракции партии в рейхстаге Цапф заявили о возможности того, что партия воздержится от голосования, если повышение страховых взносов будет отложено до декабря. Вслед за этим Штреземан убедил фракцию ДФП дать на это свое согласие. 3 октября 1929 г. рейхстаг 237 голосами против 155 при 40 воздержавшихся принял «Закон об изменении “Закона об услугах по трудоустройству и страхованию безработных”» в незадолго до этого оговоренной форме, т. е. без повышения страховых взносов. СДПГ, Центр, ДДП и БФП голосовали «за», ДФП — воздержалась, все остальные партии высказались против законопроекта. Правительство Большой коалиции выдержало самую длительную в его истории пробу на прочность{378}. В момент провозглашения президентом рейхстага результатов голосования человека, который больше всего сделал для спасения кабинета Мюллера, уже не было в живых. Ранним утром 3 октября Густав Штреземан скончался от апоплексического удара. Министр иностранных дел Германии, чье здоровье уже было уже давно подорвано, истратил свои последние физические силы на то, чтобы предотвратить смену правительства, которая, в свою очередь, грозила выбить парламентскую почву из под ног у его «политики взаимопонимания». Штреземан пережил куда более глубокую эволюцию, чем какой-либо другой буржуазный политик: из поборника аннексий он стал человеком меры и центра, из тактика-оппортуниста, каким он показал себя еще во время путча Каппа — Лютвица — убежденным сторонником республики. И если он вновь и вновь считал необходимым защитить себя справа путем подчеркнуто национальных, даже националистических высказываний, то его убеждение в том, что ревизия Версальского договора достижима только мирными методами, было непоколебимо. Необходимым условием возможности осуществления его внешней политики было сотрудничество умеренных сил буржуазии и рабочего класса. Штреземан это прекрасно осознавал, и во времена своего рейхсканцлерства в 1923 г., а потом снова, начиная с 1928 г., был самым решительным сторонником Большой коалиции. После его смерти этот союз оказался в еще более шатком положении, чем ранее. Скоро выяснилось, что единственный в своем роде государственный деятель, которого породила Веймарская республика, был незаменим как на арене внешней политики, так и внутри страны{379}. Крах Большой коалиции осенью 1929 г. мог бы иметь фатальные внутри- и внешнеполитические последствия. От падения кабинета Мюллера в первую очередь могла выиграть та «национальная оппозиция», которая конституировалась в начале июля 1929 г. в рамках «Имперского комитета по проведению немецкой народной инициативы». 28 сентября 1929 г. он представил в Министерство внутренних дел Германии заявление в форме законопроекта о регистрации народной инициативы против плана Янга и «лжи о виновности в развязывании войны». Если бы эта акция увенчалась успехом, то имперское правительство обязано было бы незамедлительно и торжественно поставить зарубежные державы в известность о том, что навязанное Германии признание ответственности за развязывание войны, зафиксированное в Версальском договоре, противоречит исторической правде, и поэтому согласно нормам международного права объявляется не имеющим силы. Вслед за этим имперское правительство должно было бы приложить все усилия к тому, чтобы формально аннулировать статью 231 Версальского договора, возлагавшую полную и единоличную ответственность за развязывание Первой мировой войны на Германию. Все новые тяготы и обязательства, вытекавшие из этой статьи, Германия не могла больше возлагать на себя, тем самым план Янга терял бы свою силу. Самое сенсационное положение законопроекта «национальной оппозиции» содержалось в его четвертом параграфе. Он гласил: «Рейхсканцлер и рейхсминистры, равно как и их уполномоченные, которые подписывают соглашения с зарубежными державами вопреки предписаниям § 3, подлежат наказанию, предусмотренному § 92 № 3 УК». Этот параграф Уголовного кодекса карал государственную измену тюремным заключением на срок не менее 2 лет. В первой редакции § 4 был сформулирован немного иначе: тюремное заключение грозило «рейхсканцлеру, рейхсминистрам и уполномоченным рейха», т. е. также и рейхспрезиденту. Так как Гинденбург с 1924 г. был почетным членом «Стального шлема», его президент, Франц Зельдте, поддержанный немецкими националистами, добился изменения законопроекта, которое исключало главу государства из числа потенциальных преступников. Чем больше подписей подавалось за народную инициативу, тем больше была опасность того, что Германия лишится всех уступок, которых она добилась на первой конференции в Гааге в августе 1929 г. Поэтому правительство Мюллера перешло к контратаке: многие министры выступили по радио с боевыми речами против правых националистов, и даже Гинденбург с резкостью высказался по поводу «тюремного» параграфа законопроекта. Но все усилия не смогли помешать тому, чтобы инициаторы процедуры народной инициативы преодолели, хотя и с трудом, установленный законом барьер. 10, 02 % голосов избирателей, поданных в поддержку процедуры народной инициативы, означали, что требуемое минимальное число голосов превышено на 0,02 %. С 27 по 30 ноября 1929 г., спустя четыре недели после окончания срока, установленного для подачи подписей, рейхстаг занимался рассмотрением так называемого «Закона свободы». Но событием большого политического значения стало не всеми ожидаемое отклонение законопроекта, а распад ДНФП. В ходе голосования по поводу «тюремного параграфа» только 53 из 72 депутатов от ДНФП высказались в его поддержку: явный признак того, что Гугенберг ни в коей мере не контролировал партию полностью. Жесткие ответные действия председателя партии привели к расколу фракции: в начале декабря двенадцать депутатов, среди них бывший рейхсминистр фон Кейдель, крупный землевладелец Ганс Шланге-Шенинген, управляющий Немецким национальным союзом торговых служащих Вальтер Ламбахи капитан-лейтенант в отставке Готфрид Тревиранус заявили о своем выходе из партии и объединении в Немецкое национальное рабочее сообщество. В знак протеста против политики Гугенберга председатель фракции ДНФП в рейхстаге граф Вестарп сложил свои полномочия. 22 декабря 1929 г. состоялся референдум по вопросу о «Законе против порабощения немецкого народа». За законопроект проголосовали 5,8 млн избирателей или 13,8 % от имеющих права голоса. Чтобы быть принятым, законопроект должен был собрать в свою поддержку более 21 млн голосов, поэтому поражение «Имперского комитета» не вызывало сомнений. Однако заставляло задуматься то, что в 9 из 35 избирательных округов более чем пятая часть избирателей поддержала референдум, а Адольф Гитлер находился на полпути к тому, чтобы быть принятым «добропорядочным обществом» в качестве союзника. Войдя в «Имперский комитет», путчист образца 1923 г. достиг промежуточной цели: с ним начали считаться общепризнанные правые силы и допустили его к источникам финансирования, способствовавшим дальнейшему взлету НСДАП{380}. То, что национал-социалисты находились на подъеме, стало очевидным к концу 1929 г. Где бы они ни выступали в ноября и декабре, они добивались прироста голосов: во время выборов ландтагов в Бадене и Тюрингии, парламента в Любеке и провинциальных ландтагов в Пруссии, а также во время муниципальных выборов в Гессене и Берлине. В результате выборов в Берлине, состоявшихся 17 ноября 1929 г., число мест, полученных СДПГ, сократилось с 73 до 64, ДДП — с 21 до 14, в то время как НСДАП, которая до этого вообще не была представлена в городском собрании депутатов, одним ударом получила 13 мандатов. Прорыв НСДАП в Берлине частично объясняется теми дивидендами, которые нацисты извлекли из так называемого «скандала Скларека» в ходе безудержной антисемитской агиткампании. 26 сентября по подозрению в мошенничестве и подделке документов были арестованы братья Макс, Лео и Вилли Скларек, «восточно-еврейские» владельцы берлинского Общества по реализации одежды. После войны Склареки превратились фактически в монопольных поставщиков спецодежды для Берлина, в чем им весьма пригодились как хорошие отношения с СДПГ, так и щедрые подарки влиятельным чиновникам. Самое большое внимание общественности привлекла к себе меховая шубка, которую один из братьев по смехотворно низкой цене продал жене обер-бургомистра Густава Бёсса, члена ДДП. Правая пресса и НСДАП использовали этот инцидент Для развязывания кампании, которая в начале ноября принесла свои первые плоды: Бёсс был отстранен от своей должности{381}. Антисемитские лозунги помогли национал-социалистам также заручиться поддержкой в университетах. Национал-социалистический Немецкий студенческий союз был главным победителем выборов зимнего семестра 1929–1930 гг. в студенческие комитеты вузов (АСтА). В Вюрцбурге он получил 30 %, в Берлинском высшем техническом училище — 38 % и в Грайфсвальде — даже 53 %. Подвижка вправо среди студенчества была выражением социального протеста. Поколение студентов воспротивилось своей пролетаризации и объявило борьбу системе, которую они считали ответственной за свою бедность и туманные профессиональные перспективы. Ненависть к Веймарской республике и антипатия к евреям шли рука об руку. Евреи составляли только 1 % населения, в то время как их доля среди учащихся вузов была 4–5 %, а на некоторых специальностях, как, например, медицина и юриспруденция, или в отдельных университетах, таких как Франкфуртский или Берлинский, еще выше. В глазах многих однокурсников-неевреев это означало только одно — евреи пользуются недопустимыми привилегиями в становившейся с каждым днем все более ожесточенной борьбе за высокие позиции в обществе. Наступление национал-социалистических студенческих организаций не в последнюю очередь основывалось на массовой мобилизации чувства социальной зависти{382}. Приток сторонников в ряды национал-социалистов был не единственным признаком растущей политической радикализации. Начиная с весны 1929 г. в Северной Германии, прежде всего в Шлезвиг-Гольштейне, все чаще звучали взрывы в финансовых учреждениях и ведомствах ландрата. 1 сентября 1929 г. «адская машина» сработала в подвале рейхстага, правда не причинив каких-либо серьезных разрушений. Эти диверсии были делом рук активистов крестьянского движения, таким способом протестовавших против принудительной продажи с публичных торгов хозяйств несостоятельных должников. Более умеренным видом протеста сельского населения был отказ от уплаты налогов, инициаторами которого выступили крестьяне голштинского Марша. Эта акция получила широкое распространение в 1929 г. в Северной и Центральной Германии. Столкновения с полицией и жесткие приговоры в отношении бунтующих крестьян только подогревали недовольство на селе, и все же в сочетании с протестами они сумели привлечь внимание немецкой общественности к аграрному кризису, назревавшему с 1927 г.{383} Осенью 1929 г. едва ли можно было надеяться, что кризис ограничится аграрным сектором. Неутешительным признаком этого были курсы акций. Если принять их уровень в 1924–1926 гг. за сто процентов, то в 1927 г. — год экономического бума — они достигли своей вершины на отметке 158 пунктов. Потом, в 1928 г., они упали до 148 пунктов и в 1929 г. — до 134. Причем акции отраслей, изготовлявших средства производства, упали сильнее, чем в среднем все акции промышленности. Производство в 1928–1929 гг. опять в целом незначительно выросло, но производство потребительских товаров длительного пользования, таких как текстиль и предметы домашнего обихода, уже тогда существенно сократилось. Серьезное беспокойство вызывало развитие ситуации на рынке труда: число ищущих работу увеличилось с 1,5 млн человек в сентябре 1929 г. до почти 2,9 млн в декабре, превысив тем самым показатели этого месяца прошлого года на 350 000 чел.{384} Самый тревожный сигнал прозвучал из Америки. 24 октября 1929 г. во время «черной пятницы», которая, собственно говоря, была четвергом, на нью-йоркской бирже произошел лавинообразный обвал курсов акций, который продолжился в следующие дни. В результате в течение непродолжительного времени была утрачена вся курсовая прибыль целого года. Причиной биржевого краха была длительная сверхспекуляция. Мелкие акционеры и большие инвестиционные фирмы в надежде на продолжительный спекулятивный бум вкладывали все больше и больше средств в акции промышленных предприятий, вызвав тем самым рост производства. Но в октябре 1929 г. оказалось, что предложение намного превосходит спрос. Потери курсов акций таких концернов, как «Дженерал Электрик», и таких инвестиционных кампаний, как «Голдман Сакс трейдинг компани», вызвали среди акционеров панику, эффект которой тотчас же стал ощутим по ту сторону Атлантики. Чтобы сохранить ликвидность американские банки начали требовать возврата капитала, который они незадолго до того инвестировали в Европе. В первую очередь это затронуло Германию, так как объем предоставленных ей краткосрочных иностранных кредитов, прежде всего американских, достиг в 1929 г. 15,7 миллиарда рейхсмарок. Около ¾ всех кратко- и среднесрочных кредитов, значительная часть которых была напрямую или опосредованно предоставлена заграницей, регулярно использовались в Германии для долгосрочных инвестиций. Подобные действия в первую очередь практиковали муниципалитеты, в чем их уже давно упрекал агент по репарациям Паркер Гилберт. Используемые не по назначению кредиты были практически заморожены: в случае прекращения действия кредитной сделки их невозможно было снова сделать ликвидными, а только покрыть за счет новых заимствований{385}. Но и для государства получение займов из-за границы становилось все более проблематичным. В конце октября 1929 г. объем подлежавших оплате краткосрочных долгов рейха достиг 1,2 млрд рейхсмарок. Чтобы справиться с кассовым дефицитом, угрожавшим государству в декабре, министр финансов Гильфердинг и статс-секретарь его министерства Попитц попытались получить кредит все у того же американского банковского дома «Диллон, Рид & Со», у которого правительство в июне 1929 г. уже получило заем в 50 млн долларов. В деле добывания кредита они также намеревались задействовать президента рейхсбанка. Шахт был готов оказать поддержку правительству в разрешении краткосрочной проблемы кассового дефицита, но только в том случае, если оно свяжет себя обязательством провести долгосрочную санацию имперских финансов. Президент рейхсбанка увидел возможность увязать проблему актуального кассового дефицита с государственным бюджетом 1930 г. и был полон решимости по собственному усмотрению использовать этот шанс для выбора государственного курса. Шахт не был бы Шахтом, если бы отказался от попытки мобилизовать общественность против кабинета Мюллера. 5 декабря 1929 г. он выступил с протестом против «фальсификации» подписанного им плана Янга из-за включения в него договоренностей, достигнутых задним числом. На следующий день правительство осудило «опрометчивость» позиции Шахта, ставившей под угрозу «единое государственное руководство», но в то же время оперативно объявило о принятии на следующей неделе программы санации имперских финансов. 9 декабря Гильфердинг предложил на рассмотрение кабинета свой проект программы. Для министра финансов важнейшим в ней было усиленное образование капиталов посредством понижения прямых налогов. Напротив, два косвенных налога, на пиво и на табак, он хотел повысить, что тотчас же вызвало резкие возражения со стороны министра почт Шетцеля от БФП, угрожавшего разрывом коалиции в случае повышения налога на пиво. Мольденхауер, новый министр экономики от ДФП (его предшественник Куртиус стал наследником Штреземана на посту министра иностранных дел), напротив, продемонстрировал свою готовность к сотрудничеству. Он был даже готов согласиться с повышением ставки страхования по безработице на 0,5 %. Программа Гильфердинга настолько благоприятствовала предпринимателям, что теперь Народной партии было гораздо проще пойти на уступки, чем двумя месяцами ранее. Помимо этого свою роль сыграло то, что в конце ноября число безработных стало на 1,3 млн больше, чем в конце сентября. Заявление Мольденхауера решило дело. Кабинет договорился о «пакете» мероприятий, включавшем в себя повышение страховых взносов с 3 до 3,5 %, отказ от более высокого налога на пиво, а также заявление правительства о том, что оно представит закон об урегулировании государственного долга. Но достигнутое согласие в кабинете еще не означало единства фракций. СДПГ считало безответственным понижение налогов в настоящей ситуации, т. к. в результате должен был увеличиться дефицит госбюджета. Такими же серьезными были предубеждения БФП, и ДДП все еще не хотела связывать себе руки обязательством оказать поддержку правительству. Когда рейхсканцлер Мюллер выступил 12 декабря перед рейхстагом с правительственной декларацией, он отнюдь не был уверен в том, что парламентское большинство поддержит его финансовую программу. И снова статс-секретарь Пюндер был тем человеком, который нашел спасительный компромисс: он предложил рейхстагу одобрить программу правительства только косвенно и «при условии окончательного оформления каждого закона в отдельности», а также высказать кабинету доверие в отношении проводимой им «политики в целом». 14 декабря 1929 г. рейхстаг 222 голосами против 156 при 22 воздержавшихся принял соответствующее межфракционное предложение. Парламентарии от БФП воздержались при голосовании, из депутатов от ДФП 24 голосовали «за» и 14 — «против»; 28 членов социал-демократической фракции, почти все «левые», игнорировали голосование. Если правительство полагало, что теперь также и президент рейхсбанка оценит по достоинству его добрую волю, то оно ошибалось: 16 декабря кабинету был преподан горький урок. Шахт оценил краткосрочные мероприятия правительства как недостаточные и потребовал выделения в бюджете 1930 г. статьи расхода в размере 500 млн рейхсмарок на погашение долгов. Спустя два дня президента рейхсбанка поддержали агент по репарациям Паркер Гилберт и французский премьер-министр Тардьё. Последний выступил с заявлением о том, что имперское правительство, стремясь к получению иностранного займа, подвергает опасности успех займов, запланированных планом Янга. В результате 19 декабря 1929 г. сначала капитулировал кабинет, а потом и коалиционные фракции. 22 декабря рейхстаг проголосовал за законопроект о создании фонда для погашения подлежащих к уплате долгов германского государства; в 1930 г. на эти цели должно было быть выделено 450 млн рейхсмарок (в конце концов именно эту сумму Шахт признал достаточной). В тот же самый день имперское правительство получило от одного из немецких банковских консорциумов, находившихся под управлением рейхсбанка, краткосрочный кредит, гарантировавший платежеспособность государства{386}. К этому моменту Рудольф Гильфердингуже не был министром финансов. 20 декабря он подал прошение об отставке, обосновав его «вмешательством извне», которое лишило его возможности и далее проводить собственную политику. Шахт действительно вышел из дуэли с Гильфердингом несомненным победителем. Однако у поражения министра финансов были и другие авторы. 15 декабря центральный союз ДФП единогласно принял постановление, в котором заявил, что в стране серьезно подорвано доверие к политике, которую ведет министр финансов. На следующий день бюджетный эксперт Вильгельм Кайль, социал-демократ из Штутгарта, дал понять берлинским функционерам своей партии, что он расценивает Гильфердинга как выдающегося человека, но слабого министра, который не в состоянии справиться со своим собственным ведомством. Шеф-редактор «Форвартс» Фридрих Штампфер после отставки Гильфердинга высказался еще более определенно. Он писал 22 декабря в партийном органе СДПГ, что со стороны Гильфердинга возможно было ошибкой то, что под напором фракций, в особенности буржуазных, он отступился весной от введения новых налогов, которые считал необходимыми: «То, что правительство и рейхстаг теперь сделали под давлением Шахта и стоящих за ним финансовых групп, они обязаны были бы сделать по собственному почину и по собственному же почину они должны это продолжать! Погашение долгов, санация кассы, балансировка государственного бюджета! Перед этими жизненными требованиями государства все остальные должны отступить на задний план!»{387} Конечно же, «было непереносимым, — как выразился председатель социал-демократической фракции в рейхстаге Рудольф Брейтшейд, — когда неподотчетный парламенту президент рейхсбанка пытается вызвать впечатление, что он может определять направление государственной политики». Но сильная позиция Шахта вытекала из воли держав, которым Германия обязана была выплачивать репарации: никогда больше немецкое правительство не должно было использовать в политических целях станок для печатания денег, как это было во времена инфляции. И видные социал-демократы на самом деле не так уж далеко ушли от Шахта, когда они полагали санацию финансов делом более неотложным, чем понижение налогов. Президент рейхсбанка усмирил правительство Мюллера и коалицию, но они существенно облегчили ему триумф своим чересчур тактичным поведением. 23 декабря 1929 г. приемником Гильфердинга был назначен член наблюдательного совета «ИГ Фарбен» Пауль Мольденхауер, бывший короткое время рейхсминистром финансов. Министерство экономики перешло в руки социал-демократа Роберта Шмидта, который уже дважды, в кабинетах Густава Бауэра и Йозефа Вирта, возглавлял это ведомство. Вакантным оказался также пост статс-секретаря имперского министерства финансов: Иоганн Попитцходатайствовал 19 декабря, за день до ухода Гильфердинга, о своей временной отставке. Его наследником стал Ганс Шеффер, бывший министериальдиректор в министерстве экономики, один из немногих евреев-чиновников высокого ранга в Веймарской республике, поддерживавший хорошие отношения как с банковским миром, так и с правым крылом социал-демократов. Левое крыло СДПГ оценило последние события как доказательство того, что коалиционная политика партийного руководства потерпела неудачу и ее следовало незамедлительно прекратить. Депутат парламента от Саксонии Макс Зейдевиц в середине декабря 1929 г. в журнале «Дер Классенкампф» назвал неприемлемым то, что социал-демократический рейхсканцлер и социал-демократический министр финансов навязывают социал-демократической фракции финансовую программу, которую социал-демократия не сможет защищать перед своими избирателями. Подобная коалиционная политика означала «большую опасность для социал-демократии, для рабочего класса и для состояния республики». Пауль Леви, спустя два месяца, 9 февраля 1930 г., покончивший жизнь самоубийством, писал еще резче: «То, что мы теперь видим, это не демократия, и это, как утверждаем мы далее, даже не коалиционное правительство, это не что иное, как карикатура на правительство», — писал оратор-интеллектуал левых социал-демократов все в том же номере «Дер Классенкампфа». «Нам уже сотню раз говорили, что вопрос коалиционного правительства является не принципиальным, а тактическим вопросом. Но в ответ на это можно возразить, что и в области тактики совершаются ошибки, в том числе и такие, которые могут быть не менее роковыми, чем в случае, когда священную почву принципов попирают грязными сапогами. То, что мы наблюдаем в эти месяцы, является практически классическим примером того, насколько губительное воздействие может оказывать вид коалиционного правительства, практикуемый в Германии»{388}. Столь же массированной, хотя иначе обоснованной, была критика коалиции, предпринятая правым флангом предпринимательского лагеря. 26 ноября 1929 г. генеральный директор Гутехоффнунгсхютте[49] Пауль Рейш указал Имперскому союзу немецкой промышленности на первоочередную задачу «всеми силами способствовать» образованию оборонительного фронта против развивающегося марксизма и «оказать на буржуазные партии давление в том смысле, чтобы они в конце концов собрались с силами для оказания действенного сопротивления социализму во всех областях внутренней политики». Того же мнения тем временем стал придерживаться заместитель председателя Имперского союза Пауль Сильверберг, который еще в сентябре 1926 г. настойчиво выступал за образование правительства с участием социал-демократов. «После того как моя попытка наведения порядка совместно с разумной и, как я полагал, политически влиятельной частью рабочего класса… закончилась обоюдной неудачей, мы должны действовать в одиночку», — писал он Рейшу 24 декабря 1929 г. Когда рейхстаг 14 декабря 1929 г. посчитал необходимым вынести вопрос о доверии правительству Мюллера на голосование, все без исключения представители интересов тяжелой индустрии во фракции ДФП голосовали против. Но головной союз индустрии занимал по вопросу о коалиции в конце 1929 г. еще довольно сдержанную позицию. Председатель Имперского союза немецкой промышленности и глава наблюдательного совета «ИГ Фарбен» Карл Дуйсберг, равно как и большинство крупных промышленников, полагал, что социал-демократы должны сначала обеспечить ратификацию плана Янга. После этого промышленники собирались действовать в зависимости от ситуации. Зато как раз ко времени было серьезное, почти ультимативное предупреждение в адрес кабинета Мюллера. В меморандуме под заголовком «Взлет или упадок?» Имперский союз потребовал в декабре жесткого ограничения экономической деятельности государства, приведения социальной политики в соответствие с производительностью германской экономики, сокращения общественных расходов, равно как и снижения налогов, а также права вето для правительства Германии в отношении попыток повышения расходов со стороны рейхстага. Меморандум заканчивался призывом ко всем «созидательным силам» объединить свои усилия «в широком и едином оборонительном фронте против всех сил, враждебных экономике». К последним, без всякого сомнения, относились Свободные профсоюзы, которые на своем конгрессе в Гамбурге в сентябре 1928 г. приняли доработанную программу «экономической демократии», тем самым бросив идеологический вызов предпринимателям. Но это касалось также и СДПГ, которая выступала за все то, что, по мнению Имперского союза, означало «упадок», но отнюдь не «взлет»{389}. В отличие от промышленности, крупное сельское хозяйство с самого начала было противником Большой коалиции. Аграрии в отличие от рабочего класса и предпринимателей не имели своих доверенных лиц в кабинете Мюллера, что придавало еще большее значение их личным отношениям с рейхспрезидентом. Благодаря подарку со стороны немецких предпринимателей к его 80-летию, Гинденбург стал в 1927 г. владельцем поместья в Нейдеке, Восточная Пруссия. В этом качестве он всегда был готов выслушать пожелания своих благородных соседей-помещиков. Весной 1929 г. он употребил все свое влияние, чтобы добиться принятия закона об оказании экономической помощи Восточной Пруссии, который 16 мая был ратифицирован подавляющим большинством рейхстага. В декабре 1929 г. на парламентской сцене обсуждался уже вопрос о повышении таможенных пошлин на ввоз сельскохозяйственных продуктов, в том числе ржи и пшеницы, причем снова, как и в случае с «Помощью Востоку», социал-демократы голосовали «за». Но Большая коалиция не стала от этого более популярной в деревне. Крупное сельское хозяйство располагалось на правом фланге политической оси, и только правительство правых имело шанс заручиться его поддержкой{390}. Именно над такой коррекцией правительственного курса трудились, начиная с весны 1929 г., силы, которые также, как и соседи Гинденбурга по поместью, имели непосредственный доступ к рейхспрезиденту. Генерал-майор Курт фон Шлейхер, глава вновь созданного в 1929 г. министерского бюро в министерстве рейхсвера и один из ближайших советников Грёнера, был одним из тех, к чьему мнению прислушивался пожилой глава государства. Уже в августе 1929 г., обсуждая тяжело протекавшие консультации по вопросу о государственном бюджете, Шлейхер посвятил Генриха Брюнинга, политика Центра, в намерение рейхспрезидента «совместно с рейхсвером и более молодыми силами в парламенте привести в порядок дела перед смертью». При этом рейхспрезидент не собирался нарушать конституцию, но в определенной время планировалось отправить парламентариев по домам и управлять страной на основании статьи 48 конституции. Доказательством того, что Гинденбург в это время действительно думал о создании президентского кабинета с ярко выраженным «правым обликом», была его беседа с главой парламентской фракции немецких националистов графом Вестарпом 18 марта 1929 г., сохранявшаяся в тайне от рейхсканцлера Мюллера. В ходе нее рейхспрезидент решительно поддержал необходимость управлять страной без социал-демократии и вопреки ее воле. В декабре 1929 г. Брюнинг, уже избранный главой парламентской фракции Центра, узнал от Шлейхера и Мейснера, статс-секретаря Гинденбурга, что рейхспрезидент ни при каких условиях не даст своего согласия на то, чтобы кабинет Мюллера продолжил исполнять свои обязанности после ратификации плана Янга. Нового канцлера, по мнению Гинденбурга и его советников, должны были звать Генрих Брюнинг. Рейхспрезидент хотел также наделить Брюнинга в случае необходимости полномочиями в соответствии со статьей 48 о введении чрезвычайного положения. Причины, побудившие Шлейхера сделать ставку на Брюнинга, генерал объяснил своему штатскому союзнику Отто Мейснеру следующим образом: Брюнинг являлся «подходящей кандидатурой как депутат от Центра, известный консервативными установками, как опытный политик и как националистически мыслящий бывший фронтовик. Правые партии не будут настроены в его отношении жестко оппозиционно, и он также будет пользоваться доверием у рейхсвера. С другой стороны, Брюнинг благодаря своим социально-политическим взглядам также весьма высоко ценится среди социал-демократов»{391}. В конце 1929 г. мнение Шлейхера о том, что ничто не убережет кабинет Мюллера от падения, сменилось непоколебимой уверенностью. Об этом говорила та последовательность, с которой он готовил «решение Брюнинга». Сам Брюнинг в разговорах со Шлейхером занимал в отношении действующего рейхсканцлера лояльную позицию. Председатель фракции партии Центра хотел дать Большой коалиции возможность просуществовать до осени 1930 г. и тем самым испытать вкус большого внешнеполитического успеха — эвакуацию Рейнской области. Правда, Большая коалиция до этого должна была ратифицировать план Янга и принять решение о введении радикальных мер по бюджетной экономии. Суть кризисного планирования окружения Гинденбурга заключалась в том, чтобы не социал-демократ Герман Мюллер, а только его буржуазный преемник получил чрезвычайные полномочия. В этом направлении Грёнер и Шлейхер оказывали воздействие на «старого господина», но Гинденбург уже и без этого был полон решимости как можно скорее отстранить социал-демократов от власти. Время расставания должно было наступить, когда, во-первых, отпала бы надобность в Большой коалиции, и, во-вторых, когда окончательно была бы исчерпана ее способность к компромиссам. На этот случай надлежало подготовиться. В первой половине января 1930 г. рейхспрезидент осведомился у Гугенберга и Вестарпа, какую позицию немецкие националисты займут в случае создания «кабинета Гинденбурга». Облик этого кабинета обозначился практически сразу. 15 января 1930 г. Мейснер заявил графу Вестарпу о «формировании антипарламентского и антимарксистского правительства», которое ни в коем случае не должно потерпеть неудачу из-за позиции немецких националистов, т. к. в противном случае Гинденбург «не сможет избавиться от совместного правления с социал-демократами»{392}. Первым большим событием 1930 г. стало подписание плана Янга, состоявшееся в Гааге 20 января. Для Германии самым важным было то, что схема и сумма платежей остались без изменения в том виде, в которым были предложены экспертами в июне 1929 г. Президент рейхсбанка еще раз поставил под угрозу завершение переговоров, выдвигая дополнительные политические условия, но на этот раз ему не удалось принудить правительство к отступлению. С другой стороны, социал-демократическая фракция в парламенте также не добилась успеха, потребовав от имперского правительства поднять перчатку, в очередной раз брошенную ему Шахтом. Рейхсканцлер Мюллер выступил против этой акции, заметив, что правительство будет в состоянии успешно бороться с Шахтом только после санации государственных финансов{393}. На безусловной взаимозависимости между санацией финансов и ратификацией плана Янга стала настаивать начиная с 28 января 1930 г. также Партия Центра. По предложению Генриха Брюнинга правление фракции приняло решение, согласно которому «до сведения рейхсканцлера необходимо было довести, что он не должен рассчитывать на одобрение Центром плана Янга, если правительство своевременно не предложит меры и не заручится согласием партий для того, чтобы гарантировать санацию финансов до принятия плана Янга. Вопросы налогообложения, однако, должны быть предложены на рассмотрение как можно раньше, чтобы заключительные переговоры могли начаться еще перед третьим чтением плана Янга в рейхстаге и партии были бы уже связаны обязательствами». Жесткая взаимообусловленность законопроектов, установленная Брюнингом, означала начало последней главы в истории Большой коалиции. Председатель фракции Центра не хотел разжигания конфликта, увязав вместе в один пакет план Янга и финансовую реформу. В большей степени для него речь шла о том, чтобы использовать сверхдейственный внешнеполитический рычаг для разрешения насущной внутриполитической проблемы. Серьезность положения Брюнинг разъяснил своим коллегам по правлению фракции 28 января 1930 г., указав на финансовое положение федеральных земель, существование которых напрямую зависело от дотаций центра: если не будет проведена санация государственных финансов, заявил он, в Баварии и Бадене в апреле прекратится выплата заработной платы. Рейхсканцлер Мюллер увидел за инициативой Брюнинга намерение добиться сегодня установления максимально широких связей на будущее, т. к. Большая коалиция угрожала распасться после ратификации Гаагского соглашения. Но главе правительства более серьезной представлялась другая опасность: финансовая реформа, заявил он, выступая 30 января 1930 г. в правительстве, серьезно замедлит процесс ратификации плана Янга и одновременно даст дополнительный импульс оппозиции справа. Оба члена кабинета от ДФП, министр иностранных дел Куртиус и министр финансов Мольденхауер, энергично поддержали канцлера. Министр транспорта Штегервальд, напротив, защищал инициативу своего партийного шефа Брюнинга с указанием на «течения» в рейхстаге, которые после ратификации плана Янга распустят парламент и проведут свою финансовую реформу, используя 48 статью конституции. Поддержали канцлера социал-демократы. Хотя в парламентской фракции некоторые депутаты потребовали выставить свое собственное условие взаимозависимости принятия законопроектов — одобрение плана Янга только в случае проведения финансовой реформы, включающей в себя также и социал-демократические установки, — большинство решительно отклонило такое объединение внутренней и внешней политики. В самом правительстве Северинг противопоставил намекам Штегервальда о применении «чрезвычайной» статьи конституции опыт прошлых кризисных лет Веймарской республики: даже во время самой крайней финансовой нужды государство обосновывало свои налоговые постановления не с помощью 48 статьи, а на основании законов о предоставлении чрезвычайныхполномочий правительству, принятых парламентом. Но все призывы к Центру закончились безрезультатно. Штегервальд настаивал на взаимообусловленности законопроектов, а это означало, что без проведения финансовой реформы голосование по закону Янга не соберет парламентского большинства{394}. Весь февраль кабинет работал над решением финансовой проблемы, но так и не добился соглашения. Повышение взносов по страхованию безработицы с 3,5 до 4 %, как этого требовали социал-демократы, отклонялось ДФП, равно как й повышение прямых налогов и введение чрезвычайного налога в отношении лиц, получающих твердое жалованье. СДПГ, напротив, не хотела мириться с увеличением общего налогового бремени, чего требовали другие партии, без одновременного обременения собственности. 2 марта 1930 г. парламентская фракция ДФП единогласно приняла решение, согласно которому она решительно отклоняла какие-либо уступки в вопросе страхования безработных, а также введение чрезвычайного налога в отношении государственных служащих. Это давало все основания полагать, что Народная партия сделала ставку на роспуск Большой коалиции. Именно это было намерением правого крыла ДФП, а также Эрнста Шольца, являвшегося до 1929 г. председателем Имперского союза высокопоставленных чиновников, унаследовавшего после Штреземана пост председателя партии. Еще 24 января 1930 г. «правые круги Немецкой народной партии» в ходе «строго секретных» консультаций договорились о своих ближайших целях. Сообразно с ними СДПГ должна была в случае отказа от радикальной санации страхования по безработице «либо выбыть из правительства, либо Народная партия должна будет своим выходом привести к падению правительство рейхсканцлера Мюллера». 4 февраля Шольц дал понять, что он также разделяет это мнение. Он заявил депутату Эриху фон Гилзе, доверенному лицу Пауля Реша, а также другим представителям правого крыла партии, что он намеревался после ратификации плана Янга «в ультимативной форме направить правительству требование взять на себя предусмотренные законом обязательства осуществления финансовой и налоговой реформы. При этом Шольц в доверительной форме сказал нам, что он тем самым сознательно действует в интересах разрыва с социал-демократией. В расчете на этот разрыв он уже установил связи с Шиле, Тревиранусом и Брюнингом»{395}. Но во фракции ДФП звучали и другие голоса. Умеренные силы, группировавшиеся вокруг министров Куртиуса и Мольденхауера и отклонявшие конфронтационный курс правых, все еще составляли большинство делегатов. Мольденхауер оценивал силы «постоянной оппозиции» в 15 парламентариев, что составляло около трети фракции. Брюнинг в начале марта 1930 г. полагал, что в ДФП чаша весов находится в равновесии между радикалами и умеренными. Ведущие союзы промышленников пока тоже не настаивали на развале Большой коалиции. 27 февраля 1930 г. они донесли до депутатов рейхстага в циркулярном письме свою точку зрения, а именно, что между планом Янга и финансовой реформой, в том виде, как ее предусматривала правительственная программа декабря 1929 г., существует тесная связь. Это заявление соответствовало позиции Центра и БФП, но не линии правого крыла ДФП. С другой стороны, противники Большой коалиции могли делать ставку на мощного союзника, каковым являлся рейхспрезидент. 1 марта 1930 г. Гинденбург принял у себя председателя фракции Центра Брюнинга и напрямую задал ему вопрос: «Готова ли партия Центра оказать свою поддержку другому правительству?» Брюнинг ответил отрицательно. Единодушное мнение правления фракции, сказал он, заключается в том, чтобы существующая в данный момент коалиция сохранялась как можно дольше, ее задачей является ратификация плана Янга и принятие законов о проведении ряда важных внутренних реформ. Осуществление этих намерений без участия социал-демократов вызовет сильные потрясения, сверх того, весьма сомнительно достижение парламентского большинства без участия СДПГ. В конце разговора Брюнинг резюмировал позицию Центра следующим образом: «По меньшей мере мы потребуем от партийных лидеров взять на себя обязательства в отношении принятия финансовых законов, а наше единодушное желание состоит в том, чтобы сегодняшняя коалиция сохранялась еще некоторое время»{396}. 5 марта 1930 г. произошло то, на что уже не рассчитывало большинство наблюдателей: кабинет Большой коалиции договорился по вопросу о средствах для покрытия расходов государственного бюджета 1930 г. Одним из существенных пунктов договоренностей стало повышение «обременения промышленности» с 300 до 350 млн рейхсмарок в 1930 г., которое должно было быть упразднено после принятия плана Янга. Тем самым было выполнено требование СДПГ о введении прямого налога с капитала, хотя и ограниченного годичным сроком. Не менее важной была другая уступка министра финансов: правление Имперского учреждения по посредничеству в сфере занятости и страхованию безработных было уполномочено автономно увеличивать взносы с 3,5 % до 4 %. Что касается понижения социальных выплат безработным, то правление Имперского учреждения могло обращаться с подобными предложениями к правительству, которые однако могли вступить в силу только с одобрения рейхстага. В обоих случаях — повышения страховых взносов и подачи предложений о понижении социальных выплат — решение правления должно было быть поддержано большинством голосов как представителей работодателей, так и рабочих, в то время как голоса представителей общественных корпораций не учитывались. На уступки должны были пойти со своей стороны и министры — социал-демократы. Они отказались от возврата подоходного налога с трудящихся в 1931 г., а также выразили свое согласие с тем, что в адрес министра финансов должна быть направлена заявка, содержащая требование разработать долговременную программу экономии, которая заложила бы основы для понижения налогов и свела расходы бюджета 1931 г. ниже уровня 1930 г. Соглашение в кабинете стало триумфом умеренных сил всех политических лагерей. Но облегчение по поводу наконец-то достигнутого компромисса царило недолго. В социал-демократической фракции и в рядах Свободных профсоюзов было высказано много критики по поводу обязательств, взятых на себя министрами-социалистами перед министром финансов, а также внесены соответствующие поправки. Фракция ДФП, в свою очередь, отреагировала на компромисс в целом отрицательно. После бурно протекавшего 6 марта заседания парламентская фракция, несмотря на угрозу Мольденхауера подать в отставку, отклонила правительственное решение по всем важнейшим пунктам. В этот же день, 6 марта, Объединение союзов немецких предпринимателей выступило с угрозой прекратить свое сотрудничество в работе правления Имперского учреждения по посредничеству в сфере занятости и страхованию безработных, а спустя еще день ведущие союзы немецкой промышленности заявили о том, что программа правительства не соответствует «необходимости проведения финансовой и экономической политики, направленной на оживление народного хозяйства и снижение безработицы». Другой вызов бросил правительству 7 марта 1930 г. президент рейхсбанка: Шахт объявил о своей отставке и обосновал ее перед членами центрального правления рейхсбанка тем, что Гаагские соглашения о репарациях вызовут в Германии кризис дефляции, тем самым поставив под угрозу экономику страны и устойчивость национальной валюты. Время для своей отставки Шахт выбрал весьма искусно: 6 марта в рейхстаге начались вторые слушания законов Янга, и Шахт мог рассчитывать на то, чтобы своим демонстративным шагом все же попытаться помешать новым репарационным правилам получить поддержку большинства. Ответ имперского правительства не заставил себя долго ждать. По предложению Франца фон Мендельсона, президента Генерального совета при рейхсбанке, кабинет еще вечером 7 марта 1930 г. высказался за назначение преемником Шахта бывшего рейхсканцлера и министра финансов Германии Ганса Лютера. Лютер пользовался в хозяйственных кругах огромным уважением, а с момента «чуда рентной марки» его имя стало символом стабильности немецкой валюты. Генеральный совет последовал рекомендации правительства и 11 марта выбрал Лютера новым президентом рейхсбанка{397}. Более тяжелым, чем последний кризис вокруг президента рейхсбанка Шахта, оставался кризис, связанный с правительственной программой покрытия государственных расходов от 5 марта 1930 г. ДФП продолжала настаивать на своем негативном отношении к налоговому обременению индустрии повышению взносов по страхованию безработицы. БФП потребовала отказаться от принятого правительством решения о повышении налога на пиво. СДПГ, Центр и ДДП в значительной степени пошли навстречу требованиям баварцев. Решение о наценке на пивной налог должно было быть принято не правительством рейха, а отдано на усмотрение земель. Но разногласия с ДФП однако оставались, так что Мюллер 9 марта планировал отставку своего кабинета. Но 11 марта поступил неожиданный сигнал от рейхспрезидента: в разговорах с Брюнингом и Мюллером, проходивших раздельно, он неожиданно заявил о своей готовности предоставить правительству Мюллера чрезвычайные полномочия в соответствии со статьей 48 конституции. Тем самым казалось гарантированным, что либо финансовая программа кабинета, либо слегка измененные предложения костяка правящей коалиции в составе СДПГ, Центра и ДДП вступят в силу если не благодаря решению большинства рейхстага, то в результате декрета рейхспрезидента. Центр принял во внимание эти заверения Гинденбурга, констатировав, что требование католической партии о взаимообусловленности законопроектов от 28 января 1930 г. выполнило свою цель и теперь депутаты-католики могут проголосовать за ратификацию плана Янга. 12 марта законы Янга были приняты в третьем чтении 265 голосами против 192 при трех воздержавшихся. Среди голосовавших «за» были почти все депутаты Центра; большинство парламентариев от БФП голосовали против и демонстративно воздержались при голосовании за вынесение вотума недоверия правительству Мюллера, инициатором которого выступила КПГ. Протест баварцев объяснялся не столько репарациями, сколько любимым хмельным напитком: за два дня до голосования Отто Браун практически свел к нулю недавно достигнутый компромисс по вопросу о налоге на пиво, заявив, что Пруссия ни в коем случае не согласится с таким урегулированием{398}. После ратификации законов Янга казалось, что путь для санации финансов открыт при условии, что Гинденбург останется верен обещанию, которое он дал 11 марта 1930 г. Мюллеру и Брюнингу. Но самые близкие советники рейхспрезидента не считали, что он должен его сдержать. С их точки зрения, обязательство Гинденбурга утратило силу в тот момент, когда оно выполнило свою цель, а именно добившись согласия Партии Центра с Гаагским соглашением. После этого «камарилья» вновь могла приниматься за старое, вынуждая рейхспрезидента придерживаться ее линии: образование президентского правительства без участия социал-демократов. 18 марта 1930 г. депутат от Немецкой народной партии фон Гилза уже мог проинформировать своего покровителя Пауля Рейша со ссылкой «на весьма информированное авторитетное лицо», что Гинденбург, «очевидно по настоянию Грёнера и Шлейхера», отклонил предложение распустить рейхстаг, наделить правительство полномочиями согласно статье 48 и склонить министров Куртиуса и Мольденхауера остаться в составе кабинета Мюллера. В тот же день, 18 марта, генерал фон Шлейхер указал статс-секретарю Мейснеру еще раз на правильность «своего решения», т. е. создания буржуазного правительства с президентской поддержкой. Ответ последовал быстро. 19 марта Мейснер обратил внимание своего союзника в министерстве рейхсвера на открытое письмо Гинденбурга Мюллеру, датированное предыдущим днем, в котором рейхспрезидент практически приказным тоном требовал проведения энергичных мер по оказанию помощи сельскому хозяйству Восточной Германии. Пояснения Мейснера были очень ясными: «Это первый этап Вашего решения! Это также основание для лучшего, что мы можем иметь — для лидерства Гинденбурга»{399}. Местом действия очередного тура борьбы стал Манхейм. Там 21–22 марта 1930 г. прошел партийный съезд ДФП. Председатель партии Эрнст Шольц, с одной стороны, упрекнул социал-демократов в том, что они официально выступают за черно-красно-золотые цвета, а в душе — за красное знамя и принципиально проводят антикапиталистическую политику, особенно в налоговой сфере, хотя государство базируется на капиталистической основе. С другой стороны, Шольц занял реалистическую позицию. Тот, кто считается с событиями как они есть, должен по меньшей мере сегодня смириться с тем, что правление против социал-демократов или без социал-демократов на длительный срок едва ли возможно. Кажущееся великодушие партийного вождя ДФП имело вескую причину: когда Шольц выступал со своей речью, он уже знал с вероятностью, граничащей с уверенностью, то, что один из чиновников МИД сообщил находившемуся в отпуске министру Куртиусу, а именно, что рейхспрезидент ожидает крушения Большой коалиции и намеревается поручить депутату Брюнингу образование «правительства Гинденбурга». Таким образом, Шольц мог позволить себе примиренческие речи с тем, чтобы взвалить всю ответственность за разрыв коалиции на СДПГ — тактика, рассчитанная как на широкую общественность, так и на умеренное крыло своей собственной партии. На самом деле ДФП, конечно же^ не сомневалась в том, что компромисс с СДПГ более не является для нее важным. В ответ на требование Рейнско-Вестфальского трудового содружества, в котором первую скрипку играла тяжелая промышленность, партийный съезд ДФП категорически подтвердил решение своей парламентской фракции от 2 марта 1930 г., строго отклонявшее любые компромиссы по вопросам страхования безработицы и чрезвычайного налога на государственных служащих. К моменту съезда в Манхейме тяжелая промышленность находилась в более благоприятной политической позиции, чем в начале марта. Объяснялось это тем, что после принятия законов Янга к фронту противников Большой коалиции также присоединился Имперский союз немецкой промышленности. 14 марта его председатель, Карл Дуйсберг, ответил на письмо Мольденхауера от 10 марта, в котором министр финансов заявил, что после ратификации соглашения по репарациям он освободит занимаемый им пост, потому что не только его политические друзья, но и «экономика» отказали ему в своем доверии. Дуйсберг реагировал на это сообщение телеграммой, которую можно трактовать только как поощрение отставки: «Если Ваша партия не разделяет решений правительства, что я целиком и полностью понимаю, и Вы сделаете отсюда соответствующие выводы, то Вы ни в коем случае не утратите доверие экономики. Напротив, только в этом случае Вы его сохраните»{400}. 25 марта 1930 г., спустя три дня после завершения партийного съезда ДФП, у рейхсканцлера состоялись переговоры лидеров партий. Но компромисс между партиями так и не был достигнут. От имени СДПГ Рудольф Брейтшейд отклонил решение, к которому пришли эксперты от коалиции буржуазных фракций 15 марта. В соответствии с ним Имперское учреждение по страхованию безработных уполномочивалось принимать решения о проведении мероприятий в целях экономии средств самостоятельно, без получения дополнительных законных разрешений, и только после сокращения расходов могло повышать страховочные взносы. Шольц от имени ДФП отклонял любое повышение взносов выше их актуального уровня в размере 3,5 %, если одновременно не будет снижен объем социальных выплат по безработице. Депутат Оскар Мейер от ДДП предложил вместо увеличения взносов по безработице на 0,5 % повысить таковые лишь на 0,25 %, но получил только личную поддержку Мольденхауера, а не всей ДФП. СДПГ, напротив, на следующий день согласилась на предложенный Мейером компромисс. Сильнее всех за достижение договоренностей между партиями 25 марта 1930 г. ратовал Генрих Брюнинг. 26 марта он сообщил правлению фракции Центра то, что он, очевидно, знал уже не первый день: «Этому правительству рейхспрезидентом не будут предоставлены полномочия по статье 48. Помимо этого, в государственно-правовом плане эта статья не выход для решения всех проблем». Именно поэтому Брюнинг считал необходимым предпринять еще одну, последнюю попытку для разрешения парламентского кризиса. Утром 27 марта на очередном заседании лидеров партий Брюнинг выступил с предложением, которое он ранее согласовал с Шольцем и Мейером. Ядром «компромисса Брюнинга» было предложение отложить спор о повышении страховочных взносов. Имперское учреждение должно было наделяться правом организовывать мероприятия только по экономии средств, а в случае необходимости могло получать субсидии от государства, размер которых ежегодно должен был фиксироваться отдельной строкой в бюджете. Если же положение дел на рынке труда продолжало ухудшаться, то тогда правительство рейха должно было, в свою очередь, принимать решение, будет ли оно законным путем повышать взносы по страхованию или понижать объем социальных выплат или предложит увеличить косвенные налоги в целях финансирования государственной ссуды{401}. Предложение Брюнинга существенно ослабляло социальную составляющую решения правительства от 5 марта 1930 г. за счет безработных. Самые большие сомнения у социал-демократов должны были вызвать предварительный отказ от повышения страховых взносов и ограничение обязанности государства по предоставлению дотаций. Действительно, именно эти пункты дали повод «переговорщикам» от СДПГ констатировать, что они не могут согласиться с проектом Брюнинга. Представители ДФП все еще не хотели связывать себя какими-либо обязательствами, но тем не менее выразили сомнение в том, что их фракция посчитает предложенные меры по экономии достаточными. Обсуждение завершилось решением дать каждой фракции возможность занять позицию в форме однозначного «да» или «нет» в отношении результатов, достигнутых в ходе консультаций. В ходе совещания министров, начавшегося ровно в полдень, только министр труда Виссель однозначно высказался против «компромисса Брюнинга»; все другие члены кабинета согласились с предложением канцлера: правительство должно, если не получит большинства его собственное решение от 5 марта 1930 г., примириться с программой, согласованной между партиями. После обеда заседали фракции. Среди социал-демократов из числа членов правительства только Виссель вновь выступил против «компромисса Брюнинга», его поддержал тезка рейхсканцлера, заместитель председателя АДГБ Герман Мюллер (Лихтенберг), который в угрожающем тоне предостерег от конфликта между СДПГ и профсоюзами. Самыми решительными сторонниками компромисса были рейхсканцлер и министр внутренних дел Северинг. Но большинство фракции однозначно разделяло позицию критиков, поэтому только немногие высказались против предложения Отто Велса, согласно которому фракция СДПГ продолжала поддерживать решение правительства от 5 марта. Депутаты от СДПГ знали, отклоняя компромисс Брюнинга, что все другие фракции, за исключением БФП, приняли это предложение. Споры были только во фракции ДФП, где часть депутатов, лоббировавших интересы тяжелой промышленности, хотела добиться окончательного разрыва с СДПГ. Заместитель главы фракции Альберт Цапф отметил, защищая компромисс, что поражение потерпела не Народная партия, а социал-демократическая. Эрнст Шольц также полагал, что с проектом Брюнинга ДФП сделала «сильный ход». При голосовании предложения политика Центра 25 депутатов фракции ДФП высказались «за» и 16 — «против». В 17 часов началось последнее заседание правительства Большой коалиции. Мюллер еще раз попытался в качестве альтернативы своей отставке указать на возможность просить рейхспрезидента применить статью 48, в ответ на что Мольденхауер заявил, что этот путь исключен из-за глубоких разногласий в кабинете. Другим своим утверждением — правительство больше не располагает в рейхстаге поддержкой большинства, министр финансов фактически распустил Большую коалицию. Поэтому требование Северинга, правительство должно вступить с рейхстагом в «открытую битву», повисло в пустоте и могло быть подхвачено разве только костяком кабинета. Во время короткого перерыва, в ходе которого министры от Центра совещались с Брюнингом, Йозеф Вирт узнал от статс-секретаря Мейснера, что Гинденбург не предоставит этому правительству полномочия в соответствии со статьей 48. После повторного открытия заседания Мольденхауер рекомендовал кабинету подать в отставку и объявил на случай, если большинство министров все же примет вопреки воле ДФП решение передать проект об изыскании средств на покрытие расходов бюджета в Налоговый комитет рейхстага, о своей собственной отставке. Вслед за этим Мюллер констатировал, что имперское правительство подает в отставку, о чем он незамедлительно сообщит рейхспрезиденту. Последнее заседание последнего правительства парламентского большинства первой немецкой республики завершилось выражением благодарности кабинету со стороны Мюллера и заверениями большинства министров в уважении к канцлеру{402}. 27 марта 1930 г. стало одной из самых важных вех в истории Веймарской республики. С точки зрения исторической перспективы, нет никаких сомнений в том, что в этот день окончательно закончилось время относительной стабильности и началась фаза распада первой немецкой демократии. Однако многие современники также осознавали всю значимость случившегося. «Франкфуртер Цайтунг» писала 28 марта о «черном дне… вдвойне неблагополучном, потому как незначительность предмета спора находится в гротескном несоответствии с теми роковыми последствиями, которые могут вскоре последовать». Из рядов социал-демократов, которые своим решением предрешили роспуск правительства Мюллера, также скоро стала раздаваться критика. В майском номере теоретического журнала «Ди Гезельшафт», издаваемого Рудольфом Гильфердингом, его издатель изложил, почему он не может согласиться с аргументом партийного большинства, согласно которому после одобрения предложений Брюнинга не было бы возможности осенью 1930 г. воспрепятствовать демонтажу социальных пособий. «Именно с точки зрения обеспечения страхования безработных выход из правительства по меньшей мере не принес никакой выгоды. Опасения того, что осенью ситуация ухудшится, кажутся недостаточными для оправдания такого весомого шага. Из-за боязни перед смертью совсем не стоит кончать жизнь самоубийством». По меньшей мере одно из последствий 27 марта 1930 г. было очевидным заранее: сдвиг внутриполитического баланса от властизаконодательной к власти исполнительной. Гильфердинг совершенно точно выразил то, что уже тогда осознавали многие: «Не подлежит сомнению, что если парламент не справляется со своей основополагающей и наиважнейшей функцией, а именно с образованием правительства, то за счет и по вине парламента расширяется власть рейхспрезидента, который должен отправлять обязанности, с исполнением которых сплоховал рейхстаг. Если добавить, что этот паралич рейхстага был непосредственной и желанной целью очень сильных групп, которые весьма ему способствовали, то становится понятным, что непосредственная опасность угрожает немецкому парламентаризму не извне, в форме насильственного путча, а изнутри: Аякс падет, сраженный Аякса рукой[50]. Стремление избежать эту опасность всегда было для социал-демократии веской причиной, чтобы в тяжелейших ситуациях брать ответственность на себя»{403}. Для самокритики у социал-демократов имелись серьезные причины. Принятием компромисса Брюнинга Большая коалиция, конечно же, не купила бы себе долгую жизнь, но она смогла бы еще раз избежать самоотречения парламента от власти. Тогда социал-демократии не пришлось бы обвинять себя в утрате значительной части своего влияния после 27 марта 1930 г. Этот упрек в свой собственный адрес становился тем весомее, чем все серьезнее становились последствия совершенной ошибки. Сомнения в политической мудрости парламентского большинства и Свободных профсоюзов в последние мартовские дни 1930 г. оправданы, так как они с одобрением восприняли конец правительства парламентского большинства. Социал-демократы были достаточно неумелы в том, что позволили переложить на себя ответственность за последний кризис Большой коалиции. Но истинные архитекторы смены власти располагались на правом крыле правительственного лагеря или принадлежали к внепарламентским правым. Насколько далеко ДФП после смерти Штреземана отдалилась от прежней либеральной позиции, наглядно свидетельствует событие, случившееся в начале января 1930 г. в Тюрингии. Здесь 14 января министром внутренних дел и народного образования правительства, в формировании которого принимала участие ДФП, стал национал-социалист Вильгельм Фрик. На первый взгляд ситуация, в которой оказалась партия правого крыла Большой коалиции, напоминала ту, в которую попали социал-демократы осенью 1923 г. Партия левого крыла тогдашней Большой коалиции под руководством Штреземана несколько недель выступала в Саксонии и Тюрингии партнером коммунистов. Но если для СДПГ подобный политический мезальянс вскоре завершился вместе с распадом средненемецкой левой коалиции и потерей власти в стране в целом, то ДФП в 1930 г. смогла добиться удовлетворения своих притязаний на власть как на уровне отдельной федеральной земли, так и на уровне рейха. Центр тяжести немецкой политики сдвинулся вправо настолько, что выход СДПГ из правительства был теперь более закономерен, чем распад правой коалиции в Тюрингии{404}. Политика Немецкой народной партий и стоявших за ней предпринимательских кругов с этого времени ориентировались все больше и больше на экономические ограничители социального, чем на социальное ограничение экономического. Чем сильнее обострялся финансовый кризис, тем более односторонне подчеркивался примат экономики. Ведущие социал-демократы со своей стороны были полностью готовы отдать должное требованиям экономики. Когда Свободные профсоюзы в январе 1930 г. потребовали государственных кредитов для оживления конъюнктуры, Отто Браун возразил им следующей максимой: «Мы находимся в состоянии кризиса, который экономика займов может отсрочить только ненадолго». Тем самым Браун высказал свою приверженность консенсусу по вопросу санации, который пережил Большую коалицию и наложил свой отпечаток на умеренную фазу президентского кабинета. Однако этот консенсус, который для немецкой политики на заключительном этапе существования первой республики был не менее важен, чем «инфляционный консенсус» в ранние годы и «рационализаторский консенсус» в зрелые годы Веймара, шел рука об руку с затяжными разногласиями о разделении бремени санации. На этот вопрос социал-демократы чаще всего давали другой ответ, чем буржуазные партии{405}. Чем правее на политической оси располагалась партия, тем однозначней был ее вердикт о том, что социальная перегрузка экономики может быть преодолена только путем отказа от парламентской демократии. Эта форма правления, по мнению правых, повысила значимость интересов рабочих, служащих и потребителей до степени уже не совместимой с общим благом. Тот, кто так думал, ожидал от усиления президентской власти не только большей политической стабильности, но и оздоровления экономики. Однако такой взгляд на вещи в начале 1930-х годов давно уже не был монополией правых. Длительный кризис немецкого парламентаризма привел к тому, что среди буржуазных центристов также едва ли остались его убежденные сторонники. Среди социал-демократов неудовлетворение коалиционной политикой в конце концов достигло такой силы, что многие из них в марте 1930 г. предпочли ужасный конец мнимому ужасу без конца. Силы, которые как внутри Большой коалиции, так и в ближайшем президентском окружении с наибольшей целеустремленностью работали над подготовкой передачи исполнительной власти в руки президента, представляли себе процесс депарламентаризации проще, чем он был на самом деле. Демократическая система прошедших лет функционировала скорее плохо, чем хорошо, но она обеспечивала избирателям определенную степень воздействия на правительство. Те, кто хотел сделать исполнительную власть независимой, неизбежно вступали в конфликт с политическими притязаниями народа, бывшими намного старше Веймарской республики. Всеобщее избирательное право обеспечивало право на участие во власти, которое было не так-то просто ликвидировать. Изоляция масс от власти должна была исходя из сложившегося в Германии положения вызвать их мощные протесты. В начале 1930 г. вопрос был только в одном: кто выйдет победителем из соревнования за самую действенную артикуляцию массового протеста{406}.Глава XIII Нейтрализация масс
Промежуток между отставкой правительства Мюллера и образованием нового правительства Брюнинга составил всего три дня — признак того, что советники Гинденбурга хорошо подготовили смену власти. К 30 марта 1930 г., моменту вступления в должность рейхсканцлера, Генриху Брюнингу исполнилось 44 года. Аскетичный холостяк из вестфальского Мюнстера, он получил широкое, преимущественно историческое и общественно-политическое образование, которое завершил в 1915 г. защитой диссертации о национализации английских железных дорог. Событием, которое в большой степени наложило на него свой отпечаток, впрочем, как и на других политиков его поколения, стала мировая война. Несмотря на слабое здоровье и близорукость, Брюнинг добровольцем ушел на фронт. Он был ранен, награжден и произведен в лейтенанты запаса. Фронтовое офицерское прошлое было любимой темой воспоминаний политика от Партии Центра в узком кругу. В ноябре 1918 г. Брюнинг входил в состав «группы Винтерфельд» — специального подразделения, чьей задачей было подавление революции. Политическая карьера Брюнинга началась в сентябре 1919 г., когда прусский министр социального обеспечения Адам Штегервальд сделал его своим личным референтом. Спустя год Брюнинг был уже управляющим делами Христианско-национальной германской федерации профсоюзов. Он сохранил за собой этот пост, когда в мае 1924 г. впервые был избран депутатом рейхстага от Партии Центра. В течение короткого времени Брюнинг стал одним из самых влиятельных бюджетных экспертов своей партии, и в конце концов в декабре 1929 г. его избрали главой партийной фракции в рейхстаге. Ни один из политиков Центра не пользовался такой широкой поддержкой в партии в целом, как Брюнинг: рабочие и служащие поддерживали его, памятуя о его профсоюзной деятельности, в то время как на консервативные силы он производил впечатление своей приверженностью умеренной внешней политике Германии и своими выступлениями, выдержанными в подчеркнуто национальном духе. Ярко выраженный патриотизм Брюнинга был во многом реакцией на широко распространенные в обществе конфессиональные предрассудки. Как и во времена культуркампфа Бисмарка, многие протестанты, как секуляризованные, так и верующие, продолжали спустя шесть десятилетий смотреть на католиков сверху вниз, как на немцев второго сорта, чья надежность и верность нации вызывают сомнения. Брюнинг сильно страдал от таких предрассудков. Как отмечал статс-секретарь Пюндер, Брюнингу потребовалось большое усилие воли, чтобы за несколько дней до своего ухода с поста рейхсканцлера принять участие 26 мая 1932 г. в празднике Тела Христова в соборе Св. Хедвига и, таким образом, открыто продемонстрировать берлинцам свою приверженность католицизму. Однако, принимая во внимание интересы своей собственной партии, Брюнинг не имел права производить впечатление, что он будто бы стыдится своей собственной конфессии. Таким образом, на снисходительность евангелической части Германии Брюнинг мог рассчитывать только в том случае, если он и в дальнейшем продолжал предоставлять ей свидетельства своего национально безупречного образа мыслей. В мемуарах Брюнинга, опубликованных в 1970 г. вскоре после его смерти, он утверждал, что в качестве рейхсканцлера целенаправленно действовал в целях восстановления монархии, а точнее сказать, установления парламентской монархии английского образца. Брюнинг действительно был человеком дореволюционной Германии, который в гораздо большей степени внутренне был привязан к бисмарковской империи чем к Веймару. Однако нет ни одного свидетельства того, что во времена канцлерства Брюнинга его практическая политика послужила цели реставрации монархии. Брюнинг постфактум заговорил о подобных намерениях только во второй половине 1930-х гг., возможно, для того, чтобы сплотить под этим девизом консервативных противников Гитлера и создать свой собственный образ как широко мыслящего политического стратега. Действительность 1930–1932 гг. выглядела иначе: рейхсканцлер Герман Брюнинг был полностью поглощен тем, что сегодня назвали бы «кризисным менеджментом». Такая постановка вопроса не исключала преследования долгосрочных целей, но они были другого, традиционного свойства. Для Брюнинга, как и для остальных влиятельных политиков из рядов буржуазных партий, во времена Великой депрессии речь прежде всего шла о том, чтобы преодолеть ограничения, наложенные Версальской системой и добиться полноправного возвращения Германии в клуб великих держав, причем желательно в роли ведущей страны континента. По этой же причине Брюнинг должен был также придавать большое значение сильному правительству и вытеснению рейхстага из политической жизни. Но для достижения этих целей Брюнингу не нужен был возврат к монархии. Напротив, то, что Брюнинг стремился достичь на арене внешней политики, он безусловно перечеркнул бы своим реставрационным курсом, поляризующим политические силы внутри страны. Ничто не говорит в пользу того, что Брюнинг в качестве главы кабинета проводил такую контрпродуктивную политику{407}. Правительство Брюнинга, собравшееся 31 марта 1930 г. на свое учредительное заседание, как казалось на первый взгляд, в высокой степени обеспечивало политическую преемственность. Восемь из двенадцати министров уже входили в правительство Большой коалиции, а именно: Вице-канцлер и министр экономики Герман Дитрих (ДДП) Министр иностранных дед Юлиус Куртиус (ДФП) Министр внутренних дел Иозеф Вирт (Центр) Министр финансов Пауль Мольденхауер (ДФП) Министр рейхсвера Вильгельм Грёнер (беспартийный) Министр труда Адам Штегервальд (Центр) Министр транспорта Карл Теодор фон Герард (Центр) Министр почт Георг Шетцель (БФП) Новичками были министры, пришедшие из партий правее последней Большой коалиции: Министр юстиции Виктор Бредт (Экономическая партия) Министр продовольствия Мартин Шиле (ДНФП) Министр оккупированных территорий Готфрид Тревиранус (Народно-консервативный блок). 29 марта 1930 г. из-за требований одного из новых министров образование правительства оказалось на грани срыва. Мартин Шиле, президент Ландбунда и персональный кандидат Гинденбурга, выдвинул настолько амбициозные требования оказания помощи сельскому хозяйству и урезания пособий по безработице, что потребовалось вмешательство рейхспрезидента. В конце концов Шиле добился своего в сфере аграрной, но не социальной политики. Принимая министерскую должность, Шиле сложил свои полномочия члена рейхстага, поэтому сначала оставалось неясным, какую позицию в отношении правительства займет ДНФП, его партия. Министр юстиции Бредт должен был обеспечить кабинету поддержку партии, до этого еще не входившей ни в одно из имперских правительств, но которая пользовалась определенной поддержкой ремесленников, мелких торговцев и владельцев жилья. Самым правым из министров был капитан-лейтенант в отставке Тревиранус, который в знак протеста против курса Гутенберга в декабре 1929 г. вышел из ДНФП, а в конце января 1930 г. вместе с другими бывшими немецкими националистами и депутатами от Христианско-национальной крестьянской сельскохозяйственной партии основал Народно-консервативный блок. Несмотря на высокую долю министров из правительства Мюллера, с самого начала не было сомнений в том, что правительство Брюнинга было кабинетом нового типа. Когда Гинденбург 28 марта 1930 г. поручил Брюнингу сформировать правительство, он подчеркнул в своем обращении к политику Центра, «что он [Гинденбург], принимая во внимание трудности в парламенте, не считает целесообразным создавать новое правительство на основе коалиционных связей». Новый рейхсканцлер знал, что в крайнем случае он сможет прибегнуть к тому властному инструменту, в предоставлении которого рейхспрезидент отказал его предшественнику: чрезвычайным полномочиям, предусмотренным статьей 48 конституции. Соответственно с этим Брюнинг выразился весьма недвусмысленно, выступая 1 апреля 1930 г. со своим кратким правительственным заявлением. Его кабинет, заявил он депутатам, является «последней попыткой разрешить проблему взаимодействия исполнительной власти с настоящим рейхстагом». Предложение СДПГ о вотуме недоверия правительству, вынесенное на голосование рейхстага 3 апреля 1930 г., было отклонено 253 голосами против 187. Своим успехом правительство Брюнинга было обязано тому обстоятельству, что среди немецких националистов верх вновь одержали умеренные силы, сплотившиеся вокруг графа Вестарпа, и представители интересов сельского хозяйства. Но спорные заявления в печати председателя ДНФП Гугенберга содержали настолько резкие выпады в отношении нового кабинета, что никому и в голову не могла прийти мысль, что ДНФП рассматривает себя как часть правительственного лагеря. В результате кабинет Брюнинга должен был считаться с возможностью в любой момент потерпеть поражение при голосовании в рейхстаге. Смотреть в лицо этой опасности с определенным самообладанием ему позволяли только заверения Гинденбурга, которые давали правительству основание полагать, что оно располагает более мощным рычагом власти, чем рейхстаг. Таким образом уже с первого дня своей работы кабинет Брюнинга был еще не открытым, но уже скрытым президентским правительством{408}. Спустя девять дней после 3 апреля 1930 г., вслед за первой пробой сил в парламенте, последовала вторая. Рейхстаг должен был принять решение по проекту закона о покрытии расходов бюджета 1930 г., который уже был им одобрен в первом чтении 24 марта 1930 г., т. е. еще во время правления Большой коалиции. Чтобы оказать давление на немецких националистов, правительство поставило условием принятия аграрной программы Шиле, включавшей в себя в том числе и кратковременные полномочия на повышение таможенных пошлин на ввоз зерна и скота, одновременное принятие предложений по бюджету. Эта взаимозависимость послужила причиной открытого раскола во фракции ДНФП: 6 депутатов вообще не приняли участие в голосовании 12 апреля; 23 депутата, и в их числе Гугенберг, отклонили предложение правящих партий; 31 депутат во главе с Вестарпом голосовали «за» и тем самым помогли правительству победить с минимальным преимуществом. Голосование в третьем чтении, состоявшееся 14 апреля, прошло по аналогичному образцу. Два месяца спустя кабинет Брюнинга пережил свой первый кризис. 19 июня 1930 г. министр финансов Мольденхауер подал прошение об отставке, после того как его собственная партия, ДФП, с бесцеремонной резкостью отклонила предложенную министром программу «оказания помощи рейху лицами, получающим твердый оклад»[51], а представлявшее тяжелую промышленность крыло партии потребовало его ухода. Только спустя пять дней Брюнинг смог назвать преемника Мольденхауера: им стал вице-канцлер Герман Дитрих, баденский юрист и крупный землевладелец, который еще во времена Германа Мюллера представлял ДДП в правительстве. Покинутое Дитрихом министерство экономики 27 июня возглавил в качестве уполномоченного статс-секретарь этого же министерства Эрнст Тренделенбург — человек, далекий от партийной жизни, который, вероятно, соответствовал представлениям Брюнинга о «деловой политике», но был не в состоянии помочь правительству укрепить его позиции в рейхстаге. Июньский кризис правительства пролил свет на серьезность бюджетного положения. Решения о покрытии бюджетного дефицита, принятые в апреле 1930 г., были уже не в состоянии обеспечивать финансовые потребности государства. Серьезные опасения прежде всего вызывала высокая и устойчивая безработица. Повышение взноса страхования по безработице с 3,5 до 4,5 % — соглашение о чем было достигнуто кабинетом Брюнинга 5 июня — решало только малую часть проблем. В результате правительство оказалось вынуждено проводить очередную «реформу»: было принято решение с 1 апреля 1931 г. ограничить обязательства государства выступать заемщиком для Имперского учреждения по посредничеству в сфере занятости и страхованию безработных, до сих пор не имевшие четких пределов, фиксированной максимальной суммой, которая ежегодно отдельной строкой прописывалась бы в бюджете. Дополнительными источниками финансирования этой статьи бюджета должны были также выступить налог на холостяков и бездетных и надбавка к подоходному налогу. Вызывавший ожесточенные споры чрезвычайный налог, который предстояло платить чиновникам и служащим, в конце концов получил поддержку всех правящих партий. Председатель ДФП Эрнст Шольц заявил, что его партия согласится с введением закона об оказания помощи рейху лицами, получающими твердый оклад, если одновременно будет введен всеобщий, так называемый «гражданский налог». Не будучи прогрессивным, он должен был особенно тяжело сказаться на положении малодоходных домашних хозяйств. Тем не менее 4 июля правительство согласилось с условиями Народной партии, вызвав тем самым бурю протестов со стороны социал-демократов и коммунистов. Но принятое правительством изменение проекта о покрытии расходовбюджета еще не гарантировало голосования в его поддержку парламентского большинства. 11 июля налоговая комиссия рейхстага голосами ДНФП, СДПГ и КПГ отклонила проект правительства об оказания помощи рейху лицами, имеющими твердый оклад, при этом министр финансов Дитрих заявил, что правительство более не заинтересовано во втором чтении. Переговоры с двумя важнейшими оппозиционными партиями не принесли успеха: немецкие националисты заняли резко отрицательную позицию, в то время как социал-демократы вынесли на рассмотрение ряд компромиссных предложений, с которыми, в свою очередь, не мог согласиться Брюнинг. В основе требований социал-демократов лежал отказ от «гражданского налога» (прозванного в народе «подушной податью» или «негритянским налогом»), от которого ДФП, в свою очередь, не хотела отступиться ни при каких условиях. Таким образом, если бы Брюнинг уступил требованиям СДПГ, распад кабинета был бы неминуем. Когда 15 июля рейхстаг собрался для второго чтения проекта о покрытии бюджетных расходов, парламентский путь разрешения кризиса был практически исключен{409}. На второй день парламентских дебатов, 16 июля, Гинденбург официально объявил, какие выводы он намеревается сделать из этой запутанной ситуации: он наделит рейхсканцлера полномочиями утвердить программу покрытия бюджета на основании статьи 48, если этого не удастся достичь парламентским путем, а также распустить рейхстаг, в случае если тот примет решение об отмене внепарламентского декрета или выразит правительству свое недоверие. От лица социал-демократов с протестом незамедлительно выступил председатель парламентской фракции Рудольф Брейтшейд, который констатировал, что статья 48 существует для того, «чтобы при известных условиях оказать помощь государству и защитить государство, но не для того, чтобы помочь выйти из затруднения конкретному правительству, которое не может получить в рейхстаге ожидаемое большинство». Однако развития системы управления государством, основывающейся на чрезвычайном внепарламентском законодательстве, было уже не остановить. После того как рейхстаг 256 голосами против 193 отклонил статью 2 проекта закона о покрытии бюджета, посвященную регулированию помощи рейху государственными служащими, Брюнинг заявил, что правительство более не видит смысла в продолжении парламентских дебатов. Еще в тот же день, 16 июля 1930 г., были приняты два первых чрезвычайных декрета правительства Брюнинга. Первый содержал положения, связанные с покрытием дефицита бюджета, включая «гражданский налог»; второй открывал перед муниципалитетами возможность повышать размеры налога на торговлю напитками. На следующий день президент рейхстага Пауль Лёбе получил, как и ожидалось, два запроса фракции СДПГ: согласно первому рейхстаг должен был выразить недоверие правительству Брюнинга, согласно второму — объявить оба чрезвычайных постановления правительства утратившими силу. Обсуждение и принятие решения по поводу этих заявлений должно было состояться в рейхстаге на следующий день, если только большинство депутатов не высказалось бы за отсрочку. Потенциальная отсрочка была прежде всего в интересах немецких националистов, которые в противном случае подвергались опасности в ходе голосования вновь расколоться, и на этот раз окончательно. Гугенберг уже давно полагал неизбежным открытый разрыв с умеренными силами собственной партии, но в качестве ее вождя он тем не менее не мог позволить возникнуть впечатлению, что он сделал отнюдь не все, что было в его силах, чтобы сохранить единство ДНФП. Таким образом, в разговоре с Брюнингом и Дитрихом, состоявшемся во второй половине дня 17 июля, Гугенберг предложил достигнуть соглашения в деле осуществления широкой политической программы, включавшей в себя создание антимарксистского фронта, борьбу с планом Янга и «преобразование» государственного управления сначала в Пруссии, а потом и в рейхе в целом. Так как Брюнинг не мог согласиться с подобными требованиями, а занятая им позиция была, в свою очередь, поддержана наиболее значимыми членами правительства, фракция немецких националистов была вынуждена наконец открыть свои карты. На заседании фракции, состоявшемся вечером 17 июля, после долгих прений большинство ее членов 34 голосами против 21 высказалось в поддержку инициативы СДПГ. В свою очередь, чтобы победить в противостоянии с парламентом, правительство должно было заручиться как минимум 39 голосами националистов{410}. Последнее заседание рейхстага четвертого созыва Веймарской республики началось 18 июля, около одиннадцати утра. От имени СДПГ обвинение в адрес правительства Брюнинга высказал Отто Ландсберг, член Совета народных уполномоченных 1918–1919 гг. Он заявил, что правительство своими двумя декретами нарушило конституцию, так как общественная безопасность и порядок в стране отнюдь не находятся под угрозой, следовательно, предпосылки для применения статьи 48 отсутствуют. Министр внутренних дел Иозеф Вирт возразил в ответ, что рейх, федеральные земли и муниципалитеты находятся в чрезвычайном финансовом положении, которое нельзя исправить парламентскими методами, поскольку достижение конструктивного большинства в существующем парламенте невозможно. От имени большинства фракции немецких националистов выступил ее глава Оберфорен, который обвинил правительство в неисполнении обещаний об оказании помощи Восточной Германии. Граф Вестарп, в свою очередь, от имени меньшинства фракции обосновал отрицательное отношение к запросам СДПГ тем, что бедственная экономическая ситуация требует стабильного правительства и не предполагает очередных потрясений, которые неминуемо будут вызваны правительственным кризисом и предвыборной борьбой. Министр финансов Дитрих в конце своей речи заявил, что теперь особенно остро стоит вопрос, «являемся ли мы, немцы, просто сборищем эгоистов или мы все же государственный народ». Для оратора-коммуниста Вильгельма Кёнена было совершенно очевидно, «что меры, подготовленные Брюнингом, являются шагом к установлению фашистской диктатуры». В ходе голосования заявление социал-демократов, согласно которому рейхстаг должен был потребовать объявление обоих чрезвычайных декретов от 16 июля 1930 г. утратившими силу, получило уверенную поддержку большинства: 236 депутатов высказались «за» и 222 — «против». Среди голосовавших «за» были представители СДПГ, КПГ, НСДАП, а также 32 депутата от ДНФП. Остальные партии и 25 депутатов от ДНФП голосовали «против». Что же касается заявлений СДПГ и КПГ о вынесении вотума недоверия правительству, то рейхстаг уже не смог провести их обсуждение. Непосредственно вслед за тем, как президент Лёбе огласил результаты голосования и объявил, что запрос социал-демократов получил поддержку большинства, рейхсканцлер Брюнинг зачитал постановление рейхспрезидента: «После того как рейхстаг сегодня принял решение потребовать объявить утратившими силу два моих чрезвычайных декрета, изданных на основе статьи 48 конституции, я распускаю рейхстаг на основании статьи 25 конституции. Берлин, 18 июля. Рейхспрезидент фон Гинденбург. Рейхсканцлер д-р Брюнинг». Последние слова Брюнинга сопровождались громкими выкриками коммунистов: «Долой правительство голода!» За несколько минут до наступления часа дня президент рейхстага закрыл заседание, заявив: «Тем самым наша работа здесь окончена». В тот же день вслед за роспуском рейхстага последовали отмена обоих чрезвычайных декретов и назначение срока новых выборов в рейхстаг на 14 сентября 1930 г. 26 июля рейхспрезидент издал новое «Чрезвычайное постановление по устранению бедственного положения в финансовой, экономической и социальной сферах». Оно было задумано гораздо шире, чем оба чрезвычайных постановления от 16 июля и в ряде пунктов отличалось от них. Так, гражданский налог все же был введен в форме прогрессивного налога. Вместо общей ставки в 6 рейхсмарок в год менее состоятельные налогоплательщики должны были выплачивать только 3 рейхсмарки, в то время как получатели более высоких доходов облагались ставками вплоть до 1000 рейхсмарок. Новыми были также положения, включенные по настоянию Ландбунда, ДНФП и ДФП: защита от процедуры взыскания для увязших в долгах сельскохозяйственных предприятий востока страны и ряддругих положений, позаимствованных из проекта закона об оказания помощи Восточной Германии, который уже не мог быть принят рейхстагом по причине роспуска последнего. Во всем остальном постановление сохранило черты решений, уже принятых ранее правительством: реформа страхования безработицы, помощь рейху государственными служащими, надбавка к подоходному налогу и налог на холостяков. Муниципалитетам предоставлялось право решать, будут ли они взимать гражданский налог или местный налог на пиво или оба налога одновременно{411}. Переходу от скрытого президентского правления к открытому в июле 1930 г. была присуща определенная внутренняя неизбежность. После того как за четыре месяца до этого события рейхспрезидент отказал в своей помощи правительству, обладавшему парламентским большинством, теперь, во время июльского кризиса, сработал тот же самый закон, согласно которому 30 марта 1930 г. новый рейхсканцлер вступил в свою должность. Брюнинг не мог пойти навстречу социал-демократам, так как в этом случае он обманул бы ожидания правого крыла правительственного лагеря, чего он не мог себе позволить, поскольку поступил бы вопреки логике своего собственного назначения на пост канцлера. Вследствие этого свобода действий рейхсканцлера была весьма ограничена. Однако поле маневра для социал-демократов было еще меньше. С одной стороны, они не могли согласиться на введение недифференцированного гражданского налога, на котором правительство настаивало вплоть до роспуска парламента, чтобы не бросить вызов большинству своих собственных сторонников и не дать возможности коммунистам отпраздновать легкую победу. С другой — ведущие политики СДПГ, в первую очередь Герман Мюллер и Отто Браун, слишком хорошо знали, что они не могут допустить эскалации конфликта с правительством вплоть до тотальной конфронтации. Ведь до тех пор, пока социал-демократы в Пруссии отправляли власть совместно с Партией Центра, у канцлера-католика было действенное средство оказать давление на самую многочисленную из немецких партий: он в любой момент мог задействовать угрозу роспуска «другой» берлинской коалиции. В какой мере Брюнинг мог в будущем прибегнуть к этому средству, теперь полностью зависело от исходов очередных выборов в рейхстаг{412}. Правительство Брюнинга с удивительной невозмутимостью отнеслось к подготовке к выборам 14 сентября. То обстоятельство, что во время выборов в саксонский ландтаг 22 июня 1930 г. национал-социалисты увеличили количество своих мандатов с 5 до 14, став тем самым второй по силе партией после СДПГ, канцлер и министры отнюдь не восприняли как судьбоносные «мене, текел, фарес». В большей степени Брюнинг делал ставку на то, что ему удастся убедить большинство немецких избирателей в эффективности его «деловой» политики. Кроме этого, на первые месяцы его правления наряду с жесткими мерами экономии пришелся большой внешнеполитический успех, который однако следовало отнести еще на счет Большой коалиции: в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Гааге в августе 1929 г., 30 июня 1930 г. была завершена досрочная эвакуация последней зоны оккупированной Рейнской области. Рейхспрезидент и правительство отметили это событие воззванием, вызвавшим недовольство в Париже: речь в нем шла о страданиях рейнского населения и произволе чужаков, но ни одним словом не было упомянуто, что без доброжелательной позиции, занятой Францией, эвакуация последовала бы только в 1935 г. Помпезный тон официального немецкого заявления хорошо вписывался в подчеркнуто национальный облик, который Брюнинг стремился придать немецкой внешней политике. Персональное изменение во главе министерства иностранных дел наглядно подчеркнули коррекцию курса политики вправо: в начале июня многолетний статс-секретарь МИДа и один из ближайших соратников Штреземана Карл фон Шуберт был фактически отправлен в ссылку послом в Рим. Его место занял куда как более «решительный» Бернгард Вильгельм фон Бюлов. Блестящий юрист, племянник рейхсканцлера 1900–1909 гг., он как никто другой воплощал в себе традиции МИДа вильгельмианской Германии. Благодаря этому он пришелся по сердцу Брюнингу, который в качестве рейхсканцлера оказывал на внешнюю политику гораздо больше влияния, чем большинство его предшественников. Германо-французские отношения в июле 1930 г. были омрачены не только немецкими комментариями в отношении эвакуации Рейнской области. В это же время немецкое правительство прервало переговоры о договорном разрешении проблемы Саара, несмотря на позитивные сигналы, исходившие из Парижа. Немного позднее, 8 июля, кабинет Брюнинга ответил категорическим отказом на проект создания европейского союза государств, предложенный 17 мая 1930 г. французским министром иностранных дел Брианом. Брюнинг сам настаивал на ответе, согласно которому французскому принципу статус-кво была противопоставлена заинтересованность Германии в установлении «справедливого и прочного порядка в Европе, в рамках которого Германия могла бы рассчитывать на достаточное естественное жизненное пространство». Для того чтобы достичь желаемого внутриполитического эффекта, правительство Германии приняло решение придать ответу Бриану «возможно более популярное звучание»{413}. В отношении Восточной Европы кабинет Брюнинга также продемонстрировал возросшую самоуверенность. В первую очередь в этом на своем опыте убедилась Польша: торговый договор между двумя странами, подписанный в марте 1930 г. правительством Мюллера после многолетних, вязких переговоров, натолкнулся в новом кабинете на сопротивление министра сельского хозяйства Шиле. Как и в прежние годы пунктом договора, против которого выступало немецкое сельское хозяйство, была договоренность об импорте дешевых свиней из Польши. Шиле добился переноса ратификации на более поздний срок, и договор в итоге стал жертвой роспуска рейхстага. В условиях усиления правых экстремистских сил в результате сентябрьских выборов в рейхстаг правительство Брюнинга не сочло более целесообразным предлагать закон на ратификацию рейхстага. То, что правительство Брюнинга заявляло и делало в области международных отношений, существенно отличалось по форме и содержанию от внешней политики Большой коалиции, от политики всех правительств, в которые Штреземан входил в качестве министра иностранных дел. Однако стоит отметить, что уже Мюллер в сентябре 1928 г. в связи с обсуждением вопроса о разоружении взял в своих выступлениях подчеркнуто более национальный тон, чем это было свойственно для немецких правительств «эры Локарно». В конце февраля 1930 г., за несколько недель до падения правительства, канцлер — социал-демократ даже выразил согласие, памятуя о пангерманских традициях СДПГ, на рассмотрение возможности осуществления щекотливого проекта немецко-австрийского таможенного союза, инициатором которого выступал министр иностранных дел Куртиус. Тем не менее пока социал-демократы оставались в правительстве рейха, немецкий ревизионизм существовал в приглушенном состоянии, поскольку его ограничивала «политика взаимопонимания», бывшая стержнем немецкой внешней политики в 1920-е гг. И только после краха Большой коалиции на поверхность политической жизни смогли вырваться силы, которые стремились в атакующем ключе разрушить версальскую систему и противопоставить всем представлениям о «Пан-Европе» идею, казавшуюся им более реальной: «Центральная Европа», в которой Германия доминирует экономически и политически{414}. Смена курса немецкой внешней политики была также обусловлена подвижкой вправо буржуазного политического центра, начавшейся задолго до 1930 г., но существенно ускорившейся с концом Большой коалиции. Партия католического Центра уже в декабре 1928 г., избрав Л. Кааса своим председателем, наглядно продемонстрировала движение партии вправо. После того как пост канцлера перешел к Брюнингу, партия безоговорочно поддерживала политику главы правительства в целом и вытеснение рейхстага из политической жизни — в особенности. 29 июля 1930 г. в своем выступлении на совещании руководства партии Каас подчеркнул, что Центр не хочет свергать демократию, но стремится сохранить ее, не хочет уничтожать парламентаризм, а лишь облагородить и дисциплинировать его. Гораздо более внятным было предупреждение, адресованное трирским прелатом социал-демократии: в случае, если СДПГ еще раз проголосует вместе с ДНФП против Брюнинга, как это имело место 18 июля 1930 г., Каас угрожал расторжением межпартийной коалиции в Пруссии. Другая классическая центристская партия, ДДП, уже во времена Большой коалиции также начала вносить поправки в свой курс, направляя его все правее и приближаясь к ДФП. Сигналом к этому стало тяжелое поражение партии во время выборов 1928 г.: политический либерализм едва ли имел в то время сторонников среди электората. Ремесленники и мелкие торговцы, выступавшие в 1919 г. главной опорой левых либералов, в большом числе перешли в 1920 г. в ряды ДФП, в 1924 г. — ДНФП и в 1928 г. — в ряды Экономической партии. Либералы мало что смогли противопоставить страху ремесленного среднего сословия оказаться раздавленным между крупным капиталом и марксистским рабочим движением. Вследствие этого руководство ДДП скорее было готово отказаться от некоторых либеральных принципов, таких как свобода предпринимательства, чем вновь столкнуться с потерей голосов избирателей. В апреле 1930 г. демократы даже согласились с особым налогом на оборот универсальных магазинов и потребительских кооперативов, носившим дискриминационный характер — уступка, с помощью которой кабинет Брюнинга заручился поддержкой Экономической партии. 27 июля, спустя девять дней после роспуска рейхстага, руководство ДДП предприняло отчаянную попытку остановить дальнейший упадок партии: Эрих Кох-Везер, Герман Дитрих и другие влиятельные политики ДДП совместно с Народно-национальным имперским союзом, группировавшимся вокруг Артура Марауна, «верховного магистра» Младонемецкого ордена, а также с некоторыми молодыми членами ДФП, выступили в роли крестного отца Немецкой государственной партии (Дейче Штаатспартай). Отказ от термина «демократический» был столь же характерен для кризиса либерализма, как и то благодушие, с которым вожди ДДП старались не замечать антисемитских установок младонемцев. Первым следствием скоропалительного создания новой партии был выход из ДДП одного из известных депутатов рейхстага — Антона Эркеленца, секретаря профсоюзного объединения Хирш-Дункершен-Геверкферейн. 29 июля он заявил о том, что покидает ряды партии и вступает в СДПГ. Готовясь к новым выборах в рейхстаг, свежеиспеченная партия должна была быть готовой к новым потерям среди электората: в высшей степени оставалось неясно, сможет ли еврейская община, бывшая до последнего времени одной из самых надежных опор немецких либералов, одобрить их совместные действия с младонемцами или предпочтет отвернуться от Государственной партии{415}. Надежды на то, что к Государственной партии присоединится также ДФП, не оправдались. Народная партия следовала по пути осуществления своих собственных планов сплочения сил и совсем не стремилась признавать Государственную партию равноправным партнером. Но то, к чему в итоге пришли правоцентристские силы, не заслуживает даже слова «сплочение». 18 августа, после длительных переговоров, было достигнуто соглашение о совместном предвыборном обращении ДФП, Экономической партии и вновь образованной Консервативной народной партии, в котором они заявили о своей приверженности «делу реформ» рейхспрезидента. Название предвыборной программы «программой Гинденбурга» было причиной, по которой Государственная партия, которую также пригласили для подписания совместного обращения к избирателям, ответила отказом. Рейхспрезидента, заявил Мараун, из-за его высокого надпартийного положения нельзя использовать как средство предвыборной борьбы. Консервативная народная партия, отнюдь не разделявшая подобных мыслей, была образована 23 июля 1930 г. консервативными силами, сплотившимися вокруг Тревирануса, и антигугенберговской фрондой графа Вестарпа и его сторонников. Бывшие члены ДНФП получили массивную финансовую поддержку промышленников, которые в своем большинстве были недовольны острым антиправительственным курсом Гугенберга. Однако новая партийная группировка не стала, равно как и Государственная партия, ядром для объединенного буржуазного движения. В выборах в рейхстаг в 1930 г. центристские буржуазные силы и умеренные правые участвовали в таком же раздробленном составе, как и ранее{416}. СДПГ, самая большая партия Германии, характеризовала выборы 14 сентября 1930 г. как выбор между «буржуазным блоком и социал-демократией, работой и капиталом, демократией и диктатурой». Правительство Брюнинга, говорилось в предвыборном лозунге социал-демократического руководства от 19 июля, стремится защитить богатых и сильных и переложить все тяготы на плечи бедных и слабых: «Борьба социал-демократов против социальной реакции — это не только борьба за права парламента, но и борьба за право народа. Это право народа стремятся уничтожить также национал-социалисты, — открытые сторонники диктатуры. Они хотят с ножом и револьвером возвести брутальное насилие в ранг государственной системы. В этом им неоценимую помощь оказывают коммунисты — как своими боевыми методами, так и расколом рабочего класса». Призыв заканчивался словами: «Против правительства Брюнинга, побратавшегося с крупным капиталом, цель которого — поражение рабочего класса! Вперед, к борьбе за демократию и социализм, за трудящийся народ, за социал-демократию!» Коммунисты, порицаемые социал-демократами, дали своим оппонентам такой ответ, в свете которого критические замечания СДПГ выглядели, мягко говоря, преуменьшением. 24 августа «Роте Фане» опубликовала «Программное заявление по вопросу национального и социального освобождения немецкого народа». Его текст был полностью выдержан в «национал-большевистской» традиции 1923 г., целью заявления было переманить на сторону КПГ избирателей, голосовавших за крайне правых. Коммунисты упрекали Гитлера и национал-социалистов в том, что они молчат о бедственном положении немецкого крестьянства Южного Тироля, так как они заключили тайный договор с фашистским режимом в Италии, согласно которому отдали немецкие области Южного Тироля иностранным завоевателям. Куда более острым атакам подверглась социал-демократия. Ее вожди «являются не только палаческими подручными немецкой буржуазии, но и одновременно добровольными агентами французского и польского империализма. Все действия продажной социал-демократии выступают нескончаемой чередой тяжелейших предательств жизненных интересов трудящихся масс Германии». Самих себя коммунисты характеризовали как единственную силу, которая борется как против плана Янга, так и против грабительского Версальского мира. «Мы, коммунисты, выступаем против каких-либо выплат репараций, против любой оплаты международных долгов… Только молот пролетарской диктатуры может разбить оковы плана Янга и национального угнетения. Только социальная революции в состоянии решить национальный вопрос Германии»{417}. Националистические лозунги коммунистов вызывали у национал-социалистов только насмешку и издевательство. Альфред Розенберг, главный редактор «Фёлкишер Беобахтер», назвал программное заявление КПГ «нашей доселе самой большой победой». По его словам, большевистское руководство должно со скрежетом зубовным красть национал-социалистические лозунги: «Но они крадут, и это надо отметить — не для того, чтобы выполнить эти призывы, но для того, чтобы обмануть обманутых еще раз. Мы будем оглашать это со всех трибун: коммунисты сами признались в своем мировоззренческом крахе. Коммунизм теперь должен красть, чтобы выжить. Мы редко когда еще были так горды, чем когда смогли убедиться в этом, прочитав “Роте Фане”». Центральной темой национал-социалистической предвыборной агитации была, как и у КПГ, борьба против плана Янга и «партий плана Янга». В ходе прокатившейся гигантской волны собраний НСДАП пыталась мобилизовать массы против веймарской «системы», которая якобы навязала Германии рабское ярмо еврейского мирового капитала. Что должно было прийти на смену столь ненавистной «системе», поначалу оставалось туманным и расплывчатым. Ясным было только одно: режим чрезвычайного декретирования превратил парламентаризм в фарс, дав тем самым национал-социалистам уникальнейший шанс. Теперь они могли представлять себя защитниками политически бесправного народа, а «государство фюрера», как казалось, могло выступить альтернативой как господству партий, так и бюрократической системе президентского правления. Национал-социалистов связывала с коммунистами наряду с радикальным противопоставлением себя «системе» также сравнительно высокая степень внутренней сплоченности. В предыдущие годы линии разрыва в КПГ были проведены сначала «левыми уклонистами», такими как Аркадий Маслов, Рут Фишер и Артур Розенберг, а потом «правыми» силами, якобы склонявшимися к реформизму и концентрировавшимися вокруг бывшего председателя партии Генриха Брандлера. Капитуляция «примиренцев», которые, по мнению партийного руководства, сознательно торпедировали борьбу с «правой опасностью», последовала в начале 1930 г. После нейтрализации «правых» и «примиренцев» Коминтерн и партийное руководство КПГ приступили к исправлению некоторых «ультралевых» уклонов, ответственность за которые в типично сталинской манере была задним числом возложена на одного человека, а именно на руководителя Революционной профсоюзной оппозиции Пауля Меркера. Последний возвел борьбу против «социал-фашистов» до уровня боевого лозунга: «Вышибем выкормышей Цёргибеля[52] из их нор!» С конца марта 1930 г. коммунисты на основании решения своего ЦК вновь были готовы к созданию «единого фронта снизу», т. е. соглашались отличать рабочих — социал-демократов от их «контрреволюционных» вождей. В начале апреля руководство КПГ освободило Меркера от его обязанностей и приняло решение о дисциплинарных мерах в отношении его сторонников. К началу предвыборной кампании ряды КПГ были очищены от «уклонистов» так радикально, как никогда ранее{418}. Национал-социалисты избавились от своих уклонистов также своевременно, еще до начала предвыборной кампании. 4 июля 1930 г. в газете «Саксише Беобахтер», «запрещенной» Гитлером, под заголовком «Социалисты покидают НСДАП» был опубликован манифест Отто Штрассера и 24 других национал-социалистов, считавших себя ревнителями социалистического наследия партии. Они призывали всех своих единомышленников выйти из НСДАП и объединиться в рамках нового движения под названием «Боевое содружество революционных национал-социалистов». Партию Гитлера они упрекали в том, что она все более и более уклоняется от своей «социалистической» программы образца 1920 г. и находится в состоянии обуржуазивания и обюрокрачивания. В отличие от Гитлера Отто Штрассер и его сторонники решительно отклоняли идею наступательной войны против СССР. Со своей стороны они выступали за народническую Великую Германию, за ясный отказ от устремлений, направленных на реставрацию монархии и за слом «имущественной монополии». Так как «революционные» национал-социалисты проповедовали безоговорочный антипарламентаризм, то они отказались от участия в выборах в рейхстаг и уже по этой причине не представляли какой-либо серьезной опасности для НСДАП. Количество сторонников Отто Штрассера в партии оказалось гораздо меньшим, чем он надеялся и чем опасался Гитлер. В мае 1931 г. «Боевое содружество» насчитывало во всем рейхе около 5 тыс. членов. В конечном итоге выход из партии революционных национал-социалистов был удачей для Гитлера: в ходе предвыборной кампании 1930 г. он мог теперь выступать как бесспорный лидер движения, которое отнюдь не ставит своей целью свержение существующего общественного порядка, но стремится устранить современную политическую систему, что должно было произойти не методами насилия и путча, а при полном использовании законного «игрового пространства», которое конституция оставляла своим противникам{419}. Предвыборная кампания была омрачена многочисленными насильственными столкновениями, прежде всего между национал-социалистами и коммунистами, причем зачинщиками выступали то одни, то другие. В конце июля во время кровавой стычки, случившейся между сторонниками НСДАП и КПГ в Эрнсттале в Рудных горах, депутату городского собрания от национал-социалистов выкололи правый глаз. Как сообщала 12 сентября газета «Форвартс», на одном из собраний НСДАП в Эссене неизвестный юноша нанес смертельный удар в сердце студенту — национал-социалисту. Особенно кровавыми были последние предвыборные дни: 13 сентября в Берлине один из национал-социалистов был застрелен, выстрелом из револьвера была тяжело ранена коммунистка; во время столкновения в Шверте на Руре от удара ножом погиб коммунист; драки, поножовщина и перестрелки были также зафиксированы в Мюнстере, Хемнице, Ганау и Аахене{420}. Когда вечером 14 сентября 1930 г. закрылись избирательные участки, в первую очередь стало ясно, что впервые с момента выборов в Национальное собрание 19 января 1919 г. к избирательным урнам пришло столь много немцев: явка избирателей составила 82 %, что было больше, чем в ходе прежних выборов в рейхстаг. Но главной сенсацией 14 сентября 1930 г. стал лавинообразный рост избирателей НСДАП, оказавшейся в результате второй по силе партией Германии. Количество голосовавших за национал-социалистов выросло с 800 000 в мае 1928 г. до 6,4 млн. В относительном выражении это означало рост с 2,6 % до 18,3 %. Число депутатских мест НСДАП подскочило с 12 до 107. Значительным, но менее впечатляющим, был также прирост голосовавших за КПГ: их доля увеличилась с 10,6 % до 13,1 %, а число депутатских мандатов — с 54 до 77. Все остальные партии относились к проигравшим. Немецкие националисты потеряли около половины голосов: доля их избирателей уменьшилась с 14,3 % до 7 %. Другие либеральные партии констатировали дальнейшее сокращение своего электората: у ДФП он понизился с 8,7 % до 4,5 %, у Немецкой государственной партии (бывшей ДДП) — с 4,9 % до 3,8 %. Сравнительно менее болезненными были потери католических партий: партия Центра, еще в 1928 г. получившая 12,1 %, теперь занесла на свой счет 11,8 %, БФП — 3 % вместо 3,1 %, полученных двумя годами ранее. Гораздо серьезнее были потери все еще самой сильной партии Германии: количество голосов, поданных за СДПГ, уменьшилось с 29,8 % до 24,5 %. Новообразованная Консервативная народная партия в союзе с «вельфской» Немецко-ганноверской народной партией получила 1,3 %. Из всех партий наибольшую выгоду из роста избирательной активности извлекли национал-социалисты. Это предполагали уже многие современники и подтвердили новейшие исследования. Другими словами, именно национал-социалистам удалось в большей степени понравиться избирателям, до сего времени не принимавшим участие в выборах. И все же не эта группа стала в 1930 г. важнейшим источником успеха национал-социалистов. Большинство свежеиспеченных избирателей НСДАП раньше отдавали свои голоса другим партиям. Если следовать одному из подсчетов, то в 1930 г. за партию Гитлера свои голоса отдал каждый третий бывший избиратель ДНФП, каждый четвертый избиратель ДДП или ДФП, каждый седьмой избиратель, не принимавший ранее участия в выборах и каждый десятый — СДПГ. Таким образом, консервативный и либеральный лагерь в значительно большей степени были источником роста для национал-социализма, чем социал-демократический. Следующие утверждения также можно считать доказанными: протестанты вдвое чаще были склонны выступать за НСДАП, чем католики, а доля лиц, занятых собственным бизнесом, крестьян, чиновников, рантье и пенсионеров среди избирателей НСДАП была большей, чем доля этих групп среди экономически активного населения. Рабочие и служащие, напротив, были представлены в меньшей степени. Наконец, вклад безработных во взлет Гитлера был весьма скромным: безработные рабочие гораздо чаще предпочитали отдавать свои голоса партии Тельмана, а не Гитлера{421}. Притягательная сила, которую национал-социалисты оказывали на средние слои, была настолько очевидной, что социолог Теодор Гейгер уже осенью 1930 г. интерпретировал успех НСДАП как выражение «паники, охватившей среднее сословие». Социал-демократ Гейгер связал этот диагноз с предупреждением в адрес своей собственной партии о том, что существует связь между «идеологическим смятением средних слоев» и «идеологической самоизоляцией партийного социализма». СДПГ действительно предложила мелким предпринимателям «камень вместо хлеба насущного», когда под влиянием бывших независимых социал-демократов зафиксировала в 1925 г. во вступлении к своей «Гейдельбергской программе» столь же неверный, сколь и старый марксистский постулат, согласно которому крупное производство неизбежно вытесняет мелкое из промышленности, торговли и транспорта, тем самым уменьшая его социальное значение. То, что после такого вердикта мелкие предприниматели перестанут видеть в социал-демократах представителей своих политических интересов, подразумевалось само собой. Было также нетрудно объяснить, почему «старое среднее сословие» разочаровалось в либеральных и консервативных партиях, которые не могли дать ремесленникам и мелким торговцам того, что они требовали: действенной защиты от конкуренции со стороны крупного бизнеса. Однако как самостоятельные, так и зависимые средние слои города и деревни были не единственным резервуаром, из которого черпали свои силы национал-социалисты. Партия Гитлера также привлекла на свою сторону многочисленных рабочих, главным образом тех, кто раньше голосовали не за СДПГ и КПГ, а за одну из буржуазных партий — лишенных пролетарского классового сознания, занятых в сельском хозяйстве, в ремесленном производстве или на предприятиях средней руки и чувствовавших себя связанными с одной из церквей, чаще всего — евангелической ориентации{422}. НСДАП была, и в этом начиная с 1930 г. не может быть никаких сомнений, в большей степени «народной партией», чем какая-либо другая партия первой немецкой республики. Коммунисты и социал-демократы в первую очередь апеллировали к внутренне расколотой среде рабочих и служащих, Центр и БФП — к верующим католикам, либеральные и консервативные партии вербовали своих сторонников преимущественно среди протестантов из буржуазных и крестьянских слоев. А ведь к 1930 г. между социальными и конфессиональными стратами общества давно уже не пролегали такие прочные разделительные линии, как в кайзеровской Германии: пластинки, фильмы и радио активно готовили почву для новой массовой культуры, которой суждено было преодолеть все сословные границы. Но «старые» партии едва ли распознали заключавшийся в этом вызов времени. Национал-социалисты, напротив, последовательно использовали средства современной массовой коммуникации и удовлетворяли широко распространенную потребность в складывании единой общности помимо сословий, классов и религий — потребность, которую другие партии не сумели разглядеть, не говоря уже об ее удовлетворении. Каким бы ретроградным не было многое из того, что НСДАП обещала своим избирателям, успех этой партии был также плодом ее способности адаптироваться к условиям века массовости, и в этом смысле она демонстрировала свою «современность». Средство, с помощью которого национал-социалисты удовлетворяли потребность общества в коллективизме и единении, не изменилось в 1930 г. по сравнению с прошедшими годами: крайний национализм. Именно он должен был преодолеть все, что разделяло немцев. Антисемитские лозунги зачастую соседствовали бок о бок с национальными, но во время предвыборной борьбы 1930 г. они в меньшей степени были выдвинуты на первый план, чем раньше. Прежде всего потому, что перед НСДАП стояла цель завоевания на свою сторону рабочих, которые, как правило, были невосприимчивы к антисемитской агитации. Термин «социализм», который был способен ввести в замешательство буржуазных избирателей, был решительно истолкован НСДАП в новом ключе: социализм в гитлеровском смысле подразумевал не ликвидацию частной собственности, а равенство социальных возможностей и экономическое умонастроение, базировавшееся на принципе «Общее благо выше, чем личное»{423}. Республиканские партии, какими бы национальными они себя не ощущали, не могли ничего противопоставить национализму национал-социалистов. Приверженность к демократической республике, которую убежденные сторонники Веймара противопоставляли правым радикалам, мобилизовала под своими знаменами только меньшинство. Даже внутри Веймарской коалиции, которая все еще управляла Пруссией, немногого можно было достичь, вооружившись республиканским пафосом: слишком различались друг от друга мнения о том, что же в Веймарской республике заслуживало сохранения. Естественной реакцией этих партий на политическую поляризацию, отразившуюся в результатах выборов 14 сентября, был однозначный возврат к исконным источникам своей силы. Для социал-демократии это означало прочную связь своих сторонников с социализмом как культурным движением и образом жизни, а для Партии Центра — возврат к католичеству, определявшему общность ее избирателей{424}. Буржуазный либерализм представлял более рыхлую и менее устойчивую в своих политических убеждениях среду, чем социал-демократы и Центр. На поворот своих избирателей вправо либеральные партии ответили своей переориентацией в этом же направлении. Это справедливо как для ДФП, в которой уже вскоре после смерти Штреземана едва л и что-л ибо заслуживало названия «либеральный», так и для бывшей ДДП. Связь последней с антисемитским Народнонациональным имперским союзом не принесла ей 14 сентября никаких плодов: ремесленные средние слои не вернулись к партии, а многие разочарованные избиратели — евреи, вероятно, сделали свой выбор в пользу СДПГ. Спустя несколько недель после выборов свежеиспеченная Немецкая государственная партия распалась: 7 октября младонемцы, группировавшиеся вокруг Артура Марауна, заявили о своем выходе из партии ввиду непреодолимых мировоззренческих разногласий. Эрих Кох-Везер, который активно участвовал в слиянии, вслед за этим сложил с себя полномочия председателя партии. Впредь о кратковременном альянсе демократов с младонемцами напоминало только новое название партии{425}. Закат либерализма побудил искать новое политическое отечество не только избирателей-евреев, но и одного из известнейших немецких писателей. В октябре 1930 г. Томас Манн в своей «Немецкой речи», с которой он выступил в берлинском Бетховен-зале, призывал немецкую буржуазию вступить в союз с социал-демократией и не страшиться более «фантома» марксизма. Социал-демократия казалась автору «Будденброков» единственной силой, которая была еще в состоянии оказать сопротивление фанатическому национализму национал-социалистов. Свой призыв Томас Манн прежде всего обосновывал тем, что социал-демократы выступали за мирное созидание Европы и были надежной опорой политики Густава Штреземана. Если он представляет мнение, заявил писатель, согласно которому политическое место немецкой буржуазии должно располагаться на стороне социал-демократии, то слово «политический» он понимает в данном случае в смысле неразрывного единства внутренней и внешней политики: «Именно духовные традиции немецкой буржуазии являются тем, что указывает ей на это место: ведь только внешняя политика, исповедующая немецко-французское взаимопонимание, способна породить внутреннюю атмосферу, в которой только и могут осуществиться буржуазные притязания на счастливую жизнь, такие как свобода, духовность и культура в целом. Все остальные варианты заключают в себе национальную аскезу и скованность, которые будут означать ужаснейшее противоборство между отечеством и культурой, а тем самым — и нашу общую беду»{426}. Подзаголовок выступления, который Манн дал своему докладу, все время прерывавшемуся враждебными выкриками, — «Призыв к разуму» — напоминал, вольно или невольно, о привлекшем большое внимание требовании Отто Брауна. 15 сентября 1930 г., на следующий день после выборов в рейхстаг, прусский министр-президент заявил в своем интервью американскому информационному агентству «Юнайтед Пресс», что он полностью исключает вероятность того, что радикальные партии будут в состоянии проверить на практике свои правительственные рецепты. «В большей степени вероятным я рассматриваю образование Большой коалиции всех разумных сил, которая, обладая неоспоримым правительственным большинством, в первую очередь энергично приложит все силы для ликвидации безработицы и улучшения экономических условий существования широких народных масс»{427}. Призыв Отто Брауна ко всем разумным силам едва ли имел лучшие шансы найти отклик, чем обращение Томаса Манна к благоразумию буржуазии. Большая коалиция, в том виде, в котором ее требовал прусский министр-президент, столкнулась в сентябре 1930 г. с непреодолимыми препятствиями. Важнейшим среди них был отказ Гинденбурга вновь допустить СДПГ к участию во власти. От Экономической партии, равно как и от Немецкой народной партии также не стоило ожидать того, что они под впечатлением результатов сентябрьских выборов пересмотрят свой отказ заключитьправительственный союз с социал-демократами. У самих социал-демократов не только левое крыло, но и партийное руководство выступало против формальной Большой коалиции, которая должна была включать в себя, принимая во внимание новую ситуацию с большинством в рейхстаге, помимо ДФП, по крайней мере еще и Экономическую партию. Рудольф Гильфердинг, один из самых убежденных социал-демократов — государственников, пояснил 18 сентября 1930 г. статс-секретарю имперского министерства финансов Гансу Шефферу, почему СДПГ не может вступить в кабинет Брюнинга. «Необходимо, чтобы партия ни в коем случае не скомпрометировала себя в глазах рабочего класса до такой степени, что массы отшатнутся от нее. Тогда падет ее единственная опора»{428}. Для правительства Брюнинга расширение направо было исключено в такой же мере, как и налево. Коалиция с национал-социалистами была немыслима для Центра, БФП и Государственной партии. Командование рейхсвера и руководство Имперского союза немецкой промышленности в сентябре 1930 г. также не считали НСДАП партией, способной к управлению страной. Выступление Гитлера в качестве свидетеля на процессе в Ульме по обвинению в государственной измене офицеров рейхсвера Шерингера, Лудина и Вендта также поначалу не изменило ситуацию. Приглашенный на процесс свидетелем по запросу адвоката трех юных национал-социалистов, Гитлер под присягой заявил 25 сентября перед имперским судом, что НСДАП придет к власти только законным путем. После того как в ответ на это председатель суда сказал, что после победы национал-социалистов покатятся головы их противников, Гитлер добавил, что тогда законным путем будет создан Конституционный суд, который и осудит «преступников ноября» 1918 г. Таким образом, их казнь последует на совершенно законном основании{429}. Так как ни национал-социалисты, ни социал-демократы не могли рассматриваться в качестве правящей партии, кабинет Брюнинга, сформированный из представителей партий парламентского меньшинства, должен был озаботиться хотя бы получением поддержки толерантного парламентского большинства. Можно было исключить с самого начала, что НСДАП пойдет на какие-либо договоренности в этом отношении. Следовало также считаться с серьезными протестами против оказания поддержки Брюнингу и среди социал-демократов. От имени левого крыла социал-демократии депутат рейхстага Макс Зейдевиц непосредственно после выборов заявил на страницах журнала «Классенкампф», что намерения канцлера от партии Центра являются не менее фашистскими, чем методы, рекомендованные национал-социалистами, и поэтому непонятно, почему «социал-демократы в своей борьбе за демократию и против фашизма должны делать различие между фашизмом Брюнинга и фашизмом Гитлера». Но были слышны и другие голоса. В уже упоминавшемся разговоре с Шеффером Гильфердинг отметил 15 сентября, что самым правильным будет «сотрудничать вне рамок правительства, тогда можно будет обнадежить избирателей, что наступит день, когда все пойдет иначе». Также, как и Гильфердинг, думал Герман Мюллер, а после того как стало ясно, что Большая коалиция создана не будет, к ним также присоединились два важнейших деятеля прусской социал-демократии: Отто Браун и председатель фракции Ландтага Эрнст Хайльман{430}. 23 сентября 1930 г. в квартире Гильфердинга состоялась первая «совершенно секретная» беседа между Брюнингом и Германом Мюллером, в которой речь шла о будущем сотрудничестве. Неделей позже с рейхсканцлером встретились Мюллер и Веле. Встреча состоялась в квартире статс-секретаря Пюндера в районе Берлина Лихтерфельде. Хозяин квартиры зафиксировал результат встречи в своем дневнике поддатой 30 сентября: «После сегодняшнего обсуждения мне действительно кажется возможным, что социал-демократия поддержит кабинет Брюнинга во избежание правой диктатуры»{431}. В то время как руководство СДПГ в течение следующих дней пыталось убедить партию в необходимости выбрать меньшее из двух зол, рейхсканцлер предпринял шаги совсем в другом политическом направлении. 5 октября 1930 г. на квартире имперского министра Тревирануса он встретился с Гитлером и министром внутренних дел Тюрингии Фриком. Эта встреча стала возможной только в результате недавней «клятвы» Гитлера соблюдать законность. Приведенное в мемуарах Брюнинга утверждение о том, что в ходе этого разговора он посвятил вождя национал-социалистов в свои долгосрочные замыслы, в том числе план реставрации монархии, является в высшей степени сомнительным. Предположительно канцлер в первую очередь был заинтересован в том, чтобы отговорить Гитлера от призыва к незамедлительной ревизии плана Янга и к введению моратория на выплату Германией репараций. Оба требования вызывали крайнее беспокойство Брюнинга, так как они могли поставить под вопрос получение крупного иностранного кредита, о котором вело переговоры правительство. Однако попытка переубедить Гитлера закончилась ничем. Пюндер отметил в своем дневнике по поводу сообщения, сделанного Брифингом 7 октября Гинденбургу: «Национал-социалисты занимают принципиально иную точку зрения, прекрасно осознавая при этом катастрофические последствия своего предложения». И все же канцлер не хотел исключать на длительную перспективу возможность сотрудничества с национал-социалистами. В принципе, со временем, как заявил Брюнинг рейхспрезиденту, нельзя отклонять сотрудничество ни с одной из партий, если только эта партия умерит свои аппетиты и будет придерживаться закона{432}. Тем временем социал-демократы пришли к важному решению. 3 октября фракция партии в рейхстаге приняла резолюцию, уже в первом предложении которой были выражены актуальные приоритеты СДПГ: «Фракция Социал-демократической партии после прошедших выборов в рейхстаг в качестве своей первоочередной задачи рассматривает сохранение демократии, охрану конституции и парламентаризма». Далее говорилось, что социал-демократия борется за демократию в интересах защиты социальной политики и поднятия уровня жизни рабочего класса. «Только обеспечение функционирования строго конституционного правительства делает возможным сохранение рабочей занятости в целях смягчения экономического кризиса. Социал-демократическая фракция рейхстага выступает при соблюдении жизненных интересов трудящихся масс за обеспечение безопасности основ парламентаризма и решение насущнейших финансово-политических задач». Резолюция социал-демократической фракции не содержала явного одобрения новой программы экономии, принятой правительством 29 сентября, которая среди прочего предусматривала сокращение содержания чиновников на 6 % и рост страховых выплат по безработице с 4,5 % до 6,5 %. Однако для кабинета на данном этапе существеннее было то, что СДПГ объявила о своей готовности поддержать правительство в самых важных вопросах. Тем самым было нанесено поражение тому широкому течению в социал-демократии, которое считало более целесообразным допустить национал-социалистов к участию в правительстве, в результате чего те утратили бы свой авторитет. Решение от 3 октября 1930 г. означало победу политиков-реалистов, которые с самого начала преследовали двойную цель: недопущение правого правительства рейха, в котором скрытно или открыто участвовали бы национал-социалисты, а также сохранение коалиционного правительства СДПГ, Центра и Немецкой государственной партии в Пруссии{433}. 13 октября 1930 г. новоизбранный рейхстаг собрался на свое первое заседание, которое началось скандалом. Чтобы выразить свой протест против запрета на ношение униформы, наложенного прусским правительством, 107 депутатов НСДАП явились в зал заседаний в коричневых рубашках СА. В то же самое время перед рейхстагом собрались тысячи нацистов. «Если национал-социалисты могли надсмехаться над прусской полицией в здании рейхстага, то их соратники на улицах полагали, что им это тоже дозволено, — пишет Отто Браун в своих воспоминаниях. — В день открытия рейхстага они инсценировали маленький еврейский погром, разбивая витрины еврейских лавок, магазинов и кафе и оскорбляя прохожих — евреев. Эти безобразия сначала ошеломили прусскую полицию, но потом своим энергичным вмешательством она положила им конец». Через три дня Генрих Брюнинг выступил с правительственной декларацией. Важнейшим в послании канцлера было сообщение о том, что один из американских банковских консорциумов поставил условием предоставления краткосрочного кредита в размере 125 млн долларов принятие закона, который уполномочивал бы правительство лично провести данный заем, а также устанавливал бы условия его погашения. Это условие было важнейшим средством оказания давления на рейхстаг, и оно же в определенной степени давало правительству уверенность в успехе. В последовавших за этим дебатах Герман Мюллер заявил, что СДПГ не будет голосовать в поддержку запросов КПГ, НСДАП и ДНФП об отмене чрезвычайного постановления от 26 июля 1930 г. От имени НСДАП выступил Грегор Штрассер, руководитель имперской политической организации партии и брат отщепенца Отто Штрассера, который подчеркнул, что национал-социалисты, будучи «принципиальными антипарламентариями», должны сегодня в целях противостояния планам установления буржуазной диктатуры стать «практически защитниками веймарской конституции». «Мы теперь выступаем за демократию Веймара, мы выступаем за закон о защите республики, пока это в наших интересах. И мы будем столь долго требовать и сохранять за собой на демократической основе любую властную позицию, сколько мы этого хотим». Оратор от коммунистов, Вильгельм Пик, напротив, отказался облекать революционные планы своей партии во флер законности. Для того чтобы свергнуть проклятую систему капиталистической эксплуатации и рабства, имелся, по его словам, единственный путь: «Революция, а тем самым уничтожение капитализма и обезвреживание всех тех, кто является опорой этой системы. Это та задача, которую поставила себе коммунистическая партия, и придет день, когда рабочие массы и безработные под руководством коммунистической партии разгонят этот парламент дельцов и фашистов. Тогда на его месте будут созданы немецкие советы и сооружена диктатура пролетариата с тем, чтобы вместо этого прогнившего буржуазного общества и этой республики голода создать свободную социалистическую Советскую Германию». Поздним вечером 18 октября 1930 г. началось голосование в рейхстаге, все время прерываемое гвалтом. При поддержке голосов СДПГ был принят закон о погашении долгов, запросы об отмене чрезвычайного постановления были переданы на рассмотрение бюджетной комиссии, а также был одобрен запрос правительственной фракции — перейти к повестке дня без рассмотрения всех прочих запросов о выражении недоверия правительству. К проголосовавшим «за» в том числе относились депутаты от Экономической партии, которая еще 13 октября хотела отозвать из правительства члена партии, министра юстиции Бредта, чтобы не оставить тем самым сомнения в том, что она не рассматривает себя более в качестве правящей партии. Среди голосовавших против были немецкие националисты и члены Немецкой крестьянской партии, причем все представители крупного сельского хозяйства дали кабинету Брюнинга почувствовать свою враждебность. Ранним утром 19 октября было объявлено об отсрочке заседаний рейхстага до 3 декабря 1930 г. Правительство Брюнинга выиграло не только битву в парламенте, но и то, что было не менее ценным — время{434}. Приняв решение о поддержке Брюнинга, социал-демократы взвалили на себя тяжелое бремя. Тем самым они испытывали терпение своих сторонников и предложили своим противникам такую желанную для них позицию для атаки. От коммунистов социал-демократам приходилось теперь выслушивать, что поддерживая «диктатуру Брюнинга», они предают рабочий класс и способствуют процессу фашизации Германии. Национал-социалисты получили благодаря политике «толерантности» СДПГ шанс рекламировать себя как единственное действенное оппозиционное движение правее коммунистов. Так как рейхстаг начиная с осени 1930 г. еще в меньшей мере был выразителем демократических интересов, чем даже в кайзеровское время, народный протест все в большей степени должен был перемещаться на улицы. В борьбе за внепарламентскую мобилизацию масс могли успешно участвовать только те партии, которые сказали свое решительное «нет» режиму чрезвычайного законодательства. Поддерживая правительство Брюнинга, СДПГ собственными руками исключила себя из этого соревнования за завоевание масс. У социал-демократов не было альтернативы политике «толерантности» в отношении правительства Брюнинга до тех пор, пока они хотели удерживать власть в Пруссии — самую важную часть остававшихся в их руках государственных полномочий. В свою очередь, социал-демократы должны были утверждать свою власть в самой большой из немецких федеральных земель для того, чтобы иметь возможность эффективно бороться с национал-социалистами. В Пруссии же положение СДПГ зависело от позиции Центра — партии Брюнинга. Если бы социал-демократы пошли на свержение кабинета Брюнинга в масштабах рейха, то это с большой вероятностью означало бы скорое падение правительства Отто Брауна в Пруссии. Вместе с Брауном пришлось бы уйти также Карлу Северингу, который начиная с 31 октября 1930 г. снова стал министром внутренних дел Пруссии. Но вместе с Северингом СДПГ также утратила бы контроль над прусской полицией, важнейшим инструментом государственной власти в борьбе против национал-социализма{435}. Ту степень, в которой правящие в Пруссии социал-демократы зависели от благосклонности Центра, Брюнинг недвусмысленно продемонстрировал им в конце ноября 1930 г. Правительство подготовило очередное чрезвычайное постановление, которое, с одной стороны, означало новые социальные тяготы, с другой — в нем были зафиксированы определенные льготы, на которых настаивали социал-демократы. То, что национал-социалисты и немецкие националисты будут голосовать против, не вызывало сомнения. В таких обстоятельствах, как заявил Брюнинг, согласно протоколу заседания правительства от 30 ноября 1930 г., в котором также принял участие статс-секретарь государственного министерства Пруссии Вейсман, «социал-демократия обязана обеспечить правительству поддержку декрета большинством голосов. Если же социал-демократия не справится с этой задачей, то Центром будет поднят вопрос о коалиции в Пруссии. Он, рейхсканцлер, полагает, что и социал-демократия, и в особенности министр-президент Пруссии, полностью отдают себе в этом отчет. В свою очередь, статс-секретарь Вейсман подтвердил, что прусский министр-президент действительно полностью уяснил ситуацию». Но резоны, связанные с удержанием власти, не были тем единственным, что подвигло социал-демократов к поддержке Брюнинга. Между правительственным лагерем и СДПГ царило деловое согласие еще по одному центральному вопросу: для того чтобы преодолеть вредные последствия «экономики в кредит», была необходима крайняя бережливость. Слова, сказанные Брюнингом 27 ноября 1930 г. в выступлении перед главным комитетом Имперского союза немецкой промышленности, могли быть в равной степени приписаны также Брауну: «Те, кто полагает, что все нужды и ошибки во внутриполитической и экономической жизни Германии можно свести к вопросу о репарациях, по моему убеждению, вводят немецкий народ в заблуждение и тем самым препятствуют самопознанию немецкого народа. Они воздвигают барьеры на пути тех действий, которые мы в любом случае обязаны были предпринять, даже если бы не было никаких репараций… Лучше непопулярность на месяцы или даже на целый год, чем еще раз совершить ошибку и слишком рано взяться за разрешение вопроса»{436}. Неизменный консенсус по вопросу о необходимости санации финансов также объясняет, почему социал-демократы лишь весьма умеренно критиковали новое чрезвычайное постановление, подписанное Гинденбургом 1 декабря 1930 г. СДПГ удалось среди прочего добиться большей прогрессивности «гражданского налога», а также освобождения безработных от взимания сборов при медицинском страховании, но при этом социал-демократам пришлось смириться с рядом положений, ухудшавших социальную защищенность граждан: с сокращением содержания чиновников, решение о чем было принято правительством в конце сентября 1930 г., а также с новыми мерами по защите сельскохозяйственного производства, в том числе с более высокими таможенными пошлинами на ввоз пшеницы и ячменя. Организованные коммунистами «голодные демонстрации», которые также сопровождали заседание рейхстага 3 декабря 1930 г., не смогли впечатлить социал-демократов: 6 декабря пленум рейхстага голосами социал-демократов отклонил запросы как на отмену только что принятого чрезвычайного постановления, так и постановления от 26 июля 1930 г. На следующий день было принято решение о переносе заседаний рейхстага на 3 февраля 1931 г.{437} «Форвартс» с удовлетворением констатировала отправку рейхстага на каникулы. Спустя три месяца после выборов, как говорилось 13 декабря 1930 г. в передовице партийного органа социал-демократов, очевидно все уже разделяют мнение о том, «что этот рейхстаг является ублюдком и можно только радоваться, если его не видно и не слышно». Эрнст Хайльман, председатель фракции в прусском ландтаге, который одновременно обладал мандатом депутата рейхстага, полагал, что рейхстаг, имеющий в своем составе 107 национал-социалистов и 77 коммунистов, не может в действительности продуктивно работать. «Народ, который избирает подобный рейхстаг, тем самым гарантированно отказывается от самоуправления. Его право законодателя автоматически заменяется 48 статьей. С этим обстоятельством, в высшей степени печальным для каждого друга демократии, необходимо смириться до тех пор, пока немецкий народ не станет способен вновь сделать разумный выбор». Отто Браун вспоминал в своем выступлении по радио 17 декабря 1930 г. о том, что во времена президентства Фридриха Эберта он боролся против любого неправомерного использования 48-й статьи конституции: «Я не хотел и не хочу, чтобы демократические принципы конституции превращались тем самым в свою противоположность, чтобы таким путем поощрялся произвол. Однако предпосылкой такой позиции является способность и желание главного фактора политической власти, который знает конституция — избранного народом парламента — выполнять задачи, возложенные на него конституцией и являющиеся жизненно важными для народа. Если же парламент оказывается неспособным справиться с этими задачами, отчасти в результате наличия в его составе антидемократических групп, то тогда, и исключительно только тогда, должен быть подан политический сигнал бедствия, а аварийный вентиль конституции открыт на столь длительное время, пока не будет устранено то чрезвычайное положение, с которым сам парламент не мог или не захотел справиться». «Форвартс» опубликовала речь Брауна подзаголовком «Наставление в демократии»{438}. Исходным пунктом, лежавшим в основе политики «толерантности» социал-демократии, была уверенность в том, что правительство Брюнинга будет удерживать национал-социалистов на расстоянии от власти. Но в конце 1930 г. нарастали события, вступавшие в противоречие с этим предположением. Так, рейхсминистр внутренних дел Вирт не смог добиться в правительстве в конце октября 1930 г. поддержки своего намерения заблокировать денежные средства полиции федеральной земли Брауншвейг, которая к тому моменту уже в течение четырех недель подчинялась министру внутренних дел — национал-социалисту. 10 ноября 1930 г. министр рейхсвера Грёнер запросил рейхсканцлера о принятии кабинетом «решения большой политической важности»: о законности или незаконности деятельности НСДАП. До этого момента военное министерство придерживалось политики, согласно которой члены НСДАП изгонялись с военных предприятий. Но теперь Грёнера обуяли сомнения: Гитлер поклялся в том, что будет бороться за власть только законными методами, а рейхсканцлер сам встречался с вождем национал-социалистов для ведения официальных переговоров. Во время беседы Брюнинга и Грёнера, состоявшейся 19 декабря 1930 г. по просьбе последнего, рейхсканцлер заявил, что кабинет в настоящий момент все еще не готов занять окончательную позицию по вопросу законности или незаконности деятельности НСДАП: «В любом случае имперское правительство должно стараться избегать применения в отношении национал-социалистов тех же самых ошибочных методов, которые применялись в довоенное время против социал-демократов. На месте министра рейхсвера он бы пока больше не заботился вопросами партийной принадлежности рабочих, занятых на военном производстве». В отношении пограничной стражи Брюнинг также высказался за великодушную практику: хотя ни в Верхней Силезии, ни в иных местах не допускалось формирование подразделений, целиком состоявших из национал-социалистов, тем не менее в них могли приниматься отдельные члены НСДАП. Согласно протоколу, правительство «не высказало каких-либо возражений в отношении этой принципиальной позиции господина рейхсканцлера». Недооценке национал-социалистической опасности соответствовала переоценка угрозы, исходящей от коммунистов. 12 декабря 1930 г. канцлер, выступая перед руководством фракции Центра, охарактеризовал КПГ как более опасную партию, а Каас добавил, что ведущие социал-демократы, а среди них и новый министр внутренних дел Пруссии Северинг, разделяют эту точку зрения. Подобной характеристике КПГ была обязана в первую очередь себе самой. В то время как НСДАП создала в обществе впечатление, что она стремится к власти только на строго законных основаниях, коммунисты снова и снова подчеркивали, что они полны решимости достичь своей главной цели — «Советской Германии» — революционными средствами, включая те, которые Вильгельм Пик в своем выступлении в рейхстаге 17 октября охарактеризовал как «обезвреживание» всех, кто является опорой капиталистической системы. В действительности же, по мнению Сталина, в Германии на повестке дня стояло растущее разложение капиталистического общества, но еще не коммунистическая революция. Но тот страх, который вызывали коммунисты, от этого не был менее реальным, и никто от этого не выигрывал больше, чем радикальные противники коммунистов — национал-социалисты{439}. О том, чтобы политическая радикализация не пошла на убыль в новом году, позаботилась также растущая безработица: в середине января 1931 г. с цифрой 4 млн 765 тыс. безработных был установлен новый печальный рекорд. Газеты почти ежедневно сообщали о новых столкновениях на улицах и в помещениях, которые нередко приводили к человеческим жертвам. И все же политическая жизнь Германии была наполнена не только борьбой правых и левых экстремистских сил. Параллельно с поляризацией наблюдалась, скорее, определенная стабилизация политического положения. Уже в декабре 1930 г. Брюнинг в ходе доверительных разговоров с правящими партиями и СДПГ обсудил возможность того, как положить предел неправомерному использованию национал-социалистами и коммунистами парламентской трибуны в агитационных интересах. В январе 1931 г. эти переговоры продолжились и были завершены 3 февраля, в день, когда рейхстаг после каникул собрался на свое первое заседание. Их результатом стал запрос об изменении регламента работы рейхстага, содержавший два важных новшества. Первое должно было обуздать готовность рейхстага давать свое согласие на ассигнование дополнительных бюджетных средств: все запросы, имевшие своим следствием повышение расходов или понижение финансовых поступлений, должны были сопровождаться предложениями об источниках покрытия возникавшего дефицита; первоначально они должны были быть адресованы компетентным комиссиям рейхстага и подлежали рассмотрению только вместе с соответствующими им разделами бюджета. Второе изменение должно было положить конец провокационным запросам о недоверии к правительству — подобные тому, который национал-социалисты внесли в рейхстаг в декабре 1930 г. с единственной целью — чтобы поставить в затруднительное положение и скомпрометировать другие партии, в особенности социал-демократов. В будущем допускалась только одна формулировка, которая лапидарно констатировала, что рейхстаг лишает своего доверия имперское правительство или одного из его министров. К этому добавлялось изменение закона о печати, которое должно было положить конец злоупотреблению депутатским иммунитетом, что практиковалось прежде всего коммунистами и национал-социалистами: впредь депутатам рейхстага было запрещено подписывать в тираж газету или журнал в роли ответственного редактора. Ответные громкие протесты КПГ, НСДАП и ДНФП не принесли результата. Ранним утром 10 февраля 1931 г. рейхстаг принял законопроект 297 голосами «за». Голосов, поданных «против», зафиксировано не было: радикальные оппозиционные партии не участвовали в голосовании. На следующем заседании, состоявшемся в тот же день после обеда, национал-социалисты заявили, что ввиду «организованного нарушения конституции» они покидают этот «так называемый рейхстаг». Так как немецкие националисты поддержали этот шаг, рейхстагу было суждено пережить в течение нескольких недель в своем роде возвращение к нормальной деятельности. Роль радикальной оппозиции во время бойкота парламента правыми партиями исполняли только коммунисты{440}. Отсутствие радикальных партий одним разом изменило соотношение большинства в рейхстаге. Теоретически теперь имелось «марксистское» большинство голосов: 206 буржуазным депутатам противостояли 230 социал-демократов и коммунистов. С самого начала было очевидно, что эти новые обстоятельства принесут с собой большие проблемы для СДПГ. Когда бы коммунисты ни пожелали выставить социал-демократов в роли покорной части правительственного лагеря, они всегда могли это сделать. Почти идеальный повод для этого давала во время предстоящих обсуждений государственного бюджета 1930 г. весьма спорная статья финансирования, а именно затребованная министром рейхсвера и одобренная правительством первая субсидия на строительство броненосца «Б». Спор вокруг броненосца «А» шел два с половиной года назад, и если уже тогда, осенью 1928 г., против строительства судна говорили социальные причины, то весной 1931 г. эти возражения стали еще более весомыми. Но социал-демократы также знали, каковы будут последствия их «нет» решению правительства по поводу броненосца «Б»: отставка не только Грёнера, но и Брюнинга. Тем самым на кону оказывался весь успех политики «толерантности»: отказ от субсидирования строительства броненосца мог привести к формированию правого правительства. Хотя Брюнинг предложил СДПГ на случай, если она смирится со строительством второго броненосного крейсера, только незначительные уступки, социал-демократы в конце концов приняли решение воздержаться в ходе решающего голосования 20 марта 1931 г. Однако далеко не все депутаты выполнили решение партии. 29 депутатов не участвовали в голосовании, 9 депутатов, все без исключения левые, вместе с коммунистами голосовали «против». Это был серьезнейший случай нарушения партийной дисциплины с момента раскола партии во время Первой мировой войны. И все же все голосовавшие «против» депутаты-уклонисты, за исключением одного, получили поддержку своих партийных подразделений, в трех случаях вплоть до уровня окружного комитета партии. Однако нельзя говорить и о широкой волне солидарности с ними. Нарушение партийной дисциплины, последствиями которого должен был теперь заняться следующий партийный съезд в Лейпциге в начале июня 1931 г., пользовалось среди широких масс социал-демократии еще меньшей популярностью, чем броненосный крейсер, ставший на тот момент самой большой платой за политику «толерантности»{441}. В тот же день, 20 марта 1931 г., когда СДПГ устранила возможные преграды на пути строительства броненосца «Б», от запущенной болезни желчного пузыря скончался неутомимый защитник политики «толерантности», бывший рейхсканцлер Герман Мюллер. Председатель СДПГ, отметивший за два до этого свое 55-летие, не стал великим деятелем в истории немецкой социал-демократии. Он не был человеком смелых концепций, и уж тем более харизматическим вождем. Но он был первым слугой своей партии, человеком компромисса и долга. В качестве рейхсканцлера в 1928–1930 гг. он делал все от него зависящее, и за тот год, который ему еще оставался после падения его правительства, он сделал все, чтобы не допустить разрушения мостов, связывавших социал-демократию и умеренные силы буржуазии. Брюнинг осознавал, чем он был обязан Герману Мюллеру. В рейхстаге канцлер вспомнил о том, как сильно страдал Мюллер от того, что будучи министром иностранных дел Германии, он должен был 28 июня 1919 г. поставить свою подпись под Версальским договором. Брюнинг назвал своего предшественника на посту канцлера «национальным деятелем, преданным своему отечеству до мозга костей», чем глубоко тронул социал-демократов. После того как рейхсканцлер окончил речь, Веле и Брейтшейд подошли к нему, чтобы выразить благодарность всей фракции. Когда 26 марта 1931 г. траурное шествие берлинских социал-демократов во главе с катафалком достигло переднего двора резиденции рейхспрезидента, на наружной лестнице дворца появился одетый во все черное Гинденбург и обнажил голову. Министру рейхсвера Грёнеру стоило большого труда добиться от рейхспрезидента этого личного жеста в адрес последнего канцлера рейха — социал-демократа{442}. Рейхстаг в этот момент снова находился на каникулах, которые должны были растянуться на длительное время — до 13 октября 1931 г. Брюнинг пытался добиться, чтобы каникулы продолжались еще дольше, до ноября, но потом все же пошел навстречу протестующим социал-демократам. Правительство, в свою очередь, по мере сил пыталось использовать ту свободу действий, которую оно получило благодаря утверждению государственного бюджета 1931 г. и временному «самоотречению» рейхстага. 28 марта 1931 г., спустя два дня после начала внеочередных летних парламентских каникул, рейхспрезидент подписал чрезвычайный декрет о борьбе с политическими бесчинствами. Этот декрет в большей степени затронул коммунистов, чем национал-социалистов. Так, в первые три месяца после его подписания было зафиксировано в общей сложности 3418 полицейских акций или мероприятий органов уголовного преследования по поводу политических эксцессов, из них в 2027 случаях речь шла о КПГ. При этом в данную статистику не попали случаи, связанные с «дочерними» организациями компартии. Только политическая предвзятость полиции и органов юстиции не может служить объяснением того, почему именно КПГ стала стороной, преимущественно пострадавшей в результате введения нового декрета. Налицо была не только пропагандировавшаяся руководством КПГ «оборонительная борьба против фашизма», к арсеналу которой относились акции бойкота, демонстрации и забастовки квартиросъемщиков, но и бесчисленные случаи индивидуального террора против сторонников Гитлера. Партийное руководство не одобряло подобные действия и поэтому уже в июне 1930 г. отказалось от провозглашенного осенью прошлого года лозунга «Бей фашистов там, где встретишь». Оно также официально разрешило ношение огнестрельного оружия только членам «Союза красных фронтовиков», позиционировавшего себя как авангард Красной армии и продолжавшего существовать нелегально после запрета в мае 1929 г., а также участникам основанной в 1931 г. партийной самообороны — тайной организации, чьей задачей была защита ведущих функционеров и учреждений партии. Но повседневный антифашизм не поддавался эффективному контролю сверху. Даже в столице Германии, где располагался центральный комитет КПГ, многое случалось помимо или против воли партии. То, что это происходило так, а не иначе, было тесно связано с социальными изменениями 1920-х гг. Старые рабочие кварталы стали еще более «пролетарскими» вследствие переселения из них более высокооплачиваемых рабочих в городские районы, где жилищная нужда не была столь острой как в Веддинге или во Фридрихсхайне. Чисто рабочие кварталы стали в начале 1930-х гг. цитаделями безработицы, а значит, также и коммунистов. Вместе с ростом числа безработных росло число жителей, проводивших в трущобах все дни напролет. Активные молодые коммунисты и безработная молодежь из «диких клик» стремились защитить этот мирок против полувоенной организации национал-социалистов — СА. Начиная с 1929 г. «коричневые батальоны» Гитлера в усиленном режиме перешли к основанию своих опорных пунктов на «вражеской» пролетарской земле. С каждой «коммунистической» пивной, становившейся «штурмовой» закусочной, кусок родной земли переходил в руки классового врага, а в качестве пособника классового противника, как правило, фигурировал член СА, который сам был рабочим и жил в том же самом квартале. Тот, кто так думал, слишком легко воспринимал ранение или даже убийство врага как оправданный поступок. Но кто был нападавшей стороной в каждом конкретном случае — национал-социалисты или коммунисты, — установить зачастую было невозможно. Как бы то ни было, политические убийства практиковались в большом количестве в начале 1930-х гг. обеими сторонами. Жертвой подобного преступления стал Хорст Вессель, штурмфюрер СА в Берлине. Его убийца, сутенер Али Хёлер, не был членом КПГ, но коммунисты использовали его против Весселя. Национал-социалисты, в свою очередь, не отставали от коммунистов в физической жестокости. 14 марта 1931 г., за несколько дней до издания нового декрета, три члена гамбургской организации НСДАП по ошибке убили депутата городского парламента коммуниста Эрнста Хеннинга: убийцы перепутали парламентария с местным лидером «Союза красных фронтовиков». И это только один из примеров{443}. Национал-социалисты протестовали против декрета Гинденбурга столь же бурно, как и коммунисты. Но для внутрипартийного пользования Гитлер отдал приказ, согласно которому члены НСДАП не должны были формально нарушать этот декрет, тем самым вызвав мятеж оберфюрера берлинских штурмовых отрядов Вальтера Штеннеса. Бунт был быстро подавлен, и хотя СА в результате в еще большей степени перешла под влияние Гитлера, все же осталось впечатление того, что курс НСДАП на легальность, как и раньше, оспаривается в ее собственных рядах. В это же время национал-социалисты должны были смириться с тяжелым поражением в Тюрингии: 1 апреля 1931 г. ландтаг сверг с поста министра внутренних дел и образования Вильгельма Фрика. ДФП, которая сыграла в этом решающую роль, обосновала свою позицию тем, что НСДАП, которая стремится быть движением, а не партией, показала себя на практике самой партийной из всех партий. Помимо этого, с точки зрения НСДАП нежелательное действие оказал выход национал-социалистов из рейхстага: общественное внимание к ним ослабло. В результате весной 1931 г. НСДАП, как казалось, была намного дальше от государственной власти, чем за полгода до этого{444}. Признаки поворота к лучшему появились также и в экономике. Газета «Геверкшафтс-Цайтунг», орган АДГБ, с удовлетворением констатировала в апреле 1931 г., что уже в течение нескольких недель не происходило движения экономической кривой вниз, и, таким образом, возможно пик кризиса уже был достигнут. На самом деле курсы ценных бумаг, в первую очередь приносящих твердый процент, в предшествовавшие дни даже поднялись, и число безработных в апреле 1931 г., по сравнению с мартом, сократилось чуть больше, чем в апреле 1930 г. Данный в конце мая прогноз «Геверкшафтс-Цайтунг» звучал сдержанно оптимистически: «В этом году также можно считаться с дальнейшим сезонным расширением экономической активности, хотя, принимая во внимание общее экономическое положение, это расширение будет происходить в довольно узких рамках»{445}. Однако при более детальном анализе ситуации оснований рассчитывать на скорое завершение кризиса не было. В начале марта министр финансов рейха Дитрих озвучил дефицит государственной казны за первый квартал 1931 г. в размере 430 млн рейхсмарок. К этой сумме добавлялись еще 83 млн рейхсмарок краткосрочного кредита в пользу Имперского учреждения по рабочему посредничеству и страхованию безработных, которое, несмотря на повышение страховых взносов в октябре 1930 г. с 4,5 % до 6,5 %, больше было не в состоянии исполнять свои предписанные законом обязанности. 23 апреля Дитрих сообщил кабинету, что из-за потерь, понесенных доходной частью бюджета 1931 г., его расходная часть должна быть сокращена на 440 млн рейхсмарок. Необеспеченные потребности государственной кассы должны были составить в мае 90 млн, в июне — около 180 млн рейхсмарок. Состояние государственных финансов весной 1931 г. было в действительности настолько угрожающим, что правительство более не желало медлить с подготовкой нового чрезвычайного закона. СДПГ, чья поддержка имела решающее значение для дальнейшей судьбы закона, придерживалась в данном пункте тех же взглядов, что и правительство. Однако представители социал-демократической фракции в рейхстаге выступали против точки зрения Брюнинга и Дитриха, согласно которой дефицит должен был быть ликвидирован не за счет повышения сборов, но только за счет экономии. Председатель фракции СДПГ Брейтшейд настолько высоко оценивал опасность того, что запланированный декрет будет означать новые социальные тяготы, что 29 апреля 1931 г. пригрозил канцлеру созывом рейхстага. Прусские социал-демократы Браун и Северинг, напротив, представляли в мае диаметрально противоположную точку зрения: лучше сделать все необходимое, заявили они Брюнингу, какими бы болезненными ни были эти меры, одним ударом, вместо того, чтобы зимой снова прибегать к чрезвычайному законодательству, с которым социал-демократы, возможно, не смогут уже больше мириться{446}. Что касается момента, к которому следовало приурочить декрет, то рейхсканцлер остановился на 7 мая 1931 г., обосновав это следующим образом: декрет должен был быть опубликован до уже неоднократно отодвигавшейся немецко-британской встречи в Чекерсе, «чтобы Англия видела, в каком положении находится Германия». В намерениях Брюнинга можно было не сомневаться: благодаря самым жестким мерам экономии Лондон должен был быть убежден в том, что Германия прилагает все силы на грани возможности для того, чтобы выполнять свои обязательства по репарациям, но в результате этого все глубже и глубже погружается в кризис, что, в свою очередь, окажет разрушительное воздействие на мировую экономику. Однако канцлер, как и прежде, отказывался «сорвать» репарационный «стоп-кран». Все изменения выплат должны были быть отсрочены до того момента, пока в США не будет избран новый президент, во Франции — парламент и пока не закончится конференция по разоружению — три события, которые ожидались только в 1932 г. До этого, а точнее сказать, до вступления в должность нового президента Соединенных Штатов Америки в марте 1933 г., требовалось продержаться любой ценой. Таким образом, главный политический приоритет Брюнинга был налицо: с репарациями должно было быть покончено раз и навсегда. Если бы канцлер мог единолично контролировать процесс, он перенес бы решение проблемы на весну или даже лето 1932 г. Но он прекрасно осознавал, что исходя из внутриполитической ситуации невозможно продержаться так долго. Поэтому Брюнинг намеревался сделать в июне первый шаг, а именно объявить об отсрочке трансферта защищенной части ежегодной выплаты. В соответствии с планом Янга подобное заявление должно было последовать не позднее, чем за 90 дней. От отсрочки платежа канцлер ожидал не столько существенного облегчения для государственного бюджета, сколько определенного успокоения общественного мнения. В то время как Брюнинг на самом деле трудился над долгосрочным и радикальным решением вопроса в целом, немецкий народ должен был полагать, что правительство делает все от него зависящее для того, чтобы добиться краткосрочного смягчения репарационного бремени. Но политическая линия канцлера встретила не только одобрение. Во время совещания министров, состоявшегося 30 мая 1931 г., президент рейхсбанка Лютер, который и без того полагал, что время для политических шагов в отношении репараций еще не пришло, выступил против позиции рейхсканцлера. Он считал, что двойная игра Брюнинга уже потому не будет иметь шансов на успех, что «заграница в конце концов узнает правду». Но главный аргумент верховного хранителя марки заключался в том, что если рейх объявит об отсрочке трансферта, то в первую очередь пострадает немецкий кредит. Противоположный довод против тактики Брюнинга привел министр внутренних дел Германии Вирт. На том же самом заседании он представил точку зрения, согласно которой «внутриполитическую ситуацию не удастся долго удерживать под контролем. Ни одна диктатура не сможет объяснить народу, почему вопрос о репарациях должен быть отложен». Поэтому он полагал, что «лучше прийти к промежуточному решению в этом году, чем в следующем оказаться вообще не в состоянии решить проблему». Брюнинг тотчас же дал отпор своим критикам. Он ни в коем случае не согласится на промежуточное решение проблемы, заявил канцлер, которое будет заключаться либо в дополнительных натуральных выплатах, либо в получении займа, «т. к. подобное решение означает не что иное, как политически связать себя обязательствами сроком на 5 лет». В этом отношении Брюнинг и Лютер были полностью едины. Президент рейхсбанка выступил в защиту рейхсканцлера, заявив следующее: «Решение, согласно которому мы получим зимой списание с нашего долга 100 млн, без того, чтобы добиться разрешения вопроса в целом, повлечет за собой еще худшую ситуацию, чем та, в которой мы все сейчас находимся»noreferrer">{447}. Промежуточное решение в том виде, к какому призывал Вирт, было реальной альтернативой политики «все или ничего», сторонниками которой выступали Брюнинг и Лютер. Предложение министра внутренних дел во многом совпадало с позиций, которую отстаивали социал-демократы. Но осуществить подобное решение было возможно только на пути взаимопонимания с капиталистической Францией. Для того чтобы побудить Париж ко встречным шагам по проблеме репараций и предоставлению займа, Германия для начала должна была отложить в сторону свои требования по пересмотру Версальского договора, а именно требование военного равноправия, а также, возможно, отказаться от продолжения строительства броненосца «Б». Но прежде всего было необходимо сдать в архив план, который только что, 18 марта 1931 г., был одобрен имперским правительством — план таможенного союза с Австрией. Решение об экспертизе этого проекта было принято еще годом ранее правительством Большой коалиции. С самого начала было очевидно, что западные державы, в первую очередь Франция, увидят в нем намерение изменить политический курс Германии в направлении создания «Великой Германии», т. е. подготовку полного присоединения Австрии. Фактически именно к этому и стремился архитектор таможенного союза и министр иностранных дел Германии Куртиус. 16 марта 1931 г. он заявил правительству, что «политически присоединение еще не назрело, но экономически оно может быть уже теперь решительно поддержано, при условии весьма осторожного учета внешнеполитических сложностей, связанных с такой процедурой». Но присоединение Австрии было только промежуточной целью. Таможенный союз необходимо было рассматривать в гораздо более широком контексте усиления немецкого влияния на страны «Межевропы»[53] — средние и малые государства от Финляндии до Балкан. Торгово-политическое объединение Берлина и Вены должно было также в существенной степени облегчить Германии продвижение своих позиций в Южной Европе. Таким образом, таможенный союз был важным шагом в направлении Центральной Европы, находящейся под немецким влиянием, а возможно, даже для достижения континентальной гегемонии Германии. Именно поэтому Париж должен был рассматривать решение от 18 марта 1931 г. как целенаправленный вызов. Не имело смысла даже помыслить о германско-французском соглашении по вопросу о репарациях, пока правительство рейха поддерживало идею таможенного союза. Как реакцию на немецкую политику многие наблюдатели восприняли поражение, которое 13 мая во время выборов президента Французской республики потерпел защитник немецко-французского сближения Аристид Бриан. Президентом Франции был избран Поль Думер, возглавлявший до этого сенат. Куртиус должен был 18 мая на заседании Совета Лиги Наций в Женеве смириться с тем, что по требованию Великобритании вопрос о таможенном союзе был передан для проведения дополнительной экспертизы международному суду в Гааге, а Австрия обязалась до окончания рассмотрения вопроса не вести дальнейшие переговоры в этом направлении. Судьи должны были установить то, в чем, по мнению Парижа, Лондона и Рима, и так не было никаких сомнений: таможенный союз противоречил Женевскому протоколу об экономическом и финансовом восстановлении Австрии 1922 г., т. е. международному праву. На практике это означало крах плана таможенного союза. Единственное, чего министр иностранных дел Куртиус и госсекретарь фон Бюлов добились своим вильгельмианским замыслом, так это тяжелого дипломатического поражения Германии и длительного ухудшения отношений с Францией. Так как кабинет Брюнинга поддержал план таможенного союза, то другие министры во главе с рейхсканцлером также несли ответственность за последствия решения, которое было как будто специально задумано с целью убедить Европу в отсутствии у немцев политического такта и дальновидности{448}. В самой Германии раздавалось не так много критики в адрес политики, приведшей к поражению в Женеве. Нападок справа на таможенный союз в любом случае ожидать не приходилось, но и социал-демократы, издавна настроенные «пангермански», держались весьма сдержанно. Одним из немногих, плывших против течения, был гессенский депутат рейхстага Карло Мирендорф, один из «юных правых» в СДПГ. В середине апреля 1931 г., т. е. еще до принятия решения Советом Лиги Наций, он бичевал в «Социалистишен Монатсхефтен» таможенный союз, «болтовню о ревизии» и «сумбурную бесплановость» правительственной политики и требовал от Германии «набраться мужества для широкого соглашения с Францией, что, в свою очередь, будет означать начало создания Объединенного Европейского континента». От критики немецкой внешней политики Мирендорф перешел к общей критике политики Брюнинга и также, хотя и осторожно, политики «толерантности» СДПГ. «С озабоченностью мы отмечаем среди комплекса правительственных мер, намеченных на лето, исключительно средства обычного фискального характера. Это управление, а не политика. Это административный схематизм, а не творческая политическая мысль, смело разрывающая порочный круг. Социал-демократия должна в высшей степени внимательно наблюдать за всеми процессами для того, чтобы иметь возможность своевременно вмешаться. Смыслом “толерантности” не может быть просто примирение со всем, что исходит “сверху”. Границы “толерантности” лежат там, где ошибка или бездействие ставят под вопрос успех подобной политики»{449}. На съезде социал-демократов, проходившем 31 мая — 5 июня 1931 г. в Лейпциге, прозвучало много критики в адрес политики «толерантности», но еще больше аплодисментов снискал главный тезис ее защитников. «Нам удалось удержать национал-социализм на расстоянии от государственной власти, — заявил Вильгельм Зольман, заместитель председателя фракции рейхстага, — и если в октябре 1930 г. у нас получилось воспрепятствовать сдаче в руки национал-социалистов президиума рейхстага, рейхсвера и полиции, то я полагаю, никакая частная критика не должна помешать констатировать следующее: это не просто большой, это европейский успех немецкой социал — демократии». Поведение девяти депутатов рейхстага, голосовавших 20 марта 1931 г. против броненосца «Б», вызвало порицание большинства делегатов съезда. СДПГ приняла решение в будущем расценивать подобные нарушения дисциплины как поведение, наносящее вред партии и карающееся исключением из ее рядов. Одобрив проводившуюся партией политику «толерантности», социал-демократы тем не менее не стремились выдать правительству карт-бланш. Подавляющим большинством голосов партийный съезд одобрил предложение берлинской организации, согласно которому СДПГ угрожала правительству Брюнинга прекращением политики «толерантности» в случае, если новый чрезвычайный декрет будет предусматривать дальнейшее сокращение социальных отчислений в сфере страхования по безработице{450}. Возможность проверить серьезность своих намерений СДПГ получила незамедлительно. Уже давно ожидавшийся декрет был подписан рейхспрезидентом фон Гинденбургом 5 июня 1931 г. — вдень окончания Лейпцигского съезда немецкой социал-демократии.Глава XIV Политика депрессии
Газеты, вышедшие 6 июня 1931 г., были обязаны своими броскими заголовками не только «Второму чрезвычайному постановлению об обеспечении экономики и финансов». Внимание читателей также привлек призыв имперского правительства, сопровождавший постановление. В нем с неслыханной доселе резкостью кабинет Брюнинга бичевал «выплату дани», т. е. репараций, ослаблявших Германию в качестве покупателя и заставлявших ее душить свой импорт: «Мы сделали все, чтобы выполнить наши обязательства по результатам проигранной войны. Для этого мы также задействовали в большом объеме зарубежную помощь. Теперь это невозможно. Использование последних сил и резервов всех слоев населения дает немецкому правительству право и накладывает на него обязательство перед собственным народом заявить всему миру: граница лишений, возложенных нами на наш народ, достигнута!» Социальные тяготы, которые принес с собой декрет, на деле превзошли все самые худшие ожидания. Гражданские инвалиды и инвалиды войны получали теперь более низкие пенсии; размеры основного пособия по безработице были в среднем сокращены на 10–12 %, и соответственно автоматически снижались размеры пособия кризисного обеспечения — страховой сети, в которую попадали безработные в случае, если по истечении 26 недель, а в условиях особенно тяжелой ситуации на рабочем рынке — по истечении 39 недель, они были «сняты» с основного пособия или если они недостаточно долго работали, чтобы иметь право на его получение[54]. Так как подобного сокращения социальных льгот было еще недостаточно для того, чтобы покрыть нехватку кризисного обеспечения в размере 245 млн рейхсмарок, декрет предусматривал введение нового кризисного налога, который должен был взиматься в виде надбавки к подоходному налогу. Возврат переплаты с уплаченного подоходного налога не предусматривался. Чиновники и служащие в очередной раз должны были смириться с сокращением жалованья, которое составляло от 4 до 8 % от их прежнего содержания в зависимости от размеров заработной платы и зонального тарифного оклада. Сокращение жалованья чиновникам и отказ от возврата подоходного налога должны были в первую очередь помочь общинам, которым приходилось нести все возрастающие тяготы по обеспечению так называемых «благотворительных» безработных — низшего слоя безработных, который составляли лица, утратившие право претендовать даже на пособие кризисного обеспечения. Что же касается мер социальной поддержки, отраженных в декрете, то они были весьма скромными. Имперские железные дороги должны были разместить заказы на сумму в 200 млн рейхсмарок для того, чтобы создать 120 тыс. рабочих мест. В остальном общественные работы были предусмотрены только в рамках организации Добровольной трудовой повинности, находившейся в компетенции Имперского учреждения по посредничеству в сфере занятости и страхованию безработных. К сфере деятельности Добровольной трудовой повинности относилось устройство небольших садово-огородных участков и участков для заселения, мелиорация земель, совершенствование местных коммуникаций, а также работы, «служащие улучшению народного здоровья». Эти целевые установки соответствовали тому, чего уже давно требовали правые военизированные союзы типа «Стального шлема», и теперь эти союзы были официально приглашены принять участие в деятельности Добровольной трудовой повинности{451}. Если правительство Брюнинга и полагало, что прилагавшийся «призыв против выплаты дани» приглушит возмущение по поводу свежеиспеченного декрета или переключит его на проблему репараций, то оно заблуждалось. Протесты посыпались из всех политических лагерей. Коммунисты и национал-социалисты, немецкие националисты и Экономическая партия потребовали созыва рейхстага. «Форвартс» назвала само собой разумеющимся то, что социал-демократы будут бороться против антиобщественного содержания свежеиспеченного декрета. Фракция Немецкой государственной партии — партии министра финансов Дитриха, заявила, что она расценивает наиболее важные части декрета неудачными, и даже в собственной партии Брюнинга раздавались протесты: рабочие комитеты Партии Центра, собравшиеся на конференцию в Дуйсбурге, выразили надежду, что правительство рейха найдет «возможность для устранения столь несправедливой суровости»{452}. Рейхсканцлер Брюнинг, который нес личную ответственность за декрет, с 5 по 9 июня 1931 г. находился вместе с министром иностранных дел Куртиусом в Англии. 6–7 июня в Чекерсе, официальной загородной резиденции премьер-министра Великобритании, состоялась первая официальная послевоенная немецко-британская правительственная встреча. Ее важной темой стало вышеупомянутое обращение по вопросу репараций, которое как нарочно было опубликовано в первый день работы конференции. Премьер-министр Макдональд и министр иностранных дел Гендерсон расценивали немецкое заявление как роковую ошибку. Гендерсон солидаризовался с отзывом своего американского коллеги Стимсона, согласно которому Германия в результате этого шага потеряет больше чем то, что она ожидает получить от послаблений в вопросе репараций. В конце концов Брюнинг и Куртиус увезли с собой из Чекерса несколько больше, чем рекомендацию Гендерсона, согласно которой Германия должна была по вопросу репараций договариваться с Францией. Британская сторона отнюдь не встала на немецкую точку зрения, но дала понять, что она не имеет принципиальных возражений в отношении запроса на введение моратория на репарационный трансферт, с которым Брюнинг намеревался выступить в ближайшее время. Возвращение в Берлин превратилось для Брюнинга в чистую муку. Поезд особого назначения, который привез канцлера и министра иностранных дел из Бремерхафена в столицу, национал-социалисты встречали на всех станциях бранью и забрасывали камнями. На берлинском вокзале Фридрихштрассе Брюнинга также ожидали тысячи приверженцев Гитлера. Когда канцлер вышел из здания вокзала, его встретили свистом и криками неодобрения. Только благодаря оцеплению, выставленному прусской полицией, удалось избежать серьезных инцидентов{453}. Сразу вслед за этим Брюнинг узнал от вице-канцлера Дитриха и статс-секретарей Мейснера и Пюндера, насколько ухудшилась ситуация за время его отсутствия: за предшествующие восемь дней отток валюты постоянно увеличивался. На следующий день президент рейхсбанка Лютер озвучил канцлеру размеры потерь, понесенных финансовой системой начиная с 26 мая, оценив их в сумме 600 млн рейхсмарок. На последовавшем вслед за этим совещании министров в качестве одной из причин подобного развития событий Лютер назвал произошедший 11 мая 1931 г. крах банка «Кредитанштальт». Но президент рейхсбанка не оставил также никаких сомнений в том, что призыв имперского правительства «против выплаты дани» внес свой существенный негативный вклад в это развитие ситуации: слухи о немецкой инициативе в репарационном вопросе и скорый мораторий трансферта повредили как зарубежному кредиту Германии, так и внутреннему состоянию ее денежного. рынка. Схожее воздействие произвело широко распространенное мнение, согласно которому рейхстаг должен был собраться в ближайшее время и потребовать отмены последнего правительственного декрета. Канцлер тотчас же дал недвусмысленно понять, что он не пойдет на созыв рейхстага или его бюджетного комитета. Объявление о введении моратория было исключено по его мнению до посещения Берлина министром иностранных дел США Стимсоном, планировавшегося на конец июля. «Имперское правительство подаст в отставку, если оно в этом пункте не сможет добиться осуществления своих намерений. Причем эта отставка произойдет не с целью формирования нового кабинета, а будет окончательной»{454}. Брюнинг отнюдь не переоценивал серьезность положения. Две партии, на которые до сих пор опиралось его правительство, к настоящему моменту больше не были надежными партнерами. И социал-демократы, и Немецкая народная партия требовали внесения изменений в изданный декрет. ДФП была возмущена новыми сокращениями жалованья и введением кризисного налога и поэтому настаивала на созыве рейхстага. Социал-демократы призывали ввести социальные льготы для широких народных масс, но пока еще не пришли к решению о преждевременном завершении парламентских каникул. Изменение политического курса ДФП привлекло внутри страны и за границей больше внимания, чем сдержанные заявления СДПГ. Многие наблюдатели интерпретировали решение, которое фракция ДФП приняла 11 июня с минимальным перевесом — 15 голосов против 13, как явное отречение от экономической политики Брюнинга. Рейхсбанк ощутил это изменение политических настроений в результате драматически увеличившегося оттока валютных средств, на который он ответил повышением учетной ставки с 5 до 7 %. И действительно, вслед за этим последовало существенное сокращение оттока валюты. Но совет директоров рейхсбанка прекрасно осознавал, что его мероприятия окажут негативное действие на конъюнктуру и могут нанести смертельный удар и без того пострадавшим банкам и предприятиям. Брюнинг начал переговоры с партиями 13 июня после своего возвращения из имения Нейдек в Восточной Пруссии, где он информировал Гинденбурга о политическом положении и о переговорах в Чекерсе. К первым политикам, с кем встретился рейхсканцлер, относились министр-президент Пруссии Отто Браун и представители социал-демократической фракции в рейхстаге, а также председатель партии Отто Веле. Переговорщики от СДПГ настаивали прежде всего на одном изменении в декрете, а именно на возобновлении выплат пособий по безработице для молодежи. Канцлер занял по этому вопросу примирительную позицию: он выразил мнение, что в новый чрезвычайный декрет, который последует в октябре, вероятно, можно будет внести небольшие изменения. Но до этого декрет от 6 июня должен был оставаться незыблемым, и прежде всего партиям следовало воздержаться от созыва рейхстага. Гораздо труднее шли переговоры с Эдуардом Дингельдеем, который в конце 1930 г. стал преемником Эрнста Шольца на посту председателя ДФП. Канцлер пообещал исполнить главное требование Народной партии — широкомасштабное смягчение существующего тарифного права, а немного позднее, приурочив это событие, например, к началу переговоров по репарациям, также провести переформирование кабинета. В качестве кандидата на пост нового министра экономики Брюнинг предложил Альберта Фёглера, председателя правления «Ферейнигте Штальверке». Это означало бы резкую подвижку кабинета вправо и, следовательно, должно было вызвать расположение Дингельдея. Однако общественность должна была оставаться в неведении в отношении этих мер, так как реакцию на появление соответствующей информации можно было легко предсказать: социал-демократы, как только они узнали бы о намерениях Брюнинга, потребовали бы созыва рейхстага, и тем самым сделали именно то, чего рейхсканцлер стремился избежать любой ценой. Именно ради достижения этой ближайшей цели Брюнинг так далеко зашел в стремлении заручиться поддержкой ДФП. Но мысли, которые он доверил Дингельдею, не были просто выражением краткосрочной тактики. Поворот вправо отвечал также собственным приоритетам Брюнинга. Так как Германия намеревалась в скором времени вновь занять равноправное место в строю великих держав, выплаты по репарациям должны были прекратиться полностью и навсегда. Брюнинг полагал, что для достижения этой цели необходимо проводить жесткий дефляционный курс даже в том случае, если его следствием будет увеличение социальных тягот. Новые иностранные займы, в особенности французские, могли бы их уменьшить. Но чтобы их получить, необходимо было заплатить цену иного рода: умерить национальный ревизионизм и отказаться от политики «все или ничего» в решении репарационного вопроса. Так как Брюнинг в отличие от социал-демократов не желал идти на подобные уступки, а как канцлер президентского кабинета под руководством Гинденбурга, возможно, и не мог ее заплатить эту цену, то предпринятая им корректива курса вправо имела определенную внутреннюю логику{455}. 15 июня 1931 г. Брюнинг столкнулся с неожиданно жестким сопротивлением слева от центра. Во время беседы с представителями всех ведущих профессиональных союзов канцлеру не удалось отговорить председателя АДГБ Теодора Лейпарта от требования немедленного созыва рейхстага. Стойкая позиция Лейпарта не замедлила оказать свое воздействие на СДПГ. Делегация фракции СДПГ потребовала от Брюнинга после полудня 15 июня дать согласие по меньшей мере на созыв бюджетного комитета рейхстага — требование, на которое рейхсканцлер тотчас же ответил угрозой отставки. Только в отношении прусских социал-демократов Брюнинг мог быть уверен, что они и далее непоколебимо будут стоять на его стороне. В своей беседе с рядом руководителей партии Отто Браун заявил 15 июня, что невозможно проводить репарационную политику, имея в наличии действующий рейхстаг. Министр внутренних дел Пруссии Северинг выразил опасение, что согласие на созыв рейхстага в настоящих условиях легко может стать сигналом для повторения событий, случившихся 30 октября, в первый день работы вновь избранного рейхстага, только на этот раз демонстрацию протеста возглавят не национал-социалисты, а коммунисты. «Занимая свою должность главы полиции, — заявил Северинг, — он убедился на собственном опыте, что коммунистическая партия ведет агитацию среди огромной армии безработных и нашла в них плодотворную почву для осуществления своих планов». Пессимистические оценки Северинга полностью соответствовали линии министра рейхсвера Грёнера, который еще ранее предупреждал, что если во время созыва рейхстага ситуация выйдет из-под контроля, то «Германия окажется на пороге новой революции. Тот, кто имеет мужество переступить через эту грань и создать положение, выход из которого можно будет найти только силой оружия, пусть и возьмет на себя всю ответственность за последствия». Правительство рейха на самом деле считалось с опасностью социальных беспорядков и с согласия Гинденбурга отдало приказ командованию рейхсвера принять все необходимые меры. Если бы на следующий день Совет старейшин рейхстага большинством голосов высказался бы за созыв рейхстага или его бюджетного комитета, то немецкий государственный кризис вступил бы в новую стадию. Самым вероятным сценарием развития событий было бы образование нового, открыто антипарламентского кабинета Брюнинга. Его главной опорой тогда выступило бы не терпимое к правительству парламентское большинство, а рейхсвер. Президентская система правления трансформировалась бы в ходе этой второй фазы в скрытую военную диктатуру. Утром 16 июня 1931 г. состоялись заседания фракций рейхстага. Крестьянская и Экономическая партии высказались за созыв парламента. Социал-демократическая фракция по предложению руководства партии 70 голосами против 57 потребовала созыва бюджетного комитета рейхстага. ДФП 18 голосами против 9 аннулировала принятое 11 июня решение о созыве рейхстага, обосновав такой ход, во-первых, результатами переговоров между Брюнингом и Дингельдеем, во-вторых, тем, что национал-социалисты и немецкие националисты не готовы разделить часть общей ответственности в том случае, если требования Народной партии будут выполнены. Тем самым ДФП наглядно показала, чем были вызваны ее недавние политические маневры: стремлением к созданию правого «толерантного» большинства в парламенте для поддержки персонально обновленного правительства Брюнинга. На заседании Совета старейшин, начавшемся в 12 часов дня, были отклонены все запросы на созыв рейхстага, поданные НСДАП, КПГ, ДНФП, Экономической партией и Крестьянской партией. Решение по поводу запроса СДПГ о созыве бюджетного комитета рейхстага было перенесено на 18 часов вечера, после того как статс-секретарь Пюндер объявил о неизбежной отставке правительства в случае, если большинство поддержит предложение социал-демократов. После того как было объявлено о перерыве заседания, Брюнинг еще раз провел переговоры с Велсом, Брейтшейдом и Гильфердингом. При этом рейхсканцлер избрал гибкую тактику. Он был готов дать согласие на созыв бюджетного комитета уже в августе 1931 г., а также обещал, что в инструкциях о выполнении декрета правительство пойдет на смягчение определенных положений, а именно пособие по безработице будет предоставляться также нуждающимся молодым людям, не имеющим формального права претендовать на его получение. Однако одновременно Брюнинг применил свое самое действенное средство давления. Через депутата Пауля Хертца он проинформировал социал-демократическую фракцию о том, что партия Центра намерена расторгнуть коалицию в Пруссии в случае, если СДПГ добьется созыва бюджетного комитета. Оказанное давление принесло свои плоды. После страстных дебатов фракция СДПГ подавляющим большинством приняла решение отказаться от созыва бюджетного комитета. В резолюции социал-демократов не было сказано ни слова о Пруссии, зато много говорилось о готовности Брюнинга вскоре начать переговоры об изменении декрета. В 18 часов Совет старейшин продолжил свое заседание. Коммунисты, в свою очередь, предприняли попытку реанимировать запрос СДПГ о созыве бюджетного комитета, но так как их поддержали только национал-социалисты и немецкие националисты, запрос был обречен на отклонение. «Закончился необычайно значимый день, — сразу после полуночи записал в своем дневнике статс-секретарь рейхсканцелярии Герман Пюндер. — Мы победили! Как гора свалилась с плеч у всех, кто связан с правительством. Там, за окном, жизнь шла своим чередом и только немногие знали или подозревали, что мы стояли на пороге гражданской войны. В любом случае, если бы не случились сегодняшние события, через 14 дней мы бы не смогли больше выплачивать заработную плату, гражданские и военные пенсии и так далее. Но мы победили!»{456} В стане социал-демократов после событий 16 июня крайне левые бросили в лицо партийному большинству ультиматум: «Только до этого предела и ни на йоту дальше». «Классенкампф» опубликовал 1 июля 1931 г. «Призыв к партии» за подписями Макса Адлера, Курта Розенфельда, Макса Зейдевица и Генриха Штробеля, сопровождавшийся просьбой к читателям присылать заявления в поддержку позиции авторов. В статье говорилось: «Прекратите проводить политику “толерантности”, похороните иллюзии, что этой политикой, этими уклонениями и отступлениями вы сможете защитить рабочий класс от большего зла. Поймите наконец, что только ликвидация капиталистического классового общества может открыть пролетариату выход из этого кризиса капитализма». Почти одновременно в теоретическом партийном журнале «Ди Гезельшафт» была опубликована статья совсем иного рода. Издатель журнала Рудольф Гильфердинг в своей публикации, озаглавленной «В кризисе», выражал мнение, что решение, принятое социал-демократической фракцией рейхстага, вероятно, стало тяжелейшим психологическим бременем для каждого ее члена. «Во фракции друг другу отнюдь не противостояли две сплоченные группы, борьба за правильное решение переместилась в сердца каждого из депутатов, и каждый из них должен был все время спрашивать сам себя, какое из решений будет означать большее зло. Для каждого ситуация была трагической и ее серьезность омрачила их речи и аргументы». Такой трагизм, с точки зрения Гильфердинга, обуславливался сочетанием тяжелого экономического кризиса и чрезвычайной политической ситуации, возникшей в результате выборов 14 сентября 1930 г. «Рейхстаг представляет собой парламент, нацеленный против парламентаризма, его существование — угроза для демократии, для рабочего класса, для внешней политики. Если решить, что это правительство так плохо, если дать этому рейхстагу зеленый свет для принятия политических решений, на которые он один имеет право, то неизбежным результатом будет еще более реакционное правительство. Отстаивать демократию против большинства, которое эту демократию отвергает, и делать это с помощью политических средств демократической конституции, предусматривающей функционирование парламентаризма, это почти то же самое, что разгадка квадратуры круга, которую должна найти социал-демократия — ситуация, действительно не имеющая прецедентов»{457}. Как бы тяжело самая большая из немецких партий ни переживала свое решение, его зримые последствия оправдали действия фракционного большинства. Валютные потери рейхсбанка, которые 16 июня достигли 80 млн рейхсмарок, 17 июня сократились на 10 млн рейхсмарок и продолжали уменьшаться дальше. На внутреннем денежном рынке также установилось определенное спокойствие: 19 июня рейх получил столь необходимый краткосрочный кредит в размере 250 млн рейхсмарок. Но в этот же день отток валюты вновь увеличился, достигнув 70 млн рейхсмарок. Поводом для новой паники послужили сообщения о грозящем банкротстве текстильного концерна «Нордволле», предприятия, тесно связанного с Дармштадтским и Национальным банком. Вечером 19 июня золотовалютное обеспечение банкнот только на 100 млн рейхсмарок превышало минимальную ставку в размере 40 %, предписывавшуюся законом о банках и соглашением Янга. Если данное правило нарушалось, то учетная ставка автоматически поднималась вверх. Таким образом, закон о банках был призван воспрепятствовать тому, чтобы возросшее обращение отечественных банкнот компенсировало отток иностранной валюты. На следующий день, 20 июня 1931 г., кризис грозил перерасти в катастрофу. Сначала рейхсбанк объявил о жестких кредитных ограничениях, а потом попытался получить у банка Англии кредит под коммерческие векселя, который должен был снова несколько увеличить валютные резервы рейхсбанка. Когда эта попытка закончилась неудачей, финансовое и экономическое банкротство Германии в самом ближайшем будущем стало казаться неминуемым. Но поздно вечером поступило спасительное известие из Америки: президент Гувер предложил ввести годичный мораторий на выплату всех обязательных государственных долгов, немецких репараций, а также межсоюзнических военных долгов. Гувер однако настаивал исходя из внутриполитических причин на соответствующей формальной просьбе со стороны рейхспрезидента. Необходимая телеграмма Гинденбурга в адрес президента США была направлена в тот же самый вечер. Сразу после ее получения Гувер предал свой план гласности. Брюнинг мог бы праздновать введение моратория Гувера как свой большой политический успех. Однако рейхсканцлер вполне сознательно пытался преуменьшить значение этого исторического события. Так как для него речь прежде всего шла о том, чтобы раз и навсегда ликвидировать репарации, он чувствовал себя обязанным незамедлительно выступить против всех тех, кто, как социал-демократы, полагал, что теперь пришло время избавиться от самых худших социальных тягот недавнего чрезвычайного декрета или по крайней мере смягчить их. В своем выступлении, которое было передано поздним вечером 23 июня всеми немецкими радиостанциями, Брюнинг заявил, что не текущий 1931-й, а только следующий год станет временем кульминации экономических трудностей. «Верить в то, что с принятием предложения президента Гувера все беды Германии останутся позади, было бы самой опасной иллюзией, которой может себя убаюкать немецкий народ… Немецкий народ утратит доверие и право на понимание, если он не останется верен принципу абсолютной санации наших государственных финансов, даже если это потребует от него новых жертв… Доказательство доверия, которое несет с собой всемирно-исторический шаг президента Гувера, может принести свои плоды только в том случае, если немецкий народ будет полон решимости и далее идти путем максимальной экономии во всех областях, используя только свои собственные силы». В то время как инициатива Гувера встретила в Германии широкую поддержку, Париж чувствовал себя обманутым американским президентом. Франция, важнейший репарационный кредитор Германии, в ночь с 20 на 21 июня была поставлена Вашингтоном перед свершившимся фактом, и такое обращение было воспринято на Сене как унижение. Вследствие этого французская дипломатия предприняла все усилия, чтобы лишить мораторий реального содержания. С точки зрения Парижа, Германия была обязана продолжать в соответствии с планом Янга выплачивать обязательную, так называемую незащищенную часть годовых платежей, но⅘ платежа она должна была получать обратно в качестве процентного займа Банка международных расчетов. Если бы французская точка зрения одержала верх, Германия по-прежнему была бы обязана без всякого смягчения и далее производить натуральные поставки в соответствии с планом Янга. Берлин с возмущением немедленно отклонил дополнительные французские требования: отказ от таможенного союза с Австрией и постройки броненосца «Б». Принимая во внимание сопротивление со стороны Франции, невозможно было выдержать предложенный Гувером срок начала годичного моратория — 1 июля. Только вечером 6 июля дипломатическая борьба закончилась компромиссом. В соответствии с договоренностью, достигнутой в Париже, Германия должна была продолжать выплачивать незащищенную часть репараций также в течение действия моратория, с 1 июля 1931 до 30 июня 1932 г., но получала эти платежи обратно целиком в форме гарантийных бонов Банка международных расчетов, поступавших в распоряжение рейхсбанка Германии. С отсроченных платежей, равно как и с гарантийных бонов, немецкая сторона обязывалась выплачивать проценты, и начиная с 1 июля 1933 г. они подлежали выплате в виде десяти ежегодных взносов. Вопрос о натуральных поставках был передан на рассмотрение специального экспертного комитета. Если по окончанию действия моратория Германия прибегла бы к отсрочке платежа, право на которую ей давал план Янга, то Франция в этом случае была свободна поступать как ей заблагорассудится в отношении своей доли незащищенной части аннуитетов. Имперское правительство отреагировало на парижские договоренности выражением благодарности Гуверу и обращением к немецкому народу. Германия ни в коем случае не должна, как говорилось в воззвании от 7 июля 1931 г., ослаблять свои отчаянные усилия по соблюдению режима экономии: «То общее облегчение, которое принесет Германии план Гувера, будет без остатка направлено и использовано для консолидации государственных финансов. Наступившее в результате моратория ослабление нагрузки на денежный и кредитный рынки должно пойти на пользу немецкой экономики в целом. Повышение каких-либо расходов рейха в какой бы то ни было сфере во время моратория невозможно». Тот, кто все еще надеялся, что мораторий Гувера станет началом облегчения социальных тягот и нужд, стал жертвой заблуждения. Правительство Брюнинга непоколебимо держалось мнения, что у репарационного вопроса есть только одно решение — окончательное прекращение выплаты «дани». Так как политика, нацеленная на увеличение расходов, едва ли убедила бы репарационных кредиторов в необходимости такого радикального решения, то казалось логичным продолжать прежнюю дефляционную политику без существенных изменений. Впрочем, хотя мораторий и осуществлялся на практике, он все еще не был ратифицирован американским конгрессом. Таким образом, правительство Брюнинга могло ожидать, что его предостережение от преувеличенного оптимизма, найдет отклик по меньшей мере у части немецкого общества{458}. Но мораторий Гувера не вызвал эйфорию еще по одной причине: в то время как в Париже шли переговоры, в Германии множились слухи о банкротствах, грозящих фирмам и банкам. 13 июля произошло событие, знаменовавшее собой новую главу в истории немецкой депрессии: Дармштадтский и Национальный банк, коротко именовавшийся «Данат-Банком», самый крупный частный немецкий банк после «Дойче Банка», объявил о своем банкротстве. Так как «Данат-Банк» был тесно связан с обанкротившимся концерном «Нордволле», его коллапс едва ли мог вызвать удивление у специалистов. Но для широкой публики сообщение от 13 июля стало сенсацией. Имперское правительство стремилось избежать банковской паники, объявив 12 июля о том, что государство выступает полным гарантом по всем вкладам «Данат-Банка». Но эта мера не смогла помешать тому, чтобы на следующий день началось нашествие вкладчиков на остальные сберегательные кассы и банки. Правительство было вынуждено прибегнуть к чрезвычайным мерам. Своим декретом оно закрыло 14–15 июля все банки и сберегательные кассы. Немецкий банковский кризис, начавшийся 13 июля 1931 г., обнажил основную причину слабости немецкого народного хозяйства. Начиная с периода инфляции, немецкие банки в крайней степени были зависимы от иностранного капитала и, как и многие муниципальные коммуны, также склонялись к тому, чтобы использовать краткосрочные займы для выдачи долгосрочных кредитов. Во времена благоприятной конъюнктуры такие займы, как правило, регулярно пролонгировались, во время же кризиса они могли быть отозваны в любой момент в больших масштабах, что означало разорение банка, находившегося в кризисной ситуации. Кабинет Брюнинга использовал «банковские выходные» для того, чтобы принять новые чрезвычайные постановления, регулировавшие ограниченное возобновление платежного оборота начиная с 16 июля, а также налагавшие жесткие ограничения на оборот валют. 15 июля рейхсбанк поднял учетную ставку с 7 до 10 %, а особенно важную для сберегательных касс ломбардную ставку — с 8 до 15 %. Повышение учетной ставки позволяло рейхсбанку согласно закону о банках увеличить оборот национальных банкнот. Дефицит платежных средств и ограничение валютного обращения привели к том, что в рейхсбанк поступили значительные объемы валюты, расширив таким образом базу для эмиссии банкнот. После двухдневной принудительной паузы платежное обращение было снова возобновлено в весьма ограниченном объеме. С 16 по 17 июля кредитные институты и почтовые отделения, проводившие расчеты по почтовым чекам, могли выплачивать наличные или осуществлять переводы только в том случае, если эти средства использовались для выплаты заработной платы, жалованья и пенсий, а также социальных пособий, страховых платежей и налогов. В противном случае дни с 16 по 18 июля также считались «банковскими выходными». В период с понедельника, 20 июля, до среды, 5 августа, все владельцы счетов могли снять с них денежные средства, размер которых в зависимости от времени снятия составлял от 100 до максимум 300 рейхсмарок. Тот же самый порядок действовал для переводов. 5 августа банки возобновили платежный оборот в полном объеме, три дня спустя это же сделали сберегательные кассы. Один из самых больших немецких банков, «Дрезднер Банк», 14 июля находившийся непосредственно на пороге банкротства, был спасен с помощью санации, осуществленной на государственные средства: рейх стал владельцем 75 % совокупного акционерного капитала. Государство также подставило плечу «Данат-Банку». Для этого рейх одолжил деньги рейн-вестфальской тяжелой промышленности, в которых та нуждалась, чтобы приобрести акции банка. Но на этом санация не закончилась. Зимой 1931–1932 гг. в правительстве верх одержала точка зрения, согласно которой слияние обоих банков было бы для государства менее дорогостоящим, чем их раздельная поддержка. Так как добровольного объединения достичь не удалось, оно было осуществлено в феврале 1932 г. в результате очередного чрезвычайного постановления правительства. Новый «Дрезднер Банк», образованный в результате этого слияния, фактически стал государственным банком. То же самое, но другим путем, произошло с «Коммерц унд Приватбанком», который в марте 1932 г. пережил слияние с «Бармер Банкферейн». Непосредственное участие в его образовании приняло не только государство, но и «Гольд Дисконт Банк», «дочка» рейхсбанка, ставший владельцем более 50 % акций нового банка. Чтобы раз и навсегда исключить вероятность нового банковского кризиса, в большом масштабе была проведена смена руководящего персонала пострадавших банков. Для того чтобы добиться достаточной прозрачности в банковском деле, согласно чрезвычайному декрету от 19 сентября 1931 г. учреждалась должность рейхскомиссара по банкам и попечительский банковский совет, действовавший в качестве «удлиненной руки» рейхсбанка. Следующий чрезвычайный декрет от 6 октября 1931 г. преобразовал сберегательные кассы в учреждения публичного права с собственным капиталом. Тем самым существенно сокращалось влияние, которое на сберегательные кассы оказывали общины и союзы общин. Этот же декрет создавал действенную преграду на пути попыток общин возобновить экономическую практику «жизни в долг»: сберегательные кассы теперь могли выдавать коммунальные кредиты только в размере до 25 % от совокупной суммы вложений. Однако сами коммунальные кредиты были запрещены впредь до дальнейших распоряжений: этот порядок определил декрет от 5 августа 1931 г., оставшийся в силе без изменений. Банковский кризис июля 1931 г. нанес удар по доверию к экономической системе капитализма сильнее, чем ведшаяся десятилетиями агитация марксистов всех мастей. Очереди вкладчиков, выстроившихся 13 июля перед сберегательными кассами и банками в надежде спасти свои сбережения, были таким же символом Великой депрессии, как и безработные, получавшие пособие на бирже труда или жалкую миску супа на городской кухне для нуждающихся. То, что государство еще раз спасло банки, не по форме, но по содержанию, национализировав их в значительной степени, не могло восстановить уважение к капитализму, к его институтам и представителям, как не могло помочь правительству завоевать новых друзей. Промахи предпринимателей были исправлены с помощью денег налогоплательщиков, и это дискредитировало престиж государства не в меньшей степени, чем престиж экономики. Шок, вызванный банковским кризисом, был глубоким и чреватым последствиями. Только летом 1931 г. постепенно стало приходить понимание того, что этот экономический кризис был не обычным кризисом, а представлял собой затяжную депрессию, еще не достигшую своей самой острой фазы, завершение которой пока еще нельзя было предсказать{459}. Немецкий банковский кризис вызвал большую обеспокоенность также и за рубежом. Президент Гувер тотчас же выступил инициатором созыва международной конференции, чтобы извлечь практические уроки из случившегося. В соответствии с предложением английской стороны она должна была состояться 20 июля в Лондоне, в качестве участников были приглашены США, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Германия и Япония. Брюнинг и Куртиус по приглашению французского правительства совершили по пути в Лондон промежуточную остановку в Париже 18–19 июля. Переговоры протекали в дружеской атмосфере, но не привели ксближению позиций сторон. Франция предлагала Германии долгосрочный заем, но взамен потребовала цену, которую Германия не могла и не хотела платить: она должна была в течение 10 лет отказаться от каких-либо попыток ревизии как плана Янга, так и Версальского договора. «Нет» в ответ на французское предложение далось Брюнингу легко: непосредственно перед отъездом из Берлина американский посланник Сакетт сообщил ему, что правительство США отказывается участвовать в оказании помощи Германии на французских условиях. На Лондонской конференции «семерки», состоявшейся 20–23 июля, Франция оказалась в полной изоляции. Победила точка зрения Америки и Англии, согласно которой финансовая помощь Германии должна была быть оказана без предварительных политических условий. Это исключало предоставление Германии долгосрочного займа, который был возможен только при участии Франции, обладавшей достаточными капиталами. И все же немецкая делегация могла быть довольна результатами встречи. Три принятых решения обещали Германии существенное облегчение. Во-первых, срок платежа по 100-миллионному кредиту, полученному Германией от Банка международных расчетов, наступавший 25 сентября, продлевался еще на три месяца. Во-вторых, финансовые институты различных стран должны были прийти к соглашению о совместных мероприятиях, целью которых было защитить Германию от дальнейшего бегства зарубежных кредитов. В-третьих, Банку международных расчетов рекомендовалось тотчас же создать комитет, в обязанности которого входило проверить кредитные потребности Германии, а в связи с этим, также возможность трансформации части уже предоставленных краткосрочных займов — в долгосрочные. Решение по возможности «не трогать» предоставленные Германии зарубежные кредиты тотчас же оказало свое воздействие: отток заемных средств резко сократился. 29 июля между немецкими банками, с одной стороны, и американскими и английскими — с другой, было достигнуто соглашение о принципиальных положениях соглашения о введении моратория на возврат кредитов. 8 августа 1931 г. в Базеле, местопребывании Банка международных расчетов, согласно рекомендации Лондонской конференции был организован комитет экспертов под председательством Альберта Виггина, председателя Совета управляющих «Чейз Нешенл Банк оф Нью-Йорк». Рекомендация о проведении экспертной оценки кредитного положения Германии означала исторический прорыв в споре о репарациях. В этом отношении сама персона председателя экспертного комитета предопределила программу действий: Виггин стоял во главе «Нью Йоркер Банк», который был главным кредитором Германии в области коммерческих кредитов. По этой причине банк был элементарно заинтересован в том, чтобы валюта, которую Германия зарабатывала благодаря превышению экспорта над импортом, была использована для оплаты частных займов, а не для репарационных платежей. 11 августа, спустя три дня после заседания, на котором был образован комитет Виггина, свою работу завершил другой экспертный орган. Эксперты, проверявшие возможность практического осуществления плана Гувера, высказались за компромисс по спорному вопросу в отношении материальных поставок, которые Германия была обязана осуществлять по плану Янга. Да, определенные поставки должны были продолжаться и во время действия моратория, но по возможности они подлежали финансированию за счет кредитов Банка международных расчетов. Еще неделей позже, в ночь с 18 на 19 августа, была достигнута договоренность о моратории на выплату кредитов, выданных немецким банкам: краткосрочные зарубежные долги в размере 6,3 миллиарда рейхсмарок были первоначально заморожены сроком на полгода. Одновременно комитет Виггина представил отчет об экономическом положении Германии под редакцией лорда Вальтера Томаса Лейтона, ответственного редактора «Экономиста». Согласно отчету, торговые барьеры, в первую очередь выставленные США, препятствовали экспорту, с помощью которого Германия должна была получать средства для выплаты репараций, и таким образом, являлись одной из опосредованных причин завышенных иностранных заимствований Германии. На первом месте в отчете Лейтона стояла рекомендация последовательной либерализации мировой торговли. Скорее, между строк можно было прочитать еще одну: Германия заслуживает доверия, а именно — в форме долгосрочных займов. Серьезным препятствием на этом пути выступало неопределенное будущее репарационного вопроса. Смысл этого замечания было несложно расшифровать: скорая отмена репараций послужила бы оздоровлению не только немецкой, но и мировой экономики{460}. Результаты, проистекшие из Лондонской конференции «семерки» были, в общем и целом, благоприятными для Германии. Перспектива добиться ревизии плана Янга существенно улучшилась. Визиты в Берлин министра иностранных дел США Стимсона с 25 по 27 июля и премьер-министра Великобритании Макдональда 28 июля также должны были вселить в Брюнинга надежду, что после завершения моратория Гувера не будет возврата к плану Янга. Но рейхсканцлер даже и не подумал о том, чтобы поделиться этими ожиданиями с немецкой общественностью. Еще из Лондона он отдал распоряжение преуменьшить, насколько возможно, позитивную значимость результатов конференции для Германии. С его точки зрения, уступки государств-кредиторов допускали только один вывод: жесткая дефляционная политика начала окупаться, и поэтому ее следовало продолжать без колебаний. Бедственное состояние экономики, социальная нужда и даже политическая радикализация были для Брюнинга аргументами в пользу полного урегулирования репарационного вопроса — самого главного устремления канцлера. Таким образом, Большая депрессия имела и свою положительную сторону, ее можно было использовать в национальных интересах Германии так, как понимал их канцлер. Не преодоление, но политическое использование депрессии, стало начиная с весны 1931 г. руководящим принципом в политике Брюнинга{461}. Вплоть до лета 1931 г. рейхсканцлер мог положиться на то, что ведущие силы немецкого общества поддерживают, несмотря на отдельную критику, его политику жесткой экономии. «Оздоровительный» консенсус, простиравшийся от предпринимателей до руководства социал-демократии, основывался на понимании того, что экономика прежних лет, основанная на кредитах, настоятельно нуждается в корректировке. Но в середине лета 1931 г. этот консенсус стал распадаться. Кризис достиг такого масштаба, который неминуемо должен был вызвать сомнения в отношении продолжения политики дефляции. К этому добавилось воздействие моратория Гувера: правительству теперь было намного сложнее, чем раньше, отклонять любые требования оживления экономики, ссылаясь на репарационные тяготы. Во время совещания министров, состоявшегося 3 августа 1931 г., на которое были также приглашены представители от экономики и видные социал-демократы, некоторые эксперты высказали оригинальные предложения, направленные на оживление хозяйственной конъюнктуры. С наиболее радикальными требованиями выступил Герман Вармбольд, член правления самого большого немецкого химического концерна «ИГ Фарбен». Он потребовал предоставления краткосрочных внутренних кредитов подтоварное обеспечение, чтобы таким образом дать новый импульс внутреннему рынку, который сократился еще сильнее, чем внешняя торговля. Аналогичным образом высказались Герман Шмитц, также член правления «ИГ Фарбен», и Пауль Сильверберг, сделавший себе состояние на добыче бурых углей, который считал само собой разумеющимся, что «резко выраженная дефляция может быть побеждена только средствами, которые сродни инфляции. Надо только остерегаться того, чтобы инфляционный фактор не стал продолжительным». Противную позицию занял ведущий теоретик немецкой социал-демократии Рудольф Гильфердинг. В ответ на предложение Сильверберга использовать краткосрочные казначейские обязательства в качестве основы для денег банковского жирооборота, он сделал лаконичное замечание, что это может стать источником инфляционной опасности. В действительности же, принимая во внимание большое количество неиспользованных экономических мощностей, не стоило опасаться инфляционного воздействия дополнительного искусственного кредитования. Но инфляционная травма была весьма глубока, а у марксиста Гильфердинга свою роль также сыграло убеждение, согласно которому кризисы капиталистической системы должны протекать своим путем и не могут быть смягчены в результате государственного вмешательства. Рейхсканцлер, в свою очередь, настойчиво возразил только одному оратору. Брюнинг выступил против возможности получения долгосрочного иностранного займа, о котором заговорил фон Шмитц. «Если мы теперь пойдем на получение долгосрочного займа, — заявил Брюнинг, — то мы похороним решение репарационного вопроса и совершим ту же ошибку, что и в 1929 г. Я в этом не участвую». Совещание от 3 августа не имело каких-либо практических последствий. Но оно дало ясное понимание, что серьезные силы предпринимательского лагеря недовольны дефляционной политикой Брюнинга и даже расценивают ее как опасную. Широкую поддержку в стане промышленников встретило еще одно направление критики правительственной политики: Брюнинг должен был, как того требовали в своем письме канцлеру от 30 июля девять именитых вождей экономики, в том числе Крупп, Клёкнер, Сильверберг, Фёглер и Рейш, радикально порвать с существовавшей системой страхования по безработице и установления тарифов заработной платы. Вместо системы выплат страхового возмещения по безработице «подписанты» хотели вновь ввести социальное обеспечение «в случае необходимости», а по поводу государственного трудового арбитража и безусловности тарифных договоров говорилось, что они сделали заработную плату, ставшую в настоящий момент важнейшим затратным фактором производства, застывшей и неэластичной. Для устранения всех недостатков, если следовать письму, существовало простое средство: «Надо снять с экономики оковы и снова дать возможность предпринимателям свободно заниматься бизнесом согласно вечно действующим экономическим законам, чтобы экономика смогла проявить свои силы. Тогда она сама собой будет поглощать большие массы рабочей силы, находящиеся сегодня без применения»{462}. Было очевидно, что смена курса в духе авторов письма должна была знаменовать собой окончание негласного альянса между Брюнингом и социал-демократами. В этом смысле уже 15 июля в адрес ДФП высказалось Рейнско-Вестфальское трудовое содружество, возглавляемое тяжелой промышленностью. «Любое соглашение с левыми ведет к длительному обескровливанию Германии», — писал на следующий день своему боссу Паулю Рейшу, генеральному директору «Гутехоффнунгсхютте», один из его ближайших сотрудников Эрих фон Гилза. Если Гугенберг и Гитлер отказываются от сотрудничества с Брюнингом, то остается только «или диктатура или попытка образовать правительство Гитлера-Гугенберга, в отношении которого Немецкая народная партия должна занять выжидательную позицию». «Полного разрыва с силами международного марксизма» потребовал 22 июля в заявлении на имя Гинденбурга также Ландбунд, самый большой из союзов аграриев, который давно уже причислял себя к «национальной оппозиции». В заявлении утверждалось, что часто упоминавшееся возражение, согласно которому без социал-демократии нельзя управлять государством, фальшиво, так как оно базируется на смешении социал-демократии и рабочего класса, на самом же деле ни одна политика не обманывала немецких рабочих в такой мере, как политика, проводившаяся под влиянием социал-демократов: «Доказательством служат пять миллионов полностью и частично безработных»{463}. Кто хотел отстранить социал-демократов от власти, тот не мог удовлетвориться только нападками на их пакт с Брюнингом. Не менее важным было отнять у СДПГ ее главный бастион — Пруссию. Над этим с начала февраля 1931 г. трудился «Стальной шлем», пытаясь инициировать процедуру «народной инициативы» по вопросу роспуска прусского ландтага. Он получил поддержку НСДАП, ДНФП и ДФП, и в конце июня 1931 г., к окончанию срока сбора подписей, за проведение «народной инициативы» было получено 5,96 млн подписей избирателей. 9 июля ландтаг отклонил требования по результатам «народной инициативы», в итоге плебисцит был назначен правительством на 9 августа. Так как число избирателей, высказавшихся в поддержку «народной инициативы», было существенно ниже количества голосов, поданных за три правые партии во время выборов в рейхстаг 14 сентября 1930 г., то коалиционное правительство Отто Брауна не было особенно обеспокоенно результатами предстоящего плебисцита. Но 22 июля случилось событие, внезапно существенно повысившее шансы референдума: ЦК КПГ высказался за участие в плебисците, который впредь именовался коммунистами не иначе как «красный референдум». Чтобы победить «социал-фашизм», коммунисты теперь не страшились даже временных совместных действий с «национал-фашистами». Указание сменить курс исходило от политической комиссии ИККИ. Решение, очевидно, было принято 18 июля, во время пребывания Брюнинга в Париже. Германо-французские переговоры расценивались в Москве как признак намечающейся капитуляции немецкой буржуазии перед лицом французского империализма. Так как соглашение с Францией полностью отвечало бы политической линии СДПГ, ураганный огонь был открыт по «главной социальной опоре буржуазии» — именно так заклеймил социал-демократию XI пленум ИККИ весной 1931 г. Сталин и его окружение без сомнения ясно понимали, что альтернативу Брауну будут звать отнюдь не Тельман. Успех плебисцита в сложившейся ситуации мог привести лишь к резкой подвижке вправо сначала в Пруссии, а затем и во всем рейхе. Очевидно, такое развитие ситуации в глазах советского руководства было меньшим злом, чем «подчинение Германии французскому империализму и ее втягивание в антисоветский блок», от чего предостерегала 18 июля «Правда». Таким образом, государственные интересы СССР требовали в обозримом будущем не победы немецких коммунистов, а поражения прозападных сил Германии. КПГ пыталась оправдать свое участие в референдуме перед своими сторонниками, утверждая, что в Пруссии Отто Брауна и Карла Северинга рабочий класс находится в более угнетенном состоянии, чем даже при Гогенцоллернах. «Проводя свою политику, Браун и Северинг проложили путь фашизму. Брюнинг и кампания не могут желать себе более преданного часового и лучшего защитника, чем прусское правительство. Пока Браун и Северинг находятся у власти, Брюнинг может и далее проводить свою политику чрезвычайщины, направленную против народа». Референдум 9 августа 1931 г. завершился неудачей инициировавших его партий. 9,8 млн, или 37,1 % избирателей проголосовали «за», но для победы было необходимо получить абсолютное большинство в 13,4 млн голосов. Возможно, участие КПГ удержало некоторых буржуазных избирателей от того, чтобы подать свои голоса против правящей Веймарской коалиции. Зато достоверно известно, что многие коммунисты 9 августа не подчинились партийной дисциплине. В таких «красных» кварталах Берлина, как Веддинг и Фридрихсхайн, партии, поддержавшие референдум, получили вместе меньше голосов, чем КПГ в одиночку на выборах 14 сентября 1930 г. Ослепление Коминтерна нанесло тяжелое поражение немецким коммунистам{464}. Но уже вечером 9 августа КПГ продолжила свою катастрофическую политику хладнокровным преступлением. На площади Бюлова, в непосредственной близости от Карл-Либкнехт-Хаус, здания, где размещалось руководство партии, были вероломно застрелены два полицейских чиновника, Ленк и Анлауф, известные в леворадикальной среде под кличками «Мертвая голова» и «Свиная шея». Двумя выстрелами был тяжело ранен полицейский вахмистр Виллиг. Организатором убийства была нелегальная военно-политическая организация КПГ, возглавлявшаяся Гансом Киппенбергером. Политический приказ исходил, если верить тогдашнему функционеру КПГ Герберту Венеру, описавшему в 1946 г. предысторию акции в своих «Записках», от члена ЦК КПГ Хайнца Ноймана, намеревавшегося «убийством и ответными репрессиями отвлечь внимание от результатов плебисцита и тем самым создать новую ситуацию. Это убийство было заранее хладнокровно спланировано как альтернатива поражению в референдуме, успех которого сам Нойман расценивал маловероятным». 21 августа, после того как полиция провела обыск Карл-Либкнехт-Хауса на предмет оружия и других улик, был выдан ордер на арест пяти лиц по подозрению в убийстве. В качестве главного подозреваемого разыскивался глава оперативного подразделения партийной самообороны КПГ Эрих Мильке, будущий глава министерства государственной безопасности ГДР. Ему удалось бежать в Бельгию{465}. Террористическая акция КПГ произвела желаемое впечатление, которое, однако, не соответствовало действительности. Коммунисты стремились показать себя как партию, готовую прийти к власти насильственным путем, но их нелегальный аппарат никогда не составлял эффективный противовес государственной власти. Конечно же, партия вела подготовку к незаконным действиям, но по большей части они оставались на бумаге. Военизированные упражнения, в которых принимали участие юные коммунисты, заключались в стрельбе из мелкокалиберного оружия и постройке баррикад. Переоценка обществом левого экстремизма и недооценка экстремизма правого — вот и все, к чему привел террор слева{466}. Это, в свою очередь, облегчило национал-социалистам постепенно проникновение в государственный аппарат. С конца марта 1931 г. штурмовые отряды НСДАП могли на основании договоренности между их «начальником штаба» Эрнстом Ремом и генерал-майором фон Шлейхером, начальником министерского бюро в министерстве рейхсвера, участвовать в военизированной пограничной охране без какой-либо дискриминации. 23 сентября Северингуже мог обоснованно утверждать, что в отношении охраны границ министерство рейхсвера находится в более тесной связи с организациями правой ориентации, чем с прусским МВД. Линия Шлейхера в это время отвечала настроениям умеренных кругов тяжелой промышленности: Брюнинг должен был оставаться канцлером, но ему следовало освободиться от зависимости от социал-демократов и постепенно сблизиться с «национальной оппозицией». Смещение оси правительственной политики слева направо: вот та задача, над решением которой трудилось руководство рейхсвера поздним летом и ранней осенью 1931 г.{467} В это же самое время со стороны умеренных левых в адрес имперского правительства раздавалось только мягкое порицание. Правда, председатель АДГБ Теодор Лейпарт остро критиковал на федеральном конгрессе своей организации, состоявшемся 31 августа — 4 сентября 1931 г. во Франкфурте-на-Майне, экономическую политику кабинета Брюнинга, который, «очевидно, полагал, что может управлять страной без участия рабочего класса или даже вопреки ему». Но о прекращении политики «толерантности» свободные профсоюзы отнюдь не помышляли. «Мы легко бы могли добиться падения правительства Брюнинга, — заявил в завершении своего выступления председатель Союза немецких металлистов и депутат рейхстага от СДПГ Алвин Брандес, бывший независимый социал-демократ: Но при данных обстоятельствах это не привело бы к улучшению положения рабочего класса. Напротив, это породило бы экономический хаос, политическую катастрофу и тем самым еще худшую годину страданий для рабочих». Одобрительные крики из рядов делегатов сопровождали заключительные замечания Брандеса, в которых практически в классической форме нашло свое выражение самосознание социал-демократического рабочего движения начала 1930-х гг.: «Гражданская война, которую требуют леворадикальные круги, т. к. они верят, или по меньшей мере делают вид, что верят, что в результате они смогут улучшить судьбу рабочего класса — такая гражданская война полностью разорвала бы на куски сложную экономическую ткань Германии, тем самым вероятно на десятилетия вперед разгромила и разрушила бы ее хозяйство. И не только это. Не важно, каким будет исход этой катастрофы, ее неминуемым следствием будет и станет саморасчленение Германии и разрушение немецкой культуры»{468}. Одновременно СДПГ намеревалась провести разделительную линию между собой и своим радикальным левым крылом, которое с самого начала отклоняло политику «толерантности», а с наступлением кризиса, вызванного последним чрезвычайным декретом Брюнинга, атаковало ее со все возрастающей резкостью. Одним из двух непосредственных поводов для разрыва стало основание левого социалистического ежедневника «Ди Факел», осуществленное Максом Зейдевицем и Куртом Розенфельдом, который в своем первом выпуске 4 сентября охарактеризовал себя как «отпрысков немецкой свободы слова и Лейпцигской демократии» (то, что под «Лейпцигской демократией» подразумевался отнюдь не последний съезд СДПГ, а Имперский верховный суд в Лейпциге, стало ясно спустя несколько недель — или так по меньшей мере утверждалось). Еще одним поводом стала сепаратная конференция социал-демократов, присутствовавших в июле в Гааге на съезде Германского общества сторонников мира и созванная его президентом Фрицем Кюстером в рамках съезда. Участники конференции выступили как против «националистической, провоенной и “толерантной” политики СДПГ», так и «псевдо-революционной катастрофической политики КПГ» и заявили о своем намерении образовать левую социалистическую партию. В ответ на это партийное руководство СДПГ, сославшись на введенный в 1925 г. запрет на проведение сепаратных конференций и мероприятий, объявило 27 сентября принадлежность к Германскому обществу сторонников мира и поддержку Свободного издательского общества, публиковавшего «Факел», несовместимым с членством в СДПГ. Три дня спустя восемь депутатов рейхстага, в том числе Макс Зейдевиц, Курт Розенфельд и Генрих Штрёбель, заявили о своем намерении продолжать издание «Факела», несмотря на все запреты. 29 сентября правление партии исключило Зейдевица и Розенфельда из СДПГ. Четверо депутатов рейхстага и семь бывших членов руководства имперского Союза юных социалистов (распущенного на Лейпцигском партсъезде) заявили о своей солидарности с Зейдевицем и Розенфельдом, их примеру последовали некоторые местные союзы, а именно из округов Цвикау-Плауен и Хемниц, а также собрание Социалистической рабочей молодежи в Бреслау. Из столицы Силезии поступило приглашение провести в ней конференцию, которая и призвала 2 октября 1931 г. в Бреслау к образованию Социалистической рабочей партии (СРП). Спустя два дня в Берлине было официально объявлено о ее создании. Но новая партия, несмотря на симпатии к ней со стороны таких известных интеллектуалов, как Альберт Эйнштейн, Карл фон Осецкий и Лион Фейхтвангер, так и не вышла за границы политической секты. Значительный приток сторонников она получила только в тех округах, где были политически активны ее основатели, а также из рядов юных социал-демократов. Одним из них был житель Любека Герберт Фрам, который позже, в норвежском изгнании, принял боевой псевдоним Вилли Брандт. То, что этот восемнадцатилетний социалист писал в 1932 г., могло бы поддержать от всего сердца большинство тех, кто подобно Фраму, был членом Федерации социалистической молодежи, молодежной организации СРП: «Процесс нашего внутреннего изменения зашел настолько далеко, что идеологически в отношении СДПГ мы стояли теперь не ближе, чем в отношении какой-либо другой пролетарской партии. Напротив, возможно наша позиция была самой далекой от СДПГ». После того как в марте 1932 г. к СРП примкнуло сильное меньшинство из состава «Коммунистической партии Германии (Оппозиция)», сформировавшейся вокруг бывшего председателя КПГ Генриха Брандлера, численность СРП увеличилась примерно на тысячу человек. Но в целом в стране СРП никогда не насчитывала более 25 000 членов. Это составляло около 2,5 % от количества членов СДПГ и около 8 % — КПГ. В результате выборов в прусский ландтаг 24 апреля 1932 г. за СРП проголосовало только 0,4 % избирателей. Это объяснялось тем, что как бы отрицательно многие социал-демократы не относились к политике «толерантности», нарушение партийной дисциплины, в котором партийное руководство обвинило левых диссидентов, расценивалось большинством членов СДПГ как непростительное действие{469}. Откол левых радикалов от СДПГ произошел в тот момент, когда социал-демократической фракции рейхстага удалось добиться от правительства Брюнинга ряда социально-политических уступок. 7 сентября 1931 г. СДПГ и кабинет пришли к соглашению по следующим пунктам: увеличивалась расчетная база выплат по безработице и повышалась оплата труда сезонных рабочих в сравнении с положениями чрезвычайного декрета от 5 июня 1931 г., а для получателей пособия кризисного обеспечения вновь отменялась обязанность погашения социальных выплат. Однако для правительства Брюнинга соглашение с социал-демократами выступало в роли обоюдоострого клинка, т. к. уступки, сделанные в пользу СДПГ, расценивались многими предпринимателями как неприемлемые. Самым бесцеремонным образом это выразил Пауль Рейш. Уже 6 сентября, за день до достижения соглашения между кабинетом и СДПГ, он писал управляющему делами и члену председательствующего совета Имперского союза немецкой промышленности Людвигу Кастлу, что, по его мнению, «господину Брюнингу, после того как он не оправдал возложенного нами на него доверия, и после того как у него не хватило мужества расстаться с социал-демократами, со стороны экономики и Имперского союза должна быть объявлена самая беспощадная война, а промышленность должна совершенно открыто высказать ему свое недоверие». Отношения между тяжелой промышленностью и имперским правительством ухудшились еще более, когда кабинет 30 сентября очередным чрезвычайным декретом наделил себя полномочиями освобождать работодателей и рабочих угольной промышленности Рура от выплат взносов социального страхования по безработице. Эта мера имела социально смягчающий эффект: вместо понижения заработной платы на 7 %, предусмотренного третейским решением от 29 сентября (которое вступало в силу в результате все того же чрезвычайного декрета), шахтеры должны были смириться только с потерей в размере 3,5 %. Газета «Дейче Бергверкцайтунг», орган горнодобывающей промышленности, после этого бросила упрек правительству Брюнинга в тактике страуса: кабинет сует голову в песок, «чтобы сделать одолжение определенным кругам рабочего класса и немного подсластить им понижение заработной платы». Пауль Рейш в письме своему берлинскому уполномоченному Мартину Бланку характеризовал позицию Брюнинга следующими словами: «Рейхсканцлер страшится борьбы против масс и поэтому потерпит поражение»{470}. Но страх перед радикализацией масс был только одной из причин, почему в тарифном конфликте в Руре правительство продемонстрировало свою готовность пойти навстречу социальным требованиям рабочих. Субсидирование горной промышленности было также реакцией на вызов совершенно иного рода: отмена золотого стандарта британского фунта, последовавшая 20 сентября 1931 г. Новое правительство «национальной концентрации» во главе с Макдональдом, вступившее в должность 25 августа и опиравшееся на парламентское большинство, образованное консерваторами, либералами и небольшой отколовшейся группой бывших депутатов-лейбористов, стремилось посредством этого драматического шага избежать негативных последствий дальнейшего оттока золота и кредитов. Отказ государственного банка Великобритании обменивать фунт стерлинга на золото привел в ужас не только финансовый мир. В течение всего нескольких месяцев после июльского банковского кризиса в Германии, отказ Лондона от золотого стандарта стал вторым большим потрясением капиталистической экономической системы в целом. Решение британского кабинета вызвало сначала удешевление на 20 % фунта стерлингов, а потом в течение первых четырех недель после 20 сентября отказ от золотого стандарта еще 25 национальных валют. Девальвация удешевляла товары, экспортируемые из этих стран, от чего другие государства, среди них Италия, Нидерланды и Дания, попытались защититься повышением ввозных пошлин. Вслед за ними Англия, вызвавшая этот процесс, также объявила 20 ноября о введении протекционистских тарифов. Раскручивавшаяся спираль девальвации угрожала немецкому экспорту точно также, как и волна протекционизма. Германия не могла последовать британскому примеру уже потому, что план Янга категорически запрещал ей какие-либо манипуляции в области валюты, чем, несомненно, являлся бы отказ от золотого стандарта. Поэтому дотирование рурской угледобычи выступало паллиативом: оно должно было помочь сохранить конкурентоспособность не только экспорта угля, но и всей каменноугольной промышленности. Во всем остальном для рейхсканцлера существовал, как он заявил об этом 2 октября на заседании правительства, только один ответ на предпринятый Англией шаг и его последствия: чтобы гарантировать активное сальдо внешней торговли Германии, необходимо было продолжать «процесс свертывания» экономики. Это означало дальнейшее сокращение заработной платы и жалованья, правда сочетавшееся с дальнейшим понижением цен{471}. «Третье чрезвычайное постановление об обеспечении экономики и финансов и ликвидации политических эксцессов», которое рейхспрезидент подписал 6 октября 1931 г., еще не являлось практическим осуществлением этой максимы. В первую очередь новый декрет выполнял обещания, с помощью которых Брюнинг заручился у СДПГ обещанием продолжения курса «политики толерантности». Длительность выплаты пособия по безработице была сокращена не так сильно, как это первоначально намеревалось сделать имперское правительство, а именно не с 26 до 16, а только до 20 недель. Размеры пособия по безработице, которые правительство хотело понизить до уровня пособия по кризисному обеспечению, сохранялись в прежнем объеме. Безработные молодые люди снова получали законное право претендовать на получение пособия по безработице, если их семьи не могли оплачивать их содержание. Для облегчения тягот, которые общины несли в сфере общественной благотворительности, рейх предоставил в их распоряжение на текущую зиму 230 млн рейхсмарок. Федеральным землям было одновременно разрешено распределить среди общин 80 млн в качестве частичного платежа. Северинг добился принятия этого постановления, заявив, что в противном случае он не может и далее гарантировать сохранение в Пруссии спокойствия и порядка. К этим выплатам добавились расходы на поддержку создания сельскохозяйственных поселений и «картонных городов», основанных безработными на окраинах больших городов. Негативное влияние на социальную сферу оказало понижение на 20 % налога на квартирную плату, с помощью которого финансировалось жилищное строительство, а также наделение имперского правительства полномочиями в случае необходимости снижать расходы органов социального страхования. Дальнейшее понижение заработных плат, жалованья и цен, с помощью которого Брюнинг намеревался дать ответ на девальвацию британского фунта, оставалось прерогативой следующего чрезвычайного постановления{472}. Гораздо большей сенсацией, чем новый декрет, стало другое событие: 7 октября 1931 г. последовали отставка правительства Брюнинга и поручение Гинденбурга сформировать новое правительство, адресованное прежнему рейхсканцлеру. Новый правительственный кризис, достигшей своей кульминации в ходе отставки правительства, начался 3 сентября 1931 г. В этот день вице-канцлер Австрии Шобер и министр иностранных дел Германии Куртиус выступили перед Комитетом Европы Лиги Наций в Женеве с заявлением о том, что обе страны больше не будут продолжать реализовывать проект создания немецко-австрийского таможенного союза. Этот отказ стал той ценой, которую Вена должна была заплатить за проведение санации финансов Австрии с помощью международных кредитов. Но и без совместного заявления Шобера и Куртиуса проект таможенного союза был обречен на неудачу: 5 сентября Международный суд в Гааге принял решение, согласно которому он противоречил Женевскому протоколу 1922 г. об экономическом и финансовом восстановлении Австрии, т. е. уже существующему международному договору. Тем самым позиция Куртиуса, главного инициатора создания таможенного союза, стала весьма шаткой. Он подвергался острым нападкам не только со стороны «национальной оппозиции», но и газеты Партии Центра «Германиа». Его собственная партия, ДФП, требовала от него подать в отставку. Куртиус не смог противостоять этому давлению. Вернувшись из Женевы, он обговорил с Брюнингом свою отставку, которая должна была последовать сразу же после визита министра иностранных дел Бриана и премьер-министра Франции Лаваля в Берлин, намеченного на 27–28 сентября. В соответствии с этой договоренностью 3 октября Куртиус обратился к рейхсканцлеру с просьбой ходатайствовать перед рейхспрезидентом об его отставке. Но правительственный кризис был вызван прошением Куртиуса об отставке лишь постольку, поскольку рейхсканцлер под давлением влиятельных сил был готов совершить поворот направо. 6 сентября в этом смысле высказался Шлейхер, 13 сентября — Гинденбург. 3 октября крыло ДФП, представлявшее тяжелую промышленность, потребовало от партии перейти в оппозицию и после начала сессии рейхстага 13 октября выдвинуть предложение о вынесении вотума недоверия правительству. Сам Брюнинг давно уже расценивал союз с правыми на длительное время как совершенно необходимый шаг, но связывал подобную корректировку курса со следующим условием: «национальная оппозиция» должна была взять на себя обязательства вновь избрать рейхспрезидентом Гинденбурга, срок пребывания в должности которого завершался весной 1932 г. Но к этому отнюдь не был готов Гугенберг, о чем он и заявил канцлеру 27 августа. От Гитлера в этом вопросе можно было ожидать не больше уступчивости, чем от вождя немецких националистов. И тем не менее Гинденбург настаивал на том, чтобы Брюнинг расстался с теми министрами, которые вызывали недовольство рейхспрезидента по той причине, что они были слишком левыми или слишком католиками, или попали в немилость главы государства по иным соображениям. К членам правительства, которых должен был сменить Брюнинг, относились наряду с Куртиусом Вирт, Штегервальд, Герард, Тревинарус и Шиле, а также статс-секретарь Пюндер. После того как 7 октября Брюнинг в ответ предложил Гинденбургу принять отставку всего правительства, рейхспрезидент отказался от этого максималистского требования. Его пожелание теперь сводилось к тому, чтобы новое правительство было независимо в партийнополитическом отношении и обладало ярко выраженным консервативным профилем. Брюнинг пообещал исполнить это желание, после чего рейхспрезидент принял отставку правительства и поручил исполняющему обязанности канцлера образовать новый кабинет{473}. 9 октября формирование второго правительства Брюнинга было завершено. Оно было не настолько правым, насколько этого желал Гинденбург. Брюнингу не удалось подвигнуть ведущих промышленников к вхождению в правительство: отказом ответили Фёглер и Сильверберг. И тем не менее Герман Вармбольд, представлявший химическую промышленность, занял давно вакантный пост министра экономики. Министерство внутренних дел, которое до сих пор возглавлял левофланговый член Партии Центра Йозеф Вирт, Брюнинг вручил для управления в качестве уполномоченного в руки министра рейхсвера Грёнера, после того как первый кандидат Брюнинга, бывший министр рейхсвера Гесслер, столкнулся с серьезным сопротивлением, в том числе и рейхсвера. Место министра юстиции занял крайний консерватор, близкий к немецким националистам статс-секретарь Иоэль, фактически руководивший министерством с момента ухода его предыдущего главы Иоганна Виктора Бредта в декабре 1930 г. Тревинарус стал вместо Герарда министром транспорта, а Брюнинг сам вступил в наследие Куртиуса в качестве министра иностранных дел. Все прочие министры сохранили свои портфели. 7 ноября правительство пополнилось десятым членом: владелецдворянского поместья и депутат от Христианско-национальной сельскохозяйственной партии Ганс Шланге-Шёнинген стал рейхскомиссаром по оказанию помощи Востоку и одновременно — рейхсминистром без портфеля{474}. Немецкая народная партия не вошла во второй кабинет Брюнинга. 7 октября ее пресс-служба выступила за то, чтобы занять свое место в рядах «национальной оппозиции» правительству. Спустя три дня комитет партии и ее фракция в рейхстаге приняли под давлением представителей интересов тяжелой промышленности решение о вынесении вотума недоверия правительству в рейхстаге. Это был окончательный разрыв между правым крылом лагеря предпринимателей и кабинетом Брюнинга. Возможность встать в ряды «национальной оппозиции» перед лицом всей немецкой общественности представилась всем желающим уже на следующий день, 11 октября, в Бад Гарцбурге, где проходил «смотр войск» радикальных правых партий и союзов. И все же, за исключением Эрнста Бранди, одного из директоров угольных шахт Объединенных сталеплавильных заводов, ни один из известных крупных промышленников не принял участия в этом мероприятии. Очевидно, даже самые ярые критики Брюнинга среди предпринимателей еще страшились безоговорочно примкнуть к крайне правым. Во встрече «национальной оппозиции» в Бад Гарцбурге приняли участие НСДАП, ДНФП, «Стальной шлем», Ландбунд и Пангерманский союз, а также многочисленные представители бывших правящих княжеских домов, в том числе принц из династии Гоген-цоллернов и командир СА Август Вильгельм по кличке «Айви», депутат рейхстага от Экономической партии Заксенберг, бывший командующий сухопутными силами рейхсвера генерал фон Сект, ставший с 1930 г. депутатом рейхстага от ДФП, а также бывший президент Рейхсбанка Шахт. Гугенберг клеймил «кровавый террор марксистов» и «культурбольшевизм». Гитлер, который за день до этого был впервые принят Гинденбургом, прежде всего привлек всеобщее внимание тем, что демонстративно покинул трибуну сразу же после того, как вслед за торжественным прохождением частей СА последовали подразделения «Стального шлема»; Шахту удалось своими нападками на рейхсбанк развязать многодневную изнурительную дискуссию. Резолюции «Гарцбургского фронта» не содержали ничего нового. Национал-социалисты и немецкие националисты объявили о ряде совместных инициатив, с которыми они намеревались выступить в рейхстаге, в том числе о вынесении вотума недоверия правительству Брюнинга, ходатайстве к рейхспрезиденту о роспуске рейхстага и назначении новых выборов на 8 ноября, а также о прошении объявить все чрезвычайные постановления утратившими силу. Инициатива встречи в Гарцбурге исходила от Гугенберга. Гитлер использовал эту возможность, чтобы наглядно продемонстрировать всем, что у него есть партнеры по коалиции, которые могут оказать ему содействие в «захвате власти». Вильгельм Фрик, бывший министр внутренних дел и народного образования Тюрингии, потерявший свои посты в апреле в результате вынесения ему вотума недоверия, совершенно открыто завел речь об этом перед собравшимися в Гарцбурге национал-социалистами, ссылаясь на пример Муссолини. Но одновременно Гитлер наглядно показал прежде всего своим сознательно провокационным поведением, что он не собирался предоставлять немецким националистам возможность использовать его в своих целях. Сторонники Гитлера, равно как и его противники, должны были уяснить, кто главный среди «национальной оппозиции»: он и его национал-социалисты, а не какие-то там именитые лица, партии или буржуазные союзы правых{475}. Гарцбургский съезд облегчил для социал-демократов процесс примирения с поправевшим вторым кабинетом Брюнинга. Бесцеремонных нападок «фашистской реакции» на правительство рейха было почти достаточно, чтобы оно предстало сносным в глазах СДПГ. Речи Шахта по поводу валютной политики побудили «Форвартс» выйти 12 октября подзаголовком «Гарцбургский фронт инфляции». В ходе дебатов в рейхстаге ораторы социал-демократы упоминали и другие девальвационные планы «гарцбургцев», в том числе размышления Гугенберга о национальной валюте. У СДПГ в этом пункте было полное согласие с Брюнингом, который также решительно ополчился против этих проектов. 16 октября 1931 г. в ходе голосования по вопросу о вынесении вотума недоверия правительству СДПГ голосовала против. Победа правительства, хотя и с минимальным преимуществом, объясняется также позицией, занятой Экономической партией: Брюнинг добился ее поддержки шантажом, пригрозив в противном случае сделать достоянием общественности сведения о сомнительной деловой практике «Берлинского Миттельштандсбанка», тесно связанного с партией и только что потерпевшего крах. Еще одним успехом правительства было то, что в тот же день пленум рейхстага принял предложение партии Центра о переносе заседаний парламента на 23 февраля 1932 г.{476} Вакуум, который оставил после себя рейхстаг, должен был по меньшей мере временно заполнить Экономический консультативный совет. С инициативой созыва такого органа выступил еще 24 сентября 1931 г. статс-секретарь Тренделенбург, исполнявший обязанности главы министерства экономики. Хозяйственно-политическая цель Экономического совета была совершенно очевидна: кабинет стремился добиться от работодателей и рабочих согласия на дальнейшее понижение заработной платы и цен, тем самым обеспечив очередному чрезвычайному постановлению определенную долю общественной легитимации. Но рейхсканцлер преследовал в этом деле еще одну цель: Гинденбург, который обязан был торжественно открыть совет и произнести церемониальную речь приего закрытии, должен был продемонстрировать общественности, что он еще полностью дееспособен. Если рейхспрезидент, которому 2 октября исполнилось 84 года, сумел бы во время этих выступлений показать свое хорошее общее состояние, то его шансы быть вновь избранным на высший государственный пост весной следующего года существенно бы выросли. В любом случае Брюнинг так думал, и, с его точки зрения, это придавало эксперименту Экономического совета практически историческое значение. Гинденбург справился с отведенной ему ролью: он зачитал 29 октября и 23 ноября оба коротких обращения, которые ему подготовили квалифицированные служащие правительства, в том числе статс-секретарь Пюндер. Но Экономический совет не привел к достижению консенсуса, на что так надеялось правительство. Напротив, пропасть между профсоюзами и союзами предпринимателей стала только глубже, и правительство скорее вызвало дополнительное сомнение, чем добилось понимания в отношении своих планов. Намеки Брюнинга на то, что тарифные соглашения должны стать менее жесткими, отставали от того, к чему стремились работодатели, но их хватило для того, чтобы вызвать недовольство профсоюзов. Представители же сельского хозяйства чувствовали себя в меньшинстве настолько, что 19 ноября, за день до окончания переговоров, они отказались от своего дальнейшего в них участия. В случае, если Брюнинг действительно верил в то, что Экономический консультативный совет может выступить в качестве некоего сословного эрзац-парламента, результат этой попытки должен был его разочаровать{477}. 25 ноября 1931 г., спустя два дня после завершения переговоров в Экономическом совете, в Гессене произошел инцидент, надолго обеспечивший газеты броскими заголовками. Один из бывших депутатов местного ландтага от НСДАП, покинувший партию, передал начальнику полиции Франкфурта материалы, представлявшие собой настоящую политическую бомбу. На следующий день они стали известны всей стране как «Боксхаймские документы». Речь шла о планах ведущих гессенских национал-социалистов на случай захвата власти. К предусмотренным ими мерам среди прочих относились следующие: «Все огнестрельное оружие должно быть сдано… (СА, отрядам ландвера или подобной организации) в течение 24 часов. Тот, кто после истечения этого срока будет уличен в хранении огнестрельного оружия, будет расстрелян на месте без суда и следствия как враг… (СА, отрядов ландвера или подобной организации) и немецкого народа… Каждый чиновник, служащий и рабочий, находящийся на государственной службе или на службе в государственном учреждении транспорта, должен тотчас же приступить к исполнению своих обязанностей. Сопротивление и саботаж будут караться смертью». В то время как социал-демократические и либеральные газеты забили тревогу и расценивали «Боксхаймские документы» как свидетельство истинных намерений национал-социалистов, верховный рейхспрокурор Карл Август Вернер и министерство юстиции отреагировали совершенно иначе. Вернер торжественно заверил, что действия полиции Дармштадта, проведшей обыски в домах у подозрительных национал-социалистов, были вызваны не его указаниями, а Северинга. Наличие состава преступления по обвинению в государственной измене должно было быть, по его словам, еще установлено. Министерский советник Рихтер из министерства юстиции, в свою очередь, в ответ на запрос рейхсканцелярии заявил, с одобрения своего министра Иоэля, что для установления такого состава преступления, как государственная измена, необходимо констатировать наличие у преступника умысла насильственно свергнуть конституцию. «Составление прилагаемого проекта объявления или декрета как таковое еще не является уголовно наказуемым деянием. К примеру, возможен случай, когда автором проектов такого рода может выступить профессор истории или фантаст». Указание преуменьшить по возможности значение «Боксхаймских документов» исходило не от кого-либо, а от самого Брюнинга. Для рейхсканцлера речь шла прежде всего о том, чтобы ничем не осложнить первый зондаж почвы между Центром и НСДАП: после выборов в ландтаг Гессена, состоявшихся 15 ноября, из которых национал-социалисты вышли однозначными победителями, единственным способом образовать правительство большинства стала чернокоричневая коалиция, которая могла рассчитывать на 37 мест из 70. Брюнинг расценивал такой вариант как чрезвычайно желательный — при условии, чтобы НСДАП не получала контроля над полицией. Тем не менее 30 ноября 1931 г. верховный рейхспрокурор был все же вынужден начать расследование по обвинению в государственной измене в отношении авторов «Боксхаймских документов». Вслед за этим НСДАП официально запротоколировала свое намерение освободить от своих партийных обязанностей до конца расследования членов партии, причастных к этому делу. 11 месяцев спустя, 12 октября 1932 г., после разбирательства за закрытыми дверями четвертый сенат Имперского суда объявил о прекращении уголовного преследования в отношении автора «Боксхаймских документов», судебного асессора Вернера Беста, из-за недостатка улик{478}. Что касается левых политиков, то в их отношении юстиция демонстрировала гораздо меньше стремления к взаимопониманию, чем в отношении национал-социалистов. 23 ноября 1931 г. Имперский суд на основании закона о разглашении военной тайны от 3 июня 1914 г. осудил к одному году и шести месяцам лишения свободы главного редактора журнала «Вельтбюне» Карла фон Осецкого, а также писателя и летчика Вальтера Крайзера за публикацию в начале 1929 г. статьи, в которой разоблачалось нарушение Версальского договора в области военной авиации. Напрасно социал-демократическая фракция рейхстага указывала 25 ноября 1931 г. в своем протесте правительству, что статья в «Вельтбюне» никоим образом не содержит тайны, а лишь «разоблачает» вещи, которые либо были известны широкой общественности, либо о которых можно было даже прочитать в опубликованном протоколе заседания бюджетного комитета от 3 февраля 1929 г. В мае 1932 г. Осецкий начал отбывать срок своего заключения в Тегельской тюрьме, Крайзер скрылся от тюремного наказания за границей{479}. Терпимая позиция, которую Брюнинг занял осенью 1931 г. в отношении национал-социалистов, была согласована с руководством рейхсвера. Грёнер и Шлейхер, также как и канцлер, считали необходимым предпринять попытку лишить НСДАП ее роли радикалькой оппозиционной партии и встроить в качестве составного механизма в государственную машину. Проверкой Гитлера на деле должно было стать его согласие на повторные выборы Гинденбурга — тема, которая уже была предметом разговора Брюнинга и вождя национал-социалистов во время их тайной встречи 10 октября в доме фон Тревирануса, но тогда канцлеру не удалось заручиться какими-либо обещаниями Гитлера. Брюнинг надеялся использовать участие НСДАП в правительстве — сначала в Гессене, а позже и в рейхе — как средство укрощения этой партии. «Необходимо, — заявил он 20 ноября статс-секретарю Шефферу из имперского министерства финансов, — вынудить национал-социалистов также взять на себя ответственность и по возможности сделать это еще в рамках парламентского правительства. В Гессене это вскоре должно случиться. Большая опасность, которую необходимо избежать, состоит в том, что национал-социалисты могут остаться в оппозиции вплоть до выборов президента. Тогда у Гитлера появится шанс быть избранным в рейхспрезиденты в ходе второго тура голосования, что означало бы установление совершенно определенной политики на долгий срок». Участие НСДАП в правительстве казалось Брюнингу искусным тактическим шагом еще и потому, что таким образом можно было добиться раскола «Гарцбургского фронта». Поэтому рейхсканцлер с симпатией следил за попыткой Союза торговых служащих, находившегося под контролем немецких националистов (был основан в 1893 г. и стал самым большим профессиональным союзом служащих в составе Христианско-национальной немецкой федерации профсоюзов), подвигнуть национал-социалистов сблизиться с Центром и совместно выступить против сил социальной реакции, возглавляемых Гугенбергом. Однако в Гессене коалиционные усилия Центра закончились неудачей: НСДАП потребовала предоставить ей фактически всю полноту власти, на что Центр 11 декабря 1931 г. отреагировал отказом, хотя и в любезной форме. В итоге коалиционное правительство СДПГ и Центра, возглавляемое социал-демократом Бернгардом Аделунгом, которое подало в отставку 8 декабря, осталось у власти как исполняющее обязанности и просуществовало даже некоторое время после новых выборов, назначенных Конституционным судом федеральной земли Гессен на 19 июня 1932 г.{480} Попытки Брюнинга навести мосты к национал-социалистам вызывали сильное раздражение не только у социал-демократов, но и внутри правительственного лагеря. «Форвартс» протестовала 6 декабря 1931 г. под заголовком «Брюнинг, защищайся!» против международной пресс-конференции Гитлера, которая создавала впечатление, что на ней говорил будущий глава правительства. На следующий день председатель фракции Государственной партии Август Вебер писал рейхсканцлеру о том, что его вся его фракция разделяет мнение, согласно которому «пассивная позиция имперского правительства в отношении вызывающего поведения национал-социалистов, сильнейшим образом подрывающего государственный авторитет и национальные интересы немецкой политики, не вызывает понимания и не является более приемлемой». 8 декабря 1931 г. Брюнинг наконец-то решился прояснить ситуацию. В обращении, переданном по радио, в ходе которого он также разъяснял главные положения принятого «Четвертого чрезвычайного постановления об обеспечении экономики и финансов и защите внутреннего спокойствия», Брюнинг атаковал двусмысленность заверений Гитлера о приверженности НСДАП законности. Критику канцлера венчало следующее предложение: «Если кто-то заявляет, что, придя к власти законным путем, он нарушит существующие рамки законности, то это отнюдь не законность. Еще в меньшей степени это есть законность еще и потому, что в то же самое время в узком кругу куются планы мести»{481}. Чрезвычайному постановлению от 8 декабря 1931 г., главной теме речи Брюнинга, предшествовали ожесточенные споры в правительстве. Прежде всего дебаты шли вокруг вопроса, не пришло ли уже время оживить внутренний рынок за счет расширения кредита. Самым активным сторонником проведения подобной конъюнктурной политики был министр экономики Вармбольд, который, однако, не смог взять верх над президентом рейхсбанка Лютером. Последний настаивал на том, что экономика испытывает нужду не в кредите, а в заказах, и во всем остальном целительный процесс дефляции не должен преждевременно прерваться. Брюнинг и министр финансов Дитрих были настроены гораздо более скептически, чем Лютер, в отношении последствий прогрессирующей дефляции. Но так как для канцлера приоритетной целью было прекращение репарационных выплат, он отклонял любую меру, которая могла бы вызвать за рубежом впечатление, что при наличии доброй воли Германия была полностью в состоянии выплачивать свои долги. Поэтому создание рабочих мест, финансируемое за счет расширения кредита, было немыслимым с точки зрения Брюнинга. С другой стороны, глава правительства также не хотел дальнейшего сокращения реальных доходов рабочих и служащих. Ведь в этом случае экономическая активность сошла бы на нет, а число безработных, которое впервые в ноябре перевалило за цифру в 5 млн человек, достигло бы еще более гигантских размеров, что имело бы такие финансовые и социальные последствия, которые уже невозможно было бы контролировать. Рецепт Брюнинга заключался в том, чтобы связать понижение заработной платы и цен таким образом, чтобы не привести к существенному сокращению массовой покупательной способности и одновременно увеличить экспортные возможности немецкой промышленности. Оживлению экономической конъюнктуры должно было способствовать понижение государством общего уровня процентной ставки. Логичным образом в комплекс этих мер входило также снижением банковской учетной ставки, против чего однако ожесточенно выступал Лютер. В конце концов был достигнут компромисс: вместо снижения учетной ставки на 2 %, как этого желал кабинет, 9 декабря Центральный банковский совет принял решение о понижении ставки только на один процент — с8%до7 %,вто время как ломбардная ставка снижалась 10 % до 8 %. Эта полумера едва ли была в состоянии дать мощный импульс экономической конъюнктуре. Еще одно решение, принятое правительством вопреки протестам министра экономики Вармбольда, на деле должно было привести даже к обратному эффекту: чтобы гарантировать сбалансированность общественных бюджетов, налог с оборота был увеличен с 0,85 % до 2 %. Декрет от 8 декабря 1931 г. в первую очередь являлся ответом Германии на поворот во внешней торговле, вызванный отказом Великобритании от золотого стандарта. Понижение уровня процентов и цен было направлено на то, чтобы существенно увеличить экспортные преимущества Германии. Девальвация марки еще больше сыграла бы на руку немецкому экспорту, но, во-первых, она была запрещена планом Янга, во-вторых, этот шаг перечеркнул бы всю политику Брюнинга в отношении репараций. Большие экспортные прибыли Германии были едва ли совместимы с целью подвигнуть кредиторов к радикальному отказу от плана Янга. Ощутимая девальвация марки должна была состояться, по мнению Лютера и Брюнинга, только после окончательного решения репарационного вопроса. Канцлер полагал, если он верно воспроизводит положение вещей в своих мемуарах, что стоимость рейхсмарки на мировом рынке могла бы в этом случае снизиться не менее чем на 20 %. Внутренняя архитектура чрезвычайного постановления затрудняла социал-демократам и профсоюзам его фронтальную критику. С одной стороны, налицо имелось сокращение заработной платы рабочих на 10 %, а в исключительных случаях — даже на 15 %, а также уменьшение жалованья чиновников и служащих на 9 %, но, с другой стороны, присутствовали решительные меры по снижению цен, арендной платы и процентных ставок. Так, твердые цены и цены на нормированные товары сокращались на 10 %, квартирная плата в старых домах — примерно на 7,5 %, ставки по долгосрочным внутренним долговым обязательствам — в среднем на 25 %. Эти предписания, приведенные в конце декрета, вызвали настоящую сенсацию и дали «Форвартс» повод прийти к выводу, что данный декрет является в любом случае «самым мощным и всеобъемлющим вмешательством в экономику, которое когда-либо позволяло себе государство в рамках капиталистической системы. От так называемой свободной экономики ничего не осталось». То, что произвело такое сильное впечатление на социал-демократов, одновременно вызвало возмущение предпринимателей. Имперский союз немецкой промышленности заявил 11 декабря в информационном письме, направленном всем его членам, что содержание декрета «представляет собой чудовищное государственное вмешательство в существующие частнокапиталистические отношения, направленное против защищаемых нами основополагающих принципов индивидуалистического экономического порядка». Что же касается суждений об отдельных предписаниях декрета, то они были более дифференцированными. Повышение налога с оборота встретило острую критику, зато все меры, направленные на снижение производственных затрат, вызвали одобрение. «Если бы эти меры были приняты раньше, то вероятно можно было бы избежать большую часть сегодняшних трудностей. Но так как они приняты только теперь, под давлением чрезвычайной нужды, то мы можем лишь выразить надежду, что сегодня для этого еще не слишком поздно». Наряду с финансовой и экономической политикой декрет регулировал также вопросы внутренней безопасности. Самым сенсационным стал всеобщий запрет на ношение униформы и знаков различия политических организаций. Хотя эта мера в первую очередь была направлена против национал-социалистов, она вызвала протесты и среди социал-демократов. «То, что защитникам республики, точно так же, как и ее врагам, впредь запрещается выражать их убеждения в одежде и знаках различия, вызывает у нас горечь», — комментировала «Форвартс», выступавшая здесь адвокатом республиканского военизированного союза Рейхсбаннер Шварц-Рот-Гольд{482}. В то время как в Германии шли споры вокруг «за» и «против» нового чрезвычайного постановления, Особый Совещательный комитет при Банке международных расчетов в Базеле рассматривал вопрос о том, в состоянии ли еще Германия выполнять свои обязанности по выплате репараций. Созыв этого органа произошел согласно запроса имперского правительства, последовавшего 20 ноября со ссылкой на соответствующее положение плана Янга. Особый комитет начал свою работу 7 декабря, а 23 декабря он смог уже представить результаты своей консультации. Они представляли собой не больше и не меньше чем выступление в пользу тотальной ревизии плана Янга. Ключевое предложение гласило: «Если мы хотим воспрепятствовать новым бедам, незамедлительно должна состояться адаптация всех межгосударственных долгов (репараций и других военных долгов) к настоящему расстроенному положению мировой экономики. Это единственный способ, который в состоянии надолго восстановить взаимное доверие, являющееся самой прочной основой экономической стабильности и подлинного мира». Большего в Германии не мог ожидать никто. Американский конгресс ратифицировал мораторий Гувера после ожесточенных дебатов только 22 декабря 1931 г. — за день до представления отчета Особого комитета. Сопротивление полному аннулированию межсоюзнических военных долгов было сильным, как и прежде. Поэтому представлялось маловероятным, что Франция так быстро откажется от своих репарационных притязаний. Весной 1932 г. должны были состояться выборы в Национальное собрание — обстоятельство, дополнительно ограничивавшее свободу рук французского правительства. Конференция по вопросу о репарациях, которую планировалось созвать в Лозанне в начале 1932 г. на основании рекомендаций Базельского отчета, могла, следовательно, прийти к скорому завершению только в том случае, если бы Германия продемонстрировала свою готовность к компромиссу и не настаивала бы на полном устранении репараций. Но именно это было главной целью Брюнинга, и после успеха в Базеле канцлер и не думал о том, чтобы пойти хоть на какие-нибудь уступки. Решив с подачи Банка Англии сделать ставку на выигрыш времени, Брюнинг заявил 8 января 1932 г. британскому посланнику серу Горацию Румбольду, что Германия не сможет выплачивать репарации ни сегодня, ни в будущем. Благодаря утечке информации это заявление попало в прессу, таким образом уже 9 января было ясно: имперское правительство не заинтересовано в компромиссном разрешении проблемы репараций. Намерения Брюнинга были совершенно очевидны. Статс-секретарь Пюндер зафиксировал 8 января результаты совещания, которое рейхсканцлер провел днем ранее с участием статс-секретаря фон Бюлова из МИД и немецкими послами в Париже, Лондоне и Риме. Следующая запись подводит черту под общим солидарным мнением участников совещания: «Повторное тщательное обсуждение общей ситуации продемонстрировало полное понимание того, что катастрофический по своим последствия мировой экономический кризис имеет для нас также и положительные моменты в том, что касается политики вокруг репараций. За исключением политического сопротивления во Франции, во всем остальном мире пришли к осознанию того, что время выплаты репараций истекло. Но так как период самой тяжелой депрессии уже преодолен и ощущается незначительное улучшение ситуации, мы потеряли те козыри в вопросе репараций, которые у нас были… По этой причине единодушное мнение сегодня сводится к тому, чтобы не преследовать далее цель достижения новых промежуточных результатов, а сосредоточиться на мысли об окончательном решения проблемы, а именно в форме полного аннулирования репараций». Линия, которой Брюнинг сообразно этому намеревался придерживаться на переговорах о репарациях в 1932 г., выглядела совершенно ясной: политически было необходимо полностью использовать экономический кризис, даже если бы это означало дальнейшее ухудшение социальной ситуации и усиление политического радикализма. Правительство рейха сделало ставку на отсрочку Лозаннской «репарационной» конференции и добилось своей цели. 20 января 1932 г. было объявлено об ее отмене, единства по поводу нового срока созыва конференции достичь не удалось. Немецкий посол в Лондоне Константин фон Нейрат заявил британскому министру иностранных дел Симону, что даже полный мораторий, распространяющийся также на незащищенные аннуитеты, не принесет облегчения ситуации, если только переговоры об окончательном урегулировании репарационного вопроса не начнутся еще до 1 июля — дня истечения моратория Гувера{483}. Обнародовав свою подчеркнуто патриотическую позицию в вопросе о репарациях, Брюнинг не должен был ожидать протестов со стороны правых политических сил. Но и у части умеренных левых курс рейхсканцлера встретил благосклонное понимание. Уже ^декабря 1931 г. Теодор Лейпарт, председатель АДГБ, выступил с лозунгом «Конец репарациям!», чем вызвал как одобрение, так и протесты. Его поддержали слушатели собрания, на котором в тот же день было объявлено об образовании «Железного фронта»: объединения СДПГ, Свободных профсоюзов, Рейхсбаннера Шварц-Рот-Гольд и спортивных рабочих союзов, задачей которого было противостоять опасности справа. Заявление Лейпарта вызвало незамедлительное порицание со стороны Рудольфа Брейтшейда, председателя фракции социал-демократической партии в рейхстаге, который обвинил профсоюзного лидера в нарушении решений Социалистического рабочего интернационала и даже во «внушающей опасения близости» к национал-социализму{484}. Лейпарт, очевидно, не осознавал, что его речь, прозвучавшая в унисон с Брюнингом, противоречит цели, которую в это же время начали пропагандировать Свободные профсоюзы: создание новых рабочих мест за счет частичного кредитного финансирования. 23 декабря 1931 г. эксперты-экономисты АДГБ, а именно выходец из России Владимир Войтинский, председатель профсоюза работников деревообрабатывающей промышленности Фриц Тарнов и депутат рейхстага от СДПГ Фриц Бааде представили свою разработку, которая вскоре стала известна как «ВТБ-План» — по начальным буквам фамилий трех ее авторов. Проект предусматривал создание рабочих мест для одного миллиона безработных в сфере общественных работ, для этого в том числе предусматривался валютный заем рейхсбанка. Этот заем должен был покрыть только часть расходов по программе, оценивавшихся Войтинским и его сотрудниками в 2 млрд рейхсмарок. В свою очередь, вновь созданные рабочие места, как утверждалось в программе, вызовут оживление индустрии потребительских товаров, что приведет к дополнительному трудоустройству безработных. Инфляционного фактора не стоило страшиться, принимая во внимание огромные масштабы неиспользуемых производственных мощностей. Было проблематично объединить «ВТБ-План» с точкой зрения «все или ничего» в репарационном вопросе. Если бы Германия расходовала более значительные, чем в данный момент, средства для организации рабочих мест, едва ли можно было бы убедить западные державы в необходимости аннулировать репарации. Напротив, готовность к компромиссному решению, к примеру, долгосрочному мораторию, вслед за которым следовало бы несколько заключительных годовых выплат, размер которых был бы существенно ниже уровня, предусмотренного планом Янга — существенно повысила бы шансы предоставления зарубежного кредита и тем самым оживления конъюнктуры. Но после того, как профсоюзы высказались в поддержку жесткого курса Брюнинга в репарационном вопросе, отход от политики дефляции был еще менее вероятен, чем раньше. Позиция Социал-демократической партии Германии была зеркально противоположной. С одной стороны, она с оглядкой на французских социалистов выступала за синхронное международное урегулирование вопроса репараций и межсоюзнических военных долгов, т. е. в этом отношении СДПГ противоречила национальному ригоризму Брюнинга. С другой стороны, она отвергала активную конъюнктурную политику в том виде, как ее представляли эксперты Свободных профсоюзов, и тем самым действовала согласованно с канцлером. Вследствие этого «ВТБ-План», окончательная редакция которого была готова 26 января 1932 г., так и не стал общей платформой социал-демократического рабочего движения. Поддержанные АфА-Бундом, головной организацией союзов служащих, относившихся к свободным профсоюзам, эксперты от СДПГ предложили 8–9 февраля 1932 г. компромисс: партия и профсоюзы должны требовать создания государством рабочих мест не как изолированную меру, а как часть социалистической «перестройки экономики», при этом не связывая себя дополнительным кредитованием. Федеральный комитет АДГБ 16 февраля последовал этой линии. Его резолюция о рабочей занятости не содержала каких-либо конкретных высказываний по вопросу финансирования. Если «ВТБ-План» и имел когда-либо перспективы достигнуть пропагандистского успеха, то после этого решения он был их практически лишен. Слишком многое соединилось в одном, что удерживало социал-демократов от разрыва с политикой дефляции Брюнинга. Это была и марксистская догма, которая укрепляла их в убеждении, согласно которому кризисы являются неизбежным выражением природы капиталистического общества и их надо перетерпеть вплоть до самого горького конца. Это было также остаточное действие того, что социал-демократ и экономист Герхард Кольм называл «Страх перед страхом инфляции», а именно боязнь того, что избиратели обязательно накажут партию, если только она не будет безапелляционно защищать стабильность марки. В результате, начиная с осени 1931 г. социал-демократы все время ставили в вину правым националистам склонность к инфляционной политике. Каким образом они должны были теперь переписать свою программу, чтобы их же собственные упреки не были обращены против них самих?{485} Но, несмотря на ортодоксальную позицию СДПГ, на рубеже 1931–1932 гг. уже нельзя было говорить о наличии в обществе «оздоровительного консенсуса». В января 1932 г. с программой реформ выступил Эрнст Вагеман, президент Имперского ведомства статистики и директор Института конъюнктурных исследований, намеревавшийся с ее помощью расширить свободу действий банков в области независимого дополнительного кредитования. Брюнинг был настолько этим возмущен, что, будь его воля, он запретил бы публичный доклад Вагемана на эту тему. Внутри правительства также все громче раздавались призывы к активной конъюнктурной политике. Министр экономики Вармбольд и министр труда Штегервальд с начала 1932 г. настаивали на проведении мер по оживлению экономики, которые, как они надеялись, также принесут с собой и внутриполитическую разрядку. 5 февраля 1932 г. министерство экономики в своем меморандуме даже недвусмысленно сослалось на «ВТБ-План» и аргументы Войтинского. Но Брюнинг, как и прежде, ничего не хотел даже слышать о «создании дополнительной покупательной способности посредством кредитной экспансии», — как этого требовал автор меморандума, главный правительственный советник Вильгельм Лаутенбах. И хотя 20 февраля 1932 г. канцлер заявил во время одного из совещаний о своей готовности «высвободить достаточные средства для программы по созданию рабочих мест», они должны были быть получены не путем кредита, а, по меньшей мере их значительная часть, за счет сокращения финансирования безработных. Наряду с канцлером президент рейхсбанка Лютер был тем политиком, который все снова и снова ожесточенно выступал против любых попыток «искусственного» выделения дополнительных кредитов. Как и для Брюнинга, для Лютера речь шла в первую очередь о том, чтобы предотвратить нежелательные политические последствия широкомасштабной программы по созданию рабочих мест: у кредиторов Германии не должно было возникнуть впечатление, что немецкая экономика будто бы располагает значительными запасами мощности, а в самой Германии не должен был распространяться новый «инфляционный образ мыслей». И все же фактическое поведение рейхсбанка было менее жестким, чем это демонстрировалось внешним наблюдателям. 4 марта 1932 г. Лютер прокомментировал заявление, сделанное рейхсминистром финансов Дитрихом, согласно которому тот собирался после выборов рейхспрезидента выступить с программой создания рабочих мест, для чего намеревался ходатайствовать о выделении кредита в размере 2 млрд рейхсмарок. Лютер в ответ констатировал, что рейхсбанк до сего момента еще никому не отказывал в поддержке отдельной индивидуальной программы, которую можно было бы осуществить путем кредитования. В качестве примера Лютер назвал кредитование советских экспортных заказов, так называемых «русских гешефтов», а также финансирование оборотных кредитов для основанного в июле 1931 г. «Акцепт-унд Гарантибанка» — промежуточного финансового института, занявшего место между частными банками и рейхсбанком. Но чего рейхсбанк не хотел и не смел хотеть, так это «большой всеобщей программы, осуществляемой путем расширения кредита. Это полностью подорвало бы к нам доверие… Задача состоит в том, чтобы суметь продержаться до июля, когда будут решены вопросы международной политики». Брюнинг расценивал такое видение сроков как преувеличенно оптимистическое. Репарационный вопрос еще не будет разрешен летом 1932 г., заявил он все на том же совещании 4 марта. Если даже до июля 1932 г. удастся заключить тайное соглашение с Англией и Францией, по мнению рейхсканцлера, было очень сомнительно, что Америка на пороге выдвижения кандидатов в президенты заявит о своей готовности заниматься этим щекотливым делом. Если вновь будет избран Гувер, начиная с ноября, можно будет вновь вступить в переговоры, если же он проиграет выборы, то переговоры не смогут начаться ранее марта 1933 г. — времени вступления в должность нового президента. «До этого времени мы должны продержаться». Статс-секретарь Шеффер, ведший протокол этого совещания, вечером 4 марта, уже в более узком кругу, вернулся к теме графика развития событий, выработанного канцлером. Между ними состоялся, следуя записи Шеффера, следующий диалог: Шеффер'. «Я полностью исключаю, что мы сможем продержаться до следующей весны без международной разрядки и соответствующего успокоения экономического положения». Брюнинг'. «Однако мы должны это сделать. У других не должно возникнуть впечатление, что мы слабеем духом». Шеффер'. «Но мы не должны блефовать, иначе внезапно наступит крах. Я сомневаюсь, не правильнее ли будет совершенно открыто высказать правду англичанам и итальянцам, а также американцам, которые должны согласовывать свою политику с нашим положением. Я бы это сделал. Иначе позднее они могут с полным правом упрекать нас в том, что они только потому не действовали иначе и быстрее, что мы умолчали о нашем истинном положении дел». Брюнинг'. «Мы должны обязательно продержаться до весны 1933 г., даже если мы вынуждены будем пойти ради этого на обман»{486}. Эти рассуждения канцлера едва ли могли поразить статс-секретаря министерства финансов. Еще 28 февраля 1932 г. Шеффер в своем меморандуме, посвященном состоянию бюджета, подвел трезвый итог последствиям отсрочки конференции по репарационному вопросу. Потребность в финансовых средствах предшествовавшей осени и зимы была подсчитана исходя из твердой уверенности, что в феврале 1932 г. будет достигнуто продолжительное или временное решение репарационной проблемы, что должно было повлечь за собой значительное оживление экономики. После того как стало ясно, что поворот к лучшему в скором времени не наступит, на первый план выступала жесткая экономия средств — ни в коем случае не давать разрешение на новые траты и по возможности сократить имеющиеся. «Теперь все силы имперского правительства и рейхсбанка должны быть направлены на то, чтобы настолько жестко контролировать остатки кассы империи, федеральных земель и общин, чтобы мы смогли продержаться в течение всего периода переговоров и не были принуждены к уступкам в ходе переговоров в результате нашего истощения. Перед этой целью безусловно должны отступить на второй план финансовая помощь восточным землям, программы по созданию рабочих мест и финансированию поселений, как бы это ни было болезненно и политически неблагоприятно». Главную причину этой дилеммы Шеффер видел не столько в особенностях развития немецкой и мировой экономик, сколько в ошибках немецкой политики. «Мы всегда одновременно преследовали множество целей, не понимая, что наших сил далеко не достаточно для их одновременного достижения, и мы часто упускали нужный момент, чтобы отодвинуть на задний план цели, несущественные в данный момент, и выдвинуть более важные на передний план. Мы выступили с планом создания немецко-австрийского таможенного союза, который можно было осуществить только в том случае, если бы мы отказались оттого, чтобы наряду с ним тут же поднимать репарационный вопрос. Когда же мы приняли решение возбудить общественное мнение уже во имя решения репарационного вопроса и намеревались предпринять соответствующие правительственные шаги, мы не смогли переориентироваться, чтобы использовать немецко-австрийский таможенный союз, а возможно, также и перенос конференции по вопросам разоружения, для достижения наших репарационных целей». Это суждение Шеффера точно отображает суть дела: ориентация Брюнинга на примат внешней политики в целом и репарационного вопроса в особенности постепенно стала мономанией. Поэтому и в вопросе разоружений канцлер делал диаметрально противоположное тому, что статс-секретарь имперского министерства финансов считал правильным. Когда в декабре 1931 г. Лондон выступил с инициативой переноса уже давно запланированной конференции в Женеве по вопросам разоружения с февраля на начало лето 1932 г., время завершения выборов в Национальное собрание Франции, рейхсканцлер заявил о своем несогласии. Эта конференция должна была, как полагал Брюнинг, не только вернуть Германии равноправие в военном отношении, но и стать рычагом для решения репарационного вопроса. Тактический расчет канцлера был логичен: Франция, судя по имевшимся предпосылкам, не готова была пойти ни на какие уступки в отношении собственного разоружения, а значит, должна была подвергнуться изоляции на Женевской конференции. Если бы это случилось, Париж также ослабил бы свою позицию в предстоящем противостоянии по репарационному вопросу, т. е. невольно действовал бы в немецких интересах{487}. Таким образом, отнюдь не экономическая неизбежность, но поставленные им самим политические цели определяли политику Брюнинга весной 1932 г. Приоритеты канцлера оспаривались в том числе министрами его кабинета и участниками самого тесного круга советников. В центре дискуссии все время находились возможные альтернативы, от которых однако регулярно отказывались. Причина того, что критики политики Брюнинга не смогли ему реально противостоять, заключалась прежде всего в упорстве и целеустремленности главы правительства. И так как теперь Германией правила не парламентская, а президентская система, а рейхспрезидента звали Пауль фон Гинденбург, было невероятным, чтобы канцлер, бывший бы менее «национальным», чем Генрих Брюнинг, смог бы надолго удержаться у власти.Глава XV Логика меньшего зла
Выборы рейхспрезидента стали главным событием весны 1932 г. Семилетнее пребывание Гинденбурга у власти заканчивалось 25 апреля. Начиная с осени 1931 г. Брюнинг прилагал все усилия для того, чтобы генерал-фельдмаршала, достигшего уже 84-летнего возраста, переизбрали. Причем канцлер предпочел бы избежать непредсказуемых рисков всенародного голосования и вместо этого продлить время легислатуры Гинденбурга парламентским путем. Но для этого требовалось добиться в рейхстаге большинства в две трети голосов, необходимого для внесения изменений в конституцию, а заполучить его можно было только в случае поддержки со стороны «национальной» оппозиции. Согласно мемуарам Брюнинга, 6 января 1932 г. он обрисовал перед Гитлером, на случай если тот первым выскажется за переизбрание Гинденбурга, перспективу занять даже «ведущее место в политике», т. е. должность канцлера. Но спустя пять дней Гитлер и Гугенберг пришли к соглашению ответить канцлеру отказом. После этого оставался только предусмотренный конституцией путь: всенародные выборы рейхспрезидента. Брюнинг потерпел внутриполитическое поражение, а кроме этого, дал в руки Гитлеру сильный козырь: теперь тот мог публично заявлять о себе как о защитнике конституции{488}. В то же время было совершенно неясно, удастся ли убедить самого Гинденбурга дать согласие еще раз выставить свою кандидатуру для участия в предвыборной борьбе за высший государственный пост. Канцлер сделал ставку на чувство долга старца, который только один мог спасти Германию от рейхспрезидента — национал-социалиста. Возможно, Брюнинг, как он утверждает в своих мемуарах, также пытался убедить Гинденбурга в том, что если тот сохранит за собой пост президента, то сможет подготовить восстановление монархии. Но все же решающую роль сыграло то обстоятельство, что инициатива переизбрания фельдмаршала исходила справа. И хотя Гинденбург мог победить только в том случае, если бы за него проголосовали социал-демократы, его готовность выдвинуть свою кандидатуру зависела в первую очередь от того, призовут ли его'консервативные круги принести жертву на алтарь отечества и взять на себя бремя еще одной легислатуры{489}. 1 февраля 1932 г. было опубликовано воззвание «Комитета Гинденбурга», во главе которого встал беспартийный обер-бюргермейстер Берлина Генрих Зам. В нем рейхспрезидента характеризовали как «первого в войне, первого в мире и первого в сердцах соотечественников». «Гинденбург, — говорилось далее, — являет собой пример преодоления духа партийности, воплощение народного единства, он — наш путь к свободе». Воззвание подписали поэт Герхард Гауптман, художник Макс Либерман, «верховый мастер» Младонемецкого Ордена Артур Мараун, председатель Имперского союза немецкой промышленности Карл Дуйсберг, генеральный секретарь Хирш-Дункершен Геверкферейн Эрнст Леммер и два бывших министра рейхсвера Отто Гесслер и Густав Носке. Носке, занимавший с 1920 г. пост обер-президента прусской провинции Ганновер, был единственным социал-демократом среди подписавшихся. Консервативная Германия была представлена в «Комитете Гинденбурга» гораздо скромнее, чем на это надеялись президент и канцлер. Ни один из лидеров «национальных союзов» и крупного сельского хозяйства не поставил свою подпись под его воззванием. Поскольку «Стальной шлем», чьим почетным членом был рейхспрезидент, не захотел отдать свой голос в его пользу, то и Имперский воинский союз «Куффхойзер» медлил открыто засвидетельствовать свою приверженность Гинденбургу, являвшемуся его почетным президентом. Только 14 февраля общее правление союза «Куффхойзер» все же выступило с заявлением о поддержке рейхспрезидента, и днем позже Гинденбург наконец-то заявил, что он готов представить свою кандидатуру для возможного переизбрания, осознавая «свою ответственность за судьбы нашей Родины». Заявление Гинденбурга предоставило возможность партиям умеренных правых и центра открыто встать на его сторону. Что касается «Гарцбургского фронта», то он после этого раскололся. «Стальной шлем» и немецкие националисты не хотели терпеть притязаний национал-социалистов на лидерство и 22 февраля выдвинули своего собственного кандидата на пост рейхспрезидента: второго федерального председателя «Стального шлема» Теодора Дюстерберга. В тот же день берлинский гаулейтер НСДАП Йозеф Геббельс заявил, выступая в Дворце спорта: «Гитлер будет нашим рейхспрезидентом!» Спустя четыре дня произошло назначение фюрера национал-социалистов на пост правительственного советника посольства Брауншвейга в Берлине — представительства федеральной земли, которой с октября 1930 г. управляло коалиционное правительство в составе немецких националистов и национал-социалистов. В результате австрийский гражданин Адольф Гитлер получил отсутствующую составляющую, необходимую для выдвижения своей кандидатуры на пост рейхспрезидента — немецкое гражданство{490}. У левых уже с 12 января имелся свой кандидат на пост рейхспрезидента: Эрнст Тельман, номинированный ЦК КПГ как «красный рабочий кандидат», готовый стать преемником Гинденбурга. Руководство Коминтерна и КПГ ожидало от Тельмана, что он сможет перетянуть на свою сторону значительную часть социал-демократического рабочего электората в случае, если СДПГ действительно решится поддержать Гинденбурга. Этот расчет не был полностью ошибочным. Хотя члены и сторонники СДПГ, начиная со времени проведения «политики толерантности» в октябре 1930 г. участвовали во многом, что, строго говоря, противоречило их партийным принципам, призыв голосовать за убежденного монархиста Гинденбурга мог быть воспринят многими социал-демократами как выходящий за все рамки. Правительство Брюнинга не делало ничего, что могло бы облегчить социал-демократам решение поддержать Гинденбурга. Напротив, в начале 1932 г. своими заявлениями и действиями, которые можно было трактовать только как целенаправленное привлечение на сторону правительства крайних правых, оно бросало вызов самой большой демократической партии. Так, 22 января рейхсканцлер ответил обстоятельным открытым письмом на меморандум, которым Гитлер обосновывал свой отрицательный ответ на призыв продлить срок полномочий рейхспрезидента парламентским путем, при этом Брюнинг, по словам «Форвартс», признавал «вожака политической банды» равноправной силой. Неделей позжеминистр рейхсвера Тренер своим распоряжением исключил из числа лиц, имевших право на прохождение военной службы в рейхсвере, членов только тех партий, которые, как поименованная в документе КПГ, «заложили революционные убеждения и враждебность к государству в основание своей партийной программы». Таким образом, Грёнер опосредованно выдал НСДАП свидетельство в том, что она больше не является партией, враждебной конституционному строю. 24 февраля 1932 г., на второй день короткой парламентской сессии, отмеченной постоянными склоками, Брюнинг во всеуслышание заявил о том, что он и его партия готовы «приложить все усилия, чтобы приблизить к государству также и оппозиционные группы самого крайнего толка». По словам Брюнинга, в прошедшие годы правым партиям предоставлялись бесчисленные возможности возглавить правительство и взять на себя ответственность за Германию, и такие попытки «все время предпринимаются (крики национал-социалистов: «Под ярмом Центра!») также со стороны моей партии». Следующее заявление Брюнинга вызвало, согласно протоколу, «громовые продолжительные аплодисменты и овации со стороны центристских партий», в стане же социал-демократов воцарилась тишина. Национал-социалисты, сказал Брюнинг, не должны связывать его, канцлера, с событиями 9 ноября 1918 г. «Господа, 9 ноября я был в воинской части, которая была образована руководством группы Винтерфельд для подавления революции». Исторический экскурс Брюнинга представлял собой реакцию на скандал, который днем ранее спровоцировал Иозеф Геббельс своим замечанием, что «Гинденбурга восхваляют берлинская бульварная пресса и партия дезертиров». Геббельс имел ввиду СДПГ, от имени которой в ответ выступил тяжело раненый доброволец 1914 г., депутат рейхстага Курт Шумахер, бросивший в ответ оратору нацистов вызвавшие бурю аплодисментов слова о том, что вся национал-социалистическая агитация есть не что иное, как «постоянное обращение к самому низменному в человеке», а национал-социализму нельзя отказать только в одном — «ему первому в немецкой политике удалась мобилизация человеческой глупости, всей без остатка». Речь, которую на следующий день произнес канцлер о своей роли в ноябре 1918 г., отнюдь не была публичным извинением перед социал-демократией — скорее, это походило на официальную поддержку национал-социалистической кампании против «преступников ноября»{491}. Но даже провокационное выступление Брюнинга было уже не в состоянии заставить СДПГ отказаться от решения, которое было обнародовано 26 февраля 1932 г., в последний день сессии рейхстага, однако едва ли стало сюрпризом для общественности. 27 февраля под заголовком «Разбейте Гитлера!» появился призыв, решение о котором было принято руководством партии днем ранее. В нем говорилось, что немецкий народ 13 марта 1932 г., в первый день выборов президента, будет поставлен перед альтернативой: «Должен ли остаться Гинденбург или его должен сменить Гитлер?» Гинденбург, говорилось далее, избранный правыми в 1925 г. вопреки голосам социал-демократов, разочаровал своих собственных сторонников: «Теперь они хотят устранить его, потому что он был беспристрастен и таковым хочет остаться, потому что им не удалось привлечь его для осуществления государственного переворота». Руководство СДПГ настолько остро поставило вопрос альтернативы 13 марта, что избирательный лозунг социал-демократов стал делом политической логики и морали. «Гитлер вместо Гинденбурга — это означает хаос и панику в Германии и во всей Европе, крайнее обострение экономического кризиса и безработицы, огромную опасность кровавого противостояния внутри собственного народа и с заграницей. Гитлер вместо Гинденбурга — это означает победу наиболее реакционной буржуазии над ее прогрессивной частью и над рабочим классом, уничтожение всех гражданских свобод, прессы, политических, профсоюзных и культурных организаций, усиленную эксплуатацию и нищенскую зарплату. Каждый голос, поданный против Гинденбурга, это голос, поданный за Гитлера, каждый голос, отнятый у Тельмана и отданный Гинденбургу — это удар по Гитлеру». Члены партии призывались «приложить все силы, чтобы решающий удар был нанесен уже в первом туре выборов! Освободите этим ударом немецкий народ от фашистской угрозы! Разбейте Гитлера! Выбирайте для этого Гинденбурга!». Одному из ведущих социал-демократов показалось недостаточным просто негативное, направленное против Гитлера, обоснование избирательного лозунга СДПГ. В своем личном манифесте, опубликованном «Форвартс» 10 марта, министр-президет Пруссии Отто Браун, выступавший кандидатом от социал-демократов во время первого тура выборов рейхспрезидента в 1925 г., назвал Гинденбурга «воплощением спокойствия и постоянства, мужской верности и самоотверженного исполнения долга перед всем народом». И хотя его, Брауна, отделяла от фон Гинденбурга целая пропасть, «но человечность, столь мало ценящаяся в нашей общественной жизни, навела мост через эту пропасть, который нас соединяет и объединяет в нашем стремлении служить на благо народа по мере своих сил. Я узнал рейхспрезидента как человека, слову которого можно верить, как человека чистой воли и зрелого рассудка, наполненного кантианским чувством долга… Я выбираю Гинденбурга и обращаюсь к миллионам избирателей, которые семь лет назад голосовали за мою кандидатуру, и ко всем остальным, кто доверяет мне и проводимой мной политике: делайте то же самое, разбейте Гитлера, выбирайте Гинденбурга!». В избирательной борьбе участвовал только один политик, пожалуй, более заинтересованный в победе Гинденбурга, чем Браун — Генрих Брюнинг. Также как и у министра-президента Пруссии, у рейхсканцлера в прошлом были личные столкновения с Гинденбургом; лучше, чем кто-либо другой, Брюнингзнал, что Старый Господин во главе государства был менее чем когда-либо способен осмыслить тяжелые политические обстоятельства во всей их совокупности и вынести свое собственное решение. Но все это не играло ровно никакой роли, поскольку у него не было другого кандидата, способного одержать победу над Гитлером. Поэтому в своем последнем предвыборном обращении, произнесенном в берлинском Дворце спорта, рейхсканцлер нарисовал образ рейхспрезидента, который не соответствовал действительности. Он хотел бы найти человека, сказал Брюнинг, который в такой же мере, как и Гинденбург, был бы в состоянии столь «быстро и точно разбираться в проблемах и классически формулировать их в скупых предложениях». Канцлер причислил Гинденбурга к «настоящим вождям» и к «мужам, ниспосланным небом», назвал его «символом немецкой силы и единства во всем мире», завершив свою речь призывом: «Гинденбург должен победить, потому что Германия должна жить!» Сам Гинденбург во время избирательной кампании выступил только с одной речью, которая 10 марта была передана по радио. Он выдвинул свою кандидатуру на перевыборы, сказал рейхспрезидент, чтобы спасти отечество от потрясений, которые неминуемо грядут в случае победы радикального партийного лидера. Он решительно оспорил, что принял свое выдвижение из рук левых или чернокрасной коалиции. Напротив, первые обращения к нему снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента последовали от правых групп. Стать «на внепартийной основе кандидатом всего немецкого народа и противопоставить себя в таком качестве тем, кто являются кандидатами всего лишь от одной из партий», в этом он видел свой долг перед родиной. Гинденбург напомнил о духе 1914 г. и о фронтовых убеждениях, когда «спрашивали о том, мужчина ли ты, а не том, к какому сословию или какой партии ты принадлежишь», заклинал избирателей во имя «народного единения», и обещал, как когда-то на войне, так и теперь, все выдержать и верно служить немецкому народу{492}. Поздно вечером 13 марта выяснилось, что будет второй тур выборов: за Гинденбурга было подано 49,6 % голосов избирателей, что не позволило ему достичь необходимого абсолютного большинства. Гитлер с 30,1 % стал вторым, далее с большим отставанием следовали Тельман с 13,2 % и Дюстерберг, за которого проголосовали 6,8 % избирателей. Чтобы действующий рейхспрезидент одержал победу, не хватило 173 000 голосов. Но в отличие от 1925 г. он добился большого успеха в избирательных округах, бывших цитаделями социал-демократии, а также там, где доля католиков в составе населения была весьма высокой. В евангелическо-аграрных областях, где семь лет назад он победил с большим преимуществом, теперь его результаты, напротив, были намного ниже средних показателей по рейху. Если не принимать во внимание Баварию, то Гинденбург проиграл в отношении своих постоянных избирателей, в то же время выиграв в отношении своих бывших противников{493}. Гитлер пошел на большой риск, отважившись на политическую дуэль с фельдмаршалом. Хотя фюрер получил на пять миллионов голосов больше, чем его партия во время последних выборов в рейхстаг в сентябре 1930 г., но пропаганда НСДАП вознесла победные ожидания «старых борцов» на такую высоту, что многие из них после оглашения результатов голосования пребывали в глубокой депрессии, а флаги со свастикой были в трауре спущены ими до середины мачт. Сам Гитлер пытался создать впечатление, что победа находится от него в одном шаге. Еще в ночь на 14 марта он выдвинул лозунг сконцентрировать все имеющиеся силы на втором туре выборов, назначенном на 10 апреля: «Наступление должно быть возобновлено в самой острой форме… Первый тур предвыборной борьбы закончен, второй начался сегодня. Его я также возглавлю лично!»{494} Как свой несомненный успех КПГ расценила то, что по сравнению с последними выборами в рейхстаг она получила на 400 000 голосов больше, но признавала в порядке «большевистской самокритики», что ей «только частично удалось разоблачить вредные маневры социал-демократической партии, ее лживые разглагольствования о “меньшем зле”, о “государственном капитализме”, ее политику “Железного фронта” и убедить миллионы рабочих — социал-демократов и членов профсоюзов в правильности нашей политики, вырвав их из-под влияния социал-фашизма». Во втором туре выборов, в ходе которого еще более ясно, чем в ходе первого, речь шла об альтернативе Гинденбург или Гитлер, Центральный комитет КПГ и не думал снимать кандидатуру Эрнста Тельмана. «Главный удар» партия обещала направить, согласно указанию Сталина, последовавшему в ноябре 1931 г., против социал-демократии. Тем самым становилась ясной самая важная задача, стоявшая перед «боевой кандидатурой товарища Тельмана»: более, чем когда-либо ранее, считалось необходимым дать рабочим возможность «осознать характер СДПГ как умеренного крыла фашизма и как организации-близнеца гитлеровского фашизма»{495}. Силы, которые привели Гинденбурга к порогу победы, вздохнули с облегчением после оглашения результатов выборов. Руководство СДПГ заявило 16 марта о поражении Гитлера, о том, что Германию удалось защитить от ужасной беды, а весь остальной мир освободить от чудовищной угрозы. День спустя прусский министр внутренних дел Северинг отдал приказ провести обыск во всех отделениях НСДАП и СА. При этом выяснилось, что в день выборов по приказу партийного руководства в Мюнхене части САбыли приведены в состояние боевой готовности, и штурмовики были готовы к насильственным действиям. Именно об этом в письменной форме сообщил Северингу 8 марта, т. е. за пять дней до выборов, исполняющий обязанности министра внутренних дел Грёнер. В ответ на действия Северинга НСДАП выдвинула обвинения против прусского правительства перед конституционным судом в Лейпциге. Когда 24 марта представитель прусского МВД стал утверждать в ходе разбирательств, со ссылкой на письмо от 8 марта, что действия прусской полиции были инициированы рейхсминистром внутренних дел, Грёнер отреагировал с раздражением: политик, совмещавший посты министра рейхсвера и внутренних дел, не захотел задним числом признать свое письмо сигналом к энергичным действиям против нацистов. Колебания Грёнера вызвали образование целой фаланги федеральных земель в составе Пруссии, Баварии, Бадена, Вюртемберга, Саксонии и Гессена. На конференции, собравшейся 5 апреля, в адрес министра внутренних дел прозвучали резкие упреки в бездействии. Запрета СА требовали не только министры внутренних дел — социалисты, такие как Северинг из Пруссии, Майер из Бадена и Лейшнер из Гессена, но и их баварский коллега и политик от БФП Штютцель. «Единый фронт земель», как его назвал присутствовавший на конференции рейхсминистр юстиции Йоэль, впечатлил также и Грёнера. Он решился предложить на рассмотрение правительства проект чрезвычайного постановления, предусматривавшего запрет СА и СС{496}. В этот же день, 5 апреля, Северинг предоставил прессе подробную информацию о результатах обысков, проведенных полицией 17 марта. Они свидетельствовали, по мнению министра внутренних дел Пруссии, об изменнических действиях НСДАП. Так, в Померании и в приграничной области Позен-Вестпройсен штурмовые отряды планировали добыть оружие со складов восточно-немецкой пограничной стражи и в случае вступления польских войск на немецкую территорию не оказывать пограничникам никакой помощи. Кроме того, национал-социалисты с помощью осведомителей располагали точными сведениями о структуре, силе и вооружении полиции, разработали правила создания разведывательной службы, а также план общей мобилизации на случай «взятия власти», предусматривавший захват газовых, водопроводных и электрических станций. Опубликованные Северингом данные о тайном военном планировании национал-социалистов поначалу шокировали даже руководство рейхсвера. Начальник министерского бюро в министерстве рейхсвера генерал фон Шлейхер был в первый момент настолько возмущен, что активно поддержал Грёнера в его намерении запретить СА и СС. Но эта решимость длилась недолго. 8 апреля Шлейхер принял двух депутатов рейхстага: Эдуарда Дингельдея, председателя Немецкой народной партии, и Гюнтера Тереке, известного члена Христианско-национальной крестьянской и сельскохозяйственной партии. Они оба предостерегали от запрета СА, т. к. по всем предположениям это бы нанесло их партиям большой вред в ходе назначенных на 24 апреля 1932 г. выборов в ландтаг Пруссии. Шлейхер нашел этот аргумент убедительным и 9 апреля предложил Грёнеру другую тактику: рейхсминистр внутренних дел должен был в ультимативной форме потребовать от Гитлера реорганизовать штурмовые отряды таким образом, чтобы они утратили свой милитаризованный характер, угрожающий государству. Шлейхер даже получил задание разработать проект соответствующего письма к Гитлеру, но генерал не убедил своего министра. Рейхспрезидент, с которым Грёнер имел беседу во второй половине дня 9 апреля, также полагал более целесообразным немедленно запретить СА, чем предварительно обращаться к Гитлеру. Поощренный Гинденбургом к принятию жестких мер, Грёнер 10 апреля, вдень проведения второго тура выборов рейхспрезидента, составил меморандум на имя рейхсканцлера, в котором высказался за немедленный роспуск полувоенных организаций НСДАП. В качестве министра внутренних дел он обосновывал необходимость этого шага тем, что события последних недель дают полное право таким федеральным землям, как Бавария и Пруссия, потребовать от рейха принятия энергичных мер в отношении личной армии Гитлера. Поздним вечером воскресного дня, ставшего также днем выборов, записку Грёнера обсудил небольшой круг министров и статс-секретарей под председательством Брюнинга. Статс-секретарь Мейснер тотчас же после доклада Грёнера разъяснил, что Гинденбург между тем уже колеблется в своем решении. Рейхспрезидент стал взвешивать, не лучше ли будет направить Гитлеру «ясный и резкий ультиматум примерно недельного срока», и Мейснер не оставил у слушателей сомнения, почему Гинденбург призывал к осторожности: «Господин рейхспрезидент озабочен ожидающимися на него нападениями». Шлейхер, который также принимал участие в обсуждении и которому принадлежала большая роль в изменении настроя рейхспрезидента, зачитал свой проект письма к Гитлеру. Этот текст вызвал у министра юстиции Йоэля и статс-секретаря Штайгерта из МВД сильные сомнения государственно-правового свойства. Грёнер, в свою очередь, полагал, что теперь существуют только две возможности: или энергичные действия, или капитуляция перед СА. Брюнинг присоединился к этой точке зрения, иллюстрировав свое выступление наблюдениями, собранными им на прошедшей неделе во время предвыборного тура почти по всей Германии. После этого на уровне правительства было принято решение о проведении в отношении НСДАП такой жесткой линии, какой уже давно добивались от кабинета социал-демократы и важнейшие федеральные земли{497}. Второму туру выборов рейхспрезидента предшествовала короткая, но весьма интенсивная избирательная борьба. Она протекала в дни с 4 по 9 апреля, поскольку очередной декрет об обеспечении спокойствия в пасхальные дни запрещал проведение общественно-политических предвыборных собраний в период с 20 марта по 3 апреля. После того как «Стальной шлем» уже 14 марта заявил, что заместитель его председателя Дюстерберг не будет больше выдвигать свою кандидатуру, оставалось только три кандидата: Гинденбург, Гитлер и Тельман. Трудно было предсказать, как поведут себя 10 апреля избиратели Дюстерберга. «Стальной шлем» рекомендовал им воздержаться от голосования. Немецкие националисты отказались от «активного участия» во втором туре выборов с обоснованием, что перевыборы Гинденбурга уже предрешены 13 марта, и теперь важнее выборы в прусский ландтаг через две недели, чем выборы рейхспрезидента: «Все вопросы отступают сегодня перед одним: Пруссия! Здесь теперь находится рычаг ниспровержения системы». Из крупных отраслевых экономических союзов только один — Ландбунд — открыто высказался в поддержку Гитлера. Промышленные организации официально не выдвигали избирательных лозунгов. Карл Дуйсберг, председатель Имперского союза немецкой промышленности, уже перед первым туром выборов выступил в поддержку Гинденбурга и призвал предпринимателей вносить пожертвования на предвыборную кампанию действующего рейхспрезидента. Но только немногие последовали этому призыву: из предпринимателей рейн-вестфальской тяжелой промышленности — Крупп, Сильверберг и Флик. Большинство магнатов Рура отказались открыто поддержать Гинденбурга — это могло быть расценено как поддержка Брюнинга и его сотрудничества с социал-демократами — политики, против которой рьяно выступало правое крыло предпринимательского лагеря начиная с лета 1931 г. Но из этого отнюдь не следовало, что шахтовладельцы стремились заполучить рейхспрезидента — национал-социалиста. Фриц Тиссен, председатель наблюдательного совета «Ферейнигте Штальверке» и один из первых покровителей Гитлера, был в этом отношении исключением. В конце января 1932 г. Тиссен помог Гитлеру организовать выступление перед членами дюссельдорфского Промышленного клуба, привлекшее большое внимание. Но когда Тиссен стал вербовать в сторонники Гитлера в преддверии президентских выборов, он не нашел понимания среди магнатов. Немного иначе дело обстояло с сотрудничеством между правыми партиями и НСДАП, которое должно было послужить основой для создания нового правительства рейха. Эту цель преследовал генеральный директор «Гутехоффнунгсхютте» Пауль Рейш, когда 19 марта он встретился с Гитлером и пообещал ему на время второго тура выборов благожелательный нейтралитет «своих» газет, «Мюнхенер Нойстен Нахрихтен», «Швабише Куриер» и «Франкише Куриер»{498}. Гитлер, в свою очередь, попытался за шесть дней — с 4 по 9 апреля — завоевать Германию с воздуха. Соперник Гинденбурга облетел рейх на самолете, выступил перед сотнями тысяч избирателей и создал впечатление своей вездесущности. «Гитлер над Германией» — гласил лозунг этой предвыборной борьбы — на тот момент самой современной и технически совершенной из всех. В то время как Гитлер бичевал «систему», противопоставляя ей свое видение немецкого народного единства, Тельман в своем «последнем призыве» так заклинал коммунистов: «Всю власть в руки рабочего класса, да здравствует социалистическая советская Германия в союзе с Советским Союзом и его победоносной Красной армией!» В лагере Гинденбурга предвыборное сражение опять вели «Железный фронт» социал-демократов и буржуазные правительственные партии. Их самым неутомимым бойцом был рейхсканцлер. Острее чем когда-либо он атаковал «национал-социалистическую систему бесстыдной и безответственной демагогии». Национал-социалисты взяли реванш входе последнего предвыборного выступления Брюнинга в Кенигсберге, которое транслировалось по радио на всю Германию. Сторонники Гитлера принесли в помещение, где происходило выступление, несколько ящиков белых мышей и выпустили их, что привело к беспорядкам, существенно смазавшим впечатление от речи канцлера{499}. Но последний заградительный маневр национал-социалистов уже не мог помешать победе Гинденбурга. Поздним вечером 10 апреля 1932 г. стало ясно, что действующий рейхспрезидент получил весьма убедительную поддержку. За Гинденбурга было отдано 53 %, за Гитлера — 36,8 %, за Тельмана — 10,2 % голосов. Противники Гитлера могли вздохнуть с облегчением, но повода для триумфа у них не было: хотя генерал-фельдмаршал и победил с большим преимуществом, но вождю НСДАП удалось в сравнении с первым туром завоевать больше голосов избирателей, чем рейхспрезиденту. Избиратели Дюстерберга, если они вообще приняли участие во втором туре выборов, в большей своей части голосовали уже за Гитлера, а не за Гинденбурга. Потери, понесенные Тельманом, в первую очередь объяснялись тем, что многие сторонники КПГ вопреки призыву ЦК не пришли 10 апреля куркам. Но некоторые из них, как это можно установить на основании результатов на местах, голосовали за Гитлера, другие — за Гинденбурга. В общем и целом в выборах 10 апреля приняло участие 83,5 % избирателей, что было меньше, чем 13 марта, когда на избирательные участки пришло 86,2 %{500}. Тяжелее всего победа Гинденбурга далась социал-демократам. Но из всех партий только СДПГ могла с полным правом рассматривать эту победу как свой успех. Эрнст Хайльман, председатель социал-демократической фракции в прусском ландтаге, почти с экзальтацией комментировал события 10 апреля в редактируемом им дискуссионном издании «Дас фрайе Ворт»: «Победа Гинденбурга над Гитлером с преимуществом в 6 млн голосов, его повторное избрание президентом подавляющим большинством избирателей — это является, несмотря на все возражения, большой победой партии, триумфом демократии». Победа Гинденбурга действительно была результатом социал-демократической политики «толерантности». Если бы сторонники СДПГ не имели возможность начиная с осени 1930 г. привыкнуть к политике меньшего зла, то, вероятно, их едва бы удалось убедить весной 1932 г. в том, что для того, чтобы не допустить становления национал-социалистической диктатуры, они должны выбрать главой республики закоренелого монархиста. Но дело обстояло именно так: кроме фельдмаршала не было никого, кто был бы в состоянии привлечь на свою сторону, помимо остатка сторонников Веймарской коалиции, также часть традиционных правых сил, тем самым оставив кандидата национал-социалистов на втором месте. То, что Гинденбург не был демократом, социал-демократы знали лучше, чем кто-либо другой. Тем не менее до сих пор президент зарекомендовал себя как человек закона и права, относящийся с уважением к нелюбимой им конституции. При ситуации, сложившейся к моменту президентских выборов 1932 г., большего было уже не спасти. А соразмеряясь с тем, чего удалось избежать 10 апреля, даже это уже было много{501}. Для победителя результат второго тура выборов отнюдь не принес полного удовлетворения. Гинденбурга глубоко ранило то, что своим успехом он был обязан не правым, а социал-демократам и «папистам». Его самый активный избиратель ощутил на себе гнев старца уже 15 апреля. После того как Брюнинг поздравил Гинденбурга с победой и, выполняя обязательный ритуал, предложил принять отставку правительства, Гинденбург дал понять, что хотя он и не считает отставку правительства своевременной мерой, но оставляет за собой право вернуться к этому вопросу позднее. Во время беседы между президентом и канцлером обнаружился очередной повод к дурному настроению. Шлейхер через своего бывшего сослуживца Оскара фон Гинденбурга убедил Старого Господина в том, что запрет СА и СС является несвоевременным, т. к. он приведет к новому конфликту между Гинденбургом и правыми. Вследствие этого рейхспрезидент попытался отговорить канцлера от запланированного чрезвычайного постановления. Но Брюнинг настаивал на линии, которую он определил днем ранее, и Гинденбург после продолжительного разговора с Брюнингом и Грёнером, состоявшегося 12 апреля, уступил. 13 апреля правительство единогласно приняло «Чрезвычайное постановление о сохранении авторитета государства», после чего оно было незамедлительно опубликовано и приведено в исполнение. Национал-социалисты заблаговременно узнали о грозящем запрете СА и СС и в большйнстве случаев своевременно скрыли компрометирующие материалы. Поэтому обыски «коричневых домов» в Мюнхене и многочисленных резиденций СА по всему рейху практически не принесли результатов. Гитлер до времени смирился с запретом его полувоенных организаций. Еще 13 апреля он призвал членов СА и СС не давать «нынешним власть имущим» повода отложить под каким-нибудь предлогом предстоящие выборы в ландтаги. На следующий день НСДАП заявила о том, что подаст жалобу на правительство в Конституционный суд республики{502}. Среди общественности запрет СА и СС вызвал противоречивые отклики. Близкая к правительству печать и социал-демократические газеты видели в этих мерах акт необходимой государственной самообороны, в то время как издания немецких националистов писали о партийно-политическом крене влево и указывали на то, что Рейхсбаннер Шварц-Рот-Гольд не был измерен тем же аршином, что и полувоенные союзы национал-социалистов. Это полностью соответствовало тону многочисленных протестов, поданных на имя рейхспрезидента и в министерство рейхсвера. Шлейхер даже выступил 15 апреля 1932 г. с неприкрытой угрозой в адрес своего министра, заявив, что рейхсвер не смирится с запретом. В тот же самый день Гинденбург вызвал к себе командующего сухопутными войсками генерала фон Хаммерштейна, не проинформировав об этом Грёнера. Хаммерштейн, еще неделю назад энергично защищавший запрет СА, передал рейхспрезиденту по его требованию материалы о Рейхсбаннере, которые большей частью состояли из газетных сообщений от 15 апреля, источником которых, в свою очередь, было отделение вермахта в министерстве рейхсвера. Гинденбург посчитал эти скудные материалы настолько вескими, что тотчас же в письменной форме потребовал от Грёнера, чтобы тот поступил с организациями, по своей природе схожими с СА и СС, так же, как и со структурами национал-социалистов. Гинденбург действовал в этом случае через голову рейхсканцлера, который 14 апреля отбыл в Женеву на конференцию по разоружению. Это противоречило действующему праву еще и потому, что рейхспрезидент получил эти материалы из рук в руки от командующего сухопутными войсками без предварительно разрешения министерства рейхсвера. Наконец открытым афронтом в отношении Грёнера и правительства в целом было то, что Гинденбург передал свое указание прессе прежде, чем оно достигло главного адресата. К моменту получения Грёнером 16 апреля соответствующего письма, он уже предварительно условился с Карлом Хёльтерманом, руководителем Рейхсбаннера. Тот отмел все обвинения в том, что его союз посвятил себя военной подготовке, а помимо этого, заявил о своей готовности теперь, когда опасность путча очевидно ослабла, отправить в отпуск элитные подразделения Рейхсбаннера — Шутцформатионен, коротко называвшиеся «Шуфос». На основании этого согласия и данных разъяснений Грёнер заявил, что ни Рейхсбаннер, ни «Стальной шлем» не занимаются военной подготовкой, и если Рейхсбаннер в последние месяцы отреагировал на выступления СА усилением своей организации, то он, конечно же, в самый короткий срок аннулирует эти шаги. Вслед за этим последовало заявление министра рейхсвера, которое практически не обратило на себя внимания общественности: Грёнер выступил с идеей образования единой, охватывающей всю немецкую молодежь, спортивной организации, которая однозначно предназначалась для выполнения полувоенных задач и создавать которую имело смысл только в том случае, если она подразумевалась как первый шаг на пути формирования милиции или даже возврата ко всеобщей воинской повинности. Так как Рейхсбаннер выполнил обещания Хёльтермана и тотчас же распустил «Шуфос», правительству рейха легко удавалось выдерживать свою новую политическую линию. 23 апреля Брюнинг и Грёнер встретились на Бодензее (канцлер вернулся из Женевы, чтобы на следующий день проголосовать в прусском анклаве Ахберг на выборах в ландтаг) и пришли к единому мнению — ничего не предпринимать в отношении Рейхсбаннера. Ноу Гинденбурга это решение, о котором Грёнер отчитался 26 апреля, отнюдь не вызвало восторга. Поддержанный своим статс-секретарем Мейснером, Гинденбург потребовал санкций в отношении Рейхсбаннера в случае, если «Шуфос» будут сформированы заново. 3 мая 1932 г. правительство, снова заседавшее под председательством Брюнинга, попыталось сделать шаг навстречу рейхспрезиденту. Было принято решение о принятии чрезвычайного постановления, ставившего все полувоенные союзы под надзор имперского министерства внутренних дел. Другой декрет незамедлительно запрещал деятельность всех коммунистических союзов вольнодумцев, тем самым выполнив одно из требований церковных кругов, которые Гинденбург стремился привлечь на свою сторону. Рейхспрезидент подписал оба декрета, однако первый — с большим предубеждением. Он воспринимал как несправедливость то, что правые формирования оставались целиком под запретом, а левые союзы лишь ставились под контроль МВД. Правительство Брюнинга, уступив натиску федеральных земель и пойдя на запрет СА и СС, сместило баланс сил немного влево, тем самым сделав обратное тому, что от него ожидал Гинденбург — существенной корректуры политического курса вправо. Таким образом, мысль о смене правительства витала в воздухе. Но Брюнинг еще должен был выполнить важнейшую внешнеполитическую задачу: представлять Германию на предстоящей конференции по вопросу репараций в Лозанне, на которой он, без сомнения, имел больше шансов на успех, чем канцлер из рядов «национальной оппозиции». Поэтому Гинденбург полагал, что время отставки Брюнинга еще не пришло. Вследствие этого запрет СА пока оставался в силе{503}. Спустя две недели после второго тура выборов рейхспрезидента большинство немцев были призваны снова отправиться к избирательным урнам. 24 апреля 1932 г. состоялись выборы в ландтаги Пруссии, Баварии, Вюртемберга, Гамбурга и Анхальта. В последние дни предвыборной борьбы во многих местах опять произошли тяжелые столкновения, в первую очередь между национал-социалистами и социал-демократами. В Мюнхене подразделения СА22 апреля организовали побоища, чтобы сорвать предвыборные собрания с участием начальника берлинской полиции Гржезинского. Этот социал-демократ еще 7 февраля бросил вызов национал-социалистам, заявив, что Гитлера следует выгнать из Германии хлыстом. В этот же день, 22 апреля, под предводительством пьяного вдрызг депутата рейхстага Роберта Лея национал-социалистами после митинга был избит в своем кёльнском отеле Отто Веле, получивший в результате травму гортани. 26 апреля суд первой инстанции Кёльна выдал ордер на арест депутата — национал-социалиста. Прусский ландтаг на своем последнем заседании 12 апреля принял чреватое последствиями решение: большинством голосов правящих партий были изменены процедурные правила. Ранее для выборов министра-президента во втором туре предусматривалась перебаллотировка между двумя кандидатами, получившими больше всего голосов, т. е. для победы было достаточно набрать относительное большинство. В результате внесенных изменений теперь для победы во втором или каждом следующем туре требовалось набрать абсолютное большинство голосов. Результатом стал конструктивный вотум недоверия[55]: ландтаг теперь мог сменить находящегося в должности министра-президента, только избрав его преемника большинством голосов. «Форвартс» с поразительной ясностью дала понять, к чему стремились инициаторы этих изменений со стороны социал-демократов: в случае, если после 24 апреля возникло бы «негативное большинство» из представителей «национальной оппозиции» и коммунистов, то только от КПГ зависело, захочет ли она путем молчаливого попустительства сохранить у власти правительство правого меньшинства{504}. Выборы в ландтаги 24 апреля, как и ожидалось, повсеместно принесли национал-социалистам увеличение числа полученных голосов. В Пруссии, Вюртемберге, Гамбурге и Анхальте НСДАП стала самой сильной партией, только в Баварии БФП сумела обеспечить себе минимальное преимущество в два места. Коммунисты также сумели, за одним исключением, увеличить долю своих избирателей, в то время как социал-демократы и некатолические буржуазные партии подсчитывали серьезные потери. Исключением был Гамбург, где последние выборы в парламент прошли всего лишь за семь месяцев до этого: здесь СДПГ и Государственная партия прибавили в количестве голосов, в то время как КПГ завершила эти выборы с существенно более плохими результатами, чем во время предыдущих. Но в сравнении с последними выборами в рейхстаг в сентябре 1930 г. социал-демократы и некатолические буржуазные партии должны были смириться с потерей голосов во всех федеральных землях, а коммунисты — во всех, за исключением Баварии. Победитель был только один — национал-социалисты. Правда, следует отметить, что НСДАП нигде не достигла результатов Гитлера, полученных им во время голосования 10 апреля 1932 г.{505} Поначалу апрельские выборы в ландтаги привели к смене правительства только в одной из федеральных земель: в Анхальте социал-демократический министр-президент Генрих Дайст, возглавлявший правительство без перерыва с июля 1919 г., за исключением короткой паузы в 1924 г., был сменен в мае 1932 г. национал-социалистом Альфредом Фрейбергом, обязанным своим избранием голосам правых буржуазных сил. Лишившись поддержки большинства, буржуазные правительства Баварии и Вюртемберга и сенат Большой коалиции Гамбурга остались у власти в качестве исполняющих обязанности и смогли управлять и далее благодаря «Дитрамсцелленскому декрету» от 27 сентября 1931 г., названному так по месту отпуска рейхспрезидента. Этот декрет разрешал правительствам земель и руководству общин принимать путем декретирования все меры, необходимые для сбалансирования бюджетов, даже если они при этом отклонялись от действующего права соответствующей федеральной земли{506}. Исход выборов в Пруссии ожидался с большим напряжением. В результате представительство национал-социалистов в ландтаге резко увеличилось — с 9 до 162 мандатов. Социал-демократы подсчитывали потери: их представительство уменьшилось со 137 до 94 мест. Веймарская коалиция больше не имела большинства в ландтаге, т. к. Государственная партия понесла тяжелые потери, а партия Центра — легкие. В итоге правящая коалиция располагала теперь только 163 из 423 депутатских мест. Но возможности сформировать альтернативное большинство также не было: даже если бы все депутаты ДНФП и ДФП поддержали кандидата на пост министр-президента от национал-социалистов, то он все равно не набрал бы необходимого большинства в 212 голосов, а получил бы лишь 200 голосов. Таким образом «негативное большинство», которого так страшились социал-демократы, стало реальностью: национал-социалисты и коммунисты вместе получили 219 мандатов — большинство, которое не могло образовать правительства и которое, следовательно, после изменения процедурных правил, также не могло свергнуть правительство, находившееся при исполнении обязанностей. Прусские избиратели в своем большинстве высказались против правительства Брауна. Таким образом, 24 апреля 1932 г. они сделали то, чего от них хотели правые и левые экстремисты еще во время плебисцита о роспуске прусского ландтага, состоявшегося 9 августа 1931 г. Но решение избирателей было вотумом недоверия не только в отношении правительства Веймарской коалиции, правившей с 1925 г., но и в отношении Веймара в целом. Абсолютное большинство хотело чего-то более радикального, чем парламентская демократия, но оно было глубоко расколото в отношении возможной альтернативы: большая часть выступала за начертанное на флагах национал-социалистов «государство фюрера», существенное меньшинство было за коммунистическую систему по советскому образцу. Так как ни одна из альтернатив не могла получить преимущество в ландтаге, решение парламентского кризиса представлялось возможным только в форме компромисса. Легче всего было представить, несмотря на негативный гессенский опыт образца осени 1931 г., создание черно-коричневой коалиции партии Центра и национал-социалистов. Прусская часть Центра в своем первом заявлении о результатах выборов ни в коем случае не исключала возможности такого правительственного союза, но связывала свое участие в нем с условием, которое национал-социалисты, во всяком случае, могли выполнить на словах: Центр был готов «сотрудничать со всеми партиями, которые полны решимости служить на благо всего народа на основе конституции». Социал-демократы не протестовали против переговоров между Центром и национал-социалистами, поскольку исходя из сложившейся ситуации считали их неизбежными. «Предрешать результаты этих переговоров не в наших силах и не является нашим намерением», — писала «Форвартс» 25 апреля. «Можно сказать только следующее: если эти две партии придут к согласию, то по крайней мере одна из них должна будет очень сильно изменить свою сущность. Результат такого сближения может восприниматься социал-демократией только с чувством самого глубокого недоверия — т. к. то, что получится в итоге, может быть только самым реакционным господством буржуазного блока, когда-либо переживавшимся Германией». Что же касается предположительных результатов чернокоричневых коалиционных переговоров, то мнения внутри СДПГ расходились достаточно сильно. Отто Браун, уже давно больной и находившийся весной 1932 г. в ярко выраженном депрессивном расположении духа, был убежден в том, как сообщает Фридрих Штампфер, что «эксперимент парламентского правительства с участием национал-социалистов должен быть осуществлен». Карл Северинг, очевидно, придерживался такой же пораженческой точки зрения. 26 апреля 1932 г. в своем интервью «Юнайтед пресс» он заявил, что «вхождение НСДАП в правительства рейха и Пруссии» может «приниматься в расчет только как участие в правительстве в союзе с партиями, которые гарантируют, что основные конституционные законы не будут нарушены». В то время как Браун и Северинг рассматривали черно-коричневую коалицию как наиболее вероятный способ разрешения кризиса, Эрнст Хайльман, председатель фракции СДПГ в парламенте и главный стратег прусской социал-демократии, ожидал, что переговоры о коалиции закончатся неудачей из-за неуступчивой позиции НСДАП. «Единственная возможность продолжения жизнедеятельности государства сохранится лишь в том случае, если кабинет Брауна— Северинга и дальше будет исполнять свои обязанности в качестве управляющего делами». Но подобное решение требовало драматической переориентации СДПГ на крайне левых. Хайльман обратился к коммунистам с призывом поддержать правительство меньшинства Брауна хотя бы де-факто: «КПГ должна теперь решить заново, желает ли она и дальше гнаться за фантомом непосредственного революционного решения вопроса, тем самым приведя фашизм к господству в Германии, что будет означать самоубийство партии. Если же для нее важны интересы только немецкого рабочего класса, то ответ на этот вопрос можно дать в течение секунды». Тактический план Хайльмана был логичен: только после того, как переговоры о создании коалиции между Центром и национал-социалистами закончатся неудачей, Центр мог бы решиться продолжить участвовать в прежней коалиции, оказавшейся в меньшинстве. Поэтому СДПГ не могла осуждать сам факт черно-коричневых переговоров, и уж тем более она не должна была преждевременно слагать с себя правительственную ответственность. Призыв к коммунистам поддержать исполняющий обязанности кабинет Брауна как меньшее зло в сравнении с правым правительством тем временем мог быть сделан только в завуалированной форме. Слишком очевидное привлечение КПГ на свою сторону грозило привести к последствиям, которых необходимо было избежать: СДПГ не могла позволить себе испугать Партию Центра и подтолкнуть ее в объятия национал-социалистов{507}. Призыв Хайльмана к КПГ не был лишен перспективы. Под впечатлением прироста голосов, отданных за Гитлера во втором туре выборов рейхспрезидента, Коминтерн тем временем предпринял определенную корректировку курса в отношении политики «единого фронта». В призыве «Ко всем немецким рабочим», автором которого выступил Исполнительный комитет Коммунистического интернационала совместно с представителями КПГ и Революционной профсоюзной оппозиции, в отношении социал-демократов зазвучали новые тона. Главный пассаж гласил: «Мы готовы бороться совместно с любой организацией, объединяющей рабочих, которая стремится вести действительную борьбу против понижения заработной платы и социальных пособий!» Хотя и эта прокламация содержала традиционно резкиенападки на вождей СДПГ и Свободных профсоюзов, но объявленный назревшим «единый фронт борьбы» против «капиталистических разбойников и все более нагло выступающих фашистских банд» теперь уже не ограничивался так категорически, как ранее, только «единым фронтом снизу». Коминтерн предпочел бы, чтобы призыв «Ко всем немецким рабочим» был опубликован еще до проведения выборов в ландтаги пяти федеральных земель, состоявшихся 24 апреля. Но немецкое «Политбюро» решило по-другому и формально утвердило его только 25 апреля. В том же самом выпуске «Роте Фане», в котором был опубликован призыв, были также сделаны первые практические выводы из новой тактики. В передовице «К результатам выборов» констатировалось, что КПГ не намерена помогать национал-социалистам создавать правительство в Пруссии: «Ведя острейшую принципиальную борьбу против правительства Брауна — Северинга, против его политики диктатуры декретов, против того, что оно пролагает путь для Гитлера, мы, коммунисты, находимся в смертельной вражде с кровавым гитлеровским фашизмом. Мы сделаем все для того, чтобы с помощью пролетарской классовой силы преградить ему путь к правительственной власти, чтобы сломить его террор и окончательно победить, организовав новое красное наступления рабочего класса». Майский призыв ЦК КПГ содержал это новое послание в следующей сжатой формуле: «Участие национал-социалистов в правительстве было бы опасным шагом на пути к открытой кровавой диктатуре». Изменение тактики сопровождалось персональными изменениями в руководстве КПГ: Хайнц Нойман, который всегда представлял ультралевую генеральную линию партии, даже на несколько градусов радикальнее, чем Эрнст Тельман, по договоренности со Сталиным был выведен 24 мая 1932 г. из Секретариата — внутреннего властного центра партии. Та же самая судьба постигла и его самого близкого союзника — Лео Флига. К «выдвиженцам» относились Вальтер Ульбрихт, политический руководитель округа Берлин-Бранденбург, и Вильгельм Пик, бывший до этого немецким представителем при ИККИ и одним из инициаторов нового политического курса. Они оба стали кандидатами в члены Секретариата. Если Коминтерн и КПГ серьезно намеревались сделать выводы из осознания того, что «гитлеровский фашизм» является самой главной опасностью, это должно было иметь своим следствием радикальный отход от их прежних позиций. Толерантное отношение к кабинету меньшинства Брауна означало бы, несмотря на все трескучую риторику о размежевании между социал-демократией и коммунизмом, коммунистическое дополнение к социал-демократической политике меньшего зла. Но так как никто не снял с повестки дня лозунг, согласно которому «основной удар» внутри рабочего класса должен был быть нанесен против социал-демократии, якобы «главной социальной опоры буржуазии», равно как в силе оставался боевой призыв к борьбе с «социал-фашизмом», то существовал определенный скепсис в отношении новой тактики. В течение первых четырех недель после выборов в Пруссии КПГ и исполняющий обязанности кабинет Брауна были избавлены от испытания на деле: новоизбранный ландтаг мог собраться на свое первое заседание самое раннее 24 мая 1932 г., и на этот же день прежнее правительство наметило свою формальную отставку{508}. С начала мая появились намеки в пользу того, что и после 24 мая кабинет Брауна останется на своем посту. Хотя у рейхсканцлера Брюнинга не было принципиальных возражений против черно-коричневой коалиции, он ни в коем случае не хотел уступать национал-социалистам пост министра-президента Пруссии и контроль над прусской полицией. 31 апреля, непосредственно сразу же после своего возвращения с конференции по разоружению в Женеве, Брюнинг добился от руководства партии Центра принятия соответствующего решения, что внесло коррективы в позицию прусского отделения Центра, до этого ничего не противопоставившего требованию национал-социалистов, согласно которому НСДАП, как наиболее сильная партия ландтага должна была назначить министра-президента. Это сразу же существенно понизило шансы на создание черно-коричневой коалиции: сферы, в которые Центр не хотел допускать национал-социалистов, определяли, кто реально в действительности будет находиться у власти. Но к этому моменту Гитлер уже знал лучше, чем сам Брюнинг, насколько шатким стало положение рейхсканцлера от Партии Центра. 28 апреля фюрер НСДАП получил возможность узнать из первых рук в ходе тайного разговора со Шлейхером, что командование рейхсвера больше не поддерживает Брюнинга. В такой ситуации черно-коричневая коалиция во главе с министром-президентом, не являвшимся национал-социалистом (кандидатом Брюнинга на этот пост был обер-бюргермейстер Лейпцига и рейхскомиссар по ценам Карл Гёрделер, бывший член ДНФП), вероятно, внесла бы свой вклад в укрепление позиции канцлера. 19 мая Гитлер констатировал, что он не будет содействовать разрешению прусского кризиса парламентским путем. Национал-социалистическое движение, заявил он, выступая перед фракцией НСДАП в прусском ландтаге, не для того боролось 13 лет, чтобы продолжать политику сегодняшней Германии в составе какой-либо коалиции{509}. Признаки приближающегося правительственного кризиса стали заметны с конца апреля и с течением времени становились все более очевидными. 30 апреля Брюнинг вернулся с конференции по разоружению в Женеве практически с пустыми руками: стремление Германии к равноправию в военном отношении нашло понимание у министра иностранных дел США Стимсона, в меньшей степени — также у британского премьер-министра Макдональда, но не у французского премьер-министра Тардьё, который, принимая во внимание предстоящие выборы в Национальное собрание 1 и 8 мая, предпочел продемонстрировать несгибаемую твердость. Тардьё по причине якобы болезни горла даже фактически не принял участие в решающем раунде переговоров, состоявшемся с 26 по 29 апреля 1932 г.{510} Среди почты, которая ожидала Брюнинга в Берлине, находилось письмо рейхсминистра экономики, адресованное рейхспрезиденту. Датированное 28 апрелем, оно содержало просьбу Вармбольда к канцлеру об отставке. В завуалированной форме министр назвал причину, которая побудили его к этому шагу: тщетность всех его попыток подвигнуть кабинет к проведению активной конъюнктурной политики. Так как Вармбольд пришел на министерский пост из правления «ИГ Фарбен», то напрашивался вывод, что его отставка означает не что иное, как отказ химической промышленности от поддержки Брюнинга. Для рейхсканцлера особенно досадным было то, что его кандидат в преемники Вармбольда, Карл Гёрделер (которого он, помимо этого, хотел также сделать вице-канцлером и министром-президентом Пруссии, а также избрал в качестве своего собственного преемника), не был готов стать новым министром экономики Германии. В конце концов выход из затруднительного положения был найден: 6 мая 1932 г. Гинденбург в очередной раз поручил исполнение обязанностей министра экономики статс-секретарю Тренделенбургу, который в качестве управляющего уже однажды возглавлял это министерство с июня 1930 по октябрь 1931 г. Меньшее внимание общественности привлекла другая отставка: 2 мая Брюнинг принял с прощальным визитом статс-секретаря имперского министерства финансов Ганса Шеффера, одного из своих самых ближайших советников и откровенного критика. Шеффер принял решение подать в отставку, поскольку полагал, что он больше не в состоянии нести ответственность за финансовую политику рейха. Брюнингу удалось добиться того, чтобы статс-секретарь отсрочил свою отставку до 15 мая, освободив тем самым правительство от мучительных парламентских дебатов (время проведения сессии рейхстага было назначено с 9 по 12 мая). Но для посвященных намерение Шеффера было еще одним верным признаком того, что авторитет канцлера существенно ослаб{511}. Наибольшую угрозу для Брюнинга несли в себе действия Шлейхера: шеф министерского бюро в министерстве рейхсвера с конца апреля работал в тесном сотрудничестве с национал-социалистами над свержением канцлера-католика. 26 апреля Шлейхер принял фюрера берлинских штурмовиков графа Хеллдорфа; 28 апреля и 7 мая он встречался с Гитлером. «У фюрера был решающий разговор с генералом Шлейхером, — записал в своем дневнике 8 мая 1932 г. Йозеф Геббельс. — При этом присутствовали некоторые господа из ближайшего окружения рейхспрезидента. Все идет хорошо. Фюрер весьма убедительно говорил с ними. Падение Брюнинга должно произойти уже в ближайшие дни. Рейхспрезидент откажет ему в своем доверии. План состоит в том, чтобы образовать президентский кабинет; рейхстаг будет распущен, все декреты будут отменены, мы получим свободу агитации и после этого покажем класс своей пропаганды». Самое позднее начиная с 7 мая 1932 г. Шлейхер уже знал цену, которую Гитлер запросил за терпимое отношение НСДАП к новому, однозначно правому кабинету: новые выборы в рейхстаг и снятие запрета на деятельность СА. Рейхспрезидент охотно выслушал сообщения Шлейхера о его разговоре с Гитлером. Когда 9 мая Гинденбург высказал канцлеру свое пожелание встретиться в ближайшие дни со всеми партийными лидерами, за исключением коммунистов, то речь для него в первую очередь шла о беседе с Гитлером. Брюнинг, раскрывший расчеты камарильи, сложившейся вокруг Гинденбурга, попросил рейхспрезидента отсрочить эти встречи на конец мая. В следующие дни рейхстаг голосами СДПГ должен был принять закон о предоставлении правительству полномочий на получение кредита, а в Женеве вскоре начинался очередной тур переговоров о разоружении, успех которых оказался бы в опасности, если бы получило широкое распространение впечатление, что в Германии в ближайшем будущем произойдет смена правительства. Зато после созыва 24 мая прусского ландтага как раз должен был наступить благоприятный момент для призыва рейхспрезидента к объединению всех политических групп между Центром и НСДАП. Сам Брюнинг выступал за такую коалицию в Пруссии, и он был готов по завершении конференции по вопросу репараций в Лозанне, которая должна была начать свою работу 16 июня, также дать дорогу образованию нового правительства рейха. Так как Гинденбург настаивал, несмотря на все контраргументы, на своей немедленной встрече с партийными лидерами, канцлер пригрозил тут же подать в отставку. Вслед за этим рейхспрезидент уступил и заявил о своем согласии перенести встречи на время после 24 мая. Брюнинг в очередной раз выиграл время, но теперь определенно знал, что дни его канцлерства сочтены{512}. 9 мая, когда рейхспрезидент принимал рейхсканцлера, началась четырехдневная сессия рейхстага. Ее первой кульминационной точкой стала сравнительно умеренная, даже конструктивная речь Грегора Штрассера, руководителя политической организации НСДАП, произнесенная 10 мая. Ее центральной темой стала рабочая занятость. Всем бросилось в глаза, что Штрассер подчеркнуто дружелюбно отнесся к Свободным профсоюзам, отделив их от «догматически одержимого, частично находящегося под интеллектуальным влиянием чуждой расы руководства социал-демократической партии». Он даже процитировал, когда высказался в пользу «продуктивного выделения дополнительных кредитов», работы Владимира Войтинского, не упомянув, однако, что этот эксперт профсоюзов по экономической конъюнктуре был евреем. Крылатым стало замечание Штрассера о «большой антикапиталистической тоске», которая распространяется среди немецкого народа и которая сознательно или бессознательно уже охватила, возможно, 95 % населения. Было очевидно, что национал-социалисты, до этого завоевавшие на свою сторону преимущественно протестантские средние слои города и деревни, теперь усиленно пытались заполучить голоса рабочих. По мнению большинства наблюдателей, второй человек в НСДАП преследовал своей политически зрелой речью еще и другую цель: он хотел навести мосты к Центру, поскольку без этого на обозримое будущее не было возможности сформировать парламентское большинство. Но в газетных статьях на следующий день царило имя Грёнера, а не Штрассера. У министра рейхсвера и исполняющего обязанности министра внутренних дел приключился весьма неудачный день. Из-за фурункула на лбу он должен был носить повязку, помимо этого, его сильно лихорадило. Депутат — национал-социалист Герман Геринг, кавалер ордена Pour le Mérite за военные заслуги, бросил вызов Грёнеру, набросившись на него в своей речи, в которой, если верить более позднему свидетельству Брюнинга, он использовал доверительную информацию из министерства рейхсвера, полученную от Шлейхера. Грёнер, и без того плохой оратор, позволил втянуть себя в импровизированную перепалку, в ходе которой он попытался защитить запрет, наложенный на деятельность СА. Речь министра практически захлебнулась в потоке злорадных выкриков из рядов национал-социалистов, его рассуждения едва ли можно было понять и в конце концов заседание было прервано. «Он сам пропел себе надгробную песню», — записал Геббельс в своем дневнике, отнюдь ничего не преувеличивая. «Катастрофическое впечатление от речи везде и повсюду, — отмечал автор другого дневника, статс-секретарь рейхсканцелярии Герман Пюндер, — например, даже у очень спокойных и лояльно настроенных лиц, сидящих на скамье правительства, таких как министры Йоэль, Шетцель и Шланге, у статс-секретарей Шлегельбергера, Цвайгерта и, собственно говоря, у всех остальных». Депутаты от Консервативной народной партии[56] потребовали от Брюнинга отставки министра непосредственно вслед за выступлением Грёнера. Утром 11 мая 1932 г. Шлейхер проинформировал Пюндера о том, что если Грёнер не уйдет теперь, то он, Шлейхер, равно как и другие ведущие генералы министерства рейхсвера, тотчас же подаст прошение об отставке. Пюндер предложил вместо этого отправить Грёнера в продолжительный отпуск, что поддержал также Брюнинг, но с этим планом не согласился сам «дважды министр» Грёнер. Он, со своей стороны, был готов подать в отставку с поста министра рейхсвера, но хотел сохранить за собой министерство внутренних дел. Но для этого он должен был сначала получить назначение на этот пост. Ведь в состав правительства Грёнер входил в качестве министра рейхсвера, и именно в этом качестве ему было поручено 9 октября 1931 г. исполнять обязанности главы министерства внутренних дел. Решение о дальнейшей судьбе Грёнера еще не было принято, когда Брюнинг на третий день ведения дебатов взял слово для выступления с большой речью. Рейхсканцлер выразил частично свою критику, частично согласие с высказываниями Штрассера, сделанными за день до этого, но прежде всего его речь была посвящена внешнеполитическим вопросам. Он потребовал равноправия Германии в военном отношении, и, со ссылкой на предстоящую конференцию в Лозанне, полного прекращения выплаты репараций. Он предостерег немцев от того, чтобы они не пали духом в последнюю минуту, и под громовые аплодисменты большинства завершил свою речь боевым призывом: «Не играет никакой роли, какие слухи они (имелись в виду национал-социалисты) распространяют обо мне по стране — это меня совершенно не волнует. Если бы я поддался им, то я совершил бы самую тяжелую ошибку, которую только можно сделать в данный момент. Я также утратил бы внутриполитическое спокойствие, которое, дамы и господа, является абсолютно важнейшим условием успеха на последних ста метрах перед финишем». 12 мая 1932 г. было днем голосования парламента, в этот же день произошла потасовка в ресторане рейхстага. На капитан-лейтенанта в отставке Гельмута Клотца, бывшего национал-социалиста, перешедшего в лагерь социал-демократов, который посредством частных писем информировал общественность о гомосексуальности главы СА Эрнста Рема, было совершено нападение со стороны национал-социалистов, в котором также участвовали депутаты рейхстага. В итоге Клотца сильно избили в фойе. Президент рейхстага Лёбе вызвал полицию, которой удалось во время получасового перерыва заседаний идентифицировать в качестве нападавших четырех депутатов от НСДАП. То, что полицейскими подразделениями командовал начальник берлинской полиции Бернгард Вайс, еврей по национальности (настойчиво именовавшийся «Исидором» в геббельсовском «Ангрифе»), дало национал-социалистам повод для неистовых оскорблений. Внесенный правительством законопроект о погашении долговых обязательств и кредитных полномочиях был принят рейхстагом до инцидента. Еще более широкую поддержку получил, несомненно, противоречивший конституции, но тем не менее весьма популярный законопроект Центра, предусматривавший принудительное увольнение женщин-чиновниц, если только обеспечение их семей осуществлялось иным путем. После перерыва в заседании голосами правительственных партий и СДПГ были отклонены запросы о вынесении вотума недоверия кабинету Брюнинга, внесенные НСДАП, ДНФП и КПГ. Дальнейшие голосования не проводились, хотя были также поданы запросы о вынесении вотума недоверия в отношении министров Шиле и Шланге-Шёнингена. После того как президент Лёбе по завершению очередной паузы запретил четырем депутатам от НСДАП, подозреваемым в совершении преступления, принимать участие в заседаниях рейхстага в течение 30 дней, последние отказались покинуть зал заседаний. Вслед за этим Лёбе прервал заседание на неопределенный срок. В протоколах зафиксировано точное время: 14.43{513}. Дело Грёнера к этому моменту все еще не было решено. И хотя между тем уже имелось заявление генерала, согласно которому он изъявлял готовность оставить пост министра рейхсвера и полностью сосредоточиться в будущем на министерстве внутренних дел, Гинденбург хотел полного разрыва с Грёнером. В результате он поручил Брюнингу ни в коем случае не предпринимать какие-либо персональные изменения в правительстве в то время, пока рейхспрезидент будет проводить праздничный отпуск на Троицу в Нейдеке. Во время этого разговора, состоявшегося 12 мая, непосредственно перед отъездом Гинденбурга в Восточную Пруссию, канцлер все еще не мог представить кандидатуру на пост министра рейхсвера. Шлейхер, которому в тот же день было предложено занять должность Грёнера, пока еще не дал канцлеру ответа. Сообщение о том, что Грёнер уходит в отставку с поста министра рейхсвера, было повсеместно воспринято как начало конца кабинета Брюнинга. Согласно публикации в «Форвартс», циркулировали слухи о том, что причиной падения Грёнера стал «ультиматум генералов». «Франкфуртер Цайтунг» видела причину «частичной» отставки Грёнера в «обратном воздействии запрета на СА на настроения кругов, от которых зависело руководство рейхсвера». У национал-социалистов была причина для ликования. «Грёнер подал в отставку с поста министра рейхсвера, — записал Геббельс в своем дневнике. — Это первый успех. Он попал в силки, расставленные им самим. А мы потом только затянули петлю»{514}. В то время как Гинденбург проводил свой отпуск в Восточной Пруссии, кабинет подготовил новое чрезвычайное постановление, касавшееся экономической и социальной политики. Его содержание в целом было уже определено к 21 мая. С одной стороны, снова существенно должны были быть урезаны социальные пособия. Так, срок попечения получателей основного пособия по безработице снижался с 20 до 13 недель, срок получения следующего вида пособия — кризисного обеспечения — повышался с 38 до 45 недель, таким образом, общее время выплаты пособий осталось прежним — 58 недель. Но претендовать на получение кризисного обеспечения мог теперь только тот, кто доказал свое бедственное состояние. Также серьезно сокращались размеры основного пособия, кризисного обеспечения и благотворительной помощи общин — низшей ступени социальной поддержки безработных. С другой стороны, государство хотело кое-что предпринять для создания рабочих мест, при этом правительство понизило изначально выделявшуюся на эти цели сумму с одного миллиарда до 135 млн рейхсмарок, источником поступления которых частично должен был выступить государственный бюджет, частично они должны были быть получены с помощью рейхсбанка. Центрами тяжести программы создания рабочих мест были сельские поселения и поселения на городских окраинах, улучшение почв, дорожное строительство и сооружение водных путей. Устроителем общественных работ выступала организация «Добровольная трудовая повинность», что давало правительству существенную экономию, поскольку последняя имела право выплачивать безработным заработную плату существенно ниже тарифов и преимущественно в виде продуктов питания. В итоге предусмотренные правительством мероприятия не заслуживали титула «Программы по созданию занятости» и служили прежде всего одной цели — сделать политически осуществимым продолжение и усиление дефляционного курса{515}. Тесно связанной с планами по созданию рабочих мест была также переселенческая политика. Ее неутомимыми сторонниками в правительстве выступали министр труда Адам Штегервальд и министр финансов Герман Дитрих. Бывший вожак христианских профсоюзов Штегервальд с давних пор полагал, что индустриализация Германии переросла нормальные размеры, и с этой бедой можно справиться только путем обратного массового переселения из городов в деревню. С этой точки зрения массовая безработица была только симптомом болезни, которая называлась сверхиндустриализацией. К таким же выводам пришел и Герман Дитрих, застрельщик борьбы за создание небольших пригородных поселений. Уже с начала февраля 1932 г. они оба оказывали давление на Ганса Шланге-Шёнингена, рейхскомиссара по оказанию помощи восточным землям, чтобы тот обратил свою энергию не только на спасение погрязших в долгах дворянских поместий, но и на заселение малолюдных аграрных областей востока Германии. До этого времени Шланге-Шёнинген наделе проводил политику, которая в первую очередь шла на пользу крупным хозяйствам. Его первое чрезвычайное постановление от 16 ноября 1931 г. предоставляло землевладельцам такую защиту от судебных исков, о которой крестьяне могли только мечтать. Декрет о списании задолженности сельского хозяйства от 6 февраля 1932 г. предусматривал, что кредиторы должны будут смириться с «извинительными письмами Восточной помощи», и это также было мерой, которая в большей степени пошла на пользу крупным хозяйствам, чем мелким. Но, в принципе, Шланге-Шёнинген был полностью убежден в необходимости усиленного расселения, в котором он видел, также как Штегервальд и Дитрих, действенное, хотя и не спасительное средство для преодоления безработицы. 9 мая 1932 г. Шланге предложил к рассмотрению кабинета проект чрезвычайного постановления, возникшего в результате длительных консультаций между инстанциями, в котором на первом плане находилась идея устройства поселений. Рейхскомиссар по оказанию помощи восточным землям уполномочивался скупать для государства земельные участки, владельцы которых были больше не в состоянии выплатить долги. Процедура осуществлялась либо путем прямой покупки без посредников, либо путем принудительной распродажи с торгов. Эти участки государство могло использовать для организации крестьянских поселений. Кабинет принял соответствующее решение 20 мая в слегка измененном виде. Спорным оставался только вопрос компетенции: дело организации поселений относилось к ведению рейхсминистра труда, который однако в конкретных случаях должен был согласовывать свои действия с комиссаром по оказанию помощи восточным землям. 21 мая Штегервальд и Шланге пришли к договоренности, в результате которой победителем вышел рейхскомиссар{516}. В тот же день общественность была проинформирована об этих планах правительства посредством коммюнике, автором которого выступил статс-секретарь Пюндер. Вслед за этим Ландбунд развязал широкую кампанию против проекта правительства. Самый большой из сельскохозяйственных головных союзов прочно находился с осени 1930 г. в руках «национальной оппозиции», а с декабря 1931 г. в его состоящий из четырех членов президиум наряду с тремя членами ДНФП входил также ведущий политик-аграрий от НСДАП. При такой политической ориентации Ландбунд должен был воспринять декрет об организации поселений почти как подарок небес: правительство Брюнинга дало ему в руки аргумент, который позволял обвинить кабинет в покушении на сложившиеся отношения собственности. У этих протестов был адресат, о котором было известно, что он всегда открыт для забот и пожеланий восточно-немецкого сельского хозяйства: Пауль фон Гинденбург. В то время как президент отдыхал в имении Нейдек, к нему с письмами наряду с другими обратились президент Ландбунда граф Калкрейт, президент Немецкого сельскохозяйственного собрания Эрнст Брандес, землевладелец Вейс из Гросс-Плауена, а также отделения Ландбунда, расположенные в пограничной области Позен-Вестпройсен и Саксонии. Тон этих писем был одинаковым. Право на проведение государственными органами принудительных распродаж является, как формулировал директор Восточно-прусского сельскохозяйственного общества барон фон Гайл, «дальнейшим вмешательством и новым шагом государственного социализма». Оглашение проекта, писал он далее, вызвало большое беспокойство среди широких сельскохозяйственных кругов Востока и средних городских слоев: «Усталость душ на Востоке, к сожалению, прогрессирует. Она постепенно оказывает воздействие на силу сопротивляемости тех кругов, которые до сего времени были носителями национальной воли к сопротивлению против Польши. Это наблюдение касается также и военных. В это критическое время необходимо избегать всего, что может способствовать ослаблению воли к сопротивлению». Эти прошения быстро оказали ожидаемое действие. 25 мая Гинденбург через Мейснера проинформировал Шланге о том, что он не может согласиться с декретом в его настоящей редакции. То, что особенно претило рейхспрезиденту, являлось на самом деле сердцевиной проекта: право государства принудительно распродавать землевладения даже без обращения со стороны кредиторов. Гинденбург потребовал, чтобы в принятии подобных решений участвовали соответствующие корпоративные организации сельского хозяйства. Это предложение было нацелено на то, чтобы лишить проект Шланге его остроты{517}. Мейснер, вернувшийся 26 мая 1932 г. в Берлин после короткого визита в Нейдек, привез с собой сообщение от Гинденбурга и для Брюнинга. В нем рейхспрезидент писал о том, что, как и прежде, испытывает уважение к рейхсканцлеру и стремится, насколько это вообще возможно, сохранить его на посту. Но само правительство рейха должно быть реорганизовано вправо за счет включения таких деятелей, как Шлейхер и Гёрделер, но без участия национал-социалистов. Если же в Пруссии будет сформировано правительство с участием национал-социалистов (такой сценарий развития событий Гинденбург весьма приветствовал), то это могло бы, по его мнению, подвигнуть партию Гитлера к проведению политики «толерантности» по отношению к правому имперскому правительству. Что касается Грёнера, то Гинденбург не хотел его видеть в правительстве вообще и в качестве министра внутренних дел также. Итак, Гинденбург был полон решимости как можно скорее сформировать правое правительство. Рейхспрезиденту должно было быть ясно, что эту цель невозможно достигнуть без смены канцлера. Брюнинг мог оказаться на посту главы правого правительства только в том случае, если бы он был готов смириться с потерей своего «лица», т. е. фактически совершить политическое самоубийство. От отставки канцлера Гинденбурга до сего времени удерживала только мысль о лозаннской конференции по репарационному вопросу. Однако рейхспрезидент полагал, что Брюнинг сможет добиться успеха на этих переговорах также и в том случае, если он будет вести их в статусе министра иностранных дел. О подобных идеях, витавших в президентском окружении, статс-секретарь Мейснер сообщил депутату рейхстага от немецких националистов Кватцу уже 6 мая. Но ничего не свидетельствовало в пользу того, что Брюнинг был готов принять подобное предложение. Тот политический авторитет, которым он пользовался у центристов и левых, он наверняка утратил бы как в качестве министра иностранных дел правительства правых националистов, так и в качестве его канцлера. В Пруссии события также развивались не совсем так, как представлял себе Гинденбург. 24 мая, вдень, когда новоизбранный ландтаг собрался на свое организационное заседание, правительство Брауна формально заявило о своей отставке. 25 мая большинство ландтага избрало своим президентом национал-социалиста Керля. Своим выбором он был обязан фракции Партии Центра, воздержавшейся при голосовании. В результате договоренности с Брюнингом депутаты Центра выполнили неписаный, однако ни в коем случае не обязательный закон, согласно которому президент избирался из рядов сильнейшей фракции. Но выбор в пользу Керля еще не был признаком того, что намечалось широкое черно-коричневое соглашение. «То, что в Пруссии проблема будет решена с участием нацистов, является крайне сомнительным, или, по крайней мере, все это затянется еще на месяцы», — записал в своем дневнике Пюндер 26 мая по результатам беседы между Брюнингом и Мейснером. «Не откладывать сейчас развязку в рейхе, учитывая также Лозаннскую конференцию! Но если не будет найдено решение в Пруссии, то тогда конечно же не будет и поддержки (со стороны национал-социалистов. — Г. В.) в рейхе в целом. После этого рейхсканцлер [остался] со мной наедине. Он серьезно задумывается о своей полной отставке, чтобы возложить ответственность на правых. Тогда не может быть и речи о посте министра иностранных дел. Он еще не знает, должен ли он предложить на рассмотрение чрезвычайное постановление. Хочет принять решение об этом на свежую голову. В воскресение (29 мая. — Г. В.) его решающий докладу рейхспрезидента»{518}. На самом деле у Брюнинга не было повода для оптимизма. Лучше чем кто-либо другой он знал, что до прорыва в репарационном вопросе еще далеко. Когда французский посол Франсуа-Понсе завел разговор по поводу пассажа из недавней речи канцлера в рейхстаге, вызвавшего самое большое внимание, а именно «о последних ста метрах, отделяющих нас от цели», Брюнинг осадил его: «При оценке расстояния до цели все зависит от общей протяженности пути». 27 мая Брюнинг в ходе конфиденциального разговора заявил о том, что в Лозанне Германия должна потребовать отмены репараций. «Но едва ли удастся тотчас же добиться осуществления этого требования, по меньшей мере, еще не на этой конференции. Противная сторона не готова признать, что Германия и в будущем не будет больше в состоянии изыскивать избыточные суммы для осуществления репарационных платежей». При таком пессимистическом отношении канцлер едва ли мог рассчитывать на то, что одной ссылки на Лозанну будет достаточно, чтобы лишить Гинденбурга желания произвести быструю смену правительства. 27 мая общественность еще ничего не знала о мрачных прогнозах Брюнинга, зато она была поставлена в известность о решении фракции немецких националистов в рейхстаге в отношении декрета о поселениях. За два дня до возвращения Гинденбурга в Берлин партия Гугенберга приступила к нанесению самого массированного удара по политике правительства Брюнинга. «Путь, которым намеревается идти правительство рейха вместе с этим декретом, представляет собой не что иное, как законченный большевизм», — говорилось в резолюции националистов. «Этот декрет не принесет помощи никому, ни собственникам и кредиторам, ни государству и народу. Но он чудовищным образом подрывает все основы права собственности, гарантированные конституцией. Он умножит хозяйственную нужду города и деревни, он изгонит тысячи людей из их домов; но прежде всего он усилит чувство правовой незащищенности жителей немецкого Востока перед лицом произвола их собственного правительства и, таким образом, ослабит такую важную сегодня силу духовного сопротивления немцев, живущих на подверженном опасности Востоке». Поскольку Гинденбург не хотел допускать национал-социалистов к министерским портфелям, он не смог бы добиться корректировки политического курса вправо без содействия немецких националистов. Поэтому самое позднее после 27 мая у него уже не было иного пути как отказаться поставить свою подпись под декретом о поселениях. Со своей стороны имперский комиссар по делам Востока не видел больше возможности для достижения компромисса. 27 мая Шланге-Шенинген сообщил по телефону Мейснеру о своих опасениях: «Меня здесь торпедируют восточно-прусские латифундисты, которые воздействовали в Нейдеке на господина рейхспрезидента». Ходили слухи, что Гинденбург охарактеризовал его, Шланге, как «аграрного большевика». В заключение Шланге заявил, что если рейхспрезидент хочет увидеть его заявление об отставке, то он его незамедлительно получит. И хотя Мейснер отрицал, что Гинденбург так уничижительно высказался о рейхскомиссаре, Шланге еще в тот же день, согласовав свои действия с Брюнингом, написал письмо, в котором поставил рейхспрезидента перед выбором: или тот должен был заверить его в своем полном доверии, или отправить в отставку. Этим решением Шланге связал судьбу кабинета со своей судьбой: правительство не могло позволить себе третий министерский кризис в течение одного месяца и должно было или выстоять, или пасть вместе с декретом о поселениях{519}. В воскресение 29 мая в 11 утра, в соответствии с предварительной договоренностью, состоялся разговор между рейхспрезидентом и рейхсканцлером. Брюнинг, который кое-что знал об интригах камарильи, однако далеко не все, отправлялся на эту встречу, по свидетельству Пюндера, «не таким агрессивным и не таким уверенным». Гинденбург принял его, как позднее описывал Брюнинг в своих воспоминаниях, подчеркнуто холодно. После того как канцлер еще раз изложил принципы своей политики, в том числе рассказав о своих усилиях, направленных на поворот курса вправо, который сначала должен был осуществиться в федеральных землях, а потом и в рейхе, рейхспрезидент заговорил с ним в «резком, грубом тоне». Он заявил: «Мы слышали совсем другие мнения касательно вашей склонности к движению вправо». После этого Гинденбург зачитал рукописную записку примерно следующего содержания: «1. Правительство по причине своей непопулярности не получит от меня больше разрешения издавать новые декреты. 2. Я лишаю правительство права предпринимать какие-либо кадровые изменения в своем составе». Согласно его воспоминаниям, Брюнинг ответил: «“Если я правильно понял только что зачитанные требования, то Вы, господин рейхспрезидент, желаете общей отставки всего кабинета”. Ответ рейхспрезидента: “Именно так. Правительство должно уйти, т. к. оно непопулярно”. Я заявил: “Завтра утром я соберу кабинет, который примет решение о своей полной отставке”. Рейхспрезидент: “Я прошу, чтобы это случилось как можно скорее”. Взяв себя в руки, я спокойно ответил, что сам рассматриваю как государственную необходимость то, чтобы новый кабинет был образован как можно скорее. “Я могу завтра утром немедленно передать Вам прошение правительства об отставке”. Рейхспрезидент: “Сделайте это”». Когда Гинденбург в завершение разговора потребовал от Брюнинга остаться в новом правительстве в качестве министра иностранных дел, тот ответил отказом. Согласно записям Пюндера, которые он сделал во второй половине дня 29 мая на основании рассказа Брюнинга, канцлер заявил, что «для него подобное участие является невозможным, уже исходя из его отношения к избирателям рейхспрезидента». «Он сказал, что нельзя спустя всего лишь несколько недель таким образом выражать свою любовь и благодарность к ним. Президент, казалось, пропустил мимо ушей этот весьма четкий намек… Я едва ли должен в этих строках упоминать о том, что рейхсканцлер, хотя и не дал вырваться своим чувствам наружу, был, с полным правом, внутренне чрезвычайно возмущен этим холодным обращением президента». Утром следующего дня 30 мая Брюнинг перед последним заседанием правительства провел ряд бесед, в том числе и с Отто Велсом. Председатель социал-демократов заверил канцлера в том, что его партия готова принести дальнейшие жертвы, если Брюнинг останется на своем посту. В 10 часов канцлер сообщил кабинету о разговоре, который у него состоялся днем ранее с Гинденбургом. Все министры поддержали решение Брюнинга, согласно которому в сложившейся ситуации отставка правительства была неизбежной. Последовавший вслед за этим разговор канцлера с рейхспрезидентом продолжался лишь несколько минут. «Время для доклада было первоначально назначено после парада морской стражи Скагеррака. Но в последний момент его изменили, — писал в своих мемуарах Брюнинг. — Мне было назначено на 11.55. В 11.54 меня ввели к рейхспрезиденту. Я вручил ему прошение об отставке. Несколько вежливых слов с обеих сторон. Через сад уже доносилась музыка матросского караула со стороны Гогенцоллернштрассе. Я поднялся. Рейхспрезидент сказал: “Я должен отправить Вас в отставку ради своего имени и своей чести”. Ответ: “Господин рейхспрезидент, у меня также есть честь и есть имя, которые я должен защищать перед лицом истории!” Секунды молчания, звуки музыки становились все громче. Я сказал: “Господин рейхспрезидент, я должен сейчас проститься, чтобы Вы своевременно смогли оказаться на месте во время развода караула”». Гинденбург предпринял еще одну последнюю попытку уговорить Брюнинга остаться в качестве министра иностранных дел. Канцлер снова ответил отказом. После этого Брюнинг сказал: «“Я надеюсь только на то, господин рейхспрезидент, что Ваши советники не заведут Вас на путь нарушения конституции”. Рейхспрезидент бросил на меня пронзительный взгляд. Уже стучали в дверь. Очевидно, кто-то озаботился тем, что беседа длится слишком долго. На самом деле она заняла три с половиной минуты. Я молча поклонился, вышел в переднюю и пошел назад через сад, в то время как президент появился в воротах и военный оркестр приветствовал его музыкой»{520}. Падение Брюнинга было знаменательной исторической вехой. 30 мая 1932 г. завершилась умеренная фаза президентской системы правления. Ее ярко выраженным признаком, начиная с октября 1930 г., была политика «толерантности», осуществлявшаяся социал-демократией в отношении правительства рейха. Самая большая республиканская партия поддерживала кабинет Брюнинга, руководствуясь двумя целями: воздвигнуть заслон на пути формирования еще более правого правительства и сохранить в Пруссии правительство Веймарской коалиции с участием Центра и Немецкой государственной партии. В результате возникла взаимная зависимость: СДПГ не могла свергнуть Брюнинга, не поставив тем самым под удар Брауна; Партия Центра, другая значительная республиканская сила, не могла расторгнуть прусскую коалицию, т. к. в этом случае пострадало бы канцлерство Брюнинга. Перед лицом критики справа Центр защищал правящий союз в Пруссии, заявляя, что тем самым он удерживает социал-демократию «от совместного похода рука об руку с коммунистами». И в самом деле, начиная с осени 1930 г. СДПГ выпала из рядов оппозиции, что дало шанс национал-социалистам представлять себя как оппозиционную силу правее коммунистов, а также облегчило КПГ переманивание на свою сторону недовольных избирателей СДПГ. Социал-демократам не оставалось ничего другого, как только поддержка Брюнинга, если они не желали отказываться от власти в Пруссии. Однако одновременно они выпали из числа участников состязания за внепарламентскую мобилизацию масс. Для прусской социал-демократии обрушился весь миропорядок, когда 24 апреля 1932 г. правительство Брауна утратило парламентское большинство. СДПГ оставалась, по-видимому, только одна печальная альтернатива: или вступить в борьбу с черно-коричневым кабинетом обычными парламентскими методами, или с молчаливого попустительства коммунистов и далее оставаться у власти в качестве управляющего делами кабинета меньшинства Брауна{521}. Сделка между Брюнингом и социал-демократией была таким образом не только условием существования умеренной президентской системы, но и ее ахиллесовой пятой. Политические и социальные уступки, за счет которых канцлер Центра приобретал поддержку со стороны СДПГ, уже давно воспринимались силами правее правительственного лагеря как непомерно высокая цена. Альтернатива этому варианту президентской системы начала вырисовываться после того, как НСДАП приобрела доверие посредством своих заверений об уважении легальности. В той же мере, в какой национал-социалисты становились массовым движением правых, у части старых элит росла склонность к тому, чтобы привести партию Гитлера к государственной власти как посредством участия в правительствах федеральных земель, а именно в Пруссии, так и посредством некого «пакта о терпимости» — в рейхе. Таким образом, политика «толерантности» в определенной мере поменяла свои полюса слева направо, при этом НСДАП в отличие от СДПГ при Брюнинге теперь действительно была предназначена «ведущая» роль. Брюнинг также стремился самое позднее начиная с осени 1931 г. к тому, чтобы интегрировать национал-социалистов в политическом отношении. Но тем не менее он установил для них высокий барьер на пути к государственной власти: НСДАП должна была оставаться на почве конституции и в ее руки не должны были попасть главные властные структуры: полиция и рейхсвер. Эти требования были для нацистов, если соразмерять их с ожиданиями Гитлера, не чем иным, как квадратурой круга. Традиционные правые формулировали свои условия допуска национал-социалистов к власти более расплывчато. Точно можно быть уверенным только в том, что Гинденбург и его камарилья и не думали весной 1932 г. о том, чтобы доверить гитлеровскому движению ключевые позиции во власти. Они готовы были приветствовать национал-социалистов как младших партнеров, но не в качестве своих политических наследников. Герман Дитрих, вице-канцлер вправительстве Брюнинга, видел «глубокие причины» отставки канцлера от Центра, как он заявил об этом 12 июня 1932 г. президиуму Немецкой государственной партии, в том, что «слой населения, не имевший прежде в государстве никакого влияния, а именно старое пруссачество, снова намеревается вернуть себе власть». Делая этот вывод, Дитрих ссылался на свой разговор со Шлейхером. Крупные прусские аристократы-землевладельцы в действительности представляли в своем большинстве самых решительных врагов Брюнинга. То, что не нравилось Гинденбургу в его первом «президентском» канцлере, было большей частью эхом разговоров рейхспрезидента с прусскими соседями по поместью, в том числе с его другом Элардом фон Ольденбург-Янушау. И все же вердикт Дитриха был верен только отчасти. Во-первых, юнкеры оказывали сильное политическое воздействие на власть отнюдь не с весны 1932 г. Напротив, привилегией прямого доступа к Гинденбургу они пользовались с момента его первого избрания в 1925 г., а в результате перехода к президентской системе в марте 1930 г. значимость такого вида неформального участия во власти сильно повысилась. Во-вторых, остэльбские аграрии не были единственной фракцией камарильи, которая могла занести падение Брюнинга в свой актив. План смены правительства был разработан в апреле 1932 г. руководством рейхсвера во главе с генералом фон Шлейхером. Глава министерского бюро в министерстве рейхсвера разжег кризис вокруг запрета СА, чтобы сначала свалить Грёнера, а потом и Брюнинга. Шлейхер вступил в тайные переговоры с Гитлером и оговорил условия, на которых НСДАП была готова поддержать правое правительство: снятие запрета с СА и СС, роспуск рейхстага и новые выборы. Именно он убедил Гинденбурга одобрить новую расстановку сил, а в конце концов также представил ему наследника Брюнинга. Таким образом, у генерала были все причины скрывать от Дитриха свою истинную роль в свержении канцлера. В то время как Гинденбург проводил на Троицу свой отпуск в Нейдеке, по меньшей мере один из его соседей узнал из первых рук, что рейхспрезидент в ближайшее время расстанется со своим канцлером. «С кабинетом Брюнинга покончено», — писал 21 мая «старый Янушауец», еще до получения им сообщений о судьбе «Декрета о поселениях», адресуясь к барону фон Гайлу. Тогда еще было неясно, когда именно должна была состояться смена канцлера, т. к. Гинденбург еще раздумывал о том, не должен ли он, прежде чем отстранить Брюнинга отдел, дождаться исхода «репарационной» конференции в Лозанне. Кампания против «Декрета о поселениях» и ультимативно сформулированная резолюция немецких националистов поставили рейхспрезидента в позицию «принуждения к ходу». Если он не хотел рисковать поддержкой тех сил, на которые должно было опереться новое правительство, он должен был действовать незамедлительно. То обстоятельство, что Брюнинг вынужден был покинуть свой пост уже в конце мая, и в самом деле было обусловлено давлением со стороны именитых представителей «старого пруссачества»{522}. Ни об одном из канцлеров Веймарской республики нельзя сказать с большим основанием, чем о Брюнинге, что его образ, искаженный симпатией или ненавистью партий, не устоялся в исторических оценках. Одни расценивают его как человека, который систематически подрывал основы немецкой демократии, став тем самым политиком, невольно проложившим для Гитлера путь к власти. Другие видят в нем представителя консервативной альтернативы как потерпевшей крах парламентской системе, так и национал-социалистической диктатуре. Согласно последней интерпретации политика Брюнинга была исторически необходимой на длительное время, и только падение канцлера стало началом пути к катастрофе. Бесспорным является то, что к моменту, когда 30 марта 1930 г. Брюнинг стал рейхсканцлером, парламентская демократия Веймара уже потерпела фиаско. После распада Большой коалиции переход к открытой президентской системе правления был только вопросом времени. Социал-демократическая политика «толерантности» тормозила процесс обособления исполнительной власти вплоть до падения Брюнинга, что вызывало беспрестанное возмущение у сторонников авторитарного государства. С этой точки зрения процесс свертывания веймарского парламентаризма продолжался вплоть до конца мая 1932 г. Жесткий дефляционный курс Брюнинга основывался вплоть до второй половины 1931 г. на широком общественном консенсусе. Не только буржуазный правительственный лагерь, но и социал-демократия поддерживала необходимость последовательной политики экономии, т. к. только таким образом можно было исправить последствия нездоровой «экономики взаймы», практиковавшейся в предыдущие годы. В пользу самой жесткой экономии говорило также то, что о ревизии плана Янга невозможно было даже помыслить, если бы государство выделяло щедрой рукой средства для повышения рабочей занятости. Только с наступлением нового 1932 г. появилась возможность для принципиальной корректировки курса. После того как американский конгресс ратифицировал мораторий Гувера, а особый базельский комитет охарактеризовал план Янга как устаревший, Брюнинг мог бы перейти к более активной конъюнктурной политике. Но его приоритеты были расставлены иначе: на первом месте стояла полная отмена репараций, и ради достижения этой цели он продолжил политику целенаправленной депрессии. Кредиторы Германии должны были видеть, в каком направлении они гонят Германию: в направлении массовой нищеты и растущего политического радикализма{523}. Страны-победительницы внесли репарациями существенный вклад в обострение экономического и политического кризиса в Германии. Однако только репарациями нельзя объяснить, почему Брюнинг отказался использовать расширившийся простор для действий в сфере экономики, которым он располагал начиная с 1932 г. Изменение прежней политической линии стало невозможно для Брюнинга в силу его ярко выраженного национализма, с помощью которого он стремился доказать себе и своим соотечественникам, что католики являются такими же хорошими немцами, как и протестанты. С другой стороны, очевидно, что Гинденбург и его советники вряд ли приняли бы другую, более «гибкую» позицию Брюнинга по вопросу репараций. Предшественник Брюнинга, Герман Мюллер, оставался на своем посту до конца марта 1930 г. только потому, что авторитетная часть старых руководящих слоев была весьма заинтересована в том, чтобы Большая коалиция позволила получить плану Янга поддержку парламентского большинства. Брюнинг мог бы продлить время своего канцлерства весной 1932 г., если бы заявил, что ни у какого другого канцлера не будет таких хороших шансов, как у него, раз и навсегда расправиться с планом Янга. Как только он утратил возможность воздействовать на рейхспрезидента этим аргументом, он должен был уйти. Парадоксальным образом Брюнинг был одновременно самым сильным и самым слабым канцлером во всей истории Веймарской республики: наисильнейшим, потому что он был более независим от рейхстага, чем все его предшественники, и наислабейшим, потому что еще ни один глава правительства не зависел от благосклонности рейхспрезидента в такой степени, как он. В конечном итоге всегда имело вес не то, к чему стремился Брюнинг, а то, что считали необходимым рейхспрезидент и его окружение. Вопрос о том, работал ли или нет Брюнинг над восстановлением монархии Гогенцоллернов во время своего канцлерства, имеет лишь ограниченный исторический интерес. Зависимость от Гинденбурга с самого начала лишила Брюнинга возможности стать архитектором «консервативной альтернативы». К чему стремилась камарилья, едва ли может быть адекватно описано с помощью термина «консервативный». Планы тех, кто имел доступ к президентскому уху, сводились к построению авторитарного государства, в котором воля масс должна была проявляться лишь приглушенно. Главной несущей конструкцией такого режима должен был стать теперь не парламент, а рейхсвер. Отставка Брюнинга существенно приблизила к цели сторонников выхода из кризиса авторитарным путем. Если бы для Гинденбурга речь шла о том, чтобы сохранить от Веймара столь много, сколько возможно, он должен был бы крепко держаться за своего канцлера, к которому терпимо относился рейхстаг. Очередные выборы в рейхстаг должны были состояться только в сентябре 1934 г., и до этого времени экономическая ситуация могла бы улучшиться, а радикализм — пойти на убыль. Но на повестке дня окружения Гинденбурга стояли не сохранение и реформирование демократии, а ее дальнейший демонтаж. Для достижения этой цели канцлер из рядов правых националистов мог быть на деле гораздо полезнее, чем политик правого центра, такой как Генрих Брюнинг{524}.Глава XVI Угроза гражданской войны
Имя наследника Брюнинга обсуждалось на берлинской бирже слухов уже 25 мая 1932 г. После разговора с Вернером фон Альвенслебеном, доверенным лицом Шлейхера, Геббельс записал в своем дневнике: «Канцлер фон Папен, иностранные дела — Нейрат. Далее еще ряд незнакомых имен». Франц фон Папен, который до выборов 24 апреля был одним из самых правых заднескамеечников фракции Центра в прусском Ландтаге, главным акционером и председателем наблюдательного совета партийной газеты «Германиа», а также членом правления многих сельскохозяйственных союзов, напротив утверждает в своих мемуарах, что Шлейхер, застав его врасплох, обратился к нему с вопросом о канцлерстве только 28 мая. Мотивы такого выбора Шлейхера нельзя обосновать документально, однако о них можно легко догадаться. Папен считался в высшей степени консервативным, но не имевшим собственного лица политиком, т. е. обещал быть легко управляемым канцлером. Перед графом Вестарпом, которого Гинденбург охотно бы сделал преемником Брюнинга, вестфальский землевладелец 1879 года рождения имел огромное преимущество — он не был личным врагом Гутенберга. Его членство в партии Центра с точки зрения Шлейхера должно было облегчить партии Брюнинга возможность смириться со сменой канцлера и поддержать новое правительство. Для Гинденбурга католическое вероисповедание протеже Шлейхера определенно не было поводом для радости. Зато Папен происходил из аристократической семьи, и свои симпатии к Гинденбургу он продемонстрировал уже в 1925 г., когда открыто поддержал фельдмаршала в ходе его первых выборов. Некоторые данные из биографии нового рейхсканцлера также пришлись по вкусу генерал-фельдмаршалу. После прохождения обучения в кадетском корпусе Папен служил в прусском Пажеском корпусе и офицером улан, составил себе репутацию мастера вольтижировки и скачек, после многолетнего обучения стал офицером Генштаба, а в начале 1914 г., уже в чине капитана, занял пост военного атташе при посольстве Германии в Вашингтоне. Во время его службы в Америке имел место эпизод, о котором много писали газеты после его назначения рейхсканцлером: в начале мировой войны Папен из Вашингтона готовил акты саботажа в Канаде и США; после его высылки в декабре 1915 г. как «persona ingrata» британцы нашли соответствующие уличающие материалы в багаже некоего путешествующего немецкого дипломата во время его промежуточной остановки в одной из английских гаваней. Вернувшись в Германию, Папен получил сначала назначение командиром батальона на Западном фронте, а потом в качестве офицера Генерального штаба был послан в союзную Турцию. Его гражданская послевоенная карьера началась в 1921 г., когда Папена избрали в прусский ландтаг{525}. Назначению Папена рейхсканцлером предшествовали беседы рейхспрезидента с представителями партий. Но политический вес имела только одна беседа — с Гитлером и Герингом, состоявшаяся поздно вечером 30 мая. В интересах «плодотворного сотрудничества с новым правительством, которое будет образовано господином рейхспрезидентом», фюрер НСДАП выставил, согласно официальной протокольной записи, сделанной Мейснером, только два условия, а именно: «Во-первых, по возможности быстрый роспуск и выборы нового рейхстага, который будет отвечать народному настроению, и, во-вторых, скорейшая отмена декретов, порочащих НСДАП, в особенности — запрета на деятельность СА». Заявления Гитлера соответствовали тому, о чем он уже говорил в предшествующие недели Шлейхеру. Таким образом, в результате этой беседы Гинденбург получил подтверждение расчетам, стоявшим за падением Брюнинга. То, что рейхспрезидент был готов выполнить условия национал-социалистов, подразумевалось само собой разумеющимся исходя из развития событий. Предположительный исход парламентских выборов, казалось, не вызывал смущения ни у Шлейхера, ни у Гинденбурга: после того как НСДАП получила 29 мая во время выборов ландтага в Ольденбурге абсолютное большинство мест, едва ли было еще возможно сомневаться в том, что национал-социалисты также и в новом рейхстаге станут сильнейшей партией, лидирующей с большим отрывом от конкурентов. Единственным препятствием, еще стоявшим в конце мая на пути назначения Папена канцлером, была позиция Центра. Для католической партии после унизительной отставки Брюнинга демонстративное отклонение манипуляций камарильи было практически требованием сохранения самоуважения. Непосредственно после того, как Папен 31 мая 1932 г. получил поручение Гинденбурга сформировать «правительство национальной концентрации», председатель партии Каас заявил кандидату в канцлеры, что партия будет рассматривать это как предательство, если тот действительно станет преемником Брюнинга. Вслед за этим Папен заявил рейхспрезиденту в ходе их второй беседы, что он не может рассматриваться кандидатом на пост рейхсканцлера, т. к. в этом случае он не может рассчитывать на столь ожидаемый «свадебный дар», т. е. на парламентскую поддержку своей собственной партии и тем самым всех политических центристских сил. Но Гинденбурга эти возражения не впечатлили, и он воззвал к патриотическому чувству долга Папена. Боевые ноты, зазвучавшие в голосе рейхспрезидента, тут же возымели свое действие: Папен принял поручение сформировать правительство, тем самым нарушив противоположное обещание, только что данное им Каасу. Чтобы предупредить последствия своей измены, а именно исключение из Партии Центра, без пяти минут канцлер еще 31 мая заявил о своем выходе из партии{526}. Вечером 1 июня — к этому времени канцлер был уже назначен и предварительный состав кабинета обнародован — «Форвартс» вышла подзаголовком «Кабинет баронов», вошедшим во все учебники истории. Действительно, правительство составили, после того как 6 июня оно было окончательно сформировано с назначением министра труда, один граф, четыре барона, еще двое аристократов и только три представителя буржуазии. Это были: Рейхсканцлер — Франц фон Папен Министр иностранных дел — барон Константин фон Нейрат Министр внутренних дел — барон Вильгельм фон Гайл Министр финансов — граф Лютц Шверин фон Крозиг Министр юстиции — Франц Гюртнер Министр рейхсвера — Курт фон Шлейхер Министр экономики — Герман Вармбольд Министр труда — Гуго Шеффер Министр продовольствия и сельского хозяйства — барон Магнус фон Браун Министр почт и транспорта — барон Пауль фон Эльтц-Рюбенах. Канцлер был отнюдь не единственным членом кабинета, чье политическое прошлое критически освещалось либеральной и социал-демократической прессой. Министр сельского хозяйства фон Браун, урожденный восточный пруссак, запятнал себя в глазах республиканских сил участием в путче Каппа — Лютвица. Министр внутренних дел фон Гайл, бывший директор Восточно-прусского сельскохозяйственного общества и представитель Восточной Пруссии в рейхсрате, равно как министр юстиции Гюртнер, возглавлявший до этого точно такое же ведомство в баварском правительстве, были, как и фон Браун, членами ДНФП. Чтобы подчеркнуть «надпартийные» притязания нового правительства, эти трое объявили о выходе из партии после их назначения на должности имперских министров. Близко к немецким националистам стоял бывший немецкий посол в Лондоне Константин фон Нейрат, который уже однажды, в ходе образования второго кабинета Брюнинга осенью 1931 г., назывался в качестве кандидата на пост министра иностранных дел. Министр финансов граф Лютц Шверин фон Крозиг с 1929 г. был министериальдиригентом ведомства, которое он теперь возглавил. Профессионалом был также правоверный католик Эльтц-Рюбенах, занимавший до этого пост президента дирекции имперских железных дорог в Карлсруэ. Министр труда Гуго Шеффер был до 1923 г. директором заводов Круппа, после этого — президентом Имперского страхового бюро и Имперского суда по делам обеспечения членов семей военнослужащих. Герман Вармбольд был единственным членом кабинета, уже входившим ранее в правительство рейха в качестве министра экономики второго кабинета Брюнинга, из которого он вышел в начале мая, разочарованный своей неудачей. Новый министр рейхсвера Курт фон Шлейхер расценивался всеми как наиболее влиятельный член «правительства национальной концентрации». В качестве политизированного генерала он уже много лет был кукловодом немецкой политики, а теперь первый раз открыто выступил подсвет рамп общественности. Родившийся в апреле 1882 г. в Бранденбурге, Шлейхер был типичным «кабинетным генералом»: за исключением короткого промежутка времени летом 1917 г., он никогда не командовал войсками. В качестве многолетнего референта министерства рейхсвера по вопросам бюджета он имел возможность глубоко ознакомиться с парламентской жизнью и приобрести у центристских партий репутацию реалистично мыслящего военного. При Грёнере, называвшем Шлейхера своим «cardinal in politicis», начальник министерского бюро в министерстве рейхсвера вырос до фигуры самого политически влиятельного немецкого генерала, причем ему особенно пригодилась то, что когда-то он был однополчанином Оскара фон Гинденбурга, «не предусмотренного конституцией» сына рейхспрезидента, и через него смог выстроить личную связь с истинным центром власти поздней республики{527}. Тем временем в кабинете Папена перевес оказался на стороне тех сил, которые способствовали падению Брюнинга: остэльбские помещики и тесно связанные с ними представители военной верхушки. В сравнении со старопрусскими элитами в новом правительстве была слабо представлена промышленность, что в первую очередь вызвало озабоченность отраслей, ориентированных на экспорт. Абсолютно никакого представительства в правительстве не получило промысловое среднее сословие равно как рабочие и служащие. В результате было неясно, смогут ли авторитет рейхспрезидента и силовой потенциал рейхсвера компенсировать чрезвычайную узость общественной опоры правительства. Но совершенно определенным было то, что в рейхстаге кабинету противостояло широкое большинство: помимо КПГ и СДПГ, о своем неприятии правительства Папена тотчас же также заявили Центр, БФП и Государственная партия. 2 июня 1932 г. социал-демократическая фракция рейхстага совершенно логично приняла решение о вынесении вотума недоверия имперскому правительству. Но опасаться результатов этого голосования у кабинета не было оснований. 4 июня рейхспрезидент Гинденбург подписал чрезвычайный декрет о незамедлительном роспуске рейхстага. Свой шаг он обосновал тем, что рейхстаг «по результатам состоявшихся в последние месяцы выборов в ландтаги немецких земель больше не соответствует политической воле немецкого народа». В этот же день новый рейхсканцлер выступил со своей правительственной декларацией. Впервые в истории Веймарской республики речь не была зачитана перед рейхстагом, а передавалась по радио. Новым было и еще кое-что. Так, Папен объявлял не о проведении конкретных мер, а ударился в полемику. Он говорил об «ублюдочной экономике парламентской демократии» и бросил упрек всем послевоенным правительствам в том, что они «в результате все растущего государственного социализма» пытались превратить государство «в некую разновидность богадельни». «Моральному истощению немецкого народа, обостренному пагубной антиобщественной классовой борьбой и усилившемуся из-за культурбольшевизма», он противопоставил «неизменные основы христианского мировоззрения». Самый содержательный пассаж правительственной декларации звучал какугроза: «Правительство вынуждено издать часть декретов, запланированных старым правительством, чтобы в течение следующих дней и недель могли были быть произведены платежи в целях поддержания государственного аппарата». Заключительные предложения речи Папена еще раз подчеркивали политическое местоположение нового кабинета. Роспуском рейхстага, заявил Папен, «нация поставлена перед ясным и однозначным выбором: рука об руку с какими силами она желает двигаться к будущему. Правительство же будет, независимо от партий, вести борьбу задушевное и экономическое оздоровление нации, за рождение новой Германии». Столь же необычным, как форма и содержание правительственной декларации Папена, было также то, что подавший в отставку кабинет Брюнинга посчитал необходимым ответить на брошенный вызов. Этот ответ завершался так: «Мы оставили после себя отнюдь не руины, наоборот, в тяжелейших экономических и финансовых условиях мы заложили основы для нового становления». Гораздо острее реагировал орган партийной печати социал-демократов. «Форвартс» назвала речь канцлера по радио «единственным в своем роде объявлением классовой борьбы сверху» и продолжала: «Мы противопоставим ему объявление классовой борьбы снизу. Война между баронами и народом должна быть доведена до конца! Только когда высокомерное барство будет побеждено окончательно и будет возможно действительное единение народа. Правительство, выступившее с таким заявлением, это правительство, которое пришлось по сердцу Гитлеру. Бароны хотят избрания национал-социалистов. Дайте им тот ответ, которого они заслуживают»{528}. 14 июня, спустя десять дней после выступления Папена, Гинденбург подписал первый чрезвычайный декрет нового правительства. «Можно только сказать, что “списано аккуратно”», — прокомментировал в своем дневнике бывший статс-секретарь рейхсканцелярии Герман Пюндер. И действительно, декрет под приукрашенным заголовком «Меры по поддержанию выплат по безработице и социального страхования, а также по облегчению благотворительных тягот общин» в значительной мере соответствовал тому, о чем незадолго до своей отставки договорился кабинет Брюнинга. Так, размеры пособия по безработице были в среднем сокращены на 23 %, размеры следующего вида пособия — кризисного обеспечения — снижались в целом на 17 %, а благотворительного пособия общин — на 15 %. В одном важном пункте кабинет фон Папена существенно вышел за рамки проекта своего предшественника. В то время как кабинет Брюнинга намеревался сократить срок попечения получателей основного пособия по безработице с 20 до 13 недель, кабинет Папена считал нужным производить проверку на «нуждаемость» уже по истечению 6 недель получения пособия. Тем самым практически отменялось право безработных на получение сравнительно достойного обеспечения. Его место занимала система попечения, обеспечивавшая уровень гораздо ниже того, что обычно понимается под «прожиточным минимумом»{529}. Эффект декрета можно почувствовать, ознакомившись с заявлением Объединенной федерации христианских профсоюзов Германии. Так, Центральный союз христианских горняков оценил среднее понижение пособий на уровне 20 %, а в некоторых случаях — до 50 %. Центральный союз христианских фабричных рабочих и рабочих табачных фабрик в результате опроса 119 безработных в Силезии определил размер среднего ежедневного пособия по безработице в сумме 55 пфеннигов на каждого члена семьи. Итог, подведенный Объединенной федерацией на основании суммирования отдельных данных, гласил: «После вычета весьма чувствительной суммы, идущей на оплату аренды жилья, остается в среднем 29 пфеннигов в день на каждого члена семьи для пропитания. На одежду, освещение и отопление не остается ничего, не говоря уже о каких-либо культурных потребностях». Одним из 5,6 млн человек, искавших работу (именно эту цифру безработных называла государственная статистика по состоянию на июнь 1932 г.), был П.Ф. из района Берлин-Шпандау, опрошенный Объединенной федерацией. Он на собственном примере описал проблему, которая как никакая другая была насущной для безработных летом 1932 г.: жилищный кризис. «Мое постоянное жилье находилось до 11 августа 1932 г. в Берлине, № 113 по Б…штрассе», — заявил он во время опроса. «Мое пособие согласно декрету составляло 18,40 рейхсмарок[57] на четырех персон. Плата за квартиру ежемесячно составляла 36,10 рейхсмарок. Таким образом, на жизнь мне каждую неделю оставалось 10,07 рейхсмарок, или на каждый день и каждого члена семьи по 36 пфеннигов. При таких обстоятельствах я больше не мог сохранять за собой жилье и был вынужден перебраться на “дачу” стоимостью 10,0 рейхсмарок ежемесячно. Теперь я боюсь, что собес учтет эту экономию в размере 26,10 рейхсмарок при расчете будущего размера пособия». Поселения безработных в форме «картонных колоний» на окраинах больших городов были в 1932 г. для многих людей уже давно привычной картиной. Другие безработные, которые больше не могли платить за квартиру или потеряли надежду найти работу у себя на родине, отправлялись бродяжничать. В начале ноября 1931 г. «Фоссише Цайтунг» оценивала число бездомных бродяг в размере 400 тыс., из них только 35 тыс. ежедневно находили пишу и прибежище в ночлежках и приютах. Никогда «странствующее войско», как писала о нем одна из либеральных берлинских газет, не достигало таких размеров, как в тяжелейшем кризисном 1932 г. Точных цифр нет, но имеются неоспоримые свидетельства той нужды, которую изведали эти люди под открытым небом. «Тот, кто однажды испытал, что это значит потерять свой дом и оказаться с женой и детьми ни с чем, без надежды на работу и заработок, тот познакомился с жизнью с ее самой тяжелой стороны, — говорилось в корреспонденции журнала «Социале Беруфсарбайт», опубликованной в феврале 1933 г. — Кто с открытыми глазами наблюдал за семьями, скитавшимися по главным путям безработных в Германии — к примеру, по дороге Берлин — Уккермарк — Мекленбург и Померания или по маршруту Западногерманская промышленная область — Мекленбург — Берлин, говорил с ними и слышал рассказы об их судьбе, тот заглянул в бездну глубочайшего человеческого горя. Отец, мать и целый косяк семенящих детей. Отец несет тяжелый рюкзак или тащит ручную тележку. Мать толкает коляску с самым маленьким или двумя младшими детьми, сидящими среди всевозможного домашнего хлама и одежды… Если спрашиваешь кого-нибудь из них, то на вопросы “откуда” и “куда” получаешь все время один и тот же ответ: “Мы ищем работу”». К жилищной нужде добавился голод. Уже в июле 1931 г. врач и ученый-диетолог Хельмут Леман констатировал в своей статье для журнала «Ди Тат», что в настоящее время Германия переживает «скрытый голод большого размера, таящий в себе опасность тяжелейших последствий для души и тела. Мы стоим перед опасностью, угрожающей следующим поколениям. Мы видим, что для широчайших слоев нашего народа — вероятно, по всей Германии — прожиточный минимум сократился уже наполовину». Суп из крупы, картофель в мундире, бобовый салат — так или похоже выглядит типичный обед, который ест семья безработного. Если у них однажды вдруг появлялось мясо, то это была, как правило, говядина или конина. Чем больше число детей, тем ниже был стандарт питания взрослых. В семье с четырьмя детьми статистическая «потребительская единица» получала, по подсчетам Лемана, только 40 % ежедневного минимума пищи. Если же дети находились в возрасте от 9 до 14 лет, то эта доля составляла только 32 %. Дети и молодежь стали главными жертвами безработицы. Врачи установили у детей безработных худшее состояние здоровья, чем у других детей, а учителя — существенное снижение школьной успеваемости. Молодые люди на личном опыте преждевременно знакомились с безработицей. Во всей Германии в 1931 г. на 717 000 выпускников школ приходилось всего 160 000 свободных мест рабочего обучения; таким образом далеко не каждый выпускник получал рабочее место. В больших городах безработная молодежь объединялась в «Дикие клики», большинство из которых представляли собой группы бродяг, а многие подростки оказывались вовлечены в преступные группы. Если «Дикие клики» интересовались политикой, что, впрочем, делали немногие из них, то чаще всего они склонялись к коммунистам. Но и КПГ не удалось прочно привязать к себе безработную молодежь: анархический элемент внутри клик сопротивлялся партийной дисциплине, давно ставшей для немецких коммунистов их второй натурой{530}. Среди взрослых безработных коммунисты также имели самые лучшие среди всех партий шансы найти отклик. В период кризиса КПГ все в большей степени становилась партией безработных: только 11 % ее членов в конце 1931 г. были заводскими рабочими, имевшими работу. Безработные, примкнувшие к национал-социалистам, были чаще служащими, а у социал-демократов число занятых рабочих и служащих среди членов партии было во много раз больше, чем у коммунистов. Но и КПГ не удалось организовать безработных. И хотя, по официальным данным, в 1932 г. насчитывалось 2200 партийных комитетов безработных и 1400 групп безработных в составе Революционной профсоюзной оппозиции (РГО), безработные к этому времени уже слишком обнищали для того, чтобы мобилизоваться под такими абстрактными лозунгами как грядущая революция или защита Советского Союза. Что касается рабочих, имевших работу, то они, как правило, не желали ставить свою занятость под угрозу участием в забастовках. Как говорилось в одном из отчетов саксонского окружного комитета КПГ о ситуации среди текстильщиков, «из-за страха работающих перед срывом забастовки руками безработных, все более очевидным становится отчуждение, возникшее в результате массовой безработицы между безработными и работающими». Разброд и шатание внутри рабочего класса оказывали парализующее действие на профсоюзы и подрывали мораль обеих рабочих партий сильнее, чем это было видно стороннему наблюдателю{531}. Реакция СДПГ и КПГ на декрет от 14 июня 1932 г. была нелицеприятной. Газета «Форвартс» полагала, что такой закон мог исходить только от правительства, «которое считает, что оно больше в принципе не должно обращать внимание на народные массы». «Роте Фане» призвала к проведению «совместного марша трудового народа» в Люстгартене, а также к организации забастовочных акций и «штемпельных забастовок»[58] безработных. 15 июня свой протест против разрушения системы социальной защиты населения, превосходящей все мыслимые рамки, высказали новому министру труда Гуго Шефферу представители всех направлений профсоюзного движения. Но крупных акций протеста тем не менее не последовало. В ситуации, когда на каждых 100 членов профсоюза приходилось 43 безработных и 22 рабочих, занятых неполный рабочий день, нельзя было серьезно даже помышлять о совместных действиях безработных и работающих{532}. Правительству Папена не нужно было также считаться с протестом левых, когда 16 июня, снова в результате принятия чрезвычайного постановления, был снят запрет на деятельность СА и СС и разрешено ношение униформы. Тем самым вслед за роспуском рейхстага было выполнено второе условие Гитлера, выдвинутое им в ходе торга о поддержке нацистами правительства Папена. Ожидания рейхспрезидента, которые тот выразил в тот же день в письме министру внутренних дел фон Гайлу, о том что «политическая борьба в Германии в будущем должна протекать в более спокойных формах, исключающих акты насилия», разделялись отнюдь не всеми правительствами федеральных земель. Два из них, баденское и баварское, 16 и 17 июня оперативно ввели собственные запреты на ношение униформы, вызвав тем самым резкий протест Гитлера, быстро возымевший действие. 26 июня 1932 г. фон Гайл заявил в правительстве, что в ближайшее время полиция будет не в состоянии вести борьбу на два фронта, а именно против КПГ и НСДАП. «Исходя из этой точки зрения, снятие запрета с СА и полная интеграция национал-социалистов в жизнь государства также являются настоятельно необходимыми». Так как на следующий день на конференции министров внутренних земель обе южно-немецкие земли подтвердили свой отказ поддержать политическую линию правительства, 28 июня последовал новый декрет рейхспрезидента, отменявший все запреты земель на ношение униформы и проведение демонстраций. Другую, необычайно сдержанную позицию в споре об отмене запрета на СА, в отличие от правительства Большой коалиции в Карлсруэ и возглавляемого БФП правительства меньшинства в Мюнхене, заняло управляющее делами правительство Пруссии. Северинг, озабоченный тем, чтобы не дать повод имперскому правительству выступить против Пруссии, даже потребовал 27 июня от своих коллег на созванной им конференции министров внутренних дел смириться с новым декретом и лишь в крайнем случае подавать на рейх жалобу в Конституционный суд или отправлять делегацию к рейхспрезиденту. Прусский министр внутренних дел обосновал свое решение тем, что рейхсвер готовит введение чрезвычайного положения и только ждет соответствующего повода. С заявлением, которое можно было истолковать именно таким образом, Шлейхер действительно выступил 21 июня в правительстве. Призыв Северинга подействовал: Бавария и Баден отказались от своей автономной политики. И хотя число случаев политического насилия с момента снятия запрета на деятельность СА скачкообразно выросло, все земли беспрекословно выполнили декрет от 28 июня{533}. С 4 июня во главе прусского кабинета в качестве исполняющего обязанности министра-президента стоял самый старший по выслуге лет член правительства от партии Центра министр социального обеспечения Генрих Хиртзифер. 60-летний Отто Браун, сославшись на свое плохое самочувствие, в тот же день ушел в «отпуск», из которого он не собирался возвращаться на свой пост. С момента выборов в ландтаг 24 апреля он больше не чувствовал себя законным министром-президентом, а без мандата со стороны народа он не представлял себе ответственной деятельности. Поэтому Браун, когда-то сильный политик, возражал против введенного 12 апреля 1932 г. изменения процедуры выборов министра-президента, которые до сих пор препятствовали избранию его преемника. Для него речь теперь могла идти лишь о том, чтобы очистить поле для черно-коричневой коалиции. Бороться за сохранение своей власти, опираясь на меньшинство в ландтаге, как это от него требовали председатель социал-демократической фракции ландтага Эрнст Хайльман и глава берлинской полиции Гржезинский, Браун считал недемократичным и ошибочным. 6 июня к прусскому кризису подключился Папен. Не сочтя нужным поставить в известность временно управляющий кабинет, рейхсканцлер потребовал от президента ландтага, национал-социалиста Керля, созвать ландтаг раньше, чем это было предусмотрено, с тем, чтобы как можно быстрее был избран новый министр-президент. На Хиртзифера и беспартийного министра финансов Клеппера рейхсканцлер попытался оказать давление с помощью аргумента, согласно которому рейх сможет помочь Пруссии решить ее финансовые трудности только тогда, когда будет существовать правительство, сформированное надлежащим образом. Но 8 июня управляющее делами правительство Пруссии смогло собственными силами сбалансировать бюджет, и, таким образом, отпала потребность в услугах рейха по его санации. Разрешение кризиса парламентским путем тем временем не предвиделось: в ходе переговоров с НСДАП о создании коалиции, которые впервые формально начались в следующие дни, Центр заявил о своей готовности выбрать министра-президента из рядов немецких националистов, но не из состава национал-социалистов — требование, которое переговорщики Гитлера отвергали с порога. «Кабинет баронов» посчитал в этой ситуации, что пришло время оказать массивное давление на Центр. 11 июня барон фон Гайл ратовал перед объединенными комитетами рейхсрата за «ultima ratio» для Пруссии — назначение рейхскомиссара. 12 июня в том же ключе, как днем ранее, это сделал его министр внутренних дел, Папен выступил перед президентами и министрами-президенами южно-немецких земель{534}. О вмешательстве рейха в дела Пруссии в середине июня также размышлял один известный социал-демократ. В своем разговоре с фон Гайлом Северинг обрисовал ситуацию, которую стоило ожидать после 31 июля 1932 г. — на этот день были назначены выборы в рейхстаг. Он высказал мнение, что, если парламент не окажется работоспособным, стране будут угрожать серьезные беспорядки, и в этой ситуации он мог «отчетливо представить, что рейх в интересах действенной защиты государства устремится к объединению своих сил с силами наиболее крупных федеральных земель». По крайней мере именно так Северинг изложил обстоятельства дела в октябре 1932 г. в записке, направленной в Конституционный суд. Гайл сообщил о беседе имперскому кабинету в общих чертах 21 июня. По его словам, Северинг подчеркнул в своем обращении, что, «очевидно, имперское правительство вскоре будет вынуждено назначить в Пруссии и в некоторых других федеральных землях имперских комиссаров». 25 июня рейхсминистр внутренних дел утверждал, что «прусский министр внутренних дел заявил ему, что лично он не участвует в критике правительства рейха. Если для Пруссии должен быть назначен рейхскомиссар, то пусть это не произойдет слишком поздно». Поскольку теперь и в национал-социалистических газетах можно было прочесть, что Северинг оказал давление на Гайла с тем, чтобы главой Пруссии был назначен рейхскомиссар, то прусский министр внутренних дел был вынужден выступить с опровержением. 25 июня он заявил, что, напротив, настоятельно предостерегал имперское правительство от того, чтобы оно без веского правового обоснования вводило имперский контроль в отношении какой-либо из федеральных земель или тем более назначало рейхскомиссара. В Пруссии полиция была и продолжает оставаться под его твердым контролем. И все же, что бы на самом деле ни сказал Северинг Гайлу, министр внутренних дел рейха теперь мог исходить из того, что управляющее делами правительство Пруссии не будет оказывать сопротивления, если рейх в конституционно-правовой корректной форме переподчинит себе полицию земли. Северинг очевидно предполагал, что федеральное правительство стремится только к объединению силового потенциала рейха и Пруссии, чтобы избежать открытой гражданской войны. Казалось, Северингу даже не приходило в голову, что для кабинета Папена речь шла в первую очередь о том, чтобы отстранить социал-демократов от власти в крупнейшей из немецких земель{535}. Социал-демократическая партия атаковала «кабинет баронов» с момента его назначения с неустанной силой. Только в одной сфере СДПГ обнаружила определенную общность с правительством — в области внешней политики. Уже в первый день канцлерства Папена «Форвартс» отметила, что пангерманские силы нападают на бывшего политика Центра за то, что он проводит дипломатию немецко-французского взаимопонимания. Папен в действительности поддерживал хорошие отношения с влиятельными политическими и экономическими кругами соседней страны, которые, в свою очередь, стремились к тесному немецко-французскому сотрудничеству с антисоветским уклоном. На конференции по вопросам репараций, начавшейся в Лозанне 16 июня, рейхсканцлер попытался решить квадратуру круга: с одной стороны, он потребовал радикальной ревизии Версальского договора, в том числе отмены статьи 231, возлагавшей на Германию ответственность за развязывание войны и причинение всех потерь и убытков, а также полного военного равноправия для Германии. С другой стороны, он предложил Франции подписать консультативный пакт с целью заключения союза в интересах постоянной кооперации генеральных штабов обеих стран. Провал честолюбивого проекта был неизбежен: новый премьер-министр Франции — победитель майских выборов в Национальное собрание, радикал-социалист Эррио — не мог принять немецкое требование о ревизии Версаля, при этом своей идеей тесного франко-немецкого союза Папен задел британского премьера Макдональда. Предсказуемо было также и то, что Германия при такой исходной позиции не могла добиться успеха на конференции и по вопросу отмены репарационных платежей без какого-либо заключительного платежа. Макдональд склонялся к тому, чтобы согласиться с этим требованием, но связывал это с условием, которого не мог выполнить Папен, а именно — с отказом Германии, по крайней мере временным, от активной политики ревизии Версаля. Для Эррио, напротив, немыслимым было появиться перед депутатами национального собрания без заключительного репарационного платежа в кармане. Сумма, которую требовала Франция, была, однако, существенно снижена в ходе переговоров: с 7 млрд рейхсмарок до максимум 3 млрд рейхсмарок. Эту сумму Германия должна была начать выплачивать самое раннее по истечении трех лет и производить выплаты в течение долгого времени в виде государственных долговых обязательств — при условии, что экономическое равновесие в стране будет полностью восстановлено. И хотя Шлейхер и Гайл высказывали серьезные сомнения, Папен, энергично поддержанный президентом рейхсбанка Лютером, в конце концов заявил о своем согласии с этими условиями. 9 июля он поставил свою подпись под Лозаннским соглашением. Когда рейхсканцлер в своей заключительной речи утверждал, что цель Германии, заключавшаяся в окончательном разрешении проблемы репараций, тем самым достигнута, он был прав только отчасти. Ратификация соглашения парламентами в Лондоне и Париже зависела напрямую от того, готовы ли были США в данный момент пойти на удовлетворительное урегулирование вопроса о межсоюзнических долгах. Но то, что Германия когда-нибудь снова, за исключением символического остатка, будетдолжна выплачивать репарации, было в высшей степени невероятно. Папен снискал в Лозанне успех, которым он был обязан Брюнингу. Результат превзошел даже те ожидания, которые бывший рейхсканцлер от Центра расценивал в конце мая как реалистические. Но последствия курса Брюнинга «на выживание» оказали гораздо большее воздействие, чем Лозанна: его жесткая политика по репарационному вопросу усугубила экономическую депрессию, увеличила социальные тяготы и выступила катализатором политического радикализма. Кто оказался в выигрыше от этой политики, едва ли вызывало сомнения за несколько недель до выборов в рейхстаг 31 июля{536}. В Германии результаты Лозанны получили неоднозначные отклики. Папен своими публичными заявлениями еще во время конференции дал пишу настолько завышенным ожиданиям, что едва ли он должен был удивляться острой критике «национальных» кругов, обрушившейся на него после возвращения в Германию. Самые плохие оценки канцлер получил от прессы немецких националистов, в то время как «Фёлкишер Беобахтер» Гитлера высказывалась хотя отрицательно, но сравнительно сдержанно. Газета «Германиа», председателя наблюдательного совета которой еще так недавно звали Франц фон Папен, пришла к выводу, что Лозаннское соглашение отнюдь не было движением вперед в сравнении с январем 1932 г. Напротив, такие либеральные газеты, как «Фоссише Цайтунг» и «Берлинер Тагеблатт», хвалили поведение канцлера, а социал-демократическая «Форвартс» также с признательностью полагала, что в Лозанне политика взаимопонимания одержала верх над конфронтацией{537}. В большей степени, чем какая-либо другая партия, сделать из «Лозанны» боевой призыв попыталась КПГ: «Только мы, коммунисты, боремся против пакта, заключенного правительством Папена в Лозанне с получателями дани, — писала «Роте Фане» 9 июля. — Только коммунизм разорвет Версальский договор». Избирательная агитация коммунистов была тем самым направлена не только против кабинета Папена и национал-социалистов, но не в меньшей мере и против социал-демократии. Уже в конце июня Вильгельм Кнорин, член президиума ИККИ, протестовал в отправленной из Москвы телеграмме против «оппортунистических извращений» тактики единого фронта. Под этим следовало понимать совместные призывы «красных», реформистских и христианских производственных советов, местные братания коммунистических и социал-демократических функционеров, призывы к «единому фронту без вождей» и предложения образовать единый фронт на местах, обращенные к СДПГ, АДГБ или даже к отщепенцам-коммунистам, состоявшим в КПО Генриха Брандлера. 14 июля КПГ подвела черту под короткой фазой гибкой тактики единого фронта, которая началась 25 апреля 1932 г. призывом «Ко всем немецким рабочим». Страх перед ползучей социал-демократизацией партии подвигнул секретариат КПГ положить конец тактике единого фронта на местах и в регионах. «Любое пренебрежение нашей борьбой против вождей социал-демократии, любое смазывание принципиальных разногласий между нами и СДПГ, любая капитуляция перед заявлениями руководства СДПГ против Гитлера и Папена, любая самая малейшая уступка оппортунистической идеологии ставит под угрозу проведение нашей революционной политики», — говорилось в циркулярном письме, разосланном в округа. «Антифашистская акция», начало которой КПГ положила 25 апреля, задуманная как альтернатива «Железному фронту» СДПГ, свободных профсоюзов, «Рейхсбаннера» и спортивного рабочего движения, впредь могла быть только тем, чем она была с самого начала: агитационным трюком коммунистической партии. Призыв, с которым Альберт Эйнштейн, Генрих Манн и Кете Кольвиц обратились 17 июня к СДПГ и КПГ — идти на выборы в рейхстаг вместе и лучше всего с единым списком кандидатов или по меньшей мере с комбинированными списками — оказался теперь не более чем интеллектуальным фантомом. А реалистические попытки умеренных социал-демократов заключить с коммунистами в преддверии выборов в рейхстаг нечто вроде «запрета на междоусобицу» или «пакта о ненападении» также были прекращены самое позднее после появления циркуляра от 14 июля 1932 г. КПГ, руководимая Коминтерном, вернулась к своей прежней тактике бескомпромиссной борьбы против «социал-фашистов», которая имела такой же статус, как и борьба против «национал-фашизма» и «реакции»{538}. Предвыборная кампания лета 1932 г. была самой кровавой, которую когда-либо переживала Германия. Большинство случаев насилия записали на свой счет коммунисты и национал-социалисты. Непосредственно сразу же после снятия запрета на СА во многих областях рейха произошли столкновения политических врагов, особенно частые в индустриальном районе Рура и Рейна. Сторонники КПГ, казалось, забыли, что ЦК недвусмысленно предостерегал их в ноябре 1931 г. от актов индивидуального террора. В любом случае перестрелки с национал-социалистами были вновь на повестке дня. Штурмовики едва ли отставали от коммунистов в готовности к физическому насилию. Из Берлина почти ежедневно поступали сообщения о нападениях национал-социалистов на коммунистов и коммунистов на национал-социалистов с применением огнестрельного оружия, причем предпочтительными объектами атак были пивные, где традиционно собирались те или другие. В первой половине июня в Пруссии в ходе политических беспорядков погибли три человека, а именно два национал-социалиста и один коммунист. Во второй половине месяца, после отмены запрета на деятельность СА и ношение униформы, число политически мотивированных убийств увеличилось до 17, в том числе 12 человек потеряли национал-социалисты и пятерых — коммунисты. Среди 86 убитых в июле 38 жертв были национал-социалистами, 30 — коммунистами. Особенно кровавыми были воскресения. 10 июля по всей стране было убито 17 человек, 10 человек получили смертельные и 181 человек тяжелые ранения. Рекорд поставил Олау, окружной город в Силезии, в котором были убито 4 и ранено 34 человека. Здесь члены «Рейхсбаннера Шварц-Рот-Гольд» дали форменный бой СА и СС, в который, так как местная полиция ничего не могла сделать, вмешался эскадрон размещенного в Олау 11 кавалерийского полка, очистивший улицы беспощадным огнем из карабинов и револьверов. В тот же день национал-социалисты попытались взять штурмом здание профсоюза в голштинском Экернфорде: два юных сельскохозяйственных рабочих были убиты ножами, один из нападавших погиб, очевидно, попав под выстрелы своих приятелей. В Бремене взрывом бомбы был убит полицейский чиновник, проводивший в этот момент обыск у коммунистов на предмет нахождения оружия{539}. Эскалация политического насилия дала повод председателю фракции немецких националистов в прусском ландтаге Фридриху фон Винтерфельду потребовать 8 июля от рейхсканцлера вмешаться в ситуацию в Пруссии. «Сегодня в Пруссии сложилась ситуация, напоминающая открытую гражданскую войну, — писал Винтерфельд. — Прусская полиция больше не является хозяином положения из-за слабости своего руководства, как это доказывают многочисленные ежедневные убийства, происходящие в разных местах Пруссии. Другая серьезная опасность заключается в том, что полиция в большей степени подчиняется начальникам-социалистам, о которых известно, что они или их друзья по партии состоят в тесной связи с коммунистами. Тем самым дисциплина в полиции потрясена в ее основах, и вызывает удивление, что офицеры полиции сегодня все еще удерживают в подчинении свои подразделения». В тот же день Винтерфельд и его коллега Борк высказали те же самые упреки в устной форме в министерстве внутренних дел Германии, в том числе статс-секретарю рейхсканцелярии Эрвину Планку. Утверждения политиков из рядов немецких националистов о прямых связях между начальниками полиции — социал-демократами и КПГ были выдумкой чистой воды. Винтерфельд также умолчал о том, что число политических столкновений, повлекших за собой человеческие жертвы подскочило только после отмены 16 июня запрета на СА и на ношение униформы. Казалось, не было ничего более очевидного, чем повторно ввести оба запрета. Но имперское правительство сделало совсем иные выводы из роста политического террора. Во время совещания министров, проходившего 11 июля под председательством Папена, министр внутренних дел Гайл заявил, что если бы в Пруссии была сильная государственная власть, то коммунистическая опасность не привела бы к столь значительным беспорядкам: «На самом деле авторитет правительственной власти в Пруссии сильно подорван. Полиция знает на собственном опыте, что национал-социалистическое движение все время увеличивает число своих сторонников, но, несмотря на это, получает от министра Северинга приказы бороться с этим движением». Гайл полагал, что «психологический момент» для вмешательства вдела Пруссии созрел и предложил подготовить для рейхспрезидента декрет, согласно которому в Пруссию назначался рейхскомиссар. Эту. функцию должен был взять на себя рейхсканцлер, который, в свою очередь, мог уже назначать «младших комиссаров». В результате отношения между рейхом и Пруссией приняли бы новый вид. Жалоба нынешнего прусского правительства в государственный суд на действия рейха расценивалась как возможная, но бесперспективная акция. Рейх должен был также готов принять меры, чтобы успокоить правительства южных немецких земель и Саксонии. В конце совещания Папен мог констатировать, что правительство пришло к единому мнению по вопросу о назначении рейхскомиссара для управления Пруссией, причем обоснование и формулировка декрета были поручены министерствам внутренних дел и юстиции. Уже днем позже кабинет Папена обсуждал проект декрета. Гайл подчеркнул серьезность положения, выступив с драматически звучавшим сообщением: статс-секретарь прусского МВД Вильгельм Абегг вел переговоры «относительно объединения СДПГ и КПГ». В действительности Абегг, член Немецкой государственной партии, не поставив Северинга в известность, пригласил к себе 4 июня двух членов КПГ, а именно депутата рейхстага Торглера и депутата прусского ландтага Каспера, и обратился к ним с призывом принять меры против актов коммунистического террора. Это могло быть сделано, к примеру, с помощью «тайного приказа», который потом мог бы попасть в руки полиции в ходе обыска и таким образом стать достоянием общественности. Кроме того, Абегг побуждал коммунистов отказаться от их крайней оппозиционности: «Ведь им же не может быть безразличным, что к власти придут национал-социалисты или в Пруссию будет назначен рейхскомиссар». Свидетелем разговора стал регирунгсрат Диле, который проинформировал о нем чиновников от партии немецких националистов, которые, в свою очередь, поставили в известность рейхсминистра внутренних дел. То, что Северинг не одобрил самоуправные действия Абегга и высказал статс-секретарю свое сильнейшее недовольство, выяснилось в результате допроса Дилса, который учинил ему мини-стериальрат Винштейн из рейхсканцелярии. Самое позднее начиная с 19 июля в обстоятельства дела был посвящен также Папен. В ходе совещания министров 12 июля кабинет принял решение о мерах на случай, если на назначение в Пруссию рейхскомиссара последует ответ в виде всеобщей забастовки. При таком развитии событий, как заявил Гайл, отвечая на соответствующий вопрос министра экономики Вармбольда, должно быть введено военное положение. Кроме того, в распоряжении правительства находилась также «Технише Нотхильфе», организация, основанная во время смуты 1919 г. Ее задачей было обеспечение бесперебойной деятельности жизненно важных предприятий. После этого кабинет одобрил проект декрета, подготовленный министром внутренних дел, а также пришел к соглашению по поводу графика действий: в среду, 20 июля, в 10 часов утра, прусские министры Хиртзифер, Северинг и Клеппер будут приглашены в рейхсканцелярию. Здесь рейхсканцлер ознакомит их с декретом президента о передаче верховной власти в Пруссии рейхскомиссару. Но в тот же самый день Северинг перечеркнул все планы имперского правительства. Своим указом от 12 июля он обязал все полицейские учреждения при поступлении любых ходатайств о проведении митингов и шествий под открытым небом тщательно проверять, достаточно ли средств находится в распоряжении полиции для защиты участников мероприятия. В противном случае должен был последовать его запрет. В радиограмме, отправленной прусской полиции, Северинг потребовал принять самые жесткие меры в отношении несанкционированного ношения оружия и применения максимального срока наказания для всех лиц, задержанных с оружием в руках. Ввиду многочисленных насильственных столкновений Северинг призывал население к спокойствию и осторожности. В ходе совещания кабинета 13 июля министр юстиции Гюртнер сослался на указ Северинга, в ответ на что Гайл вынужден был признать, что прусский министр внутренних дел на самом деле «выбил у имперского правительства в данный момент почву из-под ног для проведения запланированной акции. Теперь необходимо выждать, чтобы оценить воздействие указа. Поэтому мы на время должны отказаться от вчерашнего решения о незамедлительном назначении рейхскомиссара». Шлейхер и прочие министры, соответственно протоколу, выразили свое согласие с этим выводом Гайла. На следующий день Гинденбург принял в своем восточно-прусском поместье Нейдеке рейхсканцлера и министра внутренних дел. Сначала Папен сообщил ему о результатах конференции по проблеме репараций, вслед за этим Гайл доложил о подготовке назначения рейхскомиссара для Пруссии. Рейхспрезидент выдал рейхсканцлеру карт-бланш, как сообщил об этом Гайл министрам 16 июля: Гинденбург подписал, не проставляя даты, декрет о восстановлении безопасности и порядка в федеральной земле Пруссия, а также декрет о введении чрезвычайного положения, которое первоначально распространялось только на Берлин и на провинцию Бранденбург. /Министр продовольствия фон Браун также известил, что два ведущих деятеля крупной индустрии и сельского хозяйства, а именно Густав Крупп, председатель Имперского союза немецкой промышленности, и Эрнст Брандес, президент Немецкого сельскохозяйственного совета, высказали пожелание о незамедлительном введении военного положения во всем рейхе. После этого кабинет перенес свое заседание на другую дату, так и не приняв нового решения{540}. Вдень 17 июля 1932 г., вошедший в историю как «Кровавое воскресение Альтоны», у правительства Папена снова появилась возможность вернуться к первоначальному графику нанесения удара по Пруссии. С момента нападения национал-социалистов 10 июля на дом профсоюзов в Экернфорде, в прусском округе Шлезвиг-Гольштейн, к которому относилась также Альтона, стали циркулировать слухи, согласно которым коммунисты «отомстят за Экернфорд». Ситуация еще более обострилась после того, как 12 июля в канаве у коммуны Санкт-Михелисдон в округе Дитмаршен был обнаружен труп функционера КПГ, который уже двое суток считался пропавшим без вести. Регирунсгпрезидент округа Вальдемар Абегг, брат статс-секретаря, вслед за этим запретил большинство митингов НСДАП, КПГ и СДПГ, проведение которых было намечено на выходные. К немногим исключениям относился марш национал-социалистов через Альтону. Решение Абегга исключить Альтону из общего запрета на проведение демонстраций было непостижимой ошибкой. Также непостижимым было то, что начальник местной полиции социал-демократ Эггерштедт, бывший также депутатом рейхстага, именно в эти дни предпринял свой избирательный тур, а его наиболее важные сотрудники находились в отпуске. Ведь не могло быть сомнений в том, что СА своим маршем через «красную цитадель» стремится спровоцировать коммунистов, а сторонники КПГ, со своей стороны, отнюдь не намеревались пассивно воспринимать этот вызов. 17 июля 1932 г., незадолго до наступления пяти часов вечера, прогремели первые выстрелы. Огонь открыли коммунисты в тот момент, когда пользующееся особо дурной славой подразделение СА достигло перекрестка улиц Гроссе Йоханесштрассе — Гроссе Мариенштрассе — Шауенбюргерштрассе. Штурмовик Кох был убит на месте, ряд других получили ранения. Полиция в ответ открыла огонь из карабинов и пистолетов. В итоге погибло 18 гражданских лиц, из которых большинство были убиты в результате рикошетов. Среди жертв была женщина — член национал-социалистической женской организации из Эппендорфа, трое мужчин — члены КПГ, две женщины, входившие в КПГ или близко к ней стоявшие организации, член СДПГ и член «Рейхсбаннера»{541}. Начальник берлинской полиции Альберт Гржезинский был поставлен в известность о событиях в Альтоне прусским министерством внутренних дел вечером 17 июля по телефону. Тогда же ему был задан вопрос: как бы он поступил в сложившейся ситуации, если бы он был министром внутренних дел Пруссии. В своих воспоминаниях, написанных год спустя, Гржезинский утверждал, что его ответ прозвучал следующим образом: «Я тотчас же сместил бы со своих постов начальника полиции Альтоны и регирунгспрезидента округа и ввел бы в Альтоне чрезвычайное положение». Подобный шаг, как полагал задним числом Гржезинский, «подтолкнул бы республиканскую общественность к борьбе и вынудил бы силы реакции перейти к обороне». Но компетентные министры и не думали о подобной демонстрации решительности. Если Карл Северинг не ошибается в своих мемуарах, то он 16 июля, т. е. за день до «кровавого воскресения», заявил партийному руководству СДПГ, что все указывает на то, что назначение рейхскомиссара главой Пруссии состоится еще до выборов в рейхстаг. «Позиция прусских министров — социал-демократов и поддерживающих их партий в существенной мере будет зависеть от того, в какой форме последует это назначение, будут ли сохранены конституционные кондиции или Шлейхер почувствует себя настолько сильным, чтобы пренебречь предписаниями конституции. В этом случае возникает вопрос о возможности или обязательности выступления силами прусской полиции, поддерживаемой массами “Железного фронта”, против незаконных действий имперского правительства, на стороне которого выступит рейхсвер. Несмотря на все попытки разложить ее, берлинская полиция в своем большинстве остается верной республиканскому правительству. Принимая во внимание боевую мощь рейхсвера в сравнении с полицией, ее использование возможно только в том случае, если речь идет о непродолжительной по времени демонстрации сопротивления». В этот момент, как пишет Северинг далее, его прервал главный редактор «Форвартс» Фридрих Штампфер, который заметил, «что я не имею никакого права проявлять храбрость за счет моих полицейских. Но это было также и моим мнением. Я ни в коем случае не намеревался рекомендовать партийному руководству обозначенный выше вид обороны. С другой стороны, я чувствовал себя обязанным обсудить здесь все возможности оказания сопротивления или выражения зримого протеста. Совещание единодушно пришло к выводу, что при любом развитии ситуации следует оставаться в правовых рамках конституции». Отто Веле, один из двух председателей СДПГ, вспоминал спустя полгода об еще одной встрече с Северингом, в которой также приняли участие Ганс Фогель, другой председатель партии, а также депутат рейхстага Пауль Гертц. В ходе этой беседы, которая согласно Велсу состоялась 18 июля, Северинг поставил вопрос о том, не пришло ли время для отставки прусских министров. Обосновывая свою позицию, Северинг сослался на последовавший в тот же день запрет на проведение любого рода демонстраций, изданный правительством рейха без какого-либо согласования с федеральными землями. Веле, поддержанный Фогелем и Гертцем, настойчиво отговаривал Северинга от такого шага. «Внезапная отставка Северинга… поставила бы большое число наших товарищей по партии, которые занимают оплачиваемые посты или работают на добровольных началах в органах управления общин и федеральных земель, перед вопросом, какие выводы они должны сделать из этой отставки для себя. Мы одни не можем нести ответственность за инициативу Северинга. Его отставка вызвала бы в партии серьезные протесты. Поэтому мы хотим, чтобы этим вопросом занялись компетентные инстанции»{542}. Упомянутый Северингом всеобщий запрет собраний под открытым небом правительство планировало еще с 12 июля. События в Альтоне дали ему основание перейти от слов к делу. В тот же день, 18 июля, президент прусского ландтага национал-социалист Ганс Керль потребовал в своем письме к Папену переподчинить полицейские силы Пруссии рейху. Тогда же в своей телеграмме из Кенигсберга Гитлер высказал рейхсканцлеру жалобу относительно «чудовищной полицейской провокации» и потребовал от Папена незамедлительно положить конец «безответственной полицейской политике, направленной на создание хаоса». Но правительство рейха уже не нуждалось в такого рода призывах. «Кровавое воскресение Альтоны» предоставило ему возможность вновь вернуться к плану от 12 июля, согласно которому удар по Пруссии должен был быть нанесен 20 июля. Еще 18 июля Хиртзи-фер, Северинг и Клеппер получили приглашение на беседу в рейхсканцелярию, которая назначалась на 10 часов утра 20 июля. На вопрос о предмете беседы Нобису, министериальдиректору Северинга, был дан ответ, что речь пойдет о финансовых, сельскохозяйственных и внутриполитических проблемах. А Гитлер 19 июля получил на летном поле близ Коттбуса гораздо более точную информацию: Геринг, Геббельс и Рем сообщили ему, что завтра будет назначен рейхскомиссар Пруссии и что эту должность займет обер-бургомистр Эссена Брахт. «Это половина решения проблемы, однако все же кое-что», — комментировал Геббельс в своем дневнике{543}. Утренние газеты 20 июля описывали положение таким образом, что назначение рейхскомиссара является уже практически свершившимся фактом. «Форвартс» вышла подзаголовком «Руки прочь от Пруссии! Нацист Керль требует рейхскомиссара!» Но напрасно было бы искать в партийном органе социал-демократов сообщения о защитных мерах. Так как прусское правительство самое позднее начиная с 18 июля больше не имело иллюзий в отношении намерений имперского правительства, у него были все причины собственноручно ввести в Пруссии чрезвычайное положение. Подобный превентивный шаг, как это хотел предложить Северингу утром 20 июля Гржезинский, согласно его собственному свидетельству, был, очевидно, последним шансом воспрепятствовать назначению рейхскомиссара. Однако Северинг не был доступен для начальника берлинской полиции, а судя по тому, что мы знаем об оценке сложившейся обстановки прусским министром внутренних дел, он, очевидно, не последовал бы совету своего товарища по партии{544}. Сразу же после 10 часов утра в рейхсканцелярии началось совещание с участием министров Пруссии. Со стороны рейха в нем приняли участие, кроме Папена, министр внутреннихдел Гайл, статс-секретарь Планк и в качестве секретаря — министериальрат Винштейн. С прусской стороны наряду с Хиртзифером, Северингом и Клеппером участвовал также министериальдиректор Нобис. Рейхсканцлер утверждал, что ситуация в Пруссии развивается таким образом, что он вынужден был просить рейхспрезидента об издании декрета согласно статье 48 конституции о восстановлении общественной безопасности и порядка. После этого Папен зачитал текст декрета, объявлявшего о назначении рейхсканцлера рейхскомиссаром Пруссии и уполномочивавшего его лишать министров прусского министерства их постов, взять на себя исполнение обязанностей министра-президента Пруссии, а также поручать другим лицам управлять прусскими министерствами в качестве комиссаров рейха. Вслед за этим Папен объявил, что на основании декрета он лишает премьер-министра Брауна и министра внутренних дел Северинга их постов и назначает министром внутреннихдел Пруссии обер-бургомистра Эссена Брахта. Северинг в ответ заявил протест: декрет не отвечает конституции; безопасность и порядок обеспечены в Пруссии в не меньшей степени, чем в других федеральных землях. Если в Пруссии происходит больше столкновений, то причина заключается в том, что в ее состав входят наиболее склонные к беспорядкам местности. «Он подчинится только насилию или уйдет со своего поста в том случае, если последует категорическое предписание рейхспрезидента или он будет отстранен решением ландтага, — так были зафиксированы в официальном протоколе дальнейшие заявления Северинга. — Кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Он высказал опасения развязывания гражданской войны в результате действий имперского правительства». В ответ Папен задал вопрос, что Северинг понимает под применением силы. Прусский министр внутренних дел пояснил в ответ, что «он подчинится только грубой силе». Министр социального обеспечения Хиртзифер также, как и Северинг, оспорил конституционность декрета и, в свою очередь, задал вопрос, почему рейх не потребовал от Пруссии согласно статьи 15 конституции устранить те недостатки, которые попали под огонь его критики. Папен высказался в том смысле, что не может отказать прусским министрам в их праве обратиться в Конституционный суд. Непосредственно после того, как три прусских министра покинули здание рейхсканцелярии, в Берлине и провинции Бранденбург было введено военное положение. Отто Браун получил сообщение о своем смещении от чиновника рейхсканцелярии, который около 11 часов утра позвонил в дверь его дома, расположенного в районе Берлин-Целендорф. Какое-то время министр-президент взвешивал возможность отправиться в министерство и дать там себя арестовать. Но от этого шага его смогли быстро отговорить по телефону его ближайшие сотрудники. Вместо этого Браун написал канцлеру письмо, в котором он констатировал, что у действий рейха нет никакой правовой основы и просил Папена изложить ему их причины. В это же время активизировался рейхсвер. В 11.30 утра генерал-лейтенант фон Рунштедт, командующий Третьим военным округом рейхсвера, назначенный Шлейхером главой исполнительной власти, сообщил по телефону начальнику берлинской полиции Гржезински о том, что он и начальник городской патрульной полиции Хеймансберг смещены со своих постов. На просьбу Рунштедта, не мог бы Гржезински назвать время передачи своих полномочий двум преемникам, бывшему начальнику полиции Эссена Мельхеру и полковнику полиции Потену, Гржезински заявил, что перезвонит, и проконсультировался сначала по телефону с Северингом. Последний расценил введение военного положения в отличие от своего собственного смещения правомочным и порекомендовал начальнику полиции подчиниться распоряжению генерала. Но Гржезински, посоветовавшись со своим заместителем Бернгардом Вейсом, решил иначе и отклонил требование Рунштедта. Вслед за этим около 17 часов в полицай-президиуме появились офицеры рейхсвера, взяли «под стражу» Гржезински, Вейса и Хеймансберга и поместили арестованных в «доме товарищества» рейхсвера в Моабите. Спустя два с половиной часа они были освобождены. Однако прежде они подписали заявление, в котором заверяли, что воздержатся от любых официальных действий после того, как они силой были удалены со своих постов. Тем временем правительство Пруссии изложило свою позицию рейхсканцлеру. Меры, предпринятые имперским правительством, представляли собой нарушение как имперской, так и прусской конституции, и поэтому оно, прусское правительство, обратилось к Конституционному суду с просьбой вынести соответствующее решение. Одновременно оно запросило вынесения распоряжения суда об обеспечении притязания стороны[59], в связи с чем смещение прусских министров и узурпация их прав в рейхсрате были бы объявлены утратившими силу. Запрос на издание соответствующего распоряжения суда об обеспечении притязания стороны затрагивал только те меры, которые прусское правительство с самого начала рассматривало недействительными. Вопрос о том, имело ли правительство рейха право согласно второму разделу статьи 48 конституции подчинить прусскую полицию рейхкомиссару, оставался исключительной прерогативой Конституционного суда. То же самое имело силу для вопроса, выполнило или нет прусское правительство возложенные на него обязанности. Именно это утверждал имперский кабинет, ссылаясь на первый абзац статьи 48, при этом его вмешательство в дела Пруссии носило характер «имперской экзекуции». Правовая аргументация прусского правительства была веской. Рейх не имел права ни при каких условиях лишать федеральную землю конституционного правительства, а также права на представительство в рейхсрате. Так как президентский декрет сделал именно это, то действия кабинета представляли собой нарушение конституции — не меньшее, чем государственный переворот. Еще не смещенные со своих постов министры были поэтому в полном праве отклонить письменное приглашение Папена (с провокационной целью отправленное на бланке со штампом «министр-президент Пруссии») принять участие в совещании прусского правительства в 17 часов пополудни того же дня. Подобное заседание могло бы состояться только под председательством кого-либо из прусских министров, говорилось в письме прусского правительства от 20 июля. Это письмо было получено на противоположной стороне Вильгельмштрассе, в рейхсканцелярии, около 15 часов. Немного позднее Папен пришел к соглашению с Гайлом и рядом руководящих чиновников о том, что с этого момента все прусские министры снимаются со своих должностей. На министерском совещании, созванном в 18 часов, это решение было принято формально. Папен сообщил, что он до обеда известил все важнейшие земельные правительства о действиях в отношении Пруссии и протест последовал только от посланника Баварии. Брахт, назначенный Папеном главой прусского министерства внутренних дел, проинформировал имперское правительство о своей беседе с Северингом, которая прошла «в дружеской форме» в кабинете последнего в 16 часов. При этом были оговорены форма и способ отстранения Северинга от должности: «Сегодня вечером в восемь часов Северинг освободит свой рабочий кабинет в прусском министерстве внутренних дел, после того как он, д-р Брахт, в присутствии начальника полиции Мельхера и еще одного полицейского офицера потребовал от него покинуть свое служебное помещение». Вслед за этим правительство также обсудило список прусских чиновников, которых теперь необходимо было сменить. Он начинался со статс-секретарей, далее включал в себя обер-президентов и продолжался вплоть до начальников отделений полиции{545}. Нанесение удара по Пруссии шло полным ходом, когда в резиденции АДГБ на Инзельштрассе состоялась встреча окружных секретарей и председателей профессиональных союзов, входивших в состав Свободных профсоюзов. Так как на повестке дня также стояли вопросы социальной поддержки безработных и предвыборной тактики, то во встрече приняли участие представители руководства СДПГ и «Рейхсбаннера» во главе с Велсом и Хёлтерманом. Во время вступительной речи Лейпарта бомбой прогремел звонок Гржезинского, который сообщил собравшимся о введении чрезвычайного положения. Веле, которого Лейпарт попросил охарактеризовать обстановку, оценил действия правительства рейха, согласно его собственным воспоминаниям, как «открытый государственный переворот» и привел историческое сравнение: «Воспоминание о путче Каппа напрашивается само собой. Поддерживают ли нас народные массы с такой же решимостью, как и в 1920 г.? Я должен дать отрицательный ответ. Против нас стоят коммунисты и национал-социалисты. Также против нас государственная власть в лице рейхсвера, равно как и самые широкие круги чиновничества и буржуазии». Тем самым, в принципе, уже был дан ответ на вопрос, должны ли СДПГ и профсоюзы призвать народные массы к всеобщей забастовке. Ни один из участников совещания не высказался за применение этого средства борьбы; все ораторы в большей степени видели альтернативу забастовке такой, как ее описал Веле: «Через десять дней пройдут выборы в рейхстаг. Если сейчас произойдут столкновения, то выборы не состоятся. Не состоятся теперь и не состоятся еще в течение долгого времени. Тем самым будет подорван фундамент республики. Должны ли мы, не заботясь о последствиях, вступить в неравную борьбу и тем самым дать реакции предлог, что мы сами сделали невозможным проведение выборов, или мы должны сказать: “Обеспечение проведения выборов в рейхстаг 31 июля — прежде всего?”» Северинг, которого Веле разыскал еще во время заседания, также выступил с предостережением о том, что всеобщая забастовка будет означать немедленную военную диктатуру: «Следствием этого станет борьба с оружием в руках. Полиция не может сражаться против рейхсвера, даже не принимая во внимание то, что я теперь не имею права ей приказывать, она все равно в своем подавляющем большинстве не захотела бы этого». Когда Веле вернулся на Инзельштрассе, председатель берлинской окружной организации СДПГ Франц Кюнстлер уже дал распоряжение подготовить листовки, призывающие не поддаваться на возможные призывы коммунистов. Со стороны всех отраслевых профсоюзов был подготовлен призыв к рабочим, служащим и чиновникам «благоразумно» реагировать на «новейшие политические события» и дать свой решительный ответ на выборах 31 июля 1932 г. Той же самой линии придерживалось руководство СДПГ, опубликовавшее свое обращение уже вечером 20 июля в экстренном выпуске «Форвартс»: «Заявив 31 июля свое право на власть, немецкий народ в силе положить конец сегодняшнему положению, ставшему результатом совместных действий имперского правительства и национал-социалистов. Все организации должны быть приведены в состояние высшей боевой готовности. Как никогда важна строжайшая дисциплина. Оказывайте сопротивление безумным безответственным призывам! Сегодня и всеми силами — за победу социал-демократии 31 июля! За свободу!» Коммунисты 20 июля выбросили те лозунги, которые предвидели социал-демократы. ЦК КПГ «перед лицом пролетарской общественности» поставил СДПГ, АДГБ и АфА-Бунд перед вопросом, готовы ли они рука об руку с коммунистами начать всеобщую забастовку. Массовая акция должна была привести к падению «фашистской военной диктатуры» и «фашистского правительства Папена». Зато о восстановлении полномочий кабинета Отто Брауна в лозунге КПГ не было и речи. Едва ли партия Тельмана могла написать такой лозунг на своих знаменах, после того как она сама совсем недавно, 2 июня, внесла в прусский ландтаг предложение о вынесении вотума недоверия именно кабинету Брауна (предложение было принято голосам правых партий, но осталось без последствий, поскольку правительство уже 24 мая заявило о своей отставке). Вследствие этого социал-демократам не составило труда отклонить требование коммунистов как агитацию чистой воды. В заявлении партийного комитета СДПГ от 21 июля говорилось: рабочий класс Германии «не даст возможности союзникам национал-социалистов в борьбе против Брауна и Северинга диктовать ему выбор средств и времени действий». В Берлине 20 июля было спокойно. Отставка правительства Брауна оживленно обсуждалась в рабочих кварталах, в Веддинге социал-демократы вывесили частично черно-красно-золотые, частично красные флаги с тремя стрелами — символом «Железного фронта». На партийных собраниях СДПГ кричали «ура» Брауну, Северингу и Гржезински. Но и за пределами столицы рабочие нигде не настаивали на акциях протеста. Эрнст Френкель, синдик Немецкого союза металлистов, стал 20 июля свидетелем низкого боевого духа профсоюзов на примере производственного совета завода Юнкерса в Дессау. Ораторы, которые, как и он, выступали за всеобщую забастовку, ссылаясь на путч Каппа — Лютвица, получали все время один и тот же ответ: «Да, но тогда не было такой массовой безработицы»{546}. Правительство Папена уже вечером 20 июля могло было быть уверено в своем успехе. В восемь часов вечера Северинг был смещен со своей должности в прусском министерстве внутренних дел, как ему было объявлено Брахтом в ходе их послеобеденной встречи. В своем обращении, переданном всеми немецкими радиостанциями, Папен оправдывал удар по Пруссии тем, что смещенное правительство было больше не в состоянии предпринимать требуемые меры против антигосударственной деятельности КПГ. Рейхсканцлер назвал моральной обязанностью каждого правительства «проводить четкую разделительную линию между врагами государства, разрушителями нашей культуры и силами нашего народа, сражающимися за общее благо. Так как в ведущих политических кругах все еще не могут решиться на то, чтобы отказаться от политического и морального отождествления коммунистов и национал-социалистов, то возникла та искусственная конфигурация политических фронтов, которая зачисляет антигосударственные силы коммунизма в единый фронт против растущего движения НСДАП». Берлинский гаулейтер «растущего движения» не замедлил втайне выразить свою признательность архитекторам государственного переворота. «Все происходит как по писаному, — отметил 21 июля в своем дневнике Геббельс. — Красные устранены. Их организации не оказывают никакого сопротивления… Смещены некоторые начальники полиции и обер-президенты. Всеобщая забастовка пресечена. И хотя циркулируют слухи о предстоящем восстании “Рейхсбаннера”, но все это детские глупости. Красные упустили свой великий шанс, и он им вновь уже не представится». Среди социал-демократов царили не только согласие с позицией руководства, но и возмущение по поводу молчаливого примирения с событиями в Пруссии. «Где было наше сопротивление? — писал в своих воспоминаниях, опубликованных в 1980 г., будущий премьер-министр Нордрейн-Вестфалии Гейнц Кюн, который 20 июля 1932 г. был главой молодежного подразделения «Рейхсбаннера Шварц-Рот-Гольд» в Кельне. — Что стало с громкими словами, звучавшими на митингах? “Рейхсбаннер”, “Шуфо”, “Железный фронт”, “Хаммершафтен”[60] — мы ждали с нетерпением, и самыми нетерпеливыми были мы — молодые. Сотни из нас были приведены в готовность, мы ждали только призыва — вплоть до того, когда вечером по телефону пришло сообщение: мы обратились в государственный суд! Я смог преодолеть свое разочарование только годы спустя, хотя я и подозревал подобное развитие событий. Той же ночью я закопал свой парабеллум в родительском саду. Все было кончено!»{547} И действительно, в первую очередь активные юные социал-демократы были теми, кто после заката Веймара склонялся к тому, чтобы видеть в 20 июля 1932 г. последний упущенный шанс спасения республики. О неиспользованной воле к сопротивлению «Рейхсбаннера Шварц-Рот-Гольд» заблаговременно был создан миф, который, однако, не выдерживает критики. Оружие, которым располагал республиканский «Рейхсбаннер», не шло ни в какое сравнение с вооружением, находившемся в распоряжении рейхсвера. Хотя после отмены запрета на СА и были заново сформированы «Шуфос», элитные подразделения «Рейхсбаннера», насчитывавшие около 250 000 человек, они в лучшем случае могли лишь некоторое время противостоять вдвое превосходящим их по численности и намного лучше вооруженным полувоенным союзам правых — СА, СС и «Стальному шлему», которые, без сомнения, приняли бы активное участие в борьбе с «марксистами». С другой стороны, «Рейхсбаннер», очевидно, получил бы поддержку части прусской полиции, которая, однако, безнадежно уступала рейхсверу в оснащенности оружием. И уж совсем нельзя было представить, чтобы коммунисты боролись рука об руку с ненавистной им «полицией Северинга». Призыв к вооруженному сопротивлению стал бы сигналом к гражданской войне, тактику которой определял бы не «Рейхсбаннер», но более воинственные союзы правых и левых. Исходя из соотношения сил, победа внутренне расколотых левых была исключена с самого начала. Логичными были также аргументы против всеобщей забастовки. При номинальном количестве безработных в размере 6 млн, а в действительности эта цифра с учетом «неучтенных» безработных превышала 7 млн, политическая массовая забастовка не имела шансов продолжаться долгое время. Последняя всеобщая забастовка в Германии, последовавшая в ответ на путч Каппа — Лютвица, состоялась в ситуации почти полной рабочей занятости. Путчисты образца 1920 г. не имели достойной упоминания общественной поддержки, против них боролась законная государственная власть, еще не существовало массового движения правых экстремистов, а КПГ на уровне рейха была только маргинальной партией. Если бы социал-демократы и Свободные профсоюзы призвали в радикально изменившихся условиях лета 1932 г. ко всеобщей забастовке и вооруженной борьбе, то это решение привело бы их к почетной гибели — решение, которое демократические массовые организации, очевидно, не имели права принимать{548}. Социал-демократы упустили свой шанс еще до государственного переворота. Если в июле 1932 г., в принципе, существовали хоть какие-то возможности отразить посягательства рейха, то это была линия поведения, предложенная Гржезинским, вплоть до введения Прусским правительством чрезвычайного положения. Однако Северинг расценивал подчинение прусской полиции рейху в принципе как разумный превентивный удар, который рано или поздно надо будет нанести, чтобы не допустить полного взятия власти национал-социалистами. То, что для авторитарного министра внутренних дел рейха фон Гайла могло быть лишь побочным соображением при нанесении удара по Пруссии, было с точки зрения социал-демократического министра внутренних дел Пруссии частичным оправданием акции 20 июля. Поскольку он видел в рейхсвере союзника против опасности тоталитаризма справа, то Северинг и при Папене следовал все той же логике меньшего зла, которая стала при Брюнинге второй натурой социал-демократии. Еще современники пытались объяснить поведение ведущих прусских социал-демократов опытом их тяжелого поражения на выборах в ландтаг 24 апреля 1932 г. «Республиканская власть в Пруссии была фактически утрачена уже 24 апреля», — отзывался в конце июля в «Социалистишен Монатсхефтен» депутат рейхстага исоциал-демократ Карло Мирендорф. В середине августа эту же мысль подхватил во «Фрайе Ворт» Эрнст Хайльман. «“Властные позиции” социал-демократии основывались на воле народа и ни на чем другом: “Властные позиции” были потеряны ею 24 апреля в результате решения самого народа, а не 20 июля». И в самом деле, сомнения в собственной демократической легитимности были причиной того, что Браун и Северинг так пассивно вели себя летом 1932 г. Но у пассивности СДПГ и Свободных профсоюзов 20 июля 1932 г. были более глубокие причины. Вынужденное примирение с фактом государственного переворота было также следствием практиковавшейся в течение 20 месяцев политики «толерантности» и многолетнего ведущего участия СДПГ в прусском правительстве. Быть правящей партией, формально — в Пруссии и неформально — в рейхе, и одновременно выступать партией гражданской войны было объективно невозможно. 20 июля 1932 г. СДПГ утратила остатки своей власти, которую она могла так долго удерживать, потому что с осени 1930 г. она поставила все на карту борьбы с национал-социализмом в рамках конституции и в союзе с умеренной частью буржуазии. Проницательный наблюдатель из рядов левых социал-демократов Аркадий Гурланд в июне 1932 г., т. е. еще до «удара по Пруссии», полагал, что политика «толерантности» опиралась на постулат, согласно которому «главная опасность для демократии заключается в угрозе гражданской войны. Ее практической целевой установкой, следовательно, было не столько сохранение демократии, сколько сохранение законности, не столько срыв авторитарной системы правления, сколько срыв гражданской войны». Этому постулату социал-демократия последовала также 20 июля 1932 г. Тем самым она соблюла закон, которому она следовала в 1918 г. при образовании первой немецкой республики{549}. С отставкой исполнявшего обязанности правительства Брауна в истории Пруссии завершилась особая глава. После 1918 г. государство Гогенцоллернов превратилось в самую надежную опору республики среди всех немецких земель. Старая Пруссия, конечно же, не исчезла с поверхности земли, но политической сценой вплоть до весны 1932 г. завладели три веймарские партии. В отличие от рейха коалиционная политика стала в Пруссии в целом историей успеха. Республиканская стабильность в самом большом из немецких федеральных государств, конечно же, объяснялась еще и тем, что две самые конфликтные сферы — внешняя и социальная политика — относились к компетенции рейха, а не федеральной земли. Не менее важным было то, что переход от трехклассной избирательной системы к всеобщему избирательному праву привел к возникновению в Пруссии «нового политического класса», который в гораздо меньшей степени воспринял образцы поведения монархического прошлого, чем правящий слой и парламентарии в рейхе в целом. Демократическая Пруссия имела шанс на существование, пока за демократию выступало большинство избирателей. «Удар по Пруссии» Папена уничтожил не только остатки прусской демократии, но и само государство Пруссию. Старая Пруссия, торжествовавшая 20 июля 1932 г. свою победу над республиканской Пруссией, оплатила свой триумф такой ценой, которая в долгосрочной перспективе грозила превратить победу в поражение{550}. Непосредственно вслед за смещением кабинета Брауна началась большая чистка. Статс-секретари и министериальдиректоры, обер- и регирунгспрезиденты, а также начальники полиции, бывшие членами правивших коалиционных партий, отправлялись во временную отставку и заменялись консервативными чиновниками, зачастую немецкими националистами. Из четырех обер-президентов социал-демократов остался только один — Густав Носке в Ганновере. Этот бывший министр рейхсвера стоял, по мнению имперского правительства, настолько правее своей партии, что смог сохранить свою должность. Многие чиновники — социал-демократы были уволены в ходе «мер по экономии бюджета». Так, из 69 министерских служащих, потерявших свою работу в соответствии с указом от 12 ноября 1932 г., 40 были членами Веймарских партий. Других республиканских чиновников правительство рейхскомиссара отодвинуло на менее значительные посты. В конце 1932 г., не считая политических чиновников[61] и чиновников, сокращенных под предлогом экономии бюджета, из министерств, обер-президентств и полицейских управлений были уволены по причине их республиканских умонастроений 23 регирунгсрата, регирунгсасессора, оберрегирунгсрата и министериальрата. Среди вновь назначенных чиновников было столько представителей аристократии, что 6 октября «Форвартс» могла писать о проведении сознательной «реставрации господствующего положения дворянства и остэльбского юнкерства в управлении Пруссией». Таким образом, в течение нескольких месяцев комиссары рейха уничтожили все, что социал-демократам Северингу и Гржезинскому удалось добиться в течение 12 лет на пути республиканизации прусского административного аппарата{551}. Государственный переворот 20 июля 1932 г. был ударом не только по республике, но и по федерализму. Именно по этой причине все южно-немецкие федеральные земли, прежде всего Бавария, тотчас же встали на сторону Пруссии. Уже 20 июля баварское правительство обратилось в Конституционный суд. Баден поступил аналогичным образом на следующий день. 21 июля Вюртемберг и 22 июля Гессен заявили рейхспрезиденту свой протест в отношении законности декрета от 20 июля. 23 июля на конференции федеральных земель в Штутгарте Папен и Гайл попытались оправдать свои действия, но смогли убедить представителей только тех правительств, которые возглавлялись правыми партиями. Южно-немецкие земли прежде всего волновало то, что «удар по Пруссии» может положить начало имперским реформам по централизации. Рейхсрат, набиравший с 1930 г. политический вес в той же мере, в какой его терял рейхстаг, грозил превратиться в проводника воли правительства рейха, тем более если голоса Пруссии в будущем становились в нем, по сути, голосами имперского центра. И хотя Гайл заверил, что голосами Пруссии будет распоряжаться не рейхсканцелярия, а комиссар Брахт, исполняющий обязанности министра внутренних дел, его заверения ни в коей мере не успокоили традиционные федералистские правительства Мюнхена, Штутгарта и Карлсруэ{552}. 25 июля, через два дня после конференции федеральных земель, Конституционный суд в Лейпциге вынес свое предварительное решение о конфликте между Пруссией и рейхом: суд отклонил запрос смещенного прусского правительства, требовавшего путем обеспечения притязания стороны отказать рейхскомиссару в исполнении его обязанностей. В качестве обоснования решения суда его президент Бумке заявил, что желаемое Пруссией распоряжение вызвало бы «разделение государственной власти», что, в свою очередь, могло бы внести «хаос в жизнедеятельность государства». В связи с этим «Форвартс» полагала, что государственный суд спасовал перед властью, нанеся тем самым тяжелый удар по идее правового государства, которая, собственно говоря, является гражданской идеей. Газета Центра «Германиа» потребовала, чтобы Конституционный суд как можно скорее вынес свое окончательное решение. Газеты немецких националистов были удовлетворены приговором суда: они праздновали отклонение обращения Пруссии как большой моральный успех имперского правительства. 26 июля рейхспрезидент отменил военное положение, введенное шестью днями ранее в Берлине и провинции Бранденбург. Это дало возможность вести «нормальную» предвыборную борьбу в столице и ее окрестностях в течение последних пяти дней вплоть до 31 июля. Национал-социалисты делали ставку исключительно на Гитлера, которого они превозносили как «последнюю надежду» немцев. Среди политических лозунгов НСДАП главное место занял призыв «Работа и хлеб». Распространявшаяся большим тиражом «Экстренная экономическая программа» НСДАП объявляла о «создании рабочих мест путем продуктивного дополнительного кредитования». Социал-демократы, напротив, выступали за «перестройку экономики», подразумевавшую масштабное огосударствление. Свое согласие с этой программой 21 июня высказали АДГБ и АфА-Бунд. Создание рабочих мест органами государственной власти входило в число требований профсоюзов, но только как один из пунктов среди прочих. От изначального «ВТБ-Плана», который еще в начале года вызвал всеобщее оживленное внимание, теперь едва ли что-то осталось. В результате социал-демократы не использовали возможность выступить перед избирателями в роли партии, борющейся за создание рабочих мест, и фактически вручили этот козырь национал-социалистам{553}. 30 июля, за день до выборов в рейхстаг, в рейхсканцелярии состоялась тайная встреча между Свободными профсоюзами и наиболее важными членами «кабинета баронов». Посредником выступил бывший статс-секретарь Ганс Шеффер, который с начала мая 1932 г. занимал пост генерального директора издательства «Ульштайн». Со стороны правительства участие приняли Папен, Гайл и Шлейхер, со стороны профсоюзов — Лейпарт, его заместитель Грассман, который также был депутатом рейхстага от СДПГ, и член правления АДГБ Эггерт. Представители от АДГБ отнюдь не стеснялись в ходе встречи, критикуя слова и дела правительства, в то время как канцлер и министры выступали с просьбами о лояльности к их политике. Шлейхер заявил, что профсоюзы, если бы им были известны все обстоятельства и причины, также посчитали бы действия против Пруссии оправданными. Папен, в свою очередь, просил председателя АДГБ и его коллег использовать свое сильное влияние на СДПГ с тем, чтобы она облегчила правительству работу в рейхстаге. В ходе обсуждения результатов встречи, которое состоялось тут же в бюро АДГБ, Лейпарт выразил сложившееся у него мнение, что «это правительство не даст оттереть себя в сторону, оно утвердилось на годы. Впрочем, при любых политических разногласиях тем не менее необходимо вести дела с умными и порядочными людьми, которые, конечно же, преследуют свои политические цели. Самый влиятельный человек — Шлейхер». Грассман был того же мнения: Шлейхер — «умная голова с широким кругозором, он далеко не только солдат. Он пытается простыми средствами добиться того, что он считает правильным». Сам факт и время тайной встречи — 30 июля — были еще более сенсационными, чем ее содержание. Спустя десять дней после «удара по Пруссии» ведущие функционеры АДГБ не видели ничего зазорного в том, чтобы встретиться с лицами, ответственными за государственный переворот. Для профсоюзных деятелей приглашение на эту встречу означало некий вид дипломатического признания со стороны Папена; они полагали, что ихдолг перед членами профсоюзов состоит также в том, чтобы поддерживать контакты с авторитарным правым правительством. Особенно большое значение для представителей АДГБ имело то, что правительство относило их к «патриотам», а не к «враждебным фатерлянду» силам. Лейпарт, Грассман и Эггерт не помышляли о дистанцировании от СДПГ, но впечатление, которое власть имущие получили от встречи с ними, вероятно, было несколько иным. Если Социал-демократическая партия Германии выступала с нелицеприятными нападками на «кабинетбаронов», а социал-демократические профсоюзные деятели в то же самое время вели с этим же самым кабинетом почти дружеские разговоры, то это предоставляло повод усомниться во внутренней сплоченности «Железного фронта» и при очередной возможности сделать практические выводы из разлада у противника{554}. В тот день, когда профсоюзники вели переговоры с Папеном, в ходе политических беспорядков в Германии было убито 10 человек. В воскресение 31 июля, в день выборов в рейхстаг, число жертв достигло 12. Результат выборов был, по крайней мере на первый взгляд, триумфом Гитлера. При явке избирателей в 84,1 %, самой высокой с 1920 г., на партию Гитлера пришлось 37,4 % всех действительных поданных голосов. Это означало прирост в размере 19,1 % по сравнению с предыдущими выборами в рейхстаг 14 сентября 1930 г. Число мандатов, завоеванных национал-социалистами, выросло со 107 до 230. Намного скромнее были успехи коммунистов. Число поданных за них голосов увеличилось с 13,1 до 14,5 %. Приростом были отмечены также результаты обеих католических партий: Центр улучшил свои показатели с 11,8 до 12,5 %, БФП — с 3 до 3,2 %. Все остальные партии относились к проигравшим. Число избирателей СДПГ снизилось с 24,5 до 21,6 %, ДНФП — с 7 до 5,9 %, ДФП — с 4,5 до 1,2 % и Немецкой государственной партии — с 3,8 до 1,0 %. Все остальные партии набрали в совокупности 2,7 % голосов. Национал-социалистам удалось переманить на свою сторону электорат центристских либеральных и умеренных правых партий, а также мелких разрозненных партийных образований. Избирателями НСДАП стала также многочисленная группа лиц, впервые получивших избирательное право или ранее игнорировавших выборы. Партия Гитлера была сильна там, где доминировала лютеранская конфессия, а лица, имевшие собственное дело, в первую очередь крестьяне, ремесленники и торговцы, были представлены сверхпропорционально. Если же среди избирателей большую долю составляли промышленные рабочие, то в таком случае результаты НСДАП были относительно плохими. Это правило тем более «работало» в местностях с высокой долей католического населения. Таким образом, НСДАП действовала успешнее в лютеранских сельских местностях, чем в лютеранских городах, а в больших городах получала меньше голосов избирателей, чем в средних и малых. Все эти факторы отобразились в региональном распределении национал-социалистического электората. Север и восток Германии оказались более «коричневыми», чем юг и запад. Однако в Гессене, Франконии, Пфальце и в северном Вюртемберге НСДАП также опередила все остальные партии. «Лидером» среди 35 избирательных округов стал Шлезвиг-Гольштейн, где за национал-социалистов проголосовал 51 % избирателей. Сравнительно невосприимчивыми к призывам национал-социалистов себя вновь показали, как и в 1930 г., католическая среда, и в меньшей степени — внутренне расколотый «марксистский» электорат. «Политическому» католицизму удалось после 1930 г. остановить процесс эрозии, начавшийся еще в кайзеровском рейхе и продолжившийся в 1920-е гг. Натиск со стороны правых экстремистских сил только укрепил у «церковных» католиков осознание их особости. Социал-демократы, вынужденные отражать не только натиск со стороны национал-социалистов, но и бороться с радикальной конкуренцией слева в лице коммунистов, не были столь успешными в деле консолидации своих рядов, но тем не менее и они смогли в определенной мере утвердить свои позиции. Эти две самые крупные демократические партии давали своим приверженцам ощущение политической родины за счет обращения к внеполитическим ценностям: к совместной вере — в одном случае, и к классовой солидарности — в другом. Но то, что было на благо обеим республиканским партиям, еще долго не шло на пользу республике: укрепление католической и социал-демократической среды привело к отдалению этих партий друг от друга. В составе буржуазно-протестантского электората только консервативная среда сумела сохранить остаток самостоятельности перед лицом национал-социализма. Около 6 % голосов, поданных за ДНФП, политическая цитадель которой, как и прежде, оставалась в Остэльбии, составляли прочное ядро когда-то намного более крупного монархического лагеря. Что же касается политического либерализма, то он был практически полностью истреблен. Национал-социализм стал самым массовым движением против «системы», к которому примыкали также те, у кого не было стойких убеждений. Они едва ли замечали то, что партия Гитлера обещала своим избирателям крайне противоречивые вещи. Значение имела только надежда на то, что Германия и немцы будут после «национальной революции» жить лучше, чем теперь{555}. Но и после 31 июля 1932 г. очертания парламентского большинства все еще не вырисовывались. Национал-социалисты составляли самую сильную фракцию в рейхстаге, лидирующую с большим отрывом, однако в сравнении со вторым туром выборов рейхспрезидента от 10 апреля и выборами в ландтаги от 24 апреля 1932 г. они едва ли прибавили в весе. Даже если бы в блок с НСДАП вступили немецкие националисты и прочие более мелкие партии, то и тогда она была бы далека от достижения парламентского большинства. Теоретически возможной была черно-коричневая коалиция, но исходя из гессенского и прусского опыта было в высшей степени сомнительно, что подобный союз имел шанс сформироваться. Первая «официальная» оценка результатов выборов была дана рейхсканцлером фон Папеном 1 августа в интервью «Ассошиэйтед Пресс». В нем он заявил, что его правительство ни в коем случае не намеревается прилагать усилия для образования коалиционного большинства в рейхстаге. Одновременно Папен подчеркнул, что пришло время, когда национал-социалистическое движение должно наконец принять деятельное участие в возрождении отечества. Центр, свою бывшую партию, канцлер предостерег от того, чтобы она не запятнала свою репутацию, вынеся правительству вотум недоверия и став тем самым главной виновницей политического кризиса. В обстановке общей неуверенности относительно дальнейшего развития событий громовым раскатом прозвучали сообщения о нападениях национал-социалистов в Кенигсберге, в результате которых были убиты два коммунистических функционера, ранено несколько социал-демократов, а также недавно смещенный со своей должности регирунгспрезидент фон Барфельд, входивший в ДФП. Покушения на политические убийства с применением револьверов и гранат в этот же день были отмечены в других городах Восточной Пруссии, в Силезии и Голштинии. 3 августа в Крейцбурге, что в Верхней Силезии, своими бывшими товарищами был убит национал-социалист, ранее входивший в КПГ, а в Гросдейбене в Саксонии выстрелом в живот был застрелен штурмовик СА. Особенно кровавыми были дни с 7 по 9 августа. В мазурском Лотцене штурмовик застрелил командира «Рейхсбаннера»; жертвами национал-социалистов также стали члены «Рейхсбаннера», погибшие в верхнесилезском округе Леобшютц, в Гёрлице и Бад-Сахза в Гарце. В Рейхенбахе в Рудных горах от взрыва гранаты погиб член СС. Эту гранату в момент взрыва он намеревался метнуть в редактора социал-демократической газеты. В отличие от недель, предшествующих выборам в рейхстаг, в начале августа национал-социалисты гораздо чаще коммунистов совершали уголовные преступления на почве политики. Во многих случаях сводились старые счеты, нередко перебежчики из одного лагеря в другой становились объектами нападения со стороны своих бывших единомышленников. На сельскохозяйственном востоке, где и произошло большинство преступлений, политический климат был более националистическим, а организация СА сильнее, чем в промышленных областях запада, где «Массовая самооборона» КПГ нанесла ряд тяжелых поражений национал-социалистам в ходе предвыборной кампании. Указания о проведении террористических актов исходили большей частью от окружного или провинциального руководства СА, а не из высших сфер. Но ни Гитлер, ни Рем не отдали приказов, которые могли бы положить конец террору{556}. Новая волна политического насилия вынудила имперское правительство к решительными действиям. В свое время правительство Папена обосновало свой «удар по Пруссии» тем, что в самой большой из федеральных земель, где пост министра внутренних дел занимал социал-демократ, более не могли быть гарантированы безопасность и порядок. Теперь, когда прусская полиция подчинялась рейхскомиссару, т. е. непосредственно имперскому правительству, оно не могло мириться с национал-социалистическим террором, не подвергая сомнению благонамеренность своих прежних действий. Какие политические цели преследовала СА своими покушениями, не вызывало никаких сомнений и у самого Папена: «Нарушая мир и спокойствие, известная сторона, очевидно, пытается вынудить общественность прийти к выводу, что Гитлер должен взять в свои руки руководство правительством». С таким заявлением Папен выступил перед кабинетом 9 августа. В этот же день правительство приняло чрезвычайное постановление о борьбе с политическим террором. В соответствии с ним смертная казнь распространялась на лиц, совершивших убийства по политическим мотивам, а также убийства полицейских чиновников или служащих вермахта. Смертная казнь также грозила за такие преступления, как поджог, террористический акт с использованием взрывчатых средств и повреждение железнодорожного транспорта. На основании полномочий, которое имперское правительство получило в соответствии с декретом от 6 октября 1931 г., правительство Папена также отдало распоряжение о введении в округах, особенно подверженных политическому терроризму, особых судов. Эти суды функционировали по принципу ускоренного судопроизводства, их приговоры не подлежали обжалованию, вступали в силу и приводились в исполнение непосредственно после оглашения. Этот декрет вступил в силу в ноль часов 10 августа 1932 г. Спустя полтора часа в деревне Потемпа, округе Глейвиц, было совершено преступление, своей жестокостью выходившее за рамки повседневного среднестатистического террора. Пьяные штурмовики напали на спящего беспартийного польского жителя Верхней Силезии Конрада Пиецуха, симпатизировавшего КПГ, ранили и забили его до смерти ногами на глазах матери. В течение двух дней полиция задержала большинство подозреваемых в совершении преступления. В соответствии с новым правовым положением можно было ожидать вынесения убийцам смертных приговоров особым судом г. Бейтена[62]. Точно так же было ясно, что этот случай будет означать пробу сил между НСДАП и правительством, поскольку национал-социалисты к этому моменту еще не завладели властью в государстве{557}. Казалось, что в первой половине августа Гитлер был очень близок к достижению этой цели. 6 августа он провел вблизи Берлина тайную встречу с министром рейхсвера. В ходе многочасового разговора фюреру НСДАП удалось убедить Шлейхера в том, что никто иной, как он, Гитлер, должен взять на себя руководство правительством рейха. В придачу к этому Гитлер требовал для своей партии пост министра-президента Пруссии, а также в форме личной унии посты министров внутренних дел, образования и сельского хозяйства в рейхе и в Пруссии, портфель рейхсминистра юстиции и новое рейхсминистерство авиации, которое планировалось создать. В этом, как казалось, Гитлеру опять удалось получить от Шлейхера принципиальное согласие. Тем самым «сильный человек» правительства, бывший одновременно одним из самых влиятельных советников Гинденбурга, совершил драматический поворот. То, что Шлейхер пообещал Гитлеру, была, конечно же, еще не вся власть, но это было все, что требовалось национал-социалистам для достижения внутриполитического господства. Очевидно, Шлейхер полагал в начале августа 1932 г., что достаточно будет держать национал-социалистов на расстоянии от рейхсвера, чтобы не допустить единоличного господства НСДАП. И у Папена был по меньшей мере один момент, когда он утром 10 августа во время разговора с рейхспрезидентом, непосредственно перед возвращением Гинденбурга из Нейдека, заговорил о Гитлере как о потенциальном рейхсканцлере во главе черно-коричневого правительства большинства. Но ни Папен, ни Шлейхер не входили в камарилью, а что касается канцлерства Гитлера, то у Гинденбурга было свое, очень личное мнение. Шлейхер утверждал (в черновике письма в адрес «Фоссише Цайтунг» от 30 января 1934 г.), что в Нейдеке он передал Гинденбургу требования Гитлера, а в ответ рейхспрезидент «выразил свою непреклонную волю не назначать Гитлера самым серьезным образом и в почти грубых словах». 10 августа во время разговора с Папеном Гинденбург обронил часто цитируемое замечание о том, что это изрядная дерзость, требовать от него назначения рейхсканцлером «богемского ефрейтора». Поздним вечером 10 августа выяснилось, что и в правительстве рейха существуют весьма разные мнения о возможной передаче власти Гитлеру. За участие национал-социалистов в правительстве косвенно высказался министр юстиции Гюртнер и более определенно — министр финансов фон Крозиг, который сопроводил это фамильярным замечанием о том, что гражданской войны удастся, скорее, избежать в том случае, если сделать браконьера лесником. Самым решительным образом против идеи правительства, возглавляемого национал-социалистами, высказался министр внутренних дел Гайл, который даже был готов вести с НСДАП «борьбу не на жизнь, а на смерть». В этой связи Гайл говорил о «революции сверху» и открыто выступал за решение, противоречащее конституции: роспуск парламента, перенос очередных выборов и введение нового избирательного права. Министр иностранных дел фон Нейрат заверил Гайла в своем полном согласии; Вармбольд, Шеффер и Браун выступали за продолжение полномочий действующего кабинета; Папен и Шлейхер предлагали различные решения, однако не хотели останавливаться на каком-то определенном варианте выхода из кризиса{558}. На следующий день, 11 августа, в присутствии рейхспрезидента правительство по традиции праздновало День конституции. Впервые в истории Веймарской республики на этом праздновании один из ораторов выступил с речью против конституции 1919 г. Министр внутренних дел Гайл начал с констатации того, что Веймарская конституция не объединяет, а разделяет немцев, а потом высказался за проведение конституционной реформы в авторитарном ключе. Основными пунктами этой реформы были повышение избирательного возраста, предоставление дополнительных голосов кормильцам семей и матерям, обособление власти правительства и создание верхней палаты по принципу профессионального представительства, которая должна была играть роль противовеса рейхстагу. В то самое время, когда министр внутренних дел отрекался от Веймара, национал-социалисты предприняли попытку шантажа правительства. Заблаговременно до начала переговоров, которые рейхспрезидент и рейхсканцлер намеревались вести с Гитлером 12 и 13 августа, к столице были стянуты многочисленные отряды СА, которые окружили Берлин. «Это чрезвычайно нервирует господ, — записал 11 августа в своем дневнике Геббельс. — Это и есть цель акции. Теперь они нам уступят». Дополнительно усилил всеобщее беспокойство Гитлер, перенеся свою встречу с Папеном, назначенную на 12 августа, на следующий день. Утром 13 августа Гитлер вместе с начальником штаба СА Эрнстом Ремом посетил министра рейхсвера, после чего совместно с Вильгельмом Фриком, главой фракции национал-социалистов в рейхстаге, нанес визит рейхсканцлеру. От обоих политиков Гитлер услышал, что рейхспрезидент до сих пор все еще не намерен предложить ему пост рейхсканцлера на послеобеденной встрече. Папен, не будучи на то уполномоченным Гинденбургом, предлагал Гитлеру занять пост вице-канцлера в его правительстве и даже дал ему свое слово, что он намерен по завершении фазы совместной доверительной деятельности, когда рейхспрезидент лучше узнает Гитлера, отказаться от поста рейхсканцлера в его пользу. Но Гитлер отклонил это предложение и продолжал настаивать на своем канцлерстве. В ответ на это Папен мог только заявить, что решение находится в руках Гинденбурга. В ходе встречи с Гинденбургом, начавшейся в 16.15 и длившейся 20 минут, со стороны правительства приняли участие Папен и статс-секретарь Мейснер, со стороны национал-социалистов — Гитлер, Фрик и Рем. Согласно официальному протоколу, который вел Мейснер, в начале Гинденбург спросил Гитлера, готов ли он и его партия принять участие в нынешнем правительстве Папена. Гитлер ответил отрицательно и заявил, в свою очередь, что, «учитывая значение национал-социалистического движения, он должен потребовать для себя и своей партии руководства правительством [Пруссии] и правительством рейха в полном объеме. Господин рейхспрезидент, в свою очередь, заявил со всей определенностью, что на это требование он должен ответить ясным недвусмысленным “Нет”. Он не может перед Богом, своей совестью и своим отечеством взять на себя ответственность передачи всей полноты государственной власти одной партии, при этом такой партии, которая односторонне настроена против всех инакомыслящих. Против этого также говорит ряд других причин, которые он не желает приводить здесь по отдельности, таких как опасения масштабных беспорядков, реакция заграницы и т. д.». После того как Гитлер утвердительно ответил на вопрос Гинденбурга, перейдет ли он теперь в оппозицию, рейхспрезидент призвал его вести себя в оппозиции по-рыцарски. Что же касается возможных актов террора и насилия, которые, к сожалению, совершаются также и членами СА, то он будет бороться с ними со всей строгостью. В ходе прощания Гинденбург взял более примирительный тон: «Мы же оба старые товарищи и хотим такими остаться, т. к. наши пути снова могут сойтись. Поэтому я уже теперь хочу по-товарищески подать Вам свою руку». Вслед за приемом у рейхспрезидента произошла сцена между Гитлером и Папеном. Фюрер национал-социалистов обвинил Папена в том, что тот не сообщил ему, что Гинденбург уже заранее принял такое решение. Вместо этого статс-секретарь Планк незадолго до встречи заверял Фрика, что решение все еще не принято. Папен высказал свое сожаление по поводу негативного результата встречи, который, по его словам, мог иметь для Германии самые тяжелые последствия, однако во всем остальном держался самоуверенно и заявил, что он будет одинаково жестко применять государственную власть как против правых, так и левых. Когда Фрик вслед за этим спросил Папена, не собирается ли он установить военную диктатуру без всякой поддержки в народе, то Папен ответил, согласно заявлению, подписанному Гитлером, Фриком и Ремом, следующее: «Да, и если бы Вы вступили в мое правительство, то через три недели Вы и так уже были бы там, куда Вы так сегодня стремитесь». Правительственное коммюнике о встрече между Гинденбургом и Гитлером было опубликовано вечером 13 августа. Шлейхер, глубоко задетый поведением Гитлера, настоял на кратком и остром тексте. Сообщение настолько отвечало этой рекомендации, что статс-секретарь Планк в разговоре со своим предшественником Пюндером сравнил его с «Эмской депешей»[63]. Ключевая фраза гласила: рейхспрезидент отклонил требование господина Гитлера передать ему всю полноту государственной власти, обосновав свой отказ тем, что «перед своей совестью и своим долгом перед Родиной он не может нести ответственность за передачу всей правительственной власти исключительно национал-социалистическому движению, которое намеревается односторонне использовать эту власть». Гитлеру совершенно не помогло то, что он тотчас же и формально с полным основанием заявил, что он отнюдь не требовал себе всю полноту государственной власти. Перед немецкой и мировой общественностью он был скомпрометирован как никто из партийных лидеров, которые когда-либо удостаивались приема у Гинденбурга. Гитлер воспринял обращение с ним Гинденбурга как тяжелое политическое поражение. И в самом деле, со времен провала Мюнхенского путча 8–9 ноября 1923 г. он не переживал такой неудачи, как 13 августа 1932 г. Спустя два дня имперский кабинет министров подвел итоги. Папен настаивал на том, что в будущем необходимо продолжать пытаться приобщать национал-социалистическое движение к государственной власти, хотя она и не должна предоставляться им бесконтрольно. Всеобщее одобрение вызвало утверждение рейхсканцлера о том, что «надпартийное президентское правительство» нуждается в укоренении в народе, который будет оценивать его деятельность исходя из успехов в борьбе с безработицей. Лозунг правительства должен был гласить: «Действовать, действовать и действовать». Шлейхер, в свою очередь, полагал самым важным с точки зрения внутренней политики выставить противника (под которым подразумевалась НСДАП) неправой стороной и называл уроком всех гражданских войн то, что агрессор всегда виновен. На внешнеполитической арене, по его словам, не должно было произойти ничего такого, что могло бы быть воспринято народом иначе, чем «защита национальных интересов». Особенно откровенно снова высказался Гайл: «С парламентаризмом на обозримое будущее покончено», а до народа необходимо донести путем предварительных переговоров с партиями мысль о том, что продуктивное сотрудничество между правительством и этим рейхстагом невозможно. Во всем остальном министр внутренних дел, как и Шлейхер, а вслед за ним и остальные министры, поддержал призыв канцлера заложить своими достижениями основу для доверия к правительству в народе. Первый блин вышел комом. 18 августа 1932 г. было опубликовано полицейское постановление о правилах купания, автором которого выступил уполномоченный на посту прусского министра внутренних дел Брахт. В нем преемник Северинга запрещал купание в обнаженном виде в общественных местах, безнравственное поведение на воде и посещение общественных закусочных в купальных костюмах. В целях единообразного применения постановления появился так называемый «Указ о ластовицах» от 28 сентября. С этого момента купание женщин в общественных местах в Пруссии разрешалось лишь в том случае, если они носили купальный костюм, «который спереди на верхней части туловища полностью закрывал грудь и живот, плотно прилегал к телу подмышками, а также имел цельнокроеные штанишки с ластовицей». Насмешки, которыми осыпали Брахта, попадали также и в Папена, поскольку он возглавлял заседание уполномоченного прусского государственного министерства от 12 августа, на котором Брахт объявил о планируемых им мерах{559}. Прежде чем правительство рейха смогло всерьез перейти к претворению в жизнь своих намерений, высказанных 15 августа, Гитлер навязал ему пробу сил. 22 августа особый суд Бейтена вынес свое решение по делу в Потемпе. На основании чрезвычайного внепарламентского постановления о борьбе с политическим террором от 9 августа 1932 г. четверо из обвиняемых национал-социалистов были приговорены к смерти по обвинению в групповом политическом убийстве и еще один — по обвинению в подстрекательстве к политическому убийству. Поскольку убийцы проделали на грузовике 20-километровый путь, чтобы совершить преступление, то таким образом речь шла о заранее спланированном и подготовленном нападении, а также об умышленном убийстве. Объявление приговора вызвало чудовищное возбуждение уже в зале суда. Фюрер СА в Силезии Гейнес крикнул судьям, что немецкий народ в будущем вынесет другой приговор, и угрожающе добавил: «Бейтенский приговор станет прологом немецкой свободы». Вслед за этим на улицах верхнесилезского города произошли масштабные беспорядки. Национал-социалисты громили еврейские магазины и били витрины, в которых были выставлены газеты СДПГ и Центра. Гитлер отправил осужденным следующую телеграмму: «Мои товарищи! Перед лицом этого чудовищного кровавого приговора я чувствую себя соединенным с Вами безграничной верностью. С этого момента Ваша свобода есть вопрос нашей чести, а борьба против правительства, допустившего все это — наша обязанность». В этот же день, 22 августа, Особый суд Брига вынес приговор по делу о беспорядках в Олау, когда были убиты двое штурмовиков. По обвинению в нарушении общественного порядка и спокойствия, повлекшем за собой тяжкие телесные повреждения, два ведущих функционера «Рейхсбаннера Рот-Шварц-Гольд» были приговорены к трем и соответственно к четырем годам заключения. Столь разные приговоры двух особых судов объясняются тем, что преступление в Олау было совершено до, а в Потемпе — после вступления в силу нового чрезвычайного постановления правительства. Несмотря на это, Гитлер использовал приговоры особых судов в качестве повода для объявления войны правительству. «Господин фон Папен, я не хочу знать Вашу кровавую “объективность”!» — говорилось в его призыве, распространенном «Фелкишер Беобахтер» 24 августа. Он заканчивался словами: «Перед лицом такого кровавого приговора жизнь для нас имеет теперь только единственный смысл: борьба и еще раз борьба. Мы освободим понятие “национальный” от ограничительных рамок, наложенных на него “объективностью”. Приговор в Бейтене вынесен против национальной Германии, он только будоражит и разжигает ее внутреннюю сущность. Господин фон Папен тем самым вписал свое имя в анналы немецкой истории кровью национальных борцов. Урожай гнева, который теперь взойдет, уже нельзя будет утихомирить наказаниями. Борьба за жизнь наших пятерых товарищей начинается!» Йозеф Геббельс даже попытался превзойти своего «фюрера». Под заголовком «Евреи виновны!» он писал в издававшемся им «Ангрифе»: «Мы… спросим немецкий народ, был ли этот приговор вынесен от его имени, а если нет, то не пришло ли время смести со сцены тех политиков и те партии, которые здесь в своей дерзкой надменности присваивают себе право использовать законы якобы во имя народа и его блага. Мы не успокоимся до тех пор, пока эта клика с ее газетными подпевалами не будет отстранена от власти… Евреи виновны… Но суд для них грядет… Пробьет час, когда у государственной власти будут иные задачи, чем защищать предателей народа от народного гнева. Никогда этого не забывайте, товарищи! Говорите сами себе сто раз на дню, чтобы это преследовало вас в ваших самых глубоких снах: евреи виновны! И они не избегнут заслуженного наказания». Имперское правительство ответило на атаки национал-социалистов официальным сообщением, в котором говорилось, что в случае необходимости будет задействован весь силовой потенциал государства, чтобы добиться претворения в жизнь правовых установлений вне зависимости от воли партий, и оно не потерпит, если какая-либо партия будет противиться его распоряжениям. Правда, следующее предложение звучало уже значительно менее жестко: «Прусское правительство также не поддастся политическому давлению в ходе проверки возможности применения своего права помилования в случае со смертными приговорами, вынесенными судом Бейтена». Действительно, вопрос о помиловании относился к компетенции прусского правительства. Но так как с 20 июля рейхсканцлер отправлял в качестве рейхскомиссара высшую государственную власть в Пруссии, Папен сам стоял перед принятием тяжелого решения. С одной стороны, приведение в исполнение смертного приговора могло стать сигналом к развязыванию гражданской войны. С другой — помилование бросало на рейхскомиссара и на исполняющее обязанности правительство Пруссии подозрение в том, что они капитулировали под натиском национал-социалистов. Вторая возможность была расценена ведущими действующими лицами немецкой политики как менее угрожающая. 30 августа рейхспрезидент фон Гинденбург заявил во время беседы с Папеном, Гайлом и Шлейхером, состоявшейся в Нейдеке, что лично он выступает за помилование преступников исходя при этом не из политических, а из чисто правовых причин. Ведь преступление было совершено спустя всего полтора часа после вступления в силу декрета о борьбе с политическим террором, и нельзя предположить, что убийцы знали о таком обострении карательных мер. Именно с таким обоснованием прусское правительство под председательством Папена приняло 2 сентября решение помиловать убийц из Потемпы и назначить им в качестве меры наказания пожизненное заключение. У этого решения тут же нашлись оправдания. Либеральная «Франкфуртер Цайтунг», причисленная национал-социалистами к «еврейской прессе», требовала помилования преступников уже непосредственно после вынесения Бейтенского приговора, оперируя теми же аргументами, которые использовали Гинденбург и исполняющее обязанности прусское правительство. Противники смертной казни тем более не могли протестовать против того, что в отдельном конкретном случае казнь не была приведена в исполнение. Политический скандал в случае с «Потемпским делом» заключался не в акте помилования, а в том, что лидер самой крупной политической партии Германии безоговорочно выступил на стороне своих единомышленников, которые зверским образом убили своего политического противника. После 22 августа 1932 г. как никогда стало ясно, что ожидает Германию, если Гитлер так или иначе придет к власти{560}. Противостояние вокруг приговора в Бейтене еще было в полном разгаре, когда 25 августа имперское правительство очертило контуры новой экономической политики. В этот день состоялось совещание с участием представителей Имперского союза немецкой промышленности, инициатором которого выступил министр финансов фон Крозиг. На этом совещании министр экономики Вармбольд впервые смог связно изложить, как он себе представляет успешную борьбу против дальнейшего сокращения экономики. Нагрузка на предпринимателей должна была быть снижена в течение года двумя способами: во-первых, в результате отказа от взимания определенных сборов и налогов, во-вторых, благодаря более гибкой процедуре оформления трудовых договоров. Вся проблема состояла в том, чтобы сохранить на плаву предприятия с более низкими заработными платами, в противном случае им грозил крах. Решающим моментом был набор рабочей силы на новых условиях. В отличие от времен Брюнинга на этот раз Вармбольд получил полную поддержку своего канцлера. По мнению Папена, продолжение дефляционной политики означало бы крушение национальной валюты. Предложения, которые правительство сделало 25 августа предпринимателям, означали радикальный поворот в экономике. Кабинет Папена был полон решимости проводить активную конъюнктурную политику. Государственные стимулы должны были оживить частную инвестиционную деятельность, и ради достижения этой цели правительство также было готово более широко проводить кредитование. Но ни один из рейхсминистров не дал понять, что проведение новой экономической политики существенно облегчается решениями, принятыми Лозаннской конференцией по вопросу репараций. Это сделал лишь председатель Имперского союза немецкой промышленности Густав Крупп. Реакция промышленности была в целом весьмапозитивной. «Ослабление тарифных оков» отвечало старому требованию предпринимателей, и то, что оно уже начало осуществляться, наполняло работодателей удовлетворением. Так, директива министра труда Шеффера предписывала государственным третейским судьям начиная с 15 июня не объявлять свои третейские приговоры обязательными для исполнения и предоставить согласование условий оплаты труда сторонам коллективного договора. В ходе четырех министерских совещаний, состоявшихся между 26 августа и 3 сентября, экономическая программа правительства была выработана окончательно. Начиная с 1 октября 1932 г. все налогово-финансовые управления должны были в течение года выдавать предпринимателям государственные долговые обязательства за часть подлежащих ими уплате налогов. Такие же государственные долговые обязательства, принимаемые в зачет налогов, получали работодатели, создавшие дополнительные рабочие места. Для банков государственные обязательства служили основанием для предоставления кредита; они также принимались под залог для выдачи ссуды, и была допущена торговля ими на бирже. Период налоговых послаблений должен был начаться для предпринимателей с 1 апреля 1934 г., бонификация распределялась на пять лет. Система бонов кабинета Папена представляла собой смелый пример антициклического «deficit spending»[64] в духе английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, который, однако, представил свою теорию в оформленном виде только в 1936 г. Экономические действия в данный момент за счет будущих налоговых поступлений уже не были летом 1932 г. русской рулеткой. Как раз 27 августа 1932 г. Институт конъюнктурных исследований опубликовал свой квартальный отчет, в котором речь шла о «тенденции к перелому в экономике», которая является «продолжительной и прослеживается по всему фронту». Силы противодействия кризису, которых так долго не было и которые на предыдущих стадиях конъюнктурного спада постоянно элиминировались, теперь снова начинали оживляться, поощряемые прежде всего в США и Великобритании государственной поддержкой. Экономисты оценивали дальнейшие перспективы развития мировой экономики весьма оптимистично: очевидно «в уже неоднократно похороненном частном предпринимательстве снова сработал автоматизм, а вместе с ним, согласно прежнему конъюнктурному опыту, возобновился циклический процесс». Но государственные долговые обязательства были только одной частью новой экономической программы. Другая ее составляющая была направлена на устранение существующей системы положений о тарифах. Работодатель, принимавший на работу дополнительную рабочую силу, мог в крайнем случае снизить заработную плату, ранее установленную тарифным соглашением, на 12,5 %. Еще большее послабление предусматривалось для предприятий, которые иным путем невозможно было спасти от закрытия: они получали право понизить зарплату по тарифу на 20 %. Эту часть экономической программы правительства профсоюзы могли воспринять только как брошенную им государством перчатку. Основные положения экономической программы получили свое развитие в речи Папена, произнесенной им в Мюнстере 28 августа на съезде Вестфальского крестьянского союза. Акцент в ней был сделан в гораздо большей степени на оживлении экономики, чем на ослаблении социальной защищенности населения. В частности, Папен заявил, что самой важной движущей силой экономической жизни является личная инициатива: «Усиление личной энергии и рост персональной производительности, повышение чувства собственной ответственности — вот те духовные средства, благодаря которым индивидуальное хозяйство и в будущем будет в состоянии удовлетворять человеческие потребности, и, возможно, даже лучше, чем какая-либо другая навязываемая нам экономическая система». «Мюнстерский курс» обеспечил Папену большой прирост доверия со стороны предпринимателей. И если до этого, по крайней мере у ориентированных на экспорт отраслей промышленности и у торговли, были серьезные предубеждения в отношении «кабинета национальной концентрации» из-за его протекционистской аграрной политики, то теперь произошла смена настроения в пользу авторитарного правительства. Свой вклад внесло и разочарование в национал-социалистах. «Экстренная экономическая программа», с которой НСДАП вступила в предвыборную борьбу, расценивалась в предпринимательском лагере как «государственносоциалистическая» и тем самым как в высшей степени опасная. Многие промышленники, в том числе и те, кто финансово поддерживал партию Гитлера, с озабоченностью наблюдали за переговорами вокруг образования черно-коричневой коалиции. Союз НСДАП и Центра казался им связанным не только с опасностью возврата к парламентской системе, но и мог повлечь за собой повышение значимости интересов рабочих и служащих, представляемых обеими партиями. Исходя из этого кабинет Папена поздним летом 1932 г. буквально за одну ночь превратился в правительство, желанное для большинства немецких предпринимателей. Поддержка со стороны промышленности много значила для рейхсканцлера уже потому, что Ландбунд, который в значительной степени контролировался национал-социалистами, 22 августа угрожал имперскому правительству «самыми серьезными политическими последствиями» в случае, если оно не предпримет энергичные меры для защиты немецкого сельского хозяйства. Сначала Папен отреагировал на эту угрозу весьма резко. Он назвал Ландбунд «представителем односторонних интересов», которому недостает «кругозора и проницательности в деле общего управления экономикой». Однако 27 августа правительство приняло решение повысить ввозные пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов, такие как огурцы, фруктовые соки, живые и забитые гуси, а в будущем, насколько это допускалось действующими торговыми соглашениями, также ограничить ввоз количественно. В августе 1932 г. баланс интересов, представляемых кабинетом, несколько сместился в пользу промышленности. Однако правительство не могло позволить себе пренебречь требованиями со стороны сельского хозяйства, учитывая позицию рейхспрезидента{561}. Спустя день после программной речи Папена в Мюнстере кабинет выступил на внешнеполитической арене под девизом, который был выдвинут Шлейхером за две недели до этого. Он убедил правительство сделать демонстративный шаг и пойти тем самым навстречу национальным «потребностям» населения. 29 августа министр иностранных дел фон Нейрат в присутствии министра рейхсвера передал ноту французскому послу Франсуа-Понсе, касающуюся конференции по разоружению. В этой ноте имперское правительство требовало для Германии полного военного равноправия и объявляло о «реорганизации» рейхсвера, причем особенно подчеркивалась необходимость создания военнообязанного ополчения, которое должно было оказать помощь в поддержании внутреннего порядка, а также в обеспечении несения пограничной службы и береговой охраны. Также заявлялось, что Германия не может удовлетвориться достигнутым в настоящий момент результатом на конференции по разоружению в Женеве. Германия обладает таким же правом на национальную безопасность, как и любое другое государство. Поэтому вопрос немецкого равноправия не может и далее оставаться открытым: «Если в конце концов исчезнет дискриминация Германии в военном отношении, которая воспринимается немецким народом как унижение и которая одновременно препятствует установлению равновесия в Европе, то это будет существенно способствовать устранению напряженности и стабилизации политических отношений». Отклики на ноту были негативными не только во Франции. Великобритания, с которой Франция непосредственно после завершения Лозаннской конференции по репарациям заключила консультативный пакт, также решительно отвергла немецкие планы по перевооружению. Значительным недовольство было также в США и Италии, обычно с большей благосклонностью воспринимавших притязания Германии на равноправие. Принесла ли нота от 29 августа правительству Папена внутриполитические дивиденды, было в высшей степени сомнительным. Что же касается внешнеполитического аспекта, то эта акция привела прежде всего к изоляции Германии{562}. Днем, когда была переведена стрелка немецкой внутренней политики, стало 30 августа 1932 г. Рейхспрезидент принял у себя в Нейдеке Папена, Гайла и Шлейхера. Гинденбург выразил свое согласие с экономической программой правительства, посчитав уместным добавить, что связанные с ней тяготы необходимо равномерно распределять на все профессиональные сообщества. Одобрение рейхспрезидента получил также проделанный канцлером общий анализ ситуации, заканчивавшийся следующим выводом: т. к. в новом рейхстаге исходя из всех прогнозов не удастся сформировать большинство, готовое к сотрудничеству с правительством, а возможная черно-коричневая коалиция сможет образовать только «мнимое» или «негативное» большинство, то правительство, очевидно, в скором времени будет рекомендовать ему, Гинденбургу, произвести роспуск рейхстага. Вследза этим собравшиеся обсудили предположительную длительность переговоров о создании коалиции между Центром и национал-социалистами с тем, чтобы потом обратиться к следующей, весьма взрывоопасной проблеме. После роспуска рейхстага, сказал Папен, возникнет вопрос, должны ли будут новые выборы состояться в 60-дневный срок, установленный конституцией. «Если выборы будут перенесены на более поздний срок, то формально это, конечно же, будет нарушением соответствующих предписаний конституции, однако налицо бедственное положение государства, которое без сомнения дает право господину рейхспрезиденту отложить выборы. Господин президент, принося свою клятву, также взял на себя долг защищать немецкий народ от бедствий; новые выборы в столь политически беспокойное время со всеми его террористическими актами и убийствами означали бы большое бедствие для немецкого народа». Рейхсканцлеру вторил министр внутренних дел Гайл, который 10 августа первым в кабинете высказался за перенос новых выборов. Сам же Папен в заключение заверил: «Если генерал-фельдмаршал и рейхспрезидент фон Гинденбург, который всегда был верен конституции, придет к решению единственный раз отклониться от конституции по причине особо бедственного положения страны, то немецкий народ полностью примирится с этим шагом». После этого Гинденбург выступил с заявлением, которого и ожидали трое его посетителей: «Господин рейхспрезидент высказывается в том смысле, что он, отвечая перед своей совестью и принимая во внимание бедственное положение государства, которое наступит после роспуска рейхстага, чтобы отвратить от немецкого народа эти беды, толкует положения статьи 25 Конституции таким образом, что в условиях особой ситуации новые выборы в рейхстаг могут быть перенесены на более поздний срок». Для Папена, Гайла и Шлейхера это согласие Гинденбурга было по меньшей мере таким же важным, как и беспрепятственно выданное и тотчас же им подписанное полномочие произвести роспуск рейхстага. Рейхспрезидент и три главнейших члена правительства считали вполне допустимым нарушить конституцию, обосновывая это тем, что бедственное положение государства не оставляет им иного выбора. Не было недостатка и в немецких правоведах, которые были готовы оправдать подобный шаг как ultima ratio. Самый знаменитый среди них — Карл Шмитт в своем сочинении «Легальность и легитимность», законченном за 10 дней до «удара по Пруссии», развивал тезис о двух конституциях, на которые собственно распадается Веймарская конституция: первая, организационная часть, является формальной и нейтральной, а вторую часть, включающую основные права, Шмитт характеризовал как субстанциональную и ценностно определяющую. При благоприятных обстоятельствах обе эти части могут сосуществовать друг с другом, но эти условия, согласно Шмитту, отошли в прошлое. Первая часть была фактически аннулирована самими органами государственной власти, в то время как вторая продолжает действовать. Эту, подлинную, часть конституции можно спасти только в том случае, если окончательно поступиться первой частью. Во имя более высокой, плебисцитарной легитимности рейхспрезидент имеет право объявить войну чисто формальной «легальности» плюралистического партийного государства и устранить ее. Следуя логике построений Шмитта, планы создания авторитарного государства также освящались легитимностью, поскольку рейхспрезидент поддерживает их своим авторитетом. Аргументация Иоганна Хекеля, коллеги Шмитта, была более разносторонней. В своей статье «Диктатура, право издания чрезвычайных постановлений и бедственное конституционное положение, с особым учетом бюджетного права», опубликованной в октябре 1932 г. в «Архив дес оффентлихен Рехтс», Хекель доказывал, что начиная с момента выборов в рейхстаг 31 июля Германия находится в состоянии паралича конституции. Поскольку две враждебные конституции партии, НСДАП и КПГ, располагают в парламенте абсолютным большинством мест, рейхстаг выпадает из системы органов власти как недееспособный конституционный орган. И изменения этого положения нельзя ожидать и от новых выборов. Согласно Хекелю, в этой ситуации острого бедственного конституционного кризиса рейхспрезидент может апеллировать к своей обязанности «воздать должное общему политическому смыслу конституции вопреки аномальному положению и приспосабливаясь к нему». Однако Гинденбург не имел права использовать перенос новых выборов для достижения цели, к которой стремились Папен и Гайл — принятия новой авторитарной конституции. В качестве фактического обладателя диктаторской власти Гинденбург мог фигурировать только в качестве «dictator ad tu-endam constitutionem», но не в качестве «dictator ad constituendam constitutionem» — он обязан был защищать конституцию, но он не имел права переписывать ее заново{563}. Действия демократических партий образца августа 1932 г., направленные на разрешение немецкого государственного кризиса, были не в состоянии опровергнуть тезис о параличе конституции. Социал-демократы в своем большинстве склонялись к тому, чтобы рассматривать черно-коричневую коалицию как меньшее зло в сравнение с кабинетом Папена. Некоторые из них, как председатель Афа-Бунда и депутат рейхстага Зигфрид Ауфхойзер, даже расценивали как возможную, от голосования к голосованию, «социалистическую коалицию» в составе СДПГ, КПГ и НСДАП. Центр после скандала 13 августа прилагал дополнительные усилия к созданию коалиции с НСДАП как в рейхе, так и в Пруссии. Причем заместитель председателя партии Иозеф Йосс, бывший до этого одним из самых острых критиков национал-социализма, он же один из авторитетных лидеров Союза католических рабочих и горнорабочих корпораций Западной Германии, теперь особенно активно выступал за сотрудничество с национал-социалистами. Среди прочего он выдвигал аргумент, что обе партии могут договориться о программе практического создания рабочих мест, которая в отличие от ориентированной только на предпринимателей экономической программы Папена, найдет широкий отклик в народных массах. Похожую точку зрения также представляли находившийся под эгидой немецких националистов Союз торговых служащих — самый большой профсоюз служащих, и часть христианских профсоюзов. Самый уважаемый и влиятельный политик Центра Генрих Брюнинг все же, как и ранее, не был готов предоставить национал-социалистам посты министра-президента и министра внутренних дел Пруссии. Возможно, с таким отказом смирился бы Грегор Штрассер. Он всерьез стремился к созданию коалиции с участием Центра и Баварской народной партии, но создатель всегерманской политической организации НСДАП не отважился выступить против своего «фюрера». Сам же Гитлер, вступивший 29 августа в переговоры с Брюнингом, продолжал настаивать на получении тех постов, от которых политик Центра стремился удержать национал-социалистов на дистанции. Таким образом, спустя четыре недели после выборов рейхстага парламентский путь выхода из кризиса по-прежнему не был виден. Действительно, в случае с планами создания черно-коричневой коалиции речь всегда шла не более чем о фантоме и мираже. Чтобы вступить в союз с Центром на его условиях, национал-социалисты должны были отказаться от того, чтобы быть тоталитарной партией, т. е. перестать быть самими собой. Союз с партиями политического католицизма мог иметь для Гитлера смысл только в одном-единственном случае: если он был уверен, что в течение непродолжительного времени сможет избавиться от таких партнеров. Так как Гитлер не мог рассчитывать на такой вариант, то для него оставалась только возможность возглавить президентское правительство — возможность, которую Гинденбург, пока рейхспрезидент хранил верность своей присяге, не хотел и не имел права предоставлять. Термин «бедственное государственное положение» адекватно описывает немецкую действительность начиная самое позднее с 31 июля 1932 г. С этого момента Веймар уже было не спасти, поскольку буква конституции одержала победу над ее смыслом. Но для руководства страны, которое 30 августа 1932 г. выработало свой план действий, речь шла совсем не о спасении сути конституции, но об использовании государственного кризиса для утверждения авторитарного режима. Пути выхода из кризиса, обсуждавшиеся в конце августа 1932 г. в правительстве и партиях, вели не из пропасти, но погружали в нее все глубже и глубже{564}.Глава XVII Отсрочка чрезвычайного положения
30 августа 1932 г. было не только днем встречи в Нейдеке, в ходе которой ее участники обсудили планы выхода государства из бедственного положения, но и днем организационного заседания вновь избранного рейхстага. Старейшина рейхстага, коммунистка Клара Цеткин, родившаяся 5 июля 1857 г., в заключение своей речи выразила надежду, что она еще испытает счастье и откроет в качестве старейшего члена первый конгресс Советской Германии. Вслед за этим подавляющее большинство выбрало президентом рейхстага национал-социалиста Германа Геринга. За Геринга также проголосовали депутаты от Центра, следуя неписаному парламентскому правилу, согласно которому президент избирался из рядов сильнейшей фракции. В ходе выборов первого вице-президента рейхстага социал-демократ Пауль Лёбе уступил, несмотря на поддержку фракции Центра, Томасу Эссеру, члену партии Центра, кандидатуру которого внесли на голосование национал-социалисты. В результате сформировался «свободный от марксистов» президиум, что, в свою очередь, дало повод Герингу констатировать: рейхстаг «располагает значительным работоспособным национальным большинством, подтверждая тем самым отсутствие государственно-правового состояния бедственного положения». Смысл этого замечания был ясен: национал-социалисты стремились, поскольку они разыгрывали из себя хранителей и защитников конституции, вынудить рейхспрезидента и правительство перейти к обороне. В этот тактический расчет органично вписывалось также совместное заявление НСДАП и Центра от 1 сентября 1932 г., в котором говорилось, что между двумя партиями начались и будут продолжены переговоры «с целью успокоения и укрепления внутриполитической ситуации в Германии на длительную перспективу». Однако эта декларация не давала оснований полагать, что отныне Гитлер действительно сделал ставку на черно-коричневую коалицию. Для него речь прежде всего шла только о том, чтобы держать для себя открытыми все пути и срывать возможные планы правительства Папена, нацеленные на осуществление государственного переворота. Правительство рейха, в свою очередь, игнорировало, насколько это удавалось, сигналы со стороны национал-социалистов. Гинденбург в вежливых выражениях отклонил просьбу Геринга принять в Нейдеке президиум рейхстага, указав на то, что на следующей неделе он возвращается в Берлин. 4 сентября кабинет Папена обнародовал чрезвычайное постановление об оживлении экономики, договоренность о котором была достигнута министрами несколькими днями ранее. Еще одна часть правительственных решений нашла свое отражение во вводном постановлении к закону «Об умножении и сохранении возможности рабочей занятости» от 5 сентября 1932 г. Оно в значительной степени аннулировало систему тарифных соглашений по вопросам заработной платы, вызвав тем самым острые протесты со стороны профсоюзов. В ходе беседы с рейхсминистром труда Шеффером представители всех профильных профсоюзов охарактеризовали постановление как противоречащее конституции и заявили о том, что намереваются добиваться защиты своих интересов в суде. Но правительство не должно было особенно страшиться этой угрозы. Уже 9 сентября была достигнута договоренность с федеральным комитетом АДГБ о том, что, несмотря на всю критику, он примет участие в выработке положений о применении постановления. В тот же самый день Гинденбург, с 8 сентября снова находившийся в Берлине, принял у себя президиум рейхстага. В то время как Геринг и Эссер призывали рейхспрезидента к сотрудничеству с рейхстагом, вице-президент Греф, член партии немецких националистов, выступил адвокатом правительства Папена. Гинденбург, в свою очередь, оспорил право президиума рейхстага вести какие-либо политические переговоры и подчеркнул, что настоящее правительство рейха пользуется его доверием, как и прежде. Если рейхстаг придерживается другого мнения, то он должен принять решение о вынесении правительству вотума недоверия. Но и в этом случае он, рейхспрезидент, не будет готов расстаться с правительством Папена{565}. Тем временем переговоры между обеими католическими партиями и национал-социалистами продолжались, но без какого-либо успеха. Гитлер ни в коем случае не хотел связывать себя обязательствами по отношению к Центру, и он также не думал соглашаться на предложение Штрассера, согласно которому Центр и НСДАП должны были войти в правительство, место канцлера в котором занял бы Шлейхер. Сам министр рейхсвера публично открещивался от подобных планов, опровергнув 10 сентября слухи, согласно которым он, Шлейхер, был готов «изменить идее независимого президентского правительства ради того, чтобы протянуть руку кабинету, действительно образованному партиями». Гитлер к этому моменту видел только один путь выхода из кризиса. 8 сентября на «встрече вождей» НСДАП в берлинском отеле «Кайзерхоф» он констатировал, что партия должна настроиться на проведение новых выборов — и чем раньше, тем лучше{566}. 12 сентября рейхстаг собрался на свое второе заседание. На повестке дня стоял один вопрос: заслушивание правительственной декларации. Но в самом начале заседания депутат-коммунист Торглер выступил с предложением внести изменения в повестку заседания и сначала рассмотреть запросы его фракции об отмене обоих чрезвычайных постановлений от 4 и 5 сентября, а потом — предложение о вынесении вотума недоверия правительству Папена. И хотя для того, чтобы подобное изменение повестки заседания было отклонено, хватило бы возражения одного-единственного депутата, ко всеобщему удивлению, не раздалось ни одного голоса против, в том числе и из рядов фракции немецких националистов. Фракция НСДАП попросила о перерыве заседания на полчаса, чтобы получить указания Гитлера в отношении линии своего дальнейшего поведения в этой ситуации. После того как предложение Торглера было принято, фракция Центра стала оказывать давление на национал-социалистов с тем, чтобы запросы КПГ были отклонены. Но Гитлер принял решение поддержать коммунистов, для начала выбив почву из-под ног у дальнейших переговоров с Центром. Папен был полностью ошеломлен ходом событий. Он не ожидал ни атаки со стороны КПГ, ни того, что она останется безответной, и появился в рейхстаге без указа о роспуске парламента, который был подписан Гинденбургом 30 августа в Нейдеке без указания даты. Только во время перерыва Папен заполучил «красную папку» с указом, которую он и продемонстрировал всем присутствующим, снова входя в зал заседаний рейхстага. После открытия заседания Геринг констатировал отсутствие возражений по повестке дня и заявил: «А теперь переходим к голосованию по предложению Торглера. Голосуем». В ответ на возглас Торглера: «Поименно, господин президент!» — Геринг подтвердил: «Голосование поименное». Только после того, как прозвучало слово «голосование», канцлер встал и попросил слова. В это время Геринг перевел свой взгляд влево, на коммунистов, и проигнорировал просьбу рейхсканцлера. После того как статс-секретарь Планк в крайнем волнении указал ему на просьбу канцлера предоставить слово, Геринг грубо ответил: «Голосование уже началось». Папен сам во второй раз попытался получить слово и снова напрасно. Затем он положил красную папку с указом о роспуске рейхстага на стол Герингу, но тот умудрился не заметить и этого. Канцлер и министры покинули зал заседаний в тот момент, когда президент рейхстага стал объявлять результаты общего голосования по запросам КПГ об отмене чрезвычайных постановлений и о вынесении вотума недоверия правительству. Из 560 поданных голосов только один был недействительным. 512 депутатов проголосовали «за», 42 — «против», пятеро воздержались. Против голосовали депутаты от ДНФП и ДФП, не участвовали в голосовании депутаты от Немецкой государственной партии, Христианско-социальной народной партии, Немецкой крестьянской партии и от Экономической партии. Все остальные фракции проголосовали за предложение коммунистов. Рейхстаг встретил результаты голосования, согласно протоколу, «криками одобрения и громовыми аплодисментами». В заключение Геринг заявил, что во время голосования рейхсканцлер вручил ему документ, «подписанный имярек рейхсканцлером и имярек министром иностранных дел, которые в результате вотума недоверия, одобренного народным представительством, считаются смещенными со своих постов. Тем самым документ является утратившим силу». Вслед за этим Геринг зачитал «Декрет рейхспрезидента о роспуске рейхстага от 12 сентября 1932 г.». Он гласил: «На основании статьи 25 Имперской конституции я распускаю рейхстаг, т. к. существует опасность того, что рейхстаг потребует отмены моего чрезвычайного постановления от 4 сентября этого года». После повторного указания на недействительность документа, Геринг предложил прервать заседание и продолжить его вновь на следующий день. Вслед за этим под аплодисменты своих товарищей по партии он объявил заседание законченным. В действительности рейхстаг был распущен в тот самый момент, когда рейхсканцлер положил указ о роспуске рейхстага на стол рейхспрезиденту. Поэтому с конституционно-правовой точки зрения голосование по предложению КПГ не имело силы. Фракция СДПГ еще 12 сентября приняла решение признать правомочность роспуска и не принимать участия в созываемом Герингом заседании Совета старейшин. Вместо этого Пауль Лёбе, председатель Комитета по защите прав народного представительства, так называемого «Наблюдательного комитета», созвал на следующий день заседание своего комитета, не затронутого роспуском рейхстага, чтобы разъяснить государственно-правовое вопросы, поднятые Герингом в его заключительном обращении. На этом заседании президент рейхстага сам признал, что роспуск рейхстага с формально-юридической точки зрения был произведен с полным правом. Теперь не могло идти и речи об обращении в Конституционный суд, о чем Геринг заявлял днем ранее. Для правительства Папена заседание рейхстага от 12 сентября 1932 г. стало тяжелым поражением. Более четырех пятых депутатов наглядно продемонстрировали «правительству национальной концентрации», что на самом деле оно является правительством незначительного меньшинства. Дополнительный горький оттенок добавляло то, что канцлер в первую очередь сам нес ответственность за эту неудачу. Теперь и его сторонники должны были задаться вопросом, является ли Папен тем человеком, который в состоянии осуществить честолюбивую программу своего правительства{567}. Вечером 12 сентября Папен все же выступил со своей правительственной декларацией — но не перед депутатами рейхстага, а перед немецким народом, насколько тот имел возможность доступа к радиоточкам. Рейхсканцлер подверг резкой критике антиконституционное поведение Геринга, говорил об успехах и планах своего правительства, уделив поразительно много времени и внимания столь желанной ему конституционной реформе и реформе государственного устройства в целом. Место системы формальной демократии, дискредитировавшей себе перед судом истории и в глазах немецкого народа, заявил Папен, должен занять новый порядок «действительно внепартийного национального управления государством», опирающийся на силу и авторитет всенародно избранного рейхспрезидента. Избирательный возраст должен быть увеличен, а народное представительство органично связано с самоуправляющимися корпорациями, скорее всего в виде верхней палаты парламента, образованной по признаку профессионального представительства. Между прусским и имперским правительствами необходимо установить «органическую связь», которая исключала бы в будущем как противостояние, так и параллельность в их деятельности. Немецкий народ сам примет решение о судьбе новой конституции, которая будет предложена ему на рассмотрение правительством после тщательной проверки. Свою речь Папен завершил призывом: «С Гинденбургом и за Германию!» В последней части своего выступления рейхсканцлер обрисовал лишь общие контуры «нового государства», создать которое правительство Папена стремилось начиная слета 1932 г. Более подробно, чем «новое государство» будет отличаться от парламентской демократии Веймара, изложил в своей брошюре публицист Вальтер Шотте. Автором предисловия к ней выступил Папен, в результате чего этот опус приобрел статус официоза. «Новое государство» должно было представлять собой авторитарное президентское государство, «разбавленное» профессиональными сообществами. Воля народа выражается преимущественно в единовременном избирательном акте, служащем цели плебисцитарной легитимации главы государства. Отнюдь не рейхстаг, а рейхспрезидент олицетворяет собой общую волю, именно он образует центр власти. Дерадикализация рейхстага должна быть достигнута за счет введения нового избирательного права, учитывающего возраст, семейное положение и число детей. Свою власть законодательного органа рейхстаг должен был разделить с верхней палатой. В этой палате, созываемой президентом, профессиональные сообщества должны были, по замыслу архитекторов «нового государства», гармонически взаимодействовать друг с другом. Если подобный проект конституции получил бы поддержку большинства немцев, это стало бы для народа актом лишения себя своими собственными руками значительной доли власти. Папен, Гайл и их помощники-публицисты делали ставку на то, что у парламентской демократии в 1932 г. осталось мало активных сторонников. Уже в 1929 г. консервативный писатель Эдгар Юнг, ставший влиятельным советником канцлера Папена, в своей популярной книге характеризовал парламентскую систему как «господство убогих». Авторитарное, якобы надпартийное президентское государство стало общим знаменателем планов преобразований, которые уже долгое время ковались в правых кругах, таких как «Клуб господ» или круг единомышленников, сложившийся вокруг газеты «Ди Тат». Впрочем, лагерь тех, кто расценивал себя носителями идеи «консервативной революции», не был единым. Последователи публициста Ганса Церера, который, в свою очередь, поддерживал тесную связь со Шлейхером, сильнее подчеркивали роль масс, чем интеллектуалы из непосредственного окружения Папена. Позиция, которую министр рейхсвера занимал поздним летом 1932 г. во внутриполитических дискуссиях, зачастую имела больше общего с переменчивыми проектами его советников, чем с его собственными отшлифованными планами. Но уже в сентябре было ясно одно: Шлейхер со все возраставшим скепсисом относился к становившейся все более очевидной отчужденности от народа выдвинутого им самим канцлера{568}. Каким бы мизерным не было число тех, кто сожалел о Веймарской демократии, тем не менее было очевидно, что любая попытка сделать избирательное право менее равным и менее всеобщим натолкнется на массовую оппозицию, от коммунистов через демократические партии вплоть до национал-социалистов. Если правительство хотело завоевать популярность, оно ни в коем случае не должно было делать избирательное право менее демократичным. Лучшим способом стать популярным были успехи на том поприще, которое с точки зрения народа являлось самым важным — на поле борьбы с безработицей. Именно Шлейхер был тем человеком, который пытался направить правительство по этому пути. Министр рейхсвера с симпатией наблюдал за усилиями единомышленников вокруг Гюнтера Тереке, президента Немецкого съезда сельских общин и депутата рейхстага от Христианско-национальной крестьянской и сельскохозяйственной партии. Тереке пропагандировал трудоустройство, финансируемое за счет кредитов в ходе выполнения непосредственных заказов общественных корпораций. Еще больше, чем сама программа Тереке, Шлейхера привлекал состав сложившегося вокруг него круга, в котором среди прочих были представлены национал-социалисты, «Стальной шлем», «Рейхсбаннер Шварц-Рот-Гольд» и Свободные профсоюзы. Для Шлейхера и для его генератора идей, Ганса Церера, круг вокруг Тереке стал моделью «поперечного фронта»[65], объединяющего, невзирая на партийные и классовые границы, разнородные силы, в нем они открыли для себя опору президентской системы правления. 5 сентября 1932 г. Тереке получил возможность поделиться своими взглядами с канцлером и рядом министров. Сначала его выступление не имело каких-либо практических последствий, в первую очередь потому, что министр финансов Шверин фон Крозиг выразил серьезные сомнения в отношении инфляционного эффекта плана Тереке. Однако Шлейхер продолжал контактировать с Тереке, поддерживая тем самым впечатление, что он осторожно начал отдаляться от правительственного курса Папена{569}. В отличие от программы создания рабочих мест, другое направление деятельности министра рейхсвера нашло в кабинете полное понимание, а именно — поддержка военно-прикладного спорта. 12 сентября, за несколько часов до заседания рейхстага, принявшего драматический оборот, министры с одобрением приняли к сведению сообщение об указе рейхспрезидента, согласно которому создавался Имперский попечительский совет по оздоровлению юношества. Одобрение снискал также устав «Союза поддержки военно-прикладного спорта». Согласно протоколу правительство согласилось с тем, что «физическое воспитание молодежи, во имя которого трудится Попечительский совет по оздоровлению юношества, имеет огромное значение для обороноспособности страны». Долгосрочные намерения, которые Шлейхер преследовал, занимаясь организацией военно-прикладного спорта, он изложил 17 октября в своем письме канцлеру: вместе с «Добровольной трудовой повинностью» и созданной в 1919 г. «Технише Нотхильфе» Имперский попечительский совет по оздоровлению юношества должен был гарантировать «обеспечение обороноспособности страны за счет наличия здорового, работоспособного и готового к бою рядового состава». В результате образования Имперского попечительского совета «на службу национального воспитания должен быть поставлен прикладной спорт, немыслимый без духа обороноспособности» и одновременно заложен «фундамент будущего ополчения». Конечная цель Шлейхера тем временем не оставляла сомнений: все шаги по «перестройке» рейхсвера были для него лишь подготовкой введения всеобщей воинской повинности. Но у Шлейхера были также виды использовать Имперский попечительский совет как инструмент внутренней политики: по аналогии с кружком Тереке он должен был выступить в качестве ядра кристаллизации столь желанного для министра рейхсвера «поперечного фронта». В результате Шлейхер надеялся укротить полувоенные политические союзы, начиная от СА через «Стальной шлем» вплоть до «Рейхсбаннера Рот-Шварц-Гольд», поставив их на службу «деловой созидательной работе в интересах всего народа». Объединение враждебных полувоенных союзов должно было последовать в рамках имперского попечительского совета, «Добровольной трудовой повинности», а также организации помощи немецкой молодежи, представлявшей собой «Зимнюю помощь»[66] для безработной молодежи, которую еще планировалось создать. В отношении «Добровольной трудовой повинности» это намерение уже частично осуществилось: к ее организаторам наряду с правыми союзами, как, например, «Стальной шлем», относились также «Рейхсбаннер» и Свободные профсоюзы. «Рейхсбаннер» охотно принял бы также участие в Имперском попечительском совете: федеральный председатель «Рейхсбаннера» Хёльтерман видел в рейхсвере единственную силу, которая еще была в состоянии воспрепятствовать приходу к власти национал-социалистов, и надеялся, что в результате полувоенного обучения молодежи увеличится ударная мощь его союза. Но для СДПГ, которая отвечала внутри «Железного фронта» за выработку политической линии, даже не стоял вопрос сотрудничества в деле милитаризации немецкого общества и в области политики вооружения, проводившихся под эгидой Шлейхера. 10 ноября партийный комитет СДПГ принял решение о том, что «Рейхсбаннер» не станет участвовать в деятельности Имперского попечительского совета по оздоровлению юношества{570}. На том же самом заседании от 12 сентября 1932 г., на котором правительство дало свое согласие на образование Имперского попечительского совета, было принято еще одно не менее важное решение в сфере оборонной политики. Министр иностранных дел фон Нейрат сообщил, что французский посол Франсуа-Понсе днем ранее вручил ему ответ французского правительства на немецкий меморандум от 29 августа, в котором Германия требовала восстановления своего полного равноправия в военном отношении. Нейрат охарактеризовал парижскую ноту как «совершенно неудовлетворительную», по его словам, в ней не были даны ответы на главные вопросы. Исходя из этого министр иностранных дел пришел к выводу, что дальнейшее участие Германии в переговорах на конференции по разоружению в Женеве не отвечает немецким интересам. Правительство согласилось с Нейратом, и 14 сентября 1932 г. соответствующее послание было отправлено президенту конференции, бывшему министру иностранных дел Великобритании Гендерсону. Чтобы продемонстрировать всему миру, что именно Франция виновна в этом обострении ситуации, Нейрат покинул Женеву 28 сентября, еще до начала сессии конференции, не заслушав речь французского премьер-министра Эррио, выступавшего на конференции в тот же день{571}. Решение правительства от 12 сентября означало новый этап в борьбе за ремилитаризацию Германии, но одновременно оно являлось также частью внутренней политики. Тем самым правительство подтвердило свою верность лозунгу, провозглашенному Шлейхером 15 августа 1932 г.: на внешнеполитической арене не должно происходить ничего такого, что могло бы быть воспринято народом иначе, чем национальное деяние. После тяжелого поражения в рейхстаге правительству было еще важнее, чем раньше, продемонстрировать свою силу, проводя подчеркнуто национальную политику. Однако после 12 сентября 1932 г. правительство больше не рисковало отважиться на ту большую пробу сил во внутренней политике, о которой Папен, фон Гайл и Шлейхер договорились с Гинденбургом в Нейдеке 30 августа 1932 г., не имея на то четкого поручения от своих коллег по кабинету. На совещании министров от 14 сентября только фон Гайл и Шлейхер высказались за перенос новых выборов в рейхстаг на неопределенный срок. Министр рейхсвера сообщил, что правоведы Карл Шмитт, Эрвин Якоби и Карл Бильфингер дали положительный ответ на вопрос, можно ли оправдать ссылкой на «настоящее чрезвычайное законодательство» нарушение статьи 25 конституции, предписывавшей проведение новых выборов в рейхстаг самое позднее по истечении 60 дней с момента его роспуска. Все остальные министры и рейхсканцлер полагали, что время для нарушения конституции еще не пришло. 17 сентября кабинет принял решение предложить рейхспрезиденту 6 ноября 1932 г. в качестве дня проведения новых выборов — самую позднюю дату, допустимую конституцией. 20 сентября Гинденбург подписал соответствующий указ{572}. Не было единства в кабинете и в другой важной области — сфере аграрной политики. 27 августа правительство пошло навстречу требованию Ландбунда и приняло принципиальное решение (при условии, что это не противоречит действующим торговым договорам) о введении лимитов на ввоз сельскохозяйственной продукции. Ведущие союзы промышленности встретили это решение резкими протестами. Пострадавшие в результате страны, как гласил их практически неопровержимый довод, предпримут в ответ защитные меры, которые будут означать новые опасности для и без того испытывающего трудности немецкого экспорта. На заседании правительства 17 сентября 1932 г. этот аргумент настойчиво поддержали Нейрат, Крозиг, Вармбольд и Шеффер. Тем не менее Папен встал на сторону министра сельского хозяйства, и 26 сентября в Мюнхене в своей речи на главном заседании Баварского сельскохозяйственного совета Магнус фон Браун зачитал длинный список продуктов, которые в будущем могли быть ввезены в Германию только в ограниченных объемах. Наряду с луком, томатами, горохом и основными сортами фруктов контингентированием были затронуты смалец, масло и сыр, а также убойный рогатый скот, карпы и сало. На следующий день после выступления министра сельского хозяйства с общественностью пообщался министр экономики. 27 сентября, выступая перед Промышленно-торговой палатой Кёльна, Вармбольд предостерег от фатальных последствий политики автаркии. 11 октября это предостережение поддержал Совет директоров рейхсбанка: контингентирование означаетопасность для немецкой внешней торговли, для валютных запасов рейхсбанка, а тем самым — и для немецкой национальной валюты. Из стран, с которыми Германия вела переговоры по вопросу введения ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции, ответными острыми санкциями в первую очередь угрожали Дания и Италия. Так как достичь компромисса не удалось, в конце концов имперское правительство пошло на попятную. От обширной программы контингентирования остались только ограничения на ввоз масла. Ландбунду была обещана компенсация в виде поддержки цен на зерно{573}. В области конституционной реформы дело также не пошло дальше деклараций. Папен использовал свой официальный визит в Мюнхен, чтобы 12 октября произнести перед Баварским индустриальным союзом программную государственно-политическую речь. В ней он противопоставил «марксистскому представлению о регламентированном государством попечении каждого отдельного гражданина» модель «истинно христианской народной общности» и заявил о своей приверженности к «нерушимой идее святого Германского рейха». Канцлер нарисовал образ «мощной надпартийной государственной власти… которая не является игрушкой для политических и общественных сил, но непоколебимо стоит над ними». Правительство должно стать более независимым от партий и не может быть отдано на откуп случайным комбинациям парламентского большинства. «Отношения между правительством и народным представительством должны быть урегулированы таким образом, чтобы правительство, а не парламент выступало носителем государственной власти. Чтобы создать противовес односторонним решениям парламента, диктуемым партийными интересами, Германия нуждается в Верхней палате, обладающей четко оговоренными правами, в том числе правом непосредственного участия в законодательной деятельности». В этой речи рейхсканцлер едва ли вышел за рамки своего выступления по радио от 12 сентября. Министр внутренних дел, к чьей компетенции относилась реформа конституции, был также не намного конкретнее, когда 28 октября он выступил на ежегодном банкете берлинской прессы. В своей речи Гайл позиционировал себя сторонником «защиты» от «гипертрофированного парламентаризма», но так и не рассказал, в чем же должна заключаться подобная «защита»: в расширении прав рейхсрата, создании верхней палаты по профессиональному принципу или сочетании этих мер? Министр оспорил, что правительство стремится ликвидировать всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право, но потом сам стал противоречить себе: «Мы… считаем правильным, что активный и пассивный избирательный возраст должен быть повышен примерно на пять лет, а кормильцам семьи, неважно, идет речь о мужчинах или женщинах, равно как и участникам войны, должен быть предоставлен дополнительный голос, что подчеркнет значение кормильцев семей для нашего рейха, а также будет являться выражением благодарности отечества в адрес ветеранов войны». Таким образом, в конце октября 1932 г. было ясно только одно: правительство «национальной концентрации» намеревалось с силой повернуть назад колесо истории, но, очевидно, оно еще само не представляло себе, каким образом сможет подвигнуть немецкий народ к отказу от значительной части демократических прав{574}. К тому моменту, когда Гайл выступал со своей речью, уже три дня как было обнародовано ожидавшееся с нетерпением решение Конституционного суда по вопросу «удара по Пруссии», также игравшее роль прецедента для реформы рейха — ядра запланированной конституционной перестройки. Лейпцигские судьи объявили декрет от 20 июля 1932 г. соответствующим конституции в том, что касалось назначения рейхсканцлера имперским комиссаром Пруссии и его полномочий временно лишить министров прусского правительства их служебных прав и обязанностей, взяв их на себя. Но эти полномочия не могли, как говорилось дальше, «распространяться на то, чтобы лишить правительство Пруссии и его членов права представлять Пруссию в рейхсрате, перед ландтагом, Государственным советом или перед другими землями». Таким образом, лейпцигский приговор от 25 октября 1932 г. частично признал правоту истца, частично — обвиняемого. В соответствии с ним государственная власть в Пруссии была поделена между исполняющим обязанности правительством Брауна и «комиссарским» правительством, назначенным рейхом. В итоге последнее сохранило за собой фактическую исполнительную власть, включая важнейшее право представительства Пруссии в рейхсрате. И хотя правительство Брауна в результате не отвоевало себе реальную власть, оно тем не менее могло расценивать как успех то, что суд не признал его виновным в халатном исполнении своих обязанностей. В результате правительство рейха продолжало и далее осуществлять контроль над государственными органами самой большой из немецких федеральных земель, в том числе и над ее полицией, и тем не менее оно должно было смириться с констатацией того, что, сместив 20 июля правительство Пруссии, оно нарушило конституцию. Этот вердикт затрагивал также рейхспрезидента, чьим именем 20 июля 1932 г. действовали Папен и компания. Приговор означал, с какой бы стороны ни посмотреть на него, поражение имперского правительства, что отнюдь не значило победу старого прусского правительства. «Форвартс» выступила со следующим комментарием, совершено точно описывавшем ситуацию. Лейпцигский приговор представляет собой политическое, а не правовое решение, полагал его автор. «Конституционный суд избежал тяжелого конфликта с имперским правительством, который неминуемо последовал, если бы притязания прусского правительства были признаны в полном объеме… Этот приговор являет собой полную противоположность соломонову: спорный ребенок аккуратно разделен почти на две равные половины и каждая из спорящих матерей получил по половине. Таким образом, в соответствии с этим приговором обе стороны — рейхскомиссар и правительство Пруссии — признаны правыми, правда, с одним существенным отличием: первая, хотя и временно, но располагает почти всей полнотой власти, вторая же, более долговременная формация, на практике обладает гораздо меньшей возможностью воздействовать на ход событий. К каким последствиям это приведет и должно привести на деле, знает один только Бог». Правительство рейха, давая свою оценку приговору, сначала попыталось утверждать, что Конституционный суд полностью подтвердил правомочность декрета от 20 июля 1932 г. Но в ответ тут же последовали возражения прусских министров: декрет получил существенное ограничение как в его правовых основах, так и в проистекающих из него полномочиях. Отто Браун еще 25 октября объявил о созыве на следующий день заседания прусского кабинета министров. Последовавшее вслед за этим заявление министра-президента Пруссии перед прессой было сознательно выдержано в политически зрелом тоне: его правительство готово, лояльно и по-деловому, принять во благо Пруссии и рейха участие в разрешении всех назревших вопросов. В первую очередь речь шла о праве «старых» прусских министров ознакомиться с текущими делами правительства и обеспечить их выполнение достаточным количеством чиновников. Но Папен и не думал пойти навстречу Брауну. 27 октября рейхсканцлер заявил на заседании назначенного рейхом правительства Пруссии, что его кабинет полон решимости «никоим образом не допустить участия бывшего прусского правительства в отправлении исполнительной власти». Двумя днями позже он повторно высказал эту точку зрения, давая комментарии по поводу своей встречи с Брауном в присутствии рейхспрезидента. Исполнительная власть не может быть поделена на части и должна полностью остаться у рейхскомиссара. Браун, в свою очередь, занял оборонительную позицию. Он сам не придает ровно никакого значения тем служебным функциям, которые были предоставлены ему приговором Конституционного суда, — заявил прусский премьер-министр. «Я охотно давно бы уже ушел со своего поста, но не получалось. Теперь, после того как Конституционный суд недвусмысленно указал нам на наши задачи, я полностью лишен этой возможности. Таким образом, я должен продержаться до того момента, пока не будет создано новое прусское правительство». Отсутствующая у Брауна воля к борьбе облегчила правительству рейха саботирование по мере сил приговора Конституционного суда. 29 октября было распущено прусское министерство социального обеспечения, а 31 октября Папен, как прусский рейхскомиссар, пополнил назначенное рейхом правительство несколькими заместителями рейхскомиссара. Одним из них стал рейхсминистр продовольствия Магнус фон Браун, который в форме персональной унии взял на себя большинство полномочий прусского министра сельского хозяйства. Одновременно в состав правительства рейха в качестве министров без портфелей были включены Брахт и бывший статс-секретарь Попитц, назначенный заместителем рейхскомиссара в сфере ответственности прусского министерства финансов. Персональное сращение обоих правительств было частью имперской реформы — однако не той, к которой стремился Отто Браун. Мероприятия от 31 октября 1932 г. только подтверждали то, что стало несомненным фактом, начиная с 20 июля 1932 г.: Пруссия фактически больше не была федеральной землей, а стала административной единицей, находившейся в непосредственном управлении рейха. В то время как рейх отправлял власть в Пруссии, прусское правительство вело борьбу за служебные помещения, персонал и право ознакомления с делами. Брахт категорически отклонил пожелание Брауна снова занять свою старую резиденцию на Вильгельмштрассе. Вместо этого заместитель рейхскомиссара отвел прусскому правительству помещение ликвидированного министерства социального обеспечения, которое было разделено картонными стенами на три отдельных помещения. С этого момента правительство Отто Брауна «правило» из этого закутка. Когда министр-президент заявил 3 ноября на пресс-конференции, что он будет жаловаться по поводу такого обращения рейхспрезиденту, многие его однопартийцы были разочарованы. Они ожидали от Брауна гораздо большего и теперь опасались негативных последствий для партии на предстоящих выборах. Демократическая газета «8-Ур Абендблатт» высказывала свое недовольство по поводу того, что «Браун не стукнул кулаком по столу и не отдал прусскому правительству распоряжение начать широкомасштабные действия». Газета также посоветовала премьер-министру включить в свой круг чтения книгу под заголовком «Как стать энергичным?»{575}. Вторая предвыборная кампания 1932 г. протекала менее кроваво, чем первая, и без особых кульминационных моментов. Самый сенсационный предвыборный митинг состоялся не в Германии, а в Париже. Председатель КПГ Эрнст Тельман, въехавший во Францию без французской визы, т. е. нелегально, выступил вместе с лидером французских коммунистов Морисом Торезом 31 октября в Саль Булье, где и произнес боевую речь против «диктата Версаля, грабительского плана Янга и Лозаннского договора». Оба партийных председателя объявили о своей приверженности идеям совместного манифеста, который Тельман передал общественности еще 25 октября. В нем коммунистические партии Германии и Франции требовали свержения «Версальской системы». Ключевое предложение гласило: «Разбойничий диктат в результате чудовищной аннексии угнетает бесчисленные миллионы людей в Эльзасе и Лотарингии, Западной и Восточной Пруссии, Позене, Верхней Силезии и Южном Тироле, не считаясь с их мнением. Он принуждает их жить под господством империалистической Франции и ее вассальных государств, фашистской Польши, Чехословакии, подчиняясь насилию со стороны Бельгии и Литвы или фашистскому варварству Муссолини. Австрийский народ также лишен какого-либо права на самоопределение в результате Версальской системы, Сен-Жерменского договора и нового пакта Лиги Наций». Манифест был полностью выдержан в духе «Программного заявления о национальном и социальном освобождении немецкого народа»^ помощью которого КПГ попыталась в августе 1930 г. переманить на свою сторону часть избирателей из национал-социалистического лагеря. Кроме того, он полностью отвечал линии XII Пленума ИККИ августа-сентября 1932 г., на котором КПГ было дано указание, с одной стороны, вести кампанию против «национализма и шовинизма», с другой — самой пропагандировать националистические цели, в том числе «лозунг создания “Социалистической советской Германии”, которая гарантирует возможность добровольного присоединения Австрии и других областей, населенных немцами». Игра с националистическим огнем оправдывалась в глазах Коминтерна преследуемой целью: подготовкой к взятию власти рабочим классом. Ради ее достижения следовало также заняться организацией отдельных экономических и политических акций протеста, с тем чтобы потом перевести их в разряд массовых, способствуя тем самым складыванию революционной ситуации, в ходе которой коммунистическая партия во главе большинства рабочего класса сможет добиться решения вопроса о власти на своих условиях. Важнейший для КПГ результат XII Пленума ИККИ был зафиксирован в тезисах к докладу секретаря ИККИ, Отто Куусинена: «Только если главный удар будет направлен против социал-демократии — этой основной опоры буржуазии, только тогда можно будет добиться успеха и разгромить исконного классового врага пролетариата — саму буржуазию. И только в том случае, если коммунисты научатся отличать социал-демократических вождей от социал-демократических рабочих, они смогут во имя единого революционного фронта сокрушить снизу ту стену, которая зачастую отделяет их от социал-демократических рабочих»{576}. Непосредственно перед выборами в рейхстаг КПГ получила возможность расширить «революционный фронт снизу» в направлении национал-социалистов, дав тем самым новое направление борьбе против социал-демократов и Свободных профсоюзов. Начиная с сентября на многочисленных, прежде всего мелких и средних предприятиях велась борьба против снижения заработной платы, бывшего следствием постановления кабинета о тарифной политике от 5 сентября. Акции протеста давали возможность прийти к выводу, что в рабочем классе постепенно растет готовность снова защищать свои интересы с помощью забастовок. Движущей силой не всех, но большинства этих акций рабочего протеста выступала Революционная профсоюзная оппозиция (РГО), профсоюзная организация КПГ. Это же самое правило сработало в отношении самой большой забастовки осени 1932 г. — стачки рабочих Берлинской транспортной компании (БФГ), начавшейся 3 ноября. Действующий тарифный договор для коммунальных транспортных предприятий столицы Германии истек уже 30 сентября. Дирекция БФГ сначала потребовала, ссылаясь на растущие убытки, снизить заработную плату на 14 пфеннигов — до 23 пфеннигов за час. Однако потом, под давлением Объединенного союза трудящихся общественных предприятий товарного и пассажирского сообщений, входившего в состав Свободных профсоюзов, работодатель согласился на менее болезненное понижение заработной платы: начиная с 1 ноября почасовая оплата должна была на неопределенное время сократиться на 2 пфеннига. Против этого урегулирования тотчас же выступили КПГ и РГО. Мобилизацией рабочих коллективов на борьбу занялись руководимые коммунистами так называемые «комитеты единства», в которые наряду с рабочими — членами Свободных профсоюзов также входили представители Национал-социалистической производственной организации (НСБО)[67]. Конференция делегатов «комитетов единства» добилась проведения общего голосования всех трудящихся, которое состоялось 2 ноября и большинством в две трети голосов высказалось за забастовку. Согласно уставу Объединенного союза транспортников, одобрение на проведение забастовки могло последовать, как правило, только в том случае, если за него высказалось¾ членов союза. Заявив, что это квалифицированное большинство не было достигнуто, конференция функционеров Союза объявила об отклонении стачки — равно, однако, как и об аннулировании достигнутого ранее результата переговоров с БФГ. Объединенный союз совершил тяжелую ошибку, когда вопреки своему собственному уставу дал согласие на проведение всеобщего голосования среди персонала БФГ, ⅔ которого не были членами профсоюза. Но после того как подавляющее большинство трудящихся поддержало забастовку, отказ от участия в ней мог иметь только одно последствие — изоляцию профсоюза. Это было очень кстати для делегатов «комитетов единства». Вечером 2 ноября они приняли единогласное решение начать забастовку на следующее утро. В центральный стачечный комитет были выбраны наряду с ведущими функционерами КПГ и РГО и некоторыми оппозиционно настроенными профсоюзными работниками также четыре члена НСБО и две женщины как представители рабочих БФГ. КПГ уже в мае 1932 г. заявила о своей приверженности тактике, согласно которой в случае необходимости в стачечные комитеты также следовало принимать рабочих — национал-социалистов. Для НСДАП подобная комбинация с «большевиками» давалась с трудом не только по идеологическим причинам, они должны были также думать об ожидаемых последствиях этого мезальянса для выборов в рейхстаг. Тем не менее гаулейтер Берлина был готов пойти на этот риск. «Широкие буржуазные круги будут напуганы нашим участием в забастовке, — записал в своем дневнике Геббельс 3 ноября. — Но это однако не главное. Эти круги потом можно будет снова легко завоевать на нашу сторону, но если мы сейчас утратим поддержку рабочих, то мы утратим ее навсегда». Призыв к забастовке получил широкую поддержку. 3 ноября в берлинской подземке не пошел ни один поезд, если же трамваи или автобусы покидали депо, то бастующие задерживали их по дороге, зачастую причиняя, повреждения транспорту. Во второй половине дня государственная согласительная палата после непродолжительных предварительных переговоров со сторонами коллективного договора вынесла третейское решение, которое в главном подтвердило уже достигнутый ранее результат: почасовая оплата должна была быть на неопределенной время понижена на 2 пфеннига. БФГ согласилось с этим третейским решением, в то время как профсоюзы отвергли его. После того как государственный мировой судья объявил вечером это решение обязательным для сторон, руководство БФГ потребовало от своего бастующего персонала, посредством афиш на столбах и плакатов, возобновить работу до наступления 14 часов пятницы 4 ноября. В случае отказа дирекция угрожала бессрочными увольнениями. В ночь на 4 ноября ситуация обострилась. Полиция провела многочисленные аресты, которые «Форвартс» охарактеризовала как «случайные». Ранним пятничным утром рядом с трамвайным парком на Бельцигерштрассе в Шёнеберге произошли тяжелые столкновения между полицией и бастующими, при этом был убит национал-социалист — таможенник. Около 10 часов утра состоялась встреча ведущих функционеров Объединенного союза транспортников, которые осудили поведение полиции, выразили доверие своим переговорщикам и потребовали от членов своего союза возобновить работу. Но этому решению воспротивились сторонники забастовки. Коммунисты и национал-социалисты вызвали в большинстве районов города массовые беспорядки. На главной улице в Шёнеберге члены СА воздвигли баррикады, наполовину полный пассажирами автобус забросали камнями, в ответ на что полиция реагировала сначала выстрелами в воздух, а потом и прицельным огнем по толпе. В общей сложности полицейскими пулями 4 ноября было убито три человека, восемь получили тяжелые ранения. «В Берлине царит революционное настроение, — с удовлетворением записал Геббельс. — Наша репутация у рабочих за несколько дней пережила блистательный взлет. Если это и не окажет своего воздействия в ходе нынешних выборов, то нельзя переоценить значение этих активов для будущего». «Форвартс» описывала случаи «братания между наци и комми» и по этому поводу писала следующее: «Еще вчера по эту сторону “коричневая чума”, а по ту — “красные недочеловеки”! Зато сегодня — дражайшие союзники! Какого сознательного рабочего такое не вгонит в краску!» Рейхсканцлер тоже не остался в стороне от событий. В своей предвыборной речи, переданной всеми радиостанциями Германии вечером 4 ноября, он заклеймил позором «дикие» забастовки, спровоцированные национал-социалистами вместе с коммунистами с целью нарушить мир, царящий в экономике, и назвал эти забастовки «преступлением против всей немецкой нации, которая напрягает свои последние силы». В духе пропагандируемой им линии «сильного государства» Папен заверил своих слушателей в том, что «в отношении таких нарушителей спокойствия здесь, в Берлине, мы будем действовать с большой строгостью». Только 7 ноября, спустя день после выборов в рейхстаг, движение транспорта в Берлине постепенно пришло в норму. Вечером этого же дня стачечный комитет принял решение о прекращении борьбы. В адрес профсоюзных функционеров от СДПГ был брошен упрек в том, что они первыми, вместе с полицией, пробили брешь в едином фронте рабочих, тем самым зарекомендовав себя лучшей опорой правительства Папена в БФГ. 8 ноября, когда движение полностью нормализовалось, НСБО также заявила об окончании стачки. Потеря голосов, с которой национал-социалисты должны были смириться 6 ноября 1932 г. в Берлине, была в буржуазных кварталах несоизмеримо выше, чем в пролетарских. Таким образом Геббельс мог только надеяться, что забастовка транспортников в длительной перспективе все же принесет дивиденды его партии в виде прироста доверия к НСДАП у городского пролетариата{577}. Потеря голосов национал-социалистами не только в Берлине, но и в стране в целом стала главным отличием вторых выборов в рейхстаг 1932 г. В сравнение с предыдущими выборами 31 июля сторонники Гитлера потеряли свыше 2 млн голосов. Доля избирателей НСДАП снизилась с 37,3 % до 33,1 %, количество депутатских мандатов — с 230 до 196. К проигравшей стороне также относилась СДПГ, получившая на 700 000 голосов меньше, чем в июле, что составляло в относительных цифрах падение с 21,6 % до 20,4 %. Выигравшей стороной стали немецкие националисты и коммунисты: партия Гугенберга получила дополнительно свыше 900 000 голосов, что составляло прирост с 5,9 % до 8,9 %. Показатели КПГ, благодаря дополнительным 600 000 голосам, выросли с 14,5 % до 16,9 %. Обе католические партии записали на свой счет небольшие потери: доля избирателей партии Центра понизилась с 12,5 % до 11,9 %, Баварской народной партии — с 3,2 % до 3,1 %. Немецкая государственная партия вновь получила 1,0 % голосов, в то время как ДФП и Христианско-социальная народная партия, черпавшая свои силы среди вюртембергских пиетистов, незначительно улучшили свои показатели: с 1,2 % до 1,9 % и с 1,0 % до 1,2 % соответственно. Бросалось в глаза понижение активности избирателей: если в июле к урнам пришло 84,1 %, то в сентябре — только 80,6 %. Результаты выборов в первую очередь отразили политическую фрустрацию населения. Выборы 6 ноября были для большинства немцев, если также считать оба тура выборов рейхспрезидента и выборы в ландтаги, пятым походом к урнам за 1932 г. То, что число граждан, проигнорировавших выборы, выросло с 7 млн в июле до 8,6 млн в ноябре, проистекало прежде всего от пресыщения избирателей политикой. НСДАП, которая ранее была партией, извлекавшей наибольшую выгоду из политизации граждан, прежде игнорировавших выборы, теперь серьезнее остальных пострадала от инфантильности избирателей. Именно не имевшие стойких политических убеждений избиратели должны были быть разочарованы в том, что их голоса едва ли оказали воздействие на практическую политику. Но не только усталость от выборов была тем фактором, который дал повод многим немцам остаться дома 6 ноября. Рука об руку с ней шло недовольство «своей» партией, и неважно, велась ли речь об НСДАП или СДПГ, Центре или БФП. Сравнительно неплохие результаты ДНФП и ДФП позволяли сделать вывод о несомненном, хотя и весьма ограниченном, росте доверия к политике кабинета Папена. Правительство и поддерживавшие его партии получили дивиденды от первых признаков оживления экономики, которые можно было расценивать как успех активной конъюнктурной политики имперского кабинета. Свое дело сделало также контролируемое государством радиовещание, представлявшее деятельность правительства в выгодном свете. Дополнительную роль сыграло отрезвление в отношении политического и социального радикализма национал-социалистов. Папен не случайно в своей речи по радио от 4 ноября настойчиво напомнил о провокационном выступлении Гитлера после убийства в Потемпе, а совместные действия нацистов и коммунистов в ходе стачки транспортных рабочих Берлина шокировали не только обитателей вилл, но и оказали устрашающее воздействие на буржуазных избирателей во всей Германии. Однако повода для триумфа у правительства все же не было: хотя совместная доля избирателей, голосовавших за обе правительственные партии, выросла с июля по сентябрь с 7,1 % до 10,8 %, почти ⁹⁄₁₀ избирателей отдали свои голоса партиям, находившимся в оппозиции к «кабинету баронов». Ни безусловная враждебность к Папену, ни коалиционные переговоры с национал-социалистами не принесли дополнительных симпатий обеим католическим партиям: по сравнению с июльскими выборами они на пару потеряли 460 000 голосов. В результате для создания черно-коричневой оппозиции теперь отсутствовали также и численные предпосылки. Центр, БФП и НСДАП вместе располагали 286 депутатскими мандатами, что было на семь мандатов меньше, чем необходимо для достижения абсолютного большинства в рейхстаге. Таким образом, после 6 ноября было еще труднее, чем после 31 июля, представить себе, что возобладает «парламентский» вариант решения кризиса{578}. Примечательный сдвиг сил произошел слева от центра. Если по результатам июльских выборов социал-демократы еще превосходили коммунистов на 7,1 %, то теперь их преимущество сократилось до 3,5 %. И хотя «Форвартс» перепечатала подзаголовком «Маркс сильнее, чем Гитлер» статью из венской «Арбайтер-Цайтунг», которая подчеркивала то обстоятельство, что СДПГ и КПГ по количеству полученных голосов снова превзошли НСДАП, что давало основание для «самых светлых надежд», тем не менее социал-демократов весьма беспокоила мысль, что коммунисты серьезно продвинулись вперед по пути к своей цели — превзойти СДПГ. На заседании партийного комитета от 10 ноября Карл Бёхель, один из «левых» социал-демократов и председатель Хемницкой окружной партийной организации, самым четким образом дал понять, что поставлено на кон: «Мы вышли на финишную прямую нашего состязания с коммунистами. Нам осталось потерять еще дюжину мандатов, и тогда коммунисты будут сильнее нас… Это был бы звездный момент для коммунистической агитации… Тогда товарищи, бывшие ранее верными партии, скажут себе: народное мнение теперь совершенно определенное, и они попытаются быстро покинуть партию». Зато весьма позитивно оценил результаты выборов председатель СДПГ Отто Веле. Социал-демократия в течение 1932 г. дала пять битв под лозунгом «Разбейте Гитлера!», заявил Веле на том же самом заседании, «и после пятой он был побежден». Такую же оптимистическую оценку выборам дал председатель фракции СДПГ в прусском ландтаге Эрнст Хайльман. Целью избирательной борьбы социал-демократов всегда было стремление избегнуть худшего, т. е. неограниченной диктатуры Гитлера, — писал Хайльман в дискуссионном листке «Дас фрайе Ворт»: «Эта цель нами достигнута не без тяжелых потерь. Сегодня ни один нормальный человек не может больше верить в гитлеровскую диктатуру… Натиск фашизма на государство отбит, национал-социалистам нанесено первое тяжелое поражение с самыми серьезными последствиями, и для рабочего класса это уже успех, перед лицом которого никто не должен сожалеть о потраченных усилиях». Другая большая демократическая партия — Партия Центра — считала после 6 ноября, что крах потерпели не ее собственные усилия, нацеленные на достижения компромисса с НСДАП, а политика кабинета Папена. Правительство действовало вопреки интересам народа, и народ дал свой ответ, заявил через день после выборов председатель Центра прелат Каас: «Основываясь на этом народном решении, мы теперь будем предпринимать ответственные шаги для преодоления разобщенности между различными общественными лагерями и создавать условия для образования сильного, неразрывно связанного с народом правительства, которое займет место сегодняшнего недоразумения». В газете «Германиа» точка зрения Кааса была изложена в статье подзаголовком «Вместе с этим правительством — никогда». К противоположному выводу, оценивая результаты голосования, пришла газета немецких националистов «Таг». ДНФП сделала свой выбор еще в 1928 г., избрав Гугенберга своим председателем. «Как и тогда, наш лозунг сегодня гласит: “Долой парламентаризм!”» Сам Гугенберг заявил об «убедительной победе» своей партии и заявил буквально следующее: «Черно-коричневое большинство в рейхстаге устранено. Тем самым создана важная предпосылка для проведения курса, который мы представляем как в народе, так и в парламенте… Борьба продолжается. Да здравствует Германия!» Национал-социалисты, в свою очередь, поставили в вину кабинету Папена успехи коммунистов. «Самым выдающимся достижением правительства “клуба господ“ стало то, что в течение нескольких месяцев они превратили коммунистов в партию, получившую 100 мандатов депутатов рейхстага», — писала «Фёлькишер Беобахтер». Гитлер выступил с собственным призывом, в котором ополчился против любого компромисса и соглашения с правительством, назвав безоговорочное продолжение борьбы лозунгом партии в настоящий момент. Геббельсовский «Ангрифф» считал «само собой разумеющимся требованием и этих выборов» то, что Гитлер должен стать рейхсканцлером. «Случится ли это на почве парламентского большинства, в форме президентского кабинета или в виде некого промежуточного образования между двумя первыми, это уже вопрос второстепенной важности». Центральный комитет КПГ вещал о нарастании революционного подъема и назвал победителями выборов коммунистов. Аналогичным образом положение вещей расценивала «Правда». КПГ является «главной партией пролетарской революции в Германии» и в этом качестве она выиграла выборы, писал 10 ноября центральный печатный орган ЦК ВКП(б). «Все большие массы трудящихся переходят в революционный лагерь. Богатырская сила революции растет. От сегодняшней экономической борьбы путь ведет ко все более мощному забастовочному движению целых отраслей промышленности и индустриальных областей, а от него — к массовой политической стачке и ко всеобщей политической забастовке под руководством коммунистической партии, к борьбе за диктатуру пролетариата». Рейхсканцлер выразил официальную позицию по результатам выборов в первый раз 8 ноября в своей речи перед Союзом иностранной прессы. В ней Папен говорил о «радующем росте понимания в отношении деятельности правительства» и выразил надежду, что после выборов наконец-то произойдет настоящая концентрация национальных сил. Дословно канцлер добавил следующее: «Персональные вопросы при этом — я всегда это подчеркивал — не играют ровно никакой роли»{579}. В правительстве, обсуждавшем 9 ноября сложившееся политическое положение, это замечание Папена встретило энергичные протесты со стороны фон Гайла. «Это высказывание трактуют как признак слабости, — сказал, согласно протоколу, министр внутренних дел. — Совершенно необходимо при первой же возможности публично заявить, что имперское правительство отнюдь не думает о том, чтобы очистить место для любого случайного правительства и тем самым снова открыть дорогу партийному хаосу… Рейхсканцлер не должен больше заявлять о том, что он готов уйти в отставку и его фигура не должна выступать помехой». Гайл рекомендовал провести переговоры с партиями, чтобы проверить, насколько велика возможность поддержки правительства с их стороны. «Если же эта цель окажется недостижимой, то выводы не вызывают сомнения. Возникает мысль о новом роспуске рейхстага, что будет означать ситуацию государственно-правового чрезвычайного положения. В этом случае диктатура становится на определенное время неизбежной». Тем самым план введения государственного чрезвычайного положения от 30 августа вновь оказался на повестке дня. Но министр внутренних дел отнюдь не получил неограниченную поддержку от своих коллег. Шлейхер был согласен с «конечным результатом», но не с «методами». Правительство Папена сначала должно было доказать общественности, что в данное время формирование правительства парламентского большинства невозможно. После проведения канцлером переговоров с партиями, в свою очередь, это должен был удостоверить рейхспрезидент. Если последует констатация такого рода, рейхстаг вообще не должен быть созван. К этому мнению примкнул также министр иностранных дел Нейрат. Министр финансов Крозиг, поддержанный новыми министрами Брахтом и Попитцем, выступал за вхождение национал-социалистов в правительство, в то время как министр юстиции Гюртнер настойчиво предостерегал от рисков нарушения конституции. В конце совещания Папен повторно выразил свою точку зрения, что концентрация национальных сил не должна потерпеть неудачу из-за персональных вопросов и что при известных обстоятельствах его отставка может облегчить достижение этой цели. Возможно, лучшим вариантом будет, заявил он, если рейхспрезидент лично проведет переговоры с Гитлером. Шлейхер еще раз подчеркнул необходимость того, чтобы выставить политические партии стороной, несущей ответственность за кризис. Для этого в переговоры с ними должен был сначала вступить рейхсканцлер, а вслед за ним и рейхспрезидент. Сам он также выражал готовность неформально вступить в контакт с Гитлером, но он был «твердо убежден в том, что национал-социалисты откажутся участвовать в правительстве». Предложение министра рейхсвера нашло поддержку у его коллег, равно как и утверждение канцлера, что ни он, ни имперское правительство не будут предлагать рейхспрезиденту свою отставку. Зато не получило поддержки кабинета предложение Папена продолжить работу над конституционной реформой. Так как четыре министра, и настойчивее всех Шлейхер, высказались за перенос соответствующих планов, 9 ноября 1932 г. стало датой завершения, по крайней мере временного, «конституционного» проекта. На следующий день Папен доложил рейхспрезиденту о результатах заседания правительства. Позиция Гинденбурга была обрисована в коммюнике для прессы следующим образом: президент «продолжает придерживаться идеи национальной концентрации, послужившей базисом для правительства Папена». Соответственно рейхспрезидент дал поручение рейхсканцлеру «установить в ходе переговоров с лидерами отдельных партий, которые можно принимать в расчет, готовы ли они, и если да, то насколько, поддержать правительство при осуществлении поставленных перед ним политических и экономических задач». Таким образом, позиция Гинденбурга была ясна: он хотел сохранить президентский кабинет и не думал о смене канцлера. Менее понятны были намерения Папена. Его заявления иностранной прессе и на заседании кабинета давали возможность прийти к выводу, что он искал соглашения с национал-социалистами и не исключал канцлерства Гитлера. Если была верна информация, которой Вильгельм Кеплер, возглавлявший кружок пронацистски настроенных промышленников, поделился 13 ноября с кельнским банкиром Куртом фон Шрёдером, то Папен за несколько дней до этого даже настоятельно заверил председателя наблюдательного совета сталелитейных заводов «Ильседер Хютте», Эвальда Хекера, что его добрая воля состоит в том, «чтобы дать согласие на формирование правительства во главе с Ги(тлером)». Согласно этому же источнику информации, Папен 11 ноября еще раз выразился в том же духе на встрече с Хекером, Ялмаром Шахтом, к тому времени окончательно перешедшим в лагерь национал-социалистов, а также с личным доверенным лицом Гитлера — Генрихом Гиммлером. От Хекера Папен также узнал, что в скором времени от лица значительной части представителей промышленности, банков и сельского хозяйства в прошении на имя Гинденбурга будет выдвинуто требование передачи канцлерства Гитлеру. 19 ноября такое письмо действительно было передано Гинденбургу. Его отправители отдавали должное «смелой воле» правящего кабинета, но тем не менее полагали, что это правительство не получило в ходе выборов 6 ноября 1932 г. достаточно широкой поддержки в немецком народе. Самое важное положение гласило: «Передача президентским кабинетом, снабженным лучшими деловыми и персональными силами, ответственного руководства страной фюреру самой большой части нации приведет к тому, что будут устранены ошибки и слабости, свойственные любому массовому движению, и миллионы людей, сегодня безучастно находящиеся в стороне, превратятся в приветствующую его силу». В конце документа стояли 20 подписей, среди них восемь принадлежали членам «кружка Кеплера», в том числе Шахту, Курту фон Шрёдеру и Хекеру. Большинство подписавшихся составляли предприниматели средней руки, банкиры и землевладельцы. Подписали письмо также исполняющий обязанности президента Ландбунда граф Эберхард фон Калкрейт и Фриц Тиссен, давно ставший приверженцем национал-социалистов. Наряду с владельцем калийных рудников Августом Ростергом Тиссен был единственным крупным промышленником, который подписался под письмом в поддержку Гитлера. Альберт Фёглер, генеральный директор «Объединенных сталелитейных заводов», который сам не подписал письмо, сообщил Шрёдеру 21 ноября, что два других предпринимателя от тяжелой промышленности, председатель наблюдательного совета «Гутерхофнунгсхютте» Пауль Рейш и генеральный директор фирмы «Хёш» Фриц Шпрингорум, «полностью разделяют изложенную в письме точку зрения и только так видят действенное разрешение сегодняшнего кризиса». Но подписать письмо они не пожелали, т. к. опасались, что подобного рода политическая позиция слишком четко продемонстрирует очевидные противоречия внутри самой промышленности Рура. Таким образом, письмо к Гинденбургу не выражало совокупного мнения крупной промышленности. Но, с другой стороны, также не было сомнений в том, что правительство Папена после 6 ноября больше не пользуется общей, почти единодушной поддержкой «экономики», как это было в сентябре и октябре. Для промышленников, которые большую часть своих «политических» средств спонсировали ДФП и ДНФП, т. е. партиям правительственного лагеря, результаты выборов были просто удручающими. Особенно тревожным был прирост голосов, поданных за КПГ, что Гитлер, не без основания, ставил в вину кабинету Папена. Министр финансов фон Крозиг выражал широко распространенное мнение, обосновывая свою позицию в поддержку участия НСДАП в правительстве тем, что в противном случае большая часть национал-социалистов, «включая молодежь», перейдет в коммунистический лагерь. Эта боязнь стала подоплекой изменения настроений в рядах промышленников в пользу Гитлера после выборов в рейхстаг. У одного из наблюдателей, присутствовавших на конференции «Лангнам Ферейн», состоявшейся в Дюссельдорфе в конце ноября, даже сложилось впечатление, без сомнения преувеличенное, что «почти вся индустрия желает призвания Гитлера, и неважно на каких условиях»{580}. У веймарских партий после 6 ноября начался новый, почти отчаянный поиск выхода из государственного кризиса. Центр и Баварская народная партия не хотели расставаться с надеждой образовать коалицию с национал-социалистами — союз, который, разумеется, потребовал бы дополнительных партнеров из числа мелких партий, принимая во внимание соотношение мест в рейхстаге. 14 ноября депутат от Центра Йозеф Вирт в своем письме председателю фракции СДПГ Рудольфу Брейтшейду попытался добиться от него понимания дилеммы, перед которой оказалась католическая партия: «Центр предпринимает попытку возложить на национал-социалистов практическую ответственность за судьбы рейха. Очевидно, мы оба придерживаемся мнения, что эта попытка заключает в себе большой риск. Но я повторно заявляю, что если не пойти на этот риск, то все идет к устранению рейхстага и ликвидации прав народа. Ради демократии партия Центра участвует в этом предприятии». Вирт адресовал призыв к СДПГ в качестве «конструктивной оппозиции» дать шанс «правительству в составе Центра + НСДАП + X + У», отправив чрезвычайные постановления сначала на проверку в один из комитетов рейхстага и срывая вынесение вотумов недоверия правительству, воздерживаясь от голосования. Только таким образом можно было, по его мысли, положить предел «разрушительной работе Гугенберга, направленной против немецкой демократии», и сохранить последнюю «в ее сущностных чертах». Социал-демократия должна была прийти к тому, чтобы прежде всего дать «народному представительству передышку, а лучше сказать — дать возможность выжить. Какое значение имеет партия, какое значение имеет политическое развитие, если народное представительство само себя, так сказать, отлучает от партийного принципа, который я не хочу поносить и не хочу недооценивать?»{581} Социал-демократы, в свою очередь, испытывали перед скорым роспуском парламента по крайней мере такой же страх, как и Центр. Боязнь того, что в ходе следующих зимних выборов КПГ сможет превзойти СДПГ, заставляла партийное руководство искать возможность не делать очевидные вещи, а именно не выносить на голосование депутатов предложение вотума недоверия правительству непосредственно сразу же после созыва рейхстага или не поддерживать аналогичное предложение, сделанное другой партией. Для достижения этой цели Веле предложил 10 ноября на заседании партийного комитета следующую тактику, которая, по его словам, была предложена Центром: СДПГ сначала должна была внести законопроект вводного закона[68] о применении статьи 48 конституции, целью которого являлось ограничение властных полномочий президентского правительства. Вовремя трех чтений этого законопроекта правительство не могло быть свергнуто со своего поста. Веле не назвал автора этой идеи: им был Генрих Брюнинг, с которым он встречался днем ранее для обмена мнениями. Предложение Велса было встречено с одобрением. Гильфердинг, который уже в конце августа выступал за то, чтобы признать кабинет Папена «меньшим злом», дать ему возможность функционировать дальше и не делать за Гитлера его работу, свергая Папена, призывал теперь свою партию к тому, чтобы «создать в рейхстаге настоящий боевой фронт для следующих выборов» и задавался риторическим вопросом: «Что мы скажем избирателям, если и этот парламент снова сойдет в могилу?» Северинг полагал, что если социал-демократы хотят поддержать парламентаризм, то они не должны впадать в грех коммунистов и «разгонять парламент прежде, чем он начнет свою работу». Аргументы Брейтшейда были аналогичными: «Если Папен тотчас же распустит рейхстаг, у нас снова не будет возможности взять слово… Мы должны, не способствуя складыванию любой коалиции между Центром и Папеном, открыто выразить все, что у нас есть на сердце». «Форвартс» объявила на следующий день, 11 ноября, о намерении внести законопроект вводного закона к статье 48 и оправдывала отказ от незамедлительного свержения «кабинета баронов» следующим предложением: «Самый сильный удар по правительству Папена… будет нанесен в рейхстаге посредством критики его политики, богатой только неудачами». Но самая сильная демократическая партия не указала тем самым выхода из немецкого государственного кризиса. Тактика СДПГ могла увенчаться внешним успехом только в случае, если бы, во-первых, участие в игре приняла НСДАП и не голосовала бы за предложения коммунистов о вынесении вотума недоверия правительству, и, во-вторых, если бы правительство не отвечало на решения парламента, направленные против его политики, роспуском рейхстага. Первое было столь же невероятным, как и второе. Социал-демократы предались иллюзии, когда они поверили в то, что с таким рейхстагом, сформированным в результате выборов 6 ноября, можно спасти парламентскую демократию{582}. Партии политического католицизма питали иллюзию иного рода. Они все еще делали ставку на то, чтобы укротить национал-социалистов за счет их участия в правительстве. Первый зондаж позиций партий был предпринят в ходе переговоров, которые Папен 16 ноября провел с председателем Центра прелатом Каасом и депутатом рейхстага Иоосом: оба «центриста» потребовали отставки правительства и непосредственных переговоров между рейхспрезидентом и партиями. В публичном заявлении, тогда же переданном ими канцлеру, партия Центра высказалась за «объединение политических сил в мощную ассоциацию сотрудничества и взаимопомощи», что можно было трактовать только как перифразу коалиции с национал-социалистами. Председатель БФП Фриц Шеффер выразился яснее: в тот же день в разговоре с канцлером он назвал необходимым «подвигнуть национал-социалистическую партию к участию в правительстве, пойдя даже на такую жертву, как назначение Гитлера рейхсканцлером». Две партии отказали канцлеру в беседе, о которой он просил. Правление социал-демократической фракции в рейхстаге отклонило поступившее приглашение в резкой форме. Все поведение Палена делало его для социал-демократов неприемлемым партнером по переговорам, — так говорилось в заявлении от 15 ноября, завершавшемся требованием отставки правительства. Гитлер был вежливее. В обстоятельном письме рейхсканцлеру от 16 ноября он изложил следующее: на основании печального опыта, полученного им 13 августа, он теперь готов обмениваться мнениями только в письменной форме. Что же касается прежних мероприятий правительства, то фюрер НСДАП отметил, что он рассматривает их «частично недостаточными, частично полностью негодными, даже опасными». Гитлер категорически исключил возможность поддержки со стороны его партии продолжения этой политики. Итог предпринятых канцлером усилий кабинет подвел 17 ноября. Сам Папен пришел к выводу, что «достижение национальной концентрации» невозможно при его канцлерстве и рекомендовал предложить рейхспрезиденту отставку всего правительства. Шлейхер поддержал это предложение, особенно указав на то, что без предложения подать в отставку переговоры рейхспрезидента с партиями, которые должны были вскоре последовать, будут восприняты как театральный трюк. Остальные министры также высказались за отставку, при этом фон Гайл согласился с оговоркой, согласно которой кабинет должен был оставаться на своем посту в качестве управляющего делами. Гинденбург принял отставку правительства в тот же день, но полностью в соответствии с предложением фон Гайла попросил правительство временно продолжать исполнять свои обязанности{583}. Новость об отставке правительства Папена была воспринята почти всеми политическими лагерями с глубоким удовлетворением. «Кабинет баронов» своей политикой настроил против себя народные массы в такой степени, что многим в какой-то момент даже показалось, что ситуация теперь может только улучшаться. Но каким образом преодолеть государственный кризис, 17 ноября было также неясно, как и неделями ранее. 18 ноября Гинденбург начал свои встречи с лидерами партий. Коммунисты в любом случае были исключены из списка, но в этот раз к ним добавились еще и социал-демократы: рейхспрезидент таким образом рассчитался с ними за нелицеприятный отказ Папену. Его первый собеседник, председатель партии немецких националистов Гугенберг, активно выступал за «надпартийное президентское правительство» и предостерегал, что от Гитлера можно ожидать любых сюрпризов. Подобным же образом, хотя и не так решительно, аргументировал свою позицию лидер ДФПДингельдей. Каас и Шеффер, напротив, вновь выступили за вхождение национал-социалистов в правительство, причем председатель БФП оценивал «характер и личность Гитлера как не самые худшие», но одновременно указывал на то, что из-за влечения окружения фюрера к диктатуре, в возглавляемое Гитлером правительство должны быть встроены «противовесы» и включены «сильные личности». Самые важные переговоры рейхспрезидент провел с Гитлером. Во время первой встречи 19 ноября фюрер НСДАП предупредил, что, если его партия пойдет ко дну, тогда «Германия подвергнется еще большей опасности, т. к. в ней тогда будет насчитываться 18 миллионов марксистов, в том числе возможно от 14 до 15 миллионов коммунистов. Таким образом, если сегодня мое движение будет сохранено, то это будет полностью в интересах отечества. Предпосылкой этого будет передача руководства моему движению». По словам Гитлера, для его движения речь шла не о власти, а только о руководстве. Конечно же, можно какое-то время авторитарно править с помощью президентского кабинета. «Но долго это не продлится, еще до февраля может разразиться революция, и тогда Германия прекратит свое существование в качестве внешнеполитического фактора силы», — заявил фюрер. На вопрос Гинденбурга, намеревается ли Гитлер вести переговоры с другими партиями по поводу конструктивной программы сотрудничества, он ответил, что сделает это только в том случае, если получит от рейхспрезидента поручение сформировать правительство: «Я верю, что я найду фундамент, на основании которого я и новое правительство сможем добиться от рейхстага принятия закона о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству. Подобные полномочия никто не сможет получить от рейхстага, только я. Тем самым проблема будет разрешена». Когда Гитлер 21 ноября отправлялся на очередной прием к Гинденбургу, он уже знал из сообщений прессы и от статс-секретаря Мейснера, что предложит ему рейхспрезидент: предпринять попытку в течение трех дней организовать правительство парламентского большинства. Но у Гитлера были неважные шансы заполучить большинство в рейхстаге. Гугенберг наотрез отказался поддерживать кабинет Гитлера, а Центр был готов предоставить национал-социалистам либо пост канцлера, либо пост министра-президента Пруссии, но не обе эти должности одновременно. Гитлер, в свою очередь, потребовал полномочий в соответствии со статьей 48, т. е. права возглавить президентский кабинет, на что не дал своего согласия Гинденбург. Вместо этого глава государства заявил, несомненно, противореча статье 53 конституции, согласно которой сам рейхсканцлер и предложенные рейхсканцлером министры назначаются и увольняются рейхспрезидентом, что он, Гинденбург, оставляет за собой право решить вопрос о назначении министров иностранных дел и рейхсвера в возглавляемом Гитлером правительстве парламентского большинства. Последовавший вслед за этим обмен письмами между Гитлером и статс-секретарем Мейснером только подтвердил то, что и так было уже ясно после 21 ноября: Гинденбург не был готов предоставить Гитлеру полномочия канцлера президентского правительства. Более того, если бы Гитлер смог заручиться поддержкой парламентского большинства, то и в этом случае он должен был бы обладать меньшими полномочиями, чем среднестатистический рейхсканцлер согласно конституции. Что Гитлер не пойдет на такие условия, было ясно с самого начала, и именно таким был план советников рейхспрезидента. 24 ноября Гинденбург передал Гитлеру через Мейснера письменное послание, которое тотчас же было также разослано прессе. В своей сути оно ничем не отличалось от заявления рейхспрезидента 13 августа: Гинденбург полагал, что он «не может перед лицом немецкого народа вручить президентские полномочия вождю одной отдельной партии, которая постоянно подчеркивает свою исключительность и которая отрицательно настроена как по отношению к нему лично, так и по отношению к тем политическим и экономическим мероприятиям, которые он считает необходимыми. При таких обстоятельствах господин рейхспрезидент выражает опасение, что возглавляемый Вами президентский кабинет неизбежно эволюционирует в сторону партийной диктатуры со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде чрезвычайного обострения противоречий внутри немецкого народа, чего он не может допустить в силу принесенной им присяги и перед лицом собственной совести»{584}. Последняя попытка образовать правительство парламентского большинства с самого начала не имела перспективы и была предпринята, очевидно, только потому, что окружение Гинденбурга считало необходимым еще раз наглядно продемонстрировать общественности неизбежность «президентского» решения вопроса. 24 ноября рейхспрезидент поручил прелату Каасу в ходе переговоров с партиями выяснить возможность парламентского разрешения кризиса. Днем позже Каас был вынужден констатировать отрицательный результат. Председатель партии Центра сообщил рейхспрезиденту, что свою готовность принять участие в консультациях о программе действий будущего правительства выразили Дингельдей и Шеффер, но не Гитлер и Гугенберг. Исходя из этого Каас делал вывод, что теперь единственным выходом является назначение президентского кабинета, опирающегося на статью 48 конституции, менее поляризирован-ного, чем кабинет Папена. И хотя у такого правительства не будет поддержки парламентского большинства, оно получит существенно большую опору в рейхстаге. 25 ноября 1932 г. кабинет обсудил политическое положение. Вначале Шлейхер сообщил о беседе, которую он двумя днями ранее провел с Гитлером. Согласно Шлейхеру, фюрер НСДАП дал ясные ответы на точные вопросы министра рейхсвера: Гитлер не был готов вступить в новое правительство, главой которого будет уже не Папен; он принял решение вести борьбу с потенциальным правительством, возглавляемым Шлейхером; он не даст своего разрешения ни одному национал-социалисту занять министерский пост в правительстве рейха. Отсюда Шлейхер сделал вывод, что смена канцлера не принесет выигрыша. Папен, в свою очередь, воспроизвел точку зрения Гинденбурга. Рейхспрезидент был полон решимости не назначать Гитлера главой президентского правительства и «предпринять для этого все необходимые меры». Это могло означать только то, что Гинденбург, как и прежде, думал о том, чтобы в случае очередного роспуска рейхстага отложить проведение новых выборов, т. е. нарушить установленный конституцией срок в 60 дней. Рейхспрезидент желал, чтобы правительство еще больше, чем прежде, занималось решением проблемы безработицы и голода, особенно в том случае, если будет необходимо распустить рейхстаг. «После роспуска рейхстага господин рейхспрезидент также не намерен предпринимать какие-либо изменения в конституции. Во время отсутствия парламента он больше, чем когда-либо, чувствует себя гарантом конституции», — заявил Папен. Управляющее делами правительство рейха со своей стороны не было 25 ноября настроено столь боевито, как рейхспрезидент. Министр продовольствия фон Браун полагал, ссылаясь на разговор, состоявшийся днем ранее между Гитлером и Гугенбергом, что возможно восстановление «Гарцбургского фронта», и, вполне вероятно, в результате именно он послужит опорой для нового правительства. Министр финансов фон Крозиг предостерегал от ситуации, в которой правительству придется отдать приказ стрелять в «национальную молодежь». Имперский кабинет, заручившийся широкой поддержкой, имеет больше шансов избежать такой опасности. Вопрос Папена, должен ли он остаться канцлером, не получил однозначного ответа. И все же большинство министров склонялось к точке зрения министра рейхсвера, что смена канцлера не дает оснований рассчитывать на поворот к лучшему. Шлейхер обосновывал это также тем, что теперь следует считаться с возможностью введения военного положения. В таком случае внимание общественности будет направлено на министра рейхсвера как на лицо, обладающее исполнительной властью, и таким образом будет отвлечено от персоны канцлера, «который уже и так подвергся суровым нападкам». Потом Шлейхер заверил, что в министерстве рейхсвера больше не испытывают воодушевления в отношении Гитлера: «Все вопросы, касающиеся военного положения, будут сегодня, 25 ноября, и завтра подвергнуты самой тщательной проверке. Не надо опасаться, что здесь что-то пойдет не так». Кажется сомнительным, что к этому моменту Шлейхер все еще намеревался поддержать Папена и исключал свое собственное канцлерство. Указание Шлейхера на непопулярность Папена, скорее, говорит об обратном. Но и сам Папен ни в коем случае не горел желанием сражаться за свой пост. На него произвело большое впечатление, когда 26 ноября фон Крозиг в беседе с ним один на один вновь предупредил его о кровопролитных беспорядках, которые могут случиться, если Папен останется канцлером. Во время беседы с Гинденбургом, состоявшейся в тот же день с участием министра рейхсвера, исполняющий обязанности канцлера просил рейхспрезидента не поручать ему формирование нового правительства. Когда Гинденбург все же стал настаивать на канцлерстве Папена, министр рейхсвера, согласно его же собственному сообщению, дал совет «перед лицом всеобщей сильной оппозиции к Папену, которая также очень распространена среди промышленников Рура, предварительно прозондировать атмосферу». Рейхспрезидент, у которого не было аргументов против, предоставил Шлейхеру полную свободу в том, что касалось сроков зондажа и возможных партнеров по переговорам. Министр рейхсвера тотчас же договорился о времени проведения первых переговоров. После выходных, с 26 на 27 ноября, он поочередно встречался с Дингельдеем, Гугенбергом, Каасом и Герингом. В ходе встреч два председателя партий, а именно Дингельдей и Каас, заявили ему, что они куда охотнее, чем Папена, видели бы во главе нового президентского правительства его, Шлейхера. 28 ноября Шлейхер встретился с руководством Свободных профсоюзов и СДПГ. Министр рейхсвера задал вопрос председателю АДГБ Теодору Лейпарту и его заместителю Вильгельму Эггерту, будут ли они согласны с тем, что пост министра труда займет Штегервальд, на что Лейпарт уклончиво ответил, что пока неизвестно, в какой кампании окажется новый министр. Обе стороны пришли к согласию, что работа по созданию дополнительных рабочих мест займет приоритетное место в деятельности правительства. От своего имени Шлейхер пообещал отменить декрет от 5 сентября, который разрешал предпринимателям понижать уровень заработной платы, предусмотренной тарифными соглашениями. В ответ на замечание рейхсминистра о том, что Гинденбург в настоящее время взвешивает возможность убрать Папена и вручить бразды канцлерства ему, Шлейхеру, Лейпарт ответил призывом, который едва ли мог быть сформулирован более однозначно: «Если ситуация и в самом деле выглядит таким образом, то я считаю своим долгом просить Вас принять это предложение». Конкретные пожелания АДГБ, в том числе касательно принятия закона о введении 40-часовой рабочей недели, Лейпарт по просьбе Шлейхера изложил на следующий день в письменной форме. После этого министр рейхсвера мог быть уверен, что его намерение заключить «перемирие вплоть до будущего года» встретило у Свободных профсоюзов благожелательное отношение. Совершенно иначе протекала встреча Шлейхера с председателем фракции СДПГ в рейхстаге Рудольфом Брейтшейдом, которая последовала непосредственно вслед за переговорами с Лейпартом и Эггертом. Согласно подробной записи, надиктованной Брейтшейдом в тот же день, Шлейхер с самого начала дистанцировался от «конституционной чепухи», ответственность за которую он возложил на Гайла и которую охарактеризовал как «ненужную» и «опасную». После этого он поставил Брейтшейду вопрос, существует ли хоть какая-то возможность наладить функционирование рейхстага: «Конечно же, он в курсе, что любая форма политики “толерантности” для социал-демократии немыслима, как бы ни выглядело новое правительство. Однако разве нет возможности воспрепятствовать тому, чтобы рейхстаг был снова распущен в первый же день?» Брейтшейд, в свою очередь, заявил, что этот вопрос следует сначала задать партиям правых и Центру. Для СДПГ также будет существенно лучше, если станут возможными по крайней мере парламентские дебаты. Шлейхер в ответ пожаловался на неуступчивость Гугенберга, попытавшись еще на один шаг продвинуться вперед на своем пути заигрывания с социал-демократией: «Разве у нас нет возможности, если откажутся немецкие националисты, позаботиться о том, чтобы голосование по предложению о вынесении вотума недоверия было отложено на некоторое время. В таком случае правительство сможет начать действовать. Я ответил ему, что, конечно же, добиться этого будет еще сложнее, чем просто дать возможность рейхстагу приступить к работе». Если же канцлерство вновь будет возложено на Папена, то для СДПГ будет исключена даже помощь при «запуске» рейхстага — заявление, которое вновь подвигло Шлейхера, как и в разговоре с Лейпартом, пообещать отменить декрет от 5 сентября. После этого министр рейхсвера перешел к главному пункту: «Если правительство будет низложено, то власти не остается ничего другого, как новый роспуск парламента, в котором никто не заинтересован. Какой будет реакция социал-демократов, если рейхспрезидент заявит о том, что новые выборы будут назначены на весну, и одновременно гарантирует, что за это время не будут предприниматься какие-либо эксперименты с конституцией и т. д.? Отправятся ли тогда социал-демократы тотчас же на баррикады?» Ответ Брейтшейда на главный политический вопрос оставлял многое открытым, но едва ли мог ободрить Шлейхера: «Я сказал ему, что я не хотел бы выбирать вариант с “баррикадой”, но я должен заявить ему, что социал-демократия воспротивится всеми имеющимися у нее силами такому нарушению конституции. При таких обстоятельствах, — как полагал Шлейхер, — будущее выглядело отнюдь не радужным». Не произошло сближения позиций и по вопросу рабочей занятости. Председатель фракции СДПГ заговорил об информации, согласно которой правительство хотело назначить на пост рейхскомиссара по вопросам рабочей занятости Гюнтера Тереке. Это намерение встретило у социал-демократов сильный отпор, поскольку они, равно как и президент рейхсбанка Лютер, расценивали план Тереке как инфляционную программу. В ходе обсуждения заключительного вопроса — проблемы Пруссии — Шлейхер пообещал провести переговоры с Отто Брауном на предмет: «не существует ли возможность добиться удовлетворительного решения имеющихся трудностей». После полуторачасовой беседы Брейтшейд покинул министерство рейхсвера в убеждении, «что Шлейхер возьмет на себя формирование правительства, если альтернатива будет гласить: Папен или он. Хотя он и говорит, что сделает это без всякого желания и только в самом худшем случае возглавит правительство на пару месяцев, стремясь избежать даже маломальского впечатления воцарения военщины, я убежден, что при условии предварительного согласия Гинденбурга, он встанет во главе правительства»{585}. «Форвартс», вышедшая на следующий день, 29 ноября, выбрала для оценки ситуации гораздо более резкий тон, чем Брейтшейд. Шлейхер, который был не только министром рейхсвера в правительстве Папена, но и его ведущей фигурой, не может «ожидать от социал-демократии, по справедливости, даже намека на доверие». Для СДПГ вопрос участия в «политическом перемирии» не стоит. Но уже вечером все того же дня партийный орган социал-демократов заговорил более умеренным тоном. Между тем в Берлине стали циркулировать слухи о том, что канцлером вновь станет Папен, которому будет поручено сформировать правительство для борьбы с рейхстагом. «Форвартс» отреагировала на это заявлением, что канцлер, которого не будут звать «Папен», конечно же, должен считаться с оппозицией социал-демократической партии, и эта оппозиция будет тем острее, чем больше склонности новый глава правительства будет проявлять к продолжению курса Папена: «Однако оппозиция является нормальной функцией политической жизни, а политические противоречия не являются опасностью для существования нации. Опасными они становятся только в том случае, если безответственная политика придает им такую остроту, которая делает взрыв неминуемым». Тем самым Шлейхеру дали понять, хотя и в завуалированном виде, что в сравнении с Папеном он воспринимается социал-демократией меньшим злом. Центральный орган СДПГ так настойчиво выступал против образования «боевого правительства» во главе с Папеном, что его заявления звучали как ультиматум: «Папен — это значит война! У рейхспрезидента нет права объявлять войну собственному народу!» В Берлине известие, что фон Папен вновь получит поручение сформировать правительство, вызвало бурю страстных протестов. «Со всех предприятий раздавались телефонные звонки, в которых сообщалось, что эта новость, которая тотчас же разнеслась по фабрикам и заводам, вызвала невероятное возбуждение среди рабочего класса. Со всех сторон нас заверяют, что данное Папену повторное поручение возглавить правительство будет воспринято рабочими как тяжелейшая провокация». В свою очередь, массированная полемика против Шлейхера, хотя и несколько смягченная 29 ноября, вытекала из озабоченности СДПГ тем, что даже призрак новой «политики толерантности» поставит партию под беспримерный ураган критики со стороны коммунистов, а также заставит ее пройти пробу на внутреннюю прочность. Однако «более демократичное» решение, чем президентский кабинет Шлейхера, не предвиделось, а отсрочка новых выборов могла очень скоро стать последней альтернативой к взятию власти Гитлером. Заверения Шлейхера в том, что время роспуска парламента не будет использовано для проведения авторитарной конституционной реформы, могли бы стать тем мостом, который соединил бы генерала и партии, стоявшие на базе Веймарской конституции. Но СДПГ не захотела вступить на этот мост. Социал-демократы, равно как и Партия Центра, противопоставляли ultima ratio надзаконного чрезвычайного государственного положения конституционный позитивизм, который продемонстрировал свою несостоятельность уже в результате первых выборов в рейхстаг 1932 г. Так как большинство избирателей проголосовали против Веймарской конституции, то верность ее букве больше не могла выступать средством к спасению ее правового ядра. За бескомпромиссным «нет» в отношении провозглашения чрезвычайного государственного положения не стояла какая-либо стратегическая концепция, только тактический расчет, а вместе с ним и неспособность осознать реальную опасность. В рядах руководства Свободных профсоюзов отказ социал-демократов от поддержки «президентского» канцлерства Шлейхера был воспринят с озабоченностью. Федеральное правления АДГБ, несмотря на все имевшиеся сомнения в отношении «добросовестности» Шлейхера, пришло 29 ноября к решению, что «профсоюзы не должны исключать сами себя из политики». И хотя СДПГ оказалась теперь в чрезвычайно тяжелой ситуации, «тем не менее принципиальная борьба против любого вида президентского правительства кажется сомнительной. Партия должна поразмыслить над тем, что случится после того, как выяснится отсутствие возможности сформировать правительство парламентского большинства. Оппозиция любой ценой означает добровольную ликвидацию нашего влияния»{586}. Для внимательного наблюдателя противоречия между АДГБ и СДПГ отнюдь не были сюрпризом. 14 октября Лейпарт выступил в федеральной школе своего союза в Бернау с речью на тему «Культурные задачи профсоюзов», в которой демонстративно попытался освободиться от «партийных оков». «Ни один социальный слой не может избежать национального развития», — гласило одно из ключевых предложений его речи. Профсоюзы должны были, согласно воззрениям их председателя, организовывать рабочих, чтобы «разбудить в них чувство общности и воспитывать дух товарищества», — профсоюзы находятся «на службе у народа» и ведут свою «социальную борьбу в интересах нации»; как социалисты, они тем не менее не лишены «религиозного чувства», и даже более — им знаком «солдатский дух единения и готовности нести жертвы ради общего дела». В своем выступлении Лейпарт не процитировал напрямую опубликованную незадолго до того книгу Эрнста Юнгера «Рабочий. Власть и образ». Однако совершенно очевидно, что автор речи в Бернау — Лотар Эрдман, редактор профсоюзного ежемесячника «Ди Арбайт», отдал дань новейшему произведению самого значительного автора немецких правых: рабочий, как солдат труда, который в отличие от либералов служит всей нации, не имел ничего общего с классово сознательным пролетарием, зато очень много общего — с образом, нарисованным Юнгером. То, что большие куски из речи Лейпарта первой среди ежедневных газет опубликовала именно «Теглихе Рундшау», руководство которой при финансовой поддержке министерства рейхсвера перешло в августе 1932 г. к кружку деятелей под руководством Ганса Церера, и которая с тех пор, хотя и не всегда справедливо, считалась рупором идей Шлейхера, было далеко не случайным. Еще более сенсационным было одобрение, высказанное национал-социалистом Грегором Штрассером в адрес социал-демократа Теодора Лейпарта. Руководитель политической организации НСДАП заявил 20 октября, выступая в Берлинском дворце спорта, что в речи Лейпарта присутствуют предложения, «которые открывают в будущем широкие перспективы, конечно, если они высказаны не кривя душой». По сообщению «Теглихе Рундшау», Штрассер призвал профсоюзы, «полностью признавая их профессиональную необходимость, сделать выводы из заявления их председателя и продемонстрировать всем свой партийно-политический нейтралитет, порвав с партией “Хайльмана и Гильфердинга” — СДПГ, возглавляемой интернационально настроенной интеллектуальной группой». Председатель ДДГБ тотчас же опроверг сообщения в прессе, согласно которым образовалось нечто вроде единого фронта Шлейхера— Лейпарта — Штрассера, что означало бы тем самым создание пропагандируемой кружком Церера новой оси немецкой политики. Но подобные спекуляции вызывала речь в Бернау: Лейпарт, заявив о своей приверженности национализму, дал сигнал политическому лагерю правых, который был соответствующим образом им воспринят. Отмежевание от СДПГ было намеренным и родилось не в данный момент: самое позднее с момента выборов в рейхстаг 31 июля 1932 г. Лейпарт и его самое ближнее окружение готовились к ситуации, в которой тесная привязанность к СДПГ стала бы скорее помехой{587}. В конце ноября усилия по созданию «поперечного фронта», объединяющего политические силы от профсоюзов до национал-социалистов, вступили в новую стадию. Но Шлейхер мог записать на свой счет только определенные успехи, достигнутые у профсоюзов и центристских партий. От Гитлера, напротив, министр рейхсвера получил 30 ноября отказ. Первоначально Гитлер действительно хотел приехать в этот день в столицу рейха для проведения переговоров со Шлейхером. Но в последний момент он решил иначе, высадился в Йене из ночного поезда Мюнхен — Берлин и отправился в Веймар, чтобы принять участие в муниципальных выборах и выборах в крайстаг в Тюрингии. Грегор Штрассер, поспешивший из Берлина в Веймар, чтобы убедить Гитлера заключить сделку со Шлейхером, не смог изменить решения фюрера. Неудача также постигла оберлейтенанта Отта из министерства рейхсвера, который 30 ноября в Веймаре предложил Гитлеру пост вице-канцлера в правительстве Шлейхера. В этот же день Гитлер отклонил переданное по телефону предложение статс-секретаря Мейснера встретиться на следующий день в Берлине с рейхспрезидентом. Гитлер знал, что Гинденбург все еще не был готов назначить его рейхсканцлером. Так как фюрер не желал никакой иной формы своего участия во власти, кроме рейхсканцлерства, то очередной разговор с рейхспрезидентом, по его мнению, не только не имел никакого смысла, но и был опасен: Гитлер боялся, что после аудиенции у рейхспрезидента его в очередной раз ошельмуют перед общественностью, как это уже случилось 13 августа 1932 г. и в менее болезненной форме 24 ноября 1932 г. В этой ситуации встреча со Шлейхером также не сулила Гитлеру никакой выгоды. Не стоило ожидать, что Шлейхер сможет преодолеть вето Гинденбурга, наложенное на канцлерские амбиции Гитлера, даже если это будет отвечать его намерениям. При таких обстоятельствах вождю НСДАП казалось самым разумным в настоящий момент повернуться спиной к власть имущим в Берлине. Остается неизвестным, рассматривал ли Шлейхер в последние дни ноября все еще возможной договоренность с Гитлером. Характеристика ситуации, с которой он выступил 25 ноября перед членами правительства, свидетельствует против этого предположения. Однако 1 декабря 1932 г. Шлейхер заявил уполномоченному представителю Баварии, министериальдиректору Шперру, что «решение об его канцлерстве зависит не столько от него самого, а в большей степени от того, удастся ли каким-либо способом усмирить и утихомирить национал-социалистов». Это заявление прозвучало так, как будто министр рейхсвера все же надеялся на примирение со стороны Гитлера. Но если бы НСДАП приняла участие в правительстве Шлейхера, то тогда неудачей закончилось бы обеспечение безопасности левого фланга нового кабинета. Министры — национал-социалисты встретили бы решительную оппозицию со стороны социал-демократов и, несмотря на разногласия между СДПГ и АДГБ, также и со стороны свободных профсоюзов. В результате поляризация политических сил, которую Шлейхер стремился локализовать, стала бы еще сильнее, чем прежде. Альтернативой сделке с НСДАП как с неделимым целым, пусть даже только в форме временного перемирия, был для Шлейхера пакт с Грегором Штрассером. Если бы Штрассер начал действовать на свой собственный страх и риск и переманил бы значительную часть национал-социалистов в правительственный лагерь, то это открыло бы совершено новые перспективы и изменило немецкую внутреннюю политику практически революционным образом. Но до поры до времени эта конструкция была откровенной спекуляцией. Шлейхер сам, выступая 9 ноября перед правительством, заявил, что он не верит, что в данный момент какая-нибудь значительная фигура из окружения Гитлера будет готова пойти наперекор своему лидеру по такому принципиальному вопросу, как участие в правительстве. Три недели спустя также не наблюдалось признаков того, что Штрассер готов начать борьбу против политики Гитлера «все или ничего». Руководитель политической организации НСДАП знал лучше, чем кто-либо другой, печальное состояние партийных финансов, и если кто среди ведущих национал-социалистов и располагал, помимо Гитлера, широкой поддержкой в среде «старых товарищей», то это был именно он. Но Штрассер до сего момента постоянно избегал прямой пробы сил с Гитлером, что делало партийный раскол скорее невозможным{588}. До 30 ноября 1932 г. министр рейхсвера не добился прорыва своим политическим зондажом: парламентское большинство для поддержки возглавляемого им кабинета не вырисовывалось. Однако Шлейхер знал, что по сравнению с Папеном все, включая рабочий класс, расценивали его как меньшее зло. В деле создания дополнительных рабочих мест, которому он с полным правом придавал решающее значение, Шлейхер мог рассчитывать на сотрудничество с Христианскими и Свободными профсоюзами; отмена декрета о тарифах от 5 сентября 1932 г. должна была произвести впечатление на социал-демократов, которые уже спустя неделю после его обнародования подали запрос в министерство внутренних дел рейха о проведении народной инициативы с целью его отмены. Ко всему этому следовало добавить ставшие тем временем почти доверительными отношения с руководством «Рейхсбаннера Шварц-Рот-Гольд». У Центра и у других умеренных партий Шлейхер и без того никогда не вызывал такой антипатии, как Папен, и то же самое утверждение справедливо в отношении правительств южных федеральных земель Германии. Шлейхер мог также надеяться на изменение в свою пользу настроений индустрии, подозревавшей генерала в склонности к государственному социализму, выбор которой колебался в ноября 1932 г. между Папеном и Гитлером. Для этого, в принципе, ему необходимо было только создать впечатление, что он, Шлейхер, гораздо лучше, чем исполняющий обязанности канцлера Папен или Гитлер, способен добиться политического спокойствия, имевшего первостепенное значение для предпринимателей. Таким образом, общественная и политическая поддержка у Шлейхера была гораздо шире, чем у Папена. Это могло бы иметь решающее значение, если бы генералу пришлось отправлять власть в продолжительный период отсутствия парламента в условиях военного положения. В конце ноября 1932 г. Шлейхер отличался от исполняющего обязанности канцлера не столько тем, что он исключал введение в стране чрезвычайного положения, сколько тем, что он более реалистично, чем Папен, видел риски хотя бы и завуалированной военной диктатуры, и поэтому стремился заблаговременно сделать все, что могло бы воспрепятствовать развязыванию гражданской войны. Папен со своей стороны отнюдь не стремился к тому, чтобы встать во главе открыто диктаторского правительства. Если бы все зависело только от него одного, то лучшим решением кризиса была бы договоренность с национал-социалистами, вручавшая Гитлеру пост канцлера в правительстве национальной концентрации. Но для Папена первостепенное значение имело только то, чего хотел Гинденбург. Если рейхспрезидент настаивал на борьбе с экстремистскими силами справа и слева, то бывший глава правительства был готов следовать этому курсу. Так как Папен заведомо недооценивал трудности, то ему и в голову не приходило предпринять для подготовки чрезвычайного положения те внутриполитические меры предосторожности, которые министр рейхсвера считал необходимыми. Однако в отличие от Шлейхера у Папена, в принципе, не было никаких шансов прорвать ту блокаду, которая стала результатом политики «кабинета баронов». Поздним вечером 1 декабря 1932 г. Гинденбург в присутствии своего сына Оскара и статс-секретаря Мейснера принял рейхсканцлера и министра рейхсвера. После того как Шлейхер сообщил о своих попытках зондажа, все присутствующие, согласно протокольной записи Мейснера, «единодушно» пришли к выводу, «что по меньшей мере в настоящее время нет надежды на то, что большинство рейхстага поддержит кабинет Шлейхера, а следовательно, замена Папена на Шлейхера не будет означать существенного улучшения положения, и кабинет Шлейхера также вступит в конфликт с рейхстагом, как и кабинет Папена». Однако Шлейхер полагал, что в следующие дни в лагере национал-социалистов может одержать верх другая точка зрения. Предположительно в этой связи он также упомянул о том, что уже достигнута договоренность о встрече между ним и Штрассером. Однако Гинденбург ничего не хотел слышать о дальнейшем ожидании. «Сообразно этому господин рейхспрезидент принял решение уполномочить бывшего рейхсканцлера фон Папена вновь сформировать правительство. Господин фон Папен выразил свое согласие взять на себя это поручение при условии, что в случае неизбежного конфликта с рейхстагом в его распоряжение будут предоставлены все президентские права». После обстоятельного государственно-правового разъяснения Мейснера Гинденбург дал обещание, «в случае конфликта с рейхстагом предпринять все необходимые меры, чтобы защитить Германию от вреда, который может возникнуть в результате нарушения рейхстагом своих обязанностей». Решение Гинденбурга было не результатом трезвого размышления, а выражением настроений и симпатий. Старый Господин был сыт по горло всеми этими ерзаньями в правительстве, и он больше доверял Папену, чем Шлейхеру. Кроме того, его солдатскому образу мысли отвечало стремление не откладывать в долгий ящик сражение, которое неминуемо должно было состояться раньше или позже, а решить спор как можно скорее. «Штабной генерал» Шлейхер видел вещи яснее: диктатура, в пользу которой принял решение рейхспрезидент, была самым опасным выходом, поскольку она не имела абсолютно никакой поддержки в народе. Приказ рейхсверу выступить против подавляющего большинства населения означал бы подрыв морали войск, а само их существование было бы поставлено на карту. Так как министр рейхсвера не хотел быть виновным в таком развитии ситуации, он выступил против рейхспрезидента. Последний шанс придать делу другой оборот представился во время импровизированного совещания кабинета министров утром 2 декабря. Шлейхер знал, что большинство министров склоняются поддержать его видение положения, а не заданную Гинденбургом линию, которой руководствовался Папен. Соответствующее решение правительства, признающее правоту министра рейхсвера, не могло не произвести впечатления на Гинденбурга. Оставалось только добиться его принятия. В ходе совещания министров, которое началось около 9 часов утра, Шлейхер сначала попросил дождаться результатов его переговоров с Грегором Штрассером, назначенных на следующий день. В ответ на это Мейснер заметил, что рейхспрезидент находится сейчас в таком душевном состоянии, которое исключает отсрочку решения. Вслед за этим Папен сообщил, что Гинденбург поручил ему формирование нового кабинета и попросил министров высказать свое мнение о сложившемся политическом положении. Первым это сделал старейший член правительства министр иностранныхдел фон Нейрат. Он высказался против нового правительства Папена. Его поддержал министр финансов фон Крозиг, который уже задолго до этого самым настойчивым образом предостерегал от гражданской войны, которая потенциально могла стать следствием формирования «боевого кабинета» Папена. Крозиг снова изложил свою точку зрения: он настаивал на том, чтобы министры уже сегодня, не дожидаясь результатов встречи Шлейхера и Штрассера, определились с решением, направленным против второго кабинета Папена. На вопрос Папена, есть у кого-то иная точка зрения, только министр почт и транспорта Эльц-Рюбенах поддержал идею очередного канцлерства Папена. Драматический поворот обсуждению придал предположительно по договоренности со Шлейхером министр юстиции Гюртнер. Он заявил, что прежде всего необходимо осведомиться о направлениях деятельности и политике в целом будущего правительства, а потом спросил у Шлейхера, «насколько надежен рейхсвер на случай всех грядущих событий». Вслед за этим по предложению министра рейхсвера на совещание правительства был приглашен обер-лейтенант Отт, который и поведал о «командно-штабных учениях», проведенных рейхсвером в течение последних недель с участием представителей имперских железных дорог, почты, полиции и «Технише Нотхильфе» с целью быть готовыми на случай массовых забастовочных акций. Крозиг зафиксировал в своем дневнике эффект, произведенный выступлением Отта, следующим образом: «Превосходный доклад объемно представил трудности подобного рода действий, которые не разрешаются с помощью вооруженного насилия и произвел на всех слушателей потрясающее впечатление своим заключением, что рейхсвер, конечно же, выполнит любой приказ, однако они могут только просить и надеяться, чтобы эта чаша была пронесена мимо них. И хотя Шлейхер попытался ослабить это впечатление, заявив, что командно-штабные учения принципиально проводились по худшему сценарию и практически ни в коем случае не стоит считаться с тем, что все будет развиваться именно по такому пути, тем не менее глубокое воздействие речи Отта на весь кабинет, в том числе и на канцлера, который в ее ходе все время вытирал себе глаза, было несомненным». Шлейхер серьезно рисковал, задействовав «штабную игру Отта». Если бы уже в его бытность канцлером его правительство приняло решение о введении государственного чрезвычайного положения, то рейхспрезидент мог бы использовать ключевые выводы этих «учений» против него самого. Шлейхер мог только надеяться, что он в отличие от Папена сможет удержать профсоюзы от провозглашения всеобщей забастовки — и тем самым отпадет главное допущение «штабной игры». Однако он должен был считаться с тем, что у всех в головах прочно засядет впечатление, что рейхсвер и полиция будут не в состоянии после объявления переноса выборов одновременно блокировать коммунистов и национал-социалистов, а кроме того, защищать восточную границу Германии против польского нападения, о котором также шла речь в ходе штабных учений.Допускал или нет министр рейхсвера 2 декабря такую возможность, остается неизвестным, но, совершенно точно, в тот момент речь для него шла о мощном кратковременном воздействии произведенной демонстрации, и эта цель была достигнута. Когда Гинденбург узнал от Папена, что только что произошло на совещании министров, он прекратил свое сопротивление в отношении канцлерства Шлейхера. «Я стал слишком стар, чтобы на закате своих дней взвалить на свои плечи ответственность за развязывание гражданской войны» — этими словами Гинденбург, согласно свидетельству Папена, обосновал свой отказ от точки зрения, которую он упорно отстаивал еще днем ранее. Расставание с Папеном существенно отличалось от ухода его предшественника, Генриха Брюнинга. 3 декабря 1932 г., в день отставки, Гинденбург подарил человеку, в течение пяти месяцев возглавлявшему «кабинет баронов», свою фотографию с посвящением «Ich haft’ einen Kameraden…!»[69]. В собственноручно написанном письме рейхспрезидент восславил «самоотверженную и ответственную деятельность» Папена в качестве рейхсканцлера и рейхскомиссара Пруссии. Когда Шлейхер, уже будучи канцлером, предложил Папену пост посла Германии во Франции, Гинденбург выступил с протестом: он хотел еще некоторое время иметь бывшего канцлера у себя под рукой в качестве советника, принимая во внимание непростые перспективы на будущее. Папен не только остался в Германии. С согласия Шлейхера он также сохранил за собой свою служебную квартиру на Вильгельмштрассе. Таким образом Папен смог сохранить то, что в сложившейся ситуации было гораздо важнее, чем государственный пост, а именно — привилегию непосредственного доступа к рейхспрезиденту{589}.Глава XVIII Капитуляция государства
Кабинет фон Шлейхера, приступивший к работе 3 декабря 1932 г., по персональному составу мало чем отличался от своего предшественника. В него не вошли только два министра из правительства Папена — министр внутренних дел фон Гайл, которого заменил бывший заместитель рейхскомиссара Пруссии и имперский министр без портфеля Франц Брахт, а также министр труда Гуго Шеффер, чьим преемником стал Фридрих Зюруп, президент Имперского учреждения по посредничеству в сфере занятости и страхованию безработных. Министром обороны остался Курт фон Шлейхер, несмотря на серьезные сомнения Гинденбурга по поводу сосредоточения такого объема власти в одних руках. Новым стал пост имперского комиссара по вопросам рабочей занятости, на который был назначен президент Немецкого съезда сельских общин Гюнтер Тереке. Известие о создании кабинета фон Шлейхера вызвало в высшей степени различные реакции. Самый позитивный отклик оно нашло у центристов. Либеральная «Фоссише Цайтунг» подчеркивала, что правительство Шлейхера располагает большей общественной поддержкой, чем кабинет Папена. Не менее либеральная «Берлинер Тагеблатт» пришла к заключению, что отказ от экспериментов с конституцией является частью внутриполитической программы, которую должен проводить новый канцлер, «чтобы ликвидировать наследие своего предшественника и дополнительно увеличить хотя и более обширную, но все еще недостаточную парламентскую базу своего правительства». Ведущая газета Центра «Германиа» выразила надежду, что новое правительство «продемонстрирует решительную волю, направленную на политическое успокоение народа». Если ему это удастся, то накопившееся в обществе недоверие будет устранено, а государство и экономика, в свою очередь, смогут вновь завоевать народное доверие. Правые отреагировали комментариями, спектр которых простирался от холодных до отрицательных. Контролируемая Гуго Штиннесом-младшим «Дейче Альгемайне Цайтунг», которая еще в середине ноября выступала за правительство парламентского меньшинства, возглавляемое Гитлером, теперь полагала, что для успеха нового кабинета решающее значение будет иметь вопрос — «удастся ли ему привлечь на свою сторону многомиллионное движение немецких правых, для начала хотя бы в форме рыцарской оппозиции. После передышки размером в два-три месяца можно будет еще раз вернуться к вопросам 13 августа и минувшего ноября». Похоже высказалась «Рейниш-Вестфалише Цайтунг», также близко стоявшая к тяжелой промышленности. По мнению газеты, существовала только одна возможность преодолеть кризис и конфликты: «Сплочение активного национализма, выбор единой цели для всего национального движения, преодоление парламентской политики партийных интересов и освобождение живых сил народа». «Берлинер Локаль-Анцайгер» немецких националистов видела в кабинете фон Шлейхера «шаг в русле парламентской рутины, причем каждому на его собственное усмотрение предоставляется решать — регресс это или прогресс». НСДАП лапидарно заявила, что она отклоняет любой вид поддержки кабинета Шлейхера, поскольку он ясно и недвусмысленно противоречит воле народа. На противоположном конце политического спектра были даны самые враждебные отзывы на новое правительство. КПГ назвала кабинет Шлейхера «новой обостренной фазой фашистского режима». Партийный официоз «Интернационале Прессекорреспонденц» обвинял социал-демократию в том, что она под прикрытием «борьбы против Папена» подготовила путь правительству Шлейхера «как меньшему злу» и поддерживала его, скрываясь за оппозиционной маской. «КПГ является единственной партией, объявившей бескомпромиссную борьбу диктаторскому правительству Шлейхера и поднявшей на нее народные массы». Что же касается СДПГ, то казалось, что она первоначально не определилась в своем отношении к правительству Шлейхера. 1 декабря, за два дня до смены канцлера, Рудольф Гильфердинг писал Карлу Каутскому, что если на смену окончательно устраненному Папену придет Шлейхер, то «по меньшей мере сначала можно будет рассчитывать на некоторое успокоение ситуации». Рудольф Брейтшейд высказал 3 декабря на страницах «Форвартс» предположение, что новый канцлер, возможно, будет более искусен и осмотрителен, чем его предшественник. Вероятно, он будет больше, чем Папен считаться с реальностью, и это может подвигнуть его прислушаться к определенным требованиям рабочего класса и отказаться от «диких конституционных планов». Но в любом случае его политику будет отделять от социал-демократов целая пропасть: «Только создав фронт против президентского движения, мы можем с надеждой на успех добиваться оживления демократической воли в рабочих массах, павших ныне жертвой болтовни о диктатуре». Бывший президент рейхстага Пауль Лёбе высказался на следующий день куда как более остро. «Социал-демократическая партия желает заявить перед лицом всего народа, что она не может предложить правительству Шлейхера перемирия, равно как и не могла этого сделать в отношении правительства Папена. Ведь кабинет Шлейхера представляет собой не что иное, как реорганизованное правительство Папена, которое объявило войну немецкому рабочему классу во всех сферах жизни… Нам не нужно иного союзника, кроме пробудившегося пролетариата, мы знаем, что вместе с ним мы отвоюем назад утраченные позиции». 5 декабря 1932 г. социал-демократы приняли официальное решение. Партийный печатный орган СДПГ объявил «самую острую оппозицию» кабинету Шлейхера, состоявшему почти исключительно из членов старого правительства. Социал-демократическая фракция в рейхстаге после бурных дебатов приняла решение вынести вотум недоверия правительству, обосновывая свое решение тем, что «персональный состав нового правительства не дает никакой гарантии, что его политика будет существенно отличаться от политики предшествующего кабинета». К меньшинству фракции в составе около 20 депутатов, которые настоятельно рекомендовали отказаться от подобного шага, относились также два бывших рейхсминистра: депутаты Северинг и Гильфердинг. Своим решением выразить недоверие правительству Шлейхера СДПГ стремилась дезавуировать впечатление, что она представляет в отношении нового кабинета только мнимую оппозицию. В действительности же социал-демократы отнюдь не стремились к скорому падению кабинета Шлейхера и к очередным выборам в рейхстаг. Как и прежде, руководство СДПГ в большей степени страшилось того, что новые выборы в начале 1933 г. могут легко обернуться для партии политической катастрофой, а именно превышением голосов, поданных за КПГ, над электоратом СДПГ. Уже поэтому для СДПГ был весьма важен шанс представить себя в рейхстаге на некоторое время в качестве энергичной оппозиции. Предложением о вынесении вотума недоверия правительству социал-демократы стремились лишь не отстать от коммунистов, которые также объявили о своем намерении выступить с аналогичной инициативой. Втайне же руководство СДПГ сделало ставку на то, что НСДАП и Центр заблокируют голосование о вынесении вотума недоверия. Что касается партии Центра, то это ожидание было вполне обосновано. В остальном же социал-демократы могли только надеяться на то, что страх национал-социалистов перед новыми выборами превышает их собственный{590}. 6 декабря 1932 г. новоиспеченный рейхстаг собрался на свое организационное собрание. После агитационной речи старейшины, национал-социалиста и генерала в отставке Литцмана, депутаты вновь выбрали президентом рейхстага Германа Геринга вопреки голосам фракций социал-демократов и коммунистов. Предложение КПГ, включить в повестку заседания следующего дня рассмотрение запроса коммунистической фракции о вынесении вотума недоверия правительству было отклонено подавляющим большинством голосов. Голосами НСДАП был также отклонен запрос СДПГ, начать очередное заседание с выступления правительства. Вместо этого на втором заседании рейхстага 7 декабря депутаты занимались обсуждением выдвинутого национал-социалистами законопроекта о замещении рейхспрезидента, зафиксированного в повестке дня первым пунктом. В соответствии со статьей 51 Веймарской конституции в случае «недееспособности» или «досрочного сложения президентских полномочий» рейхспрезидент должен был быть замещен рейхсканцлером. Гинденбург отпраздновал 2 октября 1932 г. свое 85-летие. Если бы во время канцлерства Шлейхера он умер или настолько тяжело заболел, что больше не смог бы отправлять свои обязанности, то полномочия рейхспрезидента, рейхсканцлера и министра рейхсвера оказались бы временно сосредоточены в одних руках, а именно в руках генерала фон Шлейхера. Этому хотели воспрепятствовать национал-социалисты своим предложением, согласно которому полномочия рейхспрезидента подлежали передаче президенту Имперского верховного суда. В этом начинании они заручились поддержкой большинства буржуазных партий, а также социал-демократов, которым также казалась опасной дальнейшая концентрация власти у Шлейхера. Таким образом, в ходе третьего чтения 9 декабря законопроект НСДАП без труда получил поддержку большинства, необходимого для внесения изменений в конституцию: за него проголосовали 403 депутата, в то время как 126 депутатов от КПГ и ДНФП голосовали против. Преобладающее большинство депутатов также высказалось за отмену социально-политической части декрета от 4 сентября 1932 г., на основании которой правительство рейха было в том числе наделено полномочиями для принятия особенно спорного декрета о тарифной политике от 5 сентября 1932 г. Поддержку парламентского большинства также получил законопроект об амнистии лиц, осужденных за определенные политические правонарушения. Амнистия стала результатом интенсивных переговоров, которые три фракции — НСДАП, КПГ и СДПГ — вели в комитете рейхстага с министром юстиции Гюртнером. Запросы об организации «зимней помощи» для безработных и полной отмене декрета от 4 сентября были переданы на рассмотрение компетентных комитетов вопреки голосам социал-демократов и коммунистов. 9 декабря 1932 г. рейхстаг принял решение о переносе своих заседаний на неопределенное время. Против снова вместе голосовали коммунисты и социал-демократы, в поддержку этого решения выступила НСДАП. Одновременно президент рейхстага был уполномочен, по согласованию с Советом старейшин, созвать следующее заседание парламента. В конечном счете от такой короткой сессии рейхстага выиграло правительство Шлейхера. Оно не подчинилось народному представительству и при этом не потерпело серьезного поражения. Социал-демократы также полагали, что они могут говорить об успехе своей политики. Они продемонстрировали свое оппозиционное отношение, одновременно избежав падения правительства, чего они так не хотели. И даже более, им удалось приписать национал-социалистам репутацию партии, фактически выступающей проводником «политики толерантности» в отношении правительства. Утверждение «Форвартс» о том, что «этот рейхстаг с его антипарламентским большинством сумел за три коротких дня заседаний засвидетельствовать свое понимание ценности и значения работоспособного парламента», было все же чистой воды подменой действительного желаемым. На самом деле рейхстагу удавалось от случая к случаю достигать тактического парламентского большинства для решения отдельных правовых и социальных вопросов, но не конструктивного большинства, которое могло бы взять на себя всю совокупную ответственность. Поэтому декабрьская сессия рейхстага 1932 г. не была началом выхода из немецкого государственного кризиса. Социал-демократы и буржуазные политические силы существовали на «голодном пайке», «проедая» остатки былых дивидендов, да и это они могли делать только до той поры, пока национал-социалисты вели себя подгнетом обстоятельств аналогичным образом{591}. Национал-социалисты должны были придерживаться осторожной, нацеленной на завоевание времени, тактики поведения на сессии рейхстага еще и потому, что единство партии временно оказалось под серьезной угрозой. На муниципальных выборах в Тюрингии 4 декабря они понесли тяжелые потери: в сравнении с выборами в рейхстаг 6 ноября НСДАП потеряла четверть голосов, а в сравнении с выборами 31 июля — даже около 40 % голосов избирателей. Для руководителя политической организации НСДАП Грегора Штрассера, который весьма пессимистично оценивал положение партии, выводы не оставляли сомнений: НСДАП была должна, если не хотела потерять свои последние шансы, отказаться от политики «все или ничего» и войти в правительство Шлейхера. Когда новый канцлер вечером 4 декабря 1932 г. предложил ему занять пост вице-канцлера, Штрассер не сказал «нет». На следующий день на конференции руководства национал-социалистов, состоявшейся в Берлине в отеле «Кдйзерхоф», он предпринял попытку склонить Гитлера поддержать Шлейхера, но потерпел неудачу точно так же, как и 30 ноября в Веймаре. 8 декабря Штрассер принял решение подать в отставку со всех своих партийных постов. «Теглихе Рундшау», которая 9 декабря первой среди газет обнародовала сенсационную новость, оценивала поступок руководителя политической организации НСДАП как предвестника громких политических событий: если Штрассер станет вместо Гитлера вождем движения, только тогда возникнет возможность вывести НСДАП из болота ужасных упущений и промахов. Это сообщение «Теглихе Рундшау» повергло Гитлера в состояние глубокой депрессии. «Если партия распадется, то один лишь выстрел — и через три минуты все будет кончено», — отметил он в ночном разговоре с самыми доверенными приближенными, в том числе с Геббельсом. Однако Штрассер так и не нанес удара, которого так опасались Гитлер и компания. Бывший глава политической организации НСДАП отправился 9 декабря в Мюнхен к семье, а потом устроил себе двухнедельный отпуск в Южном Тироле. Своим отказом от партийных постов Штрассер не стремился дать сигнал к свержению Гитлера и расколу НСДАП. Он просто не был готов и далее нести ответственность за политику, которая, по его мнению, должна была привести партию к краху. «Дворцовая революция провалилась», — записал 10 декабря в своем дневнике Геббельс. Еще вечером 9 декабря Гитлеру удалось в результате двух произнесенных речей, одной перед гаулейтерами и инспекторами, и второй — перед депутатами рейхстага от НСДАП, заново добиться от партии клятвы верности. Для внешнего мира все разногласия между фюрером и подавшим в отставку Штрассером были кое-как сокрыты. Что касается Грегора Штрассера, то впредь он был, во всяком случае, по мнению его личного врага Йозефа Геббельса, изолирован и стал политическим «покойником»{592}. Шлейхер расценивал ситуацию иначе. 13 декабря в речи, произнесенной перед командующими войск и военных округов, он упорно отстаивал свое мнение, что следует и далее стремиться «к сотрудничеству с нацистами под руководством Штрассера, с благословения Гитлера». Шлейхер даже заверил своих слушателей в том, что Гитлер сам «в глубине своего сердца» совсем не желает занять пост рейхсканцлера. В январе, заявил канцлер, выяснится, имеется ли в рейхстаге прочное большинство. Как только рейхстаг будет созван, перед национал-социалистами будет поставлен вопрос, хотят ли они участвовать в формировании большинства. Если ответ будет отрицательным, то придет черед борьбы и времени роспуска рейхстага и прусского ландтага. Чтобы победить в такой борьбе, закон и право должны быть на стороне правительства. Поэтому никто не должен удивляться тому, что будут предприняты все новые попытки привлечь национал-социалистов к власти и возложить на них ответственность за судьбу государства. Крах НСДАП не отвечает государственным интересам Германии. В середине декабря 1932 г. Шлейхер считал все еще возможным прийти к соглашению с Гитлером и Штрассером. Только в случае провала еще одной попытки привлечь национал-социалистов к участию в имперском правительстве канцлер был готов объявить им борьбу «не на жизнь, а на смерть». В обоих случаях было необходимо, по возможности, избегать конфронтации с рабочими, организованными в профсоюзы. В этом отношении у Шлейхера был поводдля скрытого оптимизма. 8 декабря 1932 г. председатель Объединенной федерации христианских профсоюзов Генрих Имбуш заверил рейхспрезидента в том, что его организация испытывает «большое доверие к имперскому правительству и его главе, господину рейхсканцлеру фон Шлейхеру». К досаде многих партийных товарищей, похожие высказывания Теодора Лейпарта, председателя АДГБ, процитировала 5 декабря парижская газета «Эксцельсиор», которая, в свою очередь, отметила, что в отношении нового канцлера наблюдается большая доброжелательность со стороны профсоюзов. Тем самым «поперечный фронт» еще не был образован, но и о политической изоляции правительства в середине декабря 1932 г. уже нельзя было больше говорить{593}. Когда рейхсканцлер представил 15 декабря по радио программу действий своего правительства, он сделал это с ярко выраженным чувством собственного достоинства. Для начала он попросил слушателей видеть в нем «не только солдата, но и стоящего над партиями защитника интересов всех слоев населения, возглавившего правительство, надеюсь, лишь на короткое время, видеть человека, принесшего не меч, но мир». Его мнение в отношении военной диктатуры, вероятно, известно всем, заявил Шлейхер, однако он повторил его еще раз: «На кончике штыка сидеть неудобно, а это значит, что невозможно править длительное время, не имея широкой народной поддержки». В настоящий момент он был бы весьма удовлетворен, если бы народное представительство, за которым он признавал право на здоровую дозу недоверия к правительству, дало бы ему последнему возможность осуществить свою программу, которая, по сути, состоит из одного пункта: «Создавать рабочие места!» Рейхсканцлер также придал большое значение «еретическому» утверждению, что он не является ни сторонником капитализма, ни сторонником социализма и что такие понятия, как частная или плановая экономика, перестали вызывать у него ужас. Необходимо было оживить как внутренний рынок, так и экспорт, поощрять наряду с частной инвестиционной деятельностью увеличение рабочей занятости государством, а также обратить внимание на тесную связь между трудоустройством, организацией поселений[70] и обеспечением безопасности границы на востоке Германии. Все это требовало «дружеского сотрудничества всех слоев населения», чего можно достичь только в том случае, если в ходе обустройства страны не будет также забыта социальная точка зрения. «Итак, социальный генерал — я уже слышу, как некоторые мои слушатели произносят эти слова, недоверчиво или даже с насмешкой пожимая плечами. Да, мои дамы и господа, на самом деле нет ничего более социального чем армия, формируемая по принципу всеобщей воинской обязанности, в которой бедный и богатый, офицер и рядовой вместе стояли в одном строю и доказали беззаветными подвигами в годы мировой войны существование такого товарищества и такого чувства солидарности, которого не знала история». По ряду социально-политических вопросов Шлейхер высказался более конкретно. Он приветствовал решение рейхстага аннулировать социально-политическую часть декрета от 4 сентября и сообщил, что его кабинет днем ранее признал утратившим силу основывавшийся на ней декрет от 5 сентября. Дальнейшее понижение доходов рабочих рейхсканцлер характеризовал как то, что «нельзя далее переносить в социальном плане и что не является целесообразным с экономической точки зрения». Его правительство, отмечал Шлейхер, выступает сторонником социального страхования и сделает все, чтобы поддерживать страховщиков в работоспособном состоянии. Одобрив одно из требований социал-демократов, рейхсканцлер объявил об организации особой «Зимней помощи» для безработных, которая должна была сопровождаться удешевлением свежего мяса и бытового угля. Во внешнеполитической части своей речи Шлейхер выделил претензии Германии на равноправие, а в ее военно-политическом разделе он повторно заявил о своем намерении ввести всеобщую воинскую повинность в рамках милиции. В заключение рейхсканцлер обратился с призывом к союзам, группам и партиям не отворачиваться от сотрудничества с правительством. Сам же он будет неустанно трудиться во имя «объединения всех сил доброй воли», которые и должны обеспечить президентскому правительству поддержку и отклик в народе. Последние слова можно было понимать только как отказ Шлейхера от стиля правления его предшественника Франца фон Папена, которого он в начале своей речи величал своим другом и «рыцарем без страха и упрека». «Однако я хотел бы возразить всем тем, кто полагает, что авторитарное правление государством может обойтись без поддержки народа, тем, кто, помимо этого, отклоняет любой вид сотрудничества с парламентом. Им я заявляю, что одного мужества и воли недостаточно для правления, к этому необходимо добавить понимание народного восприятия и умение распознать благоприятный психологический момент. Поэтому возглавляемое мной правительство избрало путеводной нитью своей деятельности лучшее из изречений Мольтке: “Сначала взвешивай, потом рискуй”»[71]. Правительственная декларация Шлейхера была образчиком «балансирования на канате»: он что-то дал и «левым», и «правым», а также заявил о многом, с чем могло бы согласиться большинство населения. Однако противоречия между политическими интересами нельзя сгладить за счет элегантных формул. Это же можно было с полным правом утверждать в отношении конфликта между промышленностью и сельским хозяйством по вопросу таможенной политики, который уже однажды стал причиной серьезных разногласий в кабинете Папена. По этому поводу Шлейхер грубовато заявил, что он применит метод, суть которого состоит в том, чтобы «запереть министра экономики и министра продовольствия как кардиналов конклава, пока они не найдут правильную среднюю линию». Но успешным этот рецепт не был. Решение, которое правительство приняло 21 декабря, скорее выглядело как капитуляция перед Ландбундом, чем компромисс между требованиями сельского хозяйства и интересами всего остального общества. Чрезвычайное постановление, последовавшее 23 декабря, уполномочивало правительство отдать распоряжение о принудительном добавлении масла в маргарин. Это мероприятие, которое обосновывалось падением цен на масло и задумывалось как помощь крестьянскому сельскому хозяйству, вызвало бурные протесты, начиная от профсоюзов и союзов промышленников и заканчивая почти всеми партиями. Имперский союз немецкой промышленности предупреждал, что ему не составит труда заручиться поддержкой избирателей для проведения процедуры народной инициативы против нового декрета. Свободные профсоюзы протестовали против подорожания маргарина — «важнейшего средства народного питания», а газета «Дойче», орган христианско-национальных профсоюзов, писала о «побочном правительстве крупных аграриев», влияние которого на рейхспрезидента становится очевидным при любом удобном случае. Но и аграрии были, в свою очередь, недовольны новым декретом. 29 декабря председатель Ландбунда граф Калкрейт потребовал полного запрета на ввоз масла, что означало торговую войну с Голландией и Данией. Для помещиков массивная поддержка требований молочного хозяйства была частью политики объединения всех сил отрасли. Таким образом перерабатывающая сельскохозяйственная промышленность должна была быть вовлечена во фронт противников Шлейхера, который остэльбское юнкерство намеревалось на самом деле образовать совершенно подругой причине: канцлер в своей правительственной речи заявил о приверженности идеи поселений, тем самым бросив вызов старо-прусским латифундистам, как это сделало семь месяцев назад, в мае 1932 г., правительство Брюнинга своим постановлением о поселениях{594}. Рейхсканцлера, для которого так много значила поддержка основных социальных групп населения, должно было сильно беспокоить, что в конце 1932 г. против него оказались настроены почти все профессиональные союзы. И хотя камнем преткновения был только один вопрос, но этот единственный вопрос был чрезвычайно важен для широких масс. Скромная «Зимняя помощь» безработным, решение об организации которой кабинет также принял 21 декабря 1932 г., не могла смягчить возмущение, вызванное «маргариновым» декретом. Правительство генерала Шлейхера подвергалось опасности стать столь же непопулярным, как и правительство его предшественника. Но у правительства Шлейхера были тем не менее и успехи, которые оно на рубеже нового года могло занести в свой актив. К ним относился указ рейхспрезидента от 19 декабря, который, ссылаясь на «зримо наступившее сегодня политическое успокоение», отменил целый ряд особых уголовно-правовых санкций за политические правонарушения и распустил особые суды, образованные в августе. Поводом для удовлетворения правительства также послужило недопущение потенциального «рождественского кризиса». 19 декабря Совет старейшин рейхстага отклонил запросы СДПГ и КПГ о созыве парламента, после того как статс-секретарь Планк предварительно заявил, что проведение сессии рейхстага до Рождества будет воспринято правительством как конфликтный прецедент. Как и в случае с переносом заседаний рейхстага 9 декабря, правительство Шлейхера вновь выиграло бесценное время. Как свой успех правительство также расценивало план по увеличению рабочей занятости, который рейхскомиссар Гюнтер Тереке смог предложить на общественное обсуждение 21 декабря после тяжелых дебатов в кабинете и в рейхсбанке. Это была программа проведения неотложных мероприятий, согласно которой организаторы общественных работ получали первоначальный заем на сумму до 500 млн рейхсмарок, причем большую часть расходов на выплату процентов брало на себя государство. Однако общественная реакция на программу не оправдала ожиданий правительства. СДПГ и профсоюзы опротестовали сохранение для частных предпринимателей государственных долговых обязательств, принимаемых в счет уплаты налогов, выдвинув аргумент, что эта мера правительства фон Папена до сих пор не способствовала оживлению рынка труда, зато ограничила кредитную маржу рейхсбанка. Многие предприниматели, наоборот, ставили в вину Шлейхеру и Тереке одностороннюю поддержку государственного сектора экономики. В многочисленных прошениях и резолюциях они требовали от имперского правительства незамедлительно вернуться к «Мюнстерскому курсу» — к проведению частнокапиталистической конъюнктурной политики кабинета Папена в чистом виде{595}. Зато большее одобрение встретило решение рейхсканцлера прекратить бойкот конференции по разоружению в Женеве, который Германия проводила с 12 сентября. Этот шаг стал возможным в результате компромиссной формулы, к которой в результате продолжительных торгов пришли США, Великобритания, Франция, Италия и Германия. Соответствующее соглашение было подписано 11 декабря. С одной стороны, оно признавало справедливым притязание Германии на равноправие в военном отношении, с другой — оно также учитывало французские интересы, требуя создания системы коллективной безопасности для всех наций. Министр иностранных дел фон Нейрат ставил себе в заслугу то, что, несмотря на ожесточенное сопротивление Франции, из проекта соглашения пяти держав был вычеркнут пункт, согласно которому Германии отказывалось в праве на вооружение. Шлейхер также полагал, что достигнутый результат превзошел все самые смелые ожидания. Однако Франция продолжала настаивать на приоритете Версальского мирного договора над всеми более поздними особыми договоренностями. Таким образом, в конце 1932 г. еще было совершенно неясно, в какой степени формула 11 декабря будет иметь действительные последствия для достижения равноправия Германии в военной области{596}. Зато несомненным был прогресс в другой сфере внешней политики. За две недели до Нового года Шлейхер мог констатировать, что за время его канцлерства существенно улучшились отношения с Советским Союзом. Падение франкофила Папена, враждебно настроенного по отношению к СССР, было воспринято в Москве с большим облегчением. Что же касается нового канцлера, то про него было известно, что он намерен продолжать традиционно хорошее сотрудничество между рейхсвером и Красной армией. Кремль и Коминтерн даже были склонны к существенной переоценке позиции Шлейхера. Так как Шлейхер сосредоточил в своих руках пост канцлера, рейхсвер и всю исполнительную власть в Пруссии, то его считали самым могущественным канцлером за всю историю Веймарской республики. 19 декабря 1932 г. Шлейхер принял народного комиссара по иностранным делам СССР М. М. Литвинова. Последний подтвердил, что канцлер, очевидно, знал уже и так: «В свое время советское правительство с недоверием относилось к фон Папену, но этого не будет в отношении правительства Шлейхера». Литвинов ни в малейшей степени не был возмущен, когда Шлейхер перевел разговор на немецких коммунистов, подчеркнув в этой связи следующее противоречие: «С одной стороны, коммунисты утверждают, что они якобы борются с Версальским миром, с другой — они рьяно выступают против любого усиления военной мощи Германии и доносят об этом иностранным державам. Россия за счет своего сурового законодательства гораздо лучше, чем Германия защищена от таких внутриполитических возмутителей спокойствия». Реакция советского дипломата была обезоруживающей. Он заявил, что расценивал бы «вполне естественным, если бы с коммунистами в Германии обращались таким же образом, как в России имеют обыкновение обращаться с врагами народа». Не менее успокаивающим было для Шлейхера и другое заявление Литвинова. Пакты о ненападении, которые Советский Союз заключил в июле 1932 г. с Польшей и в конце ноября — с Францией ни в коей мере не направлены против Германии, заверил нарком. «Их цель заключается только в том, чтобы способствовать успокоению ситуации, а также лишить весь мир, и в первую очередь Францию, возможности выставлять Россию как угрозу миру во всем мире». Шлейхер, в свою очередь, заявил, что он отнюдь не воспринимает эти пакты трагически. «Когда пойдет борьба не на жизнь а на смерть, то жизненная необходимость окажется сильнее, чем все эти пакты. Жизненные интересы неизбежно приведут Россию на сторону Германии», — констатировал канцлер, с чем Литвинов безоговорочно согласился. Но одно конкретное пожелание советской стороны не мог исполнить даже Шлейхер. С июня 1931 г. своей ратификации в рейхстаге ожидал подписанный обеими сторонами протокол о пролонгации Берлинского договора 1926 г., в свое время заключенного на пятилетний срок. Брюнинг, исходя как из внешне-, так и внутриполитических причин: тактичности по отношению к Франции, боязни конфронтации с национал-социалистами, а также глубокой личной антипатии в отношении Советского Союза, — всеми возможными способами тормозил эту ратификацию. С момента же выборов 31 июля 1932 г. вообще не было никакой надежды получить в рейхстаге поддержку большинства, необходимую для ратификации протокола. Шлейхер пообещал Литвинову, что он предпримет проверку на предмет того, можно ли будет в чрезвычайном случае утвердить протокол без участия рейхстага. Но так как при подобном развитии событий он вероятно вызвал бы конституционный конфликт, то ради второстепенного по большому счету вопроса Шлейхер не хотел идти на такой риск. Встреча между Шлейхером и Литвиновым наглядно подтвердила, что Советский Союз проводил в отношении Германии, как и всех остальных капиталистических государств, двойственную политику. На ближайшую перспективу самым важным для Москвы был вопрос собственной безопасности. Но долгосрочный прогноз отношений между СССР и Германией выглядел иначе. 6 декабря 1932 г. «Правда» предсказала, что правительство Шлейхера, очевидно, попытается смягчить противоречия между тяжелой индустрией и обрабатывающими отраслями за счет инфляционных мероприятий: «Но этот путь приведет к еще более серьезному обострению противоречий внутри немецкой буржуазии, к небывалому расстройству экономической и политической системы Германии и к быстрому вызреванию революционного кризиса». «Роте Фане» оценивала ближайшую перспективу в своей новогодней статье в том же ключе. 1932 г., говорилось в ней, стал «годом коммунистического триумфа». Но немецкие коммунисты должны понять, что они движутся навстречу «периоду исторических свершений». «Продолжение борьбы против Шлейхера, усиление пролетарского наступления на посягательства капиталистов, нацеленные на сами основы существования широких масс и их организаций. Агитировать, маршировать, сражаться до тех пор, пока не будет расчищен путь для социализма — вот наш прогноз на 1933 г. Миллионы живут в Германии с твердым как железо намерением разорвать немецкое звено в цепи мирового капитализма. Миллионы пойдут по пути, на котором в очистительном огне ада капиталистического кризиса они станут закаленными коммунистами, готовыми на все, чтобы рабочая и крестьянская республика стала явью, чтобы произошло социальное и национальное освобождение Германии. “Мы можем выдержать еще более суровые испытания, — сказал Карл Маркс, — но эти испытания неминуемо станут преддверием революции”»{597}. Заявления, сделанные накануне нового года Гитлером, были выдержаны в гораздо менее агрессивном тоне. В своей новогодней статье, опубликованной в «Национал-социалистише Корреспонденц», он в очередной раз выступил в защиту позиции, занятой им 13 августа и 25 ноября 1932 г. Гитлер отклонил тогда компромиссы, поскольку они несли в себе зародыш уничтожения партии, а тем самым и всего будущего Германии: «Но я принимал эти решения также в надежде на то, что мои товарищи по партии поймут, что для меня лично как для человека, а также для большинства руководства моей партии было бы гораздо проще сыграть роль министра без реальной власти, чем снова ринуться в борьбу за власть. Сегодня как никогда я полон решимости не продавать право первородства национал-социалистического движения за чечевичную похлебку участия в бессильном правительстве. Самой большой задачей грядущего года будет донести до каждого национал-социалистического борца, члена партии или ее сторонника, что НСДАП не является самоцелью, а лишь средством достижения цели». 4 января 1933 г. Гитлер встретился в Кёльне в доме банкира фон Шрёдера с человеком, которого он считал в первую очередь ответственным за свое поражение 13 августа 1932 г., — Францем фон Паленом. Непосредственным толчком к этой встрече стала речь Папена в «Херренклуб» в Берлине, произнесенная 16 декабря, в которой бывший канцлер еще раз настойчиво выступил за участие НСДАП в правительстве. Посредником между сторонами стал один из слушателей Папена, Курт фон Шрёдер. По окончанию речи он переговорил с отставным канцлером, после чего мог посчитать себя уполномоченным установить контакт с Гитлером. Вопреки всем более поздним заверениям Папена целью, которую он преследовал в ходе «кёльнской встречи», отнюдь не было достижения соглашения между Гитлером и Шлейхером. Задачей Папена было навести мосты между Гитлером и Гинденбургом. Если кто и мог преодолеть недоверие рейхспрезидента в отношении «богемского ефрейтора», то только Папен. Это делало его для Гитлера весьма интересным собеседником. В свою очередь, для бывшего канцлера альянс с Гитлером был шансом снова вернуться к власти. Казалось, что в ходе встречи в Кёльне Папен и Гитлер пришли к соглашению о неком виде «дуумвирата», хотя оставалось неясным, кто же должен встать во главе нового правительства. Можно быть уверенным, что Гитлер повторил свое требование занять место канцлера. Папен исходя из всего того, что мы знаем о его позиции в августе и в ноябре 1932 г., очевидно, не настаивал на том, чтобы пост главы кабинета «национальной концентрации» достался ему. Но он также не мог не упомянуть 4 января о стойком предубеждении Гинденбурга в отношении рейхсканцлерства Гитлера. Очевидно, по ходу беседы Гитлер не исключал полностью того, что непродолжительное время может существовать альтернатива его канцлерству. 10 января Геббельс сделал запись в дневнике о своем разговоре с фюрером, который состоялся днем ранее: «Гитлер сообщил мне. Папен категорически против Шлейхера, хочет его свергнуть и полностью устранить. Еще имеет доступ к уху Старика. Живет также у него. Готовит соглашение с нами. Либо канцлерство, либо силовые министерства. Обороны и внутренних дел. Это приемлемо». В пользу предположения того, что Гитлер 4 января не отклонил наотрез промежуточное решение в виде номинального канцлерства Папена, свидетельствует также то, что именно бывший глава правительства доверительно поведал об этой встрече в следующие дни. Когда Папен встретился 7 января в Дортмунде с ведущими промышленниками Крупом, Рейшем, Шпрингорумом и Фёглером и сообщая им о кёльнской встрече, он создал впечатление, что Гитлер готов ограничиться ролью «младшего партнера» в кабинете, возглавляемом консервативными силами. Подобная договоренность полностью соответствовала бы устремлениям правого крыла тяжелой промышленности. Если Папен действовал во имя такого решения проблемы, то он мог быть отныне уверен в поддержке ряда авторитетных промышленников. Однако к ним не относился Крупп и возглавляемый им Имперский союз немецкой промышленности. Несмотря на некоторое предубеждение в отношении Шлейхера, головной союз промышленности не видел повода для замены действующего правительства кабинетом, которого следовало опасаться, поскольку тот был способен разжечь в народе политические страсти. Намерение обеих сторон держать кёльнскую встречу в тайне полностью провалилось. Берлинский зубной врач Гельмут Эльбрехтер, поддерживавший хорошие отношения с известными политиками и журналистами, в том числе Шлейхером, Брюнингом, Тревиранусом, Штрассером и Церером, заранее узнал о встрече и отправил фотографа к дому банкира фон Шрёдера. 5 января «Теглихе Рундшау» известила немецкую общественность в сенсационно поданном и снабженном фотографиями очерке не только о факте встречи Папена и Гитлера, но и о предположительном содержании их беседы. Согласно газете, участники встречи взвешивали возможность создания правительства с Гитлером во главе, задействовав хорошие связи Папена с Гинденбургом. Бывший рейхсканцлер тут же выступил с опровержением: разговор ни в коем случае не был направлен против Шлейхера и действующего правительства, речь шла только о включении НСДАП в движение национальной концентрации. Немного позднее последовало также совместное заявление, подписанное Гитлером и Папеном, выдержанное в аналогичном тоне{598}. Шлейхер, который не питал ни малейшего сомнения в отношении главного мотива кёльнской встречи, попытался сохранить хорошую мину при плохой игре. После беседы с Папеном, состоявшейся 9 декабря, он также выпустил официальное коммюнике, в котором утверждалось, что все утверждения о каких-либо противоречиях между ним и его предшественником полностью надуманы. Гинденбург, которому Папен непосредственно вслед за встречей со Шлейхером рассказал один на один о своих переговорах с Гитлером, поверил бывшему канцлеру. Рейхспрезидент заметил, разговаривая со статс-секретарем Мейснером, что Гитлер больше не настаивает на передаче ему всей полноты власти и готов принять участие в коалиционном правительстве вместе с правыми партиями. Он, Гинденбург, в свою очередь, дал согласие на то, чтобы Папен втайне на этих условиях поддерживал контакт с Гитлером. Так как нельзя предположить, что Гитлер окажет поддержку нынешнему правительству Шлейхера или по меньшей мере займет в его отношении толерантную позицию, то теперь встает вопрос о формировании нового правительства под руководством Папена, заявил Гинденбург{599}. Первое следствие контактов между Гитлером и Папеном осталось незамеченным широкой публикой: Шлейхер не отважился назначить Грегора Штрассера, вернувшегося незадолго до Рождества из отпуска, своим вице-канцлером и министром труда. Гинденбург, который принял у себя 6 января бывшего руководителя Политической организации НСДАП и сохранил о нем очень хорошее впечатление, не имел ничегопротив этого намерения канцлера. Но позиция Гитлера, начиная с 4 января, вновь расценивалась настолько сильной, что Шлейхер едва ли мог рассчитывать на то, что у Штрассера есть шанс переманить существенную часть НСДАП в правительственный лагерь. Хотя канцлер и не отказался полностью от своего намерения, но сначала он хотел выждать, пока не прояснится политическая ситуация. В тот же день, когда Гинденбург встречался со Штрассером, Шлейхер принял прусского министра-президента Отто Брауна. О встрече стало известно только то, что оба обсуждали подспудно тлеющий конфликт между правительством Брауна и «правительством комиссаров», а также то, что Браун потребовал отмены декрета от 20 июля 1932 г. Но это была только полуправда. Если следовать мемуарам Брауна, то он предложил Шлейхеру 6 января 1933 г. смелый план разрешения немецкого государственного кризиса. Канцлер должен был аннулировать декрет о назначении рейхскомиссара, вслед за тем он, Браун, невзирая на свое здоровье, вновь прочно возьмет в свои руки руководство Пруссией. Далее Браун якобы предложил канцлеру: «Вы распускаете рейхстаг, я добиваюсь роспуска ландтага. Потом мы отодвигаем новые выборы до весны, правим с помощью чрезвычайных декретов и вместе ведем энергичную борьбу против притязаний национал-социалистов на власть. Они уже потеряли во время ноябрьских выборов два миллиона голосов, давно достигли своего политического пика и сейчас находятся на спаде. Нам нужно только подтолкнуть их, чтобы на выборах весной нанести им решающее поражение… после этого у нас будет работоспособный парламент и мы сможем стать хозяевами этого тяжелого положения, тем более принимая во внимание, что экономический кризис, очевидно, уже достиг своего пика и есть надежда на улучшение экономической ситуации». Тем самым один из ведущих социал-демократов впервые высказался за нарушение конституции в форме переноса очередных выборов для того, чтобы удержать антиконституционное движение национал-социализма на дистанции от власти. Готова ли была социал-демократия поддержать своего партийного товарища на этом пути, остается в высшей степени сомнительным. Но до проверки на практике дело не дошло. Шлейхер не мог пойти на соглашение с Брауном, не потеряв при этом власть. Отмена декрета от 20 июля 1932 г. была бы воспринята не только правыми силами как капитуляция перед левыми. Немыслимо было представить, чтобы с таким требованием согласился Гинденбург. Таким образом, умозрительная игра Брауна была полностью лишена малейшего чувства реальности, которым министр-президент Пруссии был когда-то знаменит{600}. Спустя неделю после кёльнской встречи Папена и Гитлера рейхсканцлер должен был принять к сведению, что делом свержения его правительства систематически занимается также мощная организация, являющаяся представителем интересов сельского хозяйства. 11 января 1933 г. в ходе совещания с рейхсканцлером и министрами фон Брауном и Вармбольдом, проходившего под председательством Гинденбурга, Ландбунд вновь потребовал незамедлительного проведения в жизнь решения о принудительном добавлении масла в маргарин, а также широкого введения протекционистских пошлин и защиты сельского хозяйства от судебных взысканий. Непосредственно после встречи правительству стало известно, что несколькими часами ранее правление Ландбунда передало прессе свое заявление, в котором самый крупный сельскохозяйственный союз нападал на правительство, что можно было трактовать только как объявление войны. «Обнищание немецкого сельского хозяйства, в особенности крестьянской перерабатывающей промышленности, при халатном попущении нынешнего кабинета приняло размеры, немыслимые даже для чисто марксистского правительства», — говорилось в обращении Ландбунда. «Ограбление сельского хозяйства в пользу всесильных корыстных интересов интернационально ориентированной экспортной индустрии и ее приспешников продолжается… Вся прежняя деятельность имперского правительства поэтому не была организована соответствующим образом, в том числе в отношении выполнения поручений, данных господином рейхспрезидентом». Что говорил Ландбунд и как он это делал, едва ли хоть как-то отличалось от содержания и методов национал-социалистической агитации. Это созвучие отнюдь не было случайным. Уже с декабря 1931 г. в президиум Ландбунда, состоявший из четырех человек, входил ведущий член «Аграрно-политического аппарата» НСДАП, депутат рейхстага Вернер Билликене, что уже само по себе отчасти предвосхищало «унификацию»[72]. Акция 11 января 1933 г. являла собой на тот момент высшую точку игры, которую вместе вели крупные аграрии из лагеря немецких националистов и национал-социалистические функционеры от сельского хозяйства. Спустя два дня дополнительный удар по правительству нанес Рихард Вальтер Дарре, глава «Аграрно-политического аппарата» НСДАП. В открытом письме Шлейхеру он потребовал «решительного поворота руля государственной политики в направлении внутреннего рынка», на что, однако, способно только «правительство мужчин», а не «правительство, которое от охвативших его сомнений не знает, в какую сторону оно должно обратиться». И если президент Ландбунда граф Калкрейт во время своего приема у рейхспрезидента и рейхсканцлера предостерегал от растущих успехов «коммунистической травли» в деревне, то Дарре 13 января заклинал ополчиться против «чудовищного роста большевизации немецкого народа». Его письмо заканчивалось намеком на дружественную экспортерам политику преемника Бисмарка на посту канцлера: «Вместе с “генералом” Каприви началось время страданий немецкого сельского хозяйства. Дай бог, чтобы “генерал” фон Шлейхер был последним представителем этой злосчастной и враждебной сельскому хозяйству исторической и экономической эпохи». Канцлер мог бы положить письмо Дарре под сукно, но на объявление войны со стороны Ландбунда необходимо было реагировать. Еще 11 января Шлейхер дал распоряжение обнародовать официальное сообщение, в котором Ландбунд обвинялся в демагогических и беспочвенных нападках на правительство рейха. Вслед за порицанием последовали санкции: правительство констатировало, что ввиду нелояльного образа действий правления Ландбунда оно вынуждено, «начиная с сегодняшнего дня, отклонить переговоры с членами правления союза». Но рейхспрезидент не примкнул к бойкоту. 17 января в своем письме президиуму Ландбунда он выразил надежду, что подписанный им в тот же день декрет об усилении гарантий в отношении судебных взысканий внесет свой вклад в успокоение сельского хозяйства{601}. Кампания аграриев против Шлейхера сильно напоминала ту беспардонную агитацию, с помощью которой Ландбунд в мае 1932 г. ускорил падение правительства Брюнинга. Но тогда на последнем этапе борьбы на первый план выдвинулась партия, которая сейчас заняла подчеркнуто выжидательную позицию. 11 января 1933 г. депутат рейхстага отДНФП Гергт заявил, выступая в бюджетном комитете, что правительству Шлейхера по справедливости также должен быть предоставлен «испытательный срок». Два дня спустя Гугенберг в беседе с канцлером даже выразил готовность со стороны своей партии войти в правительство. Но условия, которыми Гутенберг обставлял это предложение, Шлейхер не мог исполнить, если только он не хотел, чтобы против него ополчились промышленность и профсоюзы, средний класс и потребители. Председатель ДНФП хотел преодолеть ставший тем временем хроническим разлад между министерствами труда и продовольствия за счет объединения обоих ведомств в одних руках, а именно в своих собственных. Помимо этого, Гугенберг потребовал, согласно хорошо информированному источнику, чтобы преобразованный кабинет смог проработать без помех по крайней мере полгода — требование, которое можно было выполнить, лишь нарушив конституцию в результате принудительной отсрочки заседаний рейхстага или переноса новых выборов. Более удобным партнером для Шлейхера был Эдуард Дингельдей, председатель Немецкой народной партии. С ним рейхсканцлер встретился 11 января. За два дня до этого ДФП открыто заявила о своем намерении и впредь поддерживать правительство Шлейхера. Это намерение полностью соответствовало официальной линии Имперского союза немецкой промышленности, который 12 января выступил с заявлением, в котором с беспримерной дотоле резкостью обрушился на позицию Ландбунда. От других либеральных партий Шлейхер также получил поддержку: 6 января председатель Немецкой государственной партии Герман Дитрих высказался на традиционной встрече вюртембергских демократов на праздник Богоявления за сохранение действующего кабинета. Но два парламентария от Государственной партии и одиннадцать депутатов рейхстага от Народной партии могли внести лишь весьма скромный вклад в решение стоявшей перед Шлейхером задачи: заручиться убедительной поддержкой в парламенте. В начале 1933 г. было в высшей степени сомнительно, сможет ли кабинет пережить очередную сессию, если ему будет вынесен вотум недоверия. Но Шлейхер больше не хотел делать ставку на выигрыш времени, он хотел разрубить гордиев узел одним ударом. 4 января рейхсканцлер через статс-секретаря Планка известил Совет старейшин, что правительство готово в любой момент выступить перед рейхстагом со своей программой. Правительство, разумеется, также придает большее значение тому, что вслед за этим наступит прояснение ситуации. Кабинет, таким образом, не рассчитывал на то, что рейхстаг после оглашения правительственной декларации перенесет свою сессию или повременит с запросом о вынесении вотума недоверия. Национал-социалисты, в свою очередь, потребовали, чтобы назначение срока созыва рейхстага было поручено отсутствовавшему президенту рейхстага Герману Герингу. В результате голосования, в ходе которого национал-социалисты воздержались, Совет старейшин вопреки голосам СДПГ и КПГ, требовавшим собрать рейхстаг уже 10 января, принял решение о созыве заседания 24 января. Рудольф Брейтшейд комментировал позицию НСДАП, согласно «Форвартсу», следующими словами: дело сводится «практически к политике «толерантности» в отношении правительства Шлейхера»{602}. На самом деле национал-социалисты в отличие от Шлейхера делали, как и ранее, ставку на выигрыш времени. В ночь с 10 на 11 января Гитлер вновь встретился с Папеном — на этот раз в доме политизированного торговца шампанским Иоахима фон Риббентропа, недавно вступившего в НСДАП и проживавшего в Далеме, аристократическом квартале вилл в Берлине. В ходе встречи Гитлер узнал, что Гинденбург в разговоре с Папеном, состоявшемся днем ранее, снова высказался против канцлерства фюрера НСДАП. Вслед за этим Гитлер на некоторое время прервал свои контакты с Папеном. 15 января в одной из двух самых мелких федеральных земель Германии, Липпе-Детмольде, должны были состояться выборы в ландтаг. За их счет Гитлер намеревался сгладить впечатления от неудачи партии на последних выборах в рейхстаг и на муниципальных выборах в Тюрингии. Если бы ему удалось на примере Липпе доказать, что массы снова стремятся поддержать НСДАП, он мог бы вновь выступить перед консервативными силами с позиции силы и потребовать то, что, согласно его мнению, причиталось ему по праву — руководство новым правительством. В первой половине января национал-социалистические митинги буквально прокатились по маленькому государству на севере Германии. Гитлер сам выступал на 16 крупных мероприятиях, кампанию ему в качестве ораторов составили все прочие авторитетные деятели НСДАП, в том числе Геринг, Геббельс, Фрик и прусский принц Август Вильгельм по кличке «Айви», один из высших фюреров СА. Такой натиск принес свои результаты. По сравнению с выборами в рейхстаг 6 ноября 1932 г. за национал-социалистов было подано дополнительно около шести тысяч голосов. В выигрыше оказалась также СДПГ — партия ландеспрезидента Генриха Драке, находившегося на своем посту с 1920 г. Увеличение числа ее избирателей по сравнению с ноябрем составило около четырех тысяч голосов. К проигравшим относились немецкие националисты, за которых было подано на четыре тысячи голосов меньше, а также коммунисты, потерявшие около трех с половиной тысяч избирателей. НСДАП восславляла результаты выборов как свою великую победу. Региональный орган партии «Липпише куриер» озаглавил свою передовицу следующим образом: «Господин фон Шлейхер, подать в отставку! — Гитлер побеждает в Липпе! — Бурный рост голосов, поданных за НСДАП — с 34,7 % до 39,6 % по сравнению с последними выборами в рейхстаг». Геббельс записал в дневнике: «Партия снова на коне. Игра все же стоила свеч». В действительности успех национал-социалистов был гораздо скромнее, чем это представляла нацистская пропаганда. По сравнению с выборами от 31 июля 1932 г. национал-социалисты, напротив, потеряли три с половиной тысячи голов, а на уровне рейха в целом партия никогда бы не смогла с такой интенсивностью провести избирательную кампанию, как она это сделала в маленькой земле, население которой едва достигало 160 000 жителей. Но в тот момент главное значение имело психологическое воздействие: казалось, что НСДАП снова на подъеме. Это укрепляло позиции Гитлера перед буржуазными правыми — немецкими националистами, у которых его партия отобрала большинство голосов. Гитлер теперь также мог отважиться нанести решающий удар по Штрассеру. На конференции гауляйтеров, состоявшейся в Веймаре 16 января, он поквитался с бывшим руководителем Политической организации НСДАП. Ее результат был однозначным: Штрассер больше не находил поддержки, а положение Гитлера внутри партии стало прочнее, чем когда-либо ранее{603}. Спустя день после выборов в Липпе правительство рейха собралось первый раз в новом году, чтобы обсудить политическую ситуацию. В прологе встречи Шлейхер отметил, «что в целом речь идет о двух вопросах: удастся ли привлечь национал-социалистов к сотрудничеству или они стремятся к борьбе с имперским правительством. Сотрудничество допустимо, конечно же, в различных формах: можно подумать об активной совместной работе в рамках правительства или о проведении линии толерантности в отношении кабинета или о чем-то похожем». Канцлер заявил, что он не намерен оттягивать решение. В случае если рейхстаг на предстоящем заседании поставит первым пунктом повестки дня рассмотрение запроса о вынесении вотума недоверия правительству, то он пошлет ему в письменной форме декрет о роспуске. После этого Шлейхер вернулся к вопросу, который расколол правительство накануне его канцлерства, а именно — должны ли или нет через 60 дней после роспуска парламента в соответствии с конституцией состояться новые выборы. В частности, рейхсканцлер заявил: «Экономика отклоняет саму мысль о скорых новых выборах. Среди рабочего класса подобное настроение также получило весьма широкое распространение. При таком положении дел я расцениваю вполне возможным перенос новых выборов на осень. В любом случае, дойдет ли дело до новых выборов или нет, необходимо добиться поддержки правительства народными массами». В отличие от последнего дня канцлерства Папена теперь ни один из министров не высказался против нарушающей конституцию отсрочки новых выборов, а тем самым — и против объявления чрезвычайного государственного положения. Лишь рейхскомиссар Тереке выразил осторожные сомнения и выступил за попытку «добиться от рейхстага дальнейшего продолжения линии толерантности». Министр внутренних дел Брахт подчеркнул, что «в любом случае достигнуто одно: больше не существует единого фронта против правительства». Министр финансов граф Шверин фон Крозиг, который в ноябре — начале декабря 1932 г. был самым решительным противником нарушения конституции, теперь безоговорочно поддержал перенос новых выборов. Зато споры вызвал вопрос, действительно ли необходимо добиваться расширения опоры правительства? Министр продовольствия фон Браун сомневался в том, что если Штрассер войдет в правительство, то ему удастся привести с собой из НСДАП большое количество сторонников. Министр иностранных дел фон Нейрат выразил опасение, что в результате привлечения представителей партий «идея президентского кабинета будет предана забвению, на ее место придет идея кабинета партий». Статс-секретарь Мейснер выразил свое согласие с фон Нейратом, сделав упор на том, что «забвение идеи президентского кабинета таит в себе опасность для позиции, представленной господином рейхспрезидентом». Но рейхсканцлер был полностью уверен в своем политическом курсе. С рейхспрезидентом он все уже подробно оговорил, заявил Шлейхер. Беседа с Гитлером еще предстояла, но он, Шлейхер, выражал прочную уверенность в том, что тот больше не стремится к власти. Последнее время Гитлер добивался для НСДАП только поста министра рейхсвера, но Гинденбург тем не менее выступил против предоставления ему этого портфеля. Правительство остро нуждается в широкой опоре, «возможно от Штрассера до Центра». Гугенберга он также считал необходимым привлечь на свою сторону, поскольку без него нельзя было рассчитывать на немецких националистов. То, что кабинет не получит парламентского большинства без Гитлера, Шлейхер вполне осознавал: «Все же надо надеяться на постепенный перелом в настроениях народа в пользу правительства. Но этого можно достигнуть только в результате успехов имперского правительства в сфере конструктивной деятельности». Самым принципиальным высказыванием Шлейхера был тезис о том, что «нельзя заниматься политикой в безвоздушном пространстве». В ходе дальнейшего обмена мнениями он еще раз вернулся к этой идее, давая ответ на предостережение фон Нейрата по поводу партийного кабинета: «На долгий срок никто не сможет править в Германии, если не завоюет расположения масс». Брахт предложил назначить сроком новых выборов 22 октября или 12 ноября 1933 г. Попитц в ответ выразил сомнение, разумно ли уже сейчас назначать точную дату выборов, но натолкнулся на жесткую оппозицию министра внутренних дел. Дату новых выборов необходимо огласить незамедлительно, утверждал Брахт, т. к. в противном случае оппозиция будет постоянно требовать определения точного срока и заявит о своей победе, когда правительство будет вынуждено отступить. Министр юстиции Гюртнер полагал, что Вюртемберг и, возможно, также Бавария дадут свое согласие на перенос выборов. Однако он был настроен скептически и считал, что осенью ситуация вряд ли будет сильно отличаться от сложившейся на данный момент. Возможные правовые и политические последствия переноса очередных выборов в рейхстаг, если верить протоколу заседания от 16 января 1933 г., остались вне рамок обсуждения правительства. Та же судьба постигла еще одно альтернативное предложение выхода из кризиса, очевидно, разработанное отделом вермахта в министерстве рейхсвера и приложенное к протоколу заседания: «Отказ от признания вотума недоверия, вынесенного рейхстагом, и подтверждение полномочий правительства рейхспрезидентом». В тексте утверждалось, что вотум недоверия является лишь выражением негативной воли рейхстага, не указывая при этом созидательного пути выхода из ситуации: «Но так как власть безусловно должна отправляться, один лишь вотум недоверия, вынесенный негативным большинством рейхстага, не должен служить причиной падения правительства. Напротив, полномочия правительства будут подтверждаться рейхспрезидентом до тех пор, пока парламент не вынесет другое, позитивное предложение». Недостаток этого варианта, заключавшийся в том, что рейхстаг сможет «апеллировать к широкой публике и принимать решения, имеющие пропагандистский эффект», авторы документа не считали внушающим опасения: «Рейхстаг уже произведет к тому времени свой самый мощный залп, проголосовав за вотум недоверия… Деятельность парламента может оказаться действенной только в том случае, если он на самом деле начнет принимать правомерные законодательные акты. В этом, собственно, и заключается его задача, к исполнению которой народное представительство должно вернуться вновь. Если же конфликт рейхстага с правительством все же приведет к серьезным трудностям, то всегда в запасе остается вариант с роспуском парламента». Такое решение кризиса соответствовало принципам, согласно которым, по всей вероятности, консерваторы намеревались провести конституционную реформу: «Ограничение функций рейхстага преимущественно законодательством. Вотум недоверия имеет юридическую силу только в том случае, если за ним стоит позитивная воля большинства, направленная на придание политике других очертаний». Предложение игнорировать вотум недоверия, вынесенный «негативным большинством», представляло собой, по мнению авторов документа, «сравнительно меньший конфликт с конституцией», чем перенос очередных выборов или принудительная отсрочка сессии рейхстага. На самом деле статья 54 конституции, ставившая рейхсканцлера и министров имперского правительства в зависимость от доверия рейхстага, не исключала того, что после вынесения вотума недоверия подавшее в отставку правительство может и далее оставаться на своем посту в качестве исполняющего обязанности. Конституция также не предусматривала каких-либо ограничений по времени существования такого правительства после его «парламентской смерти». Один из самых известных немецких правоведов, Карл Шмитт, уже в конце 1928 г. в своем «Учении о конституции» назвал решение о вынесении вотума недоверия, принятое большинством парламента, неспособным сформировать правительство, «актом голой обструкции», из чего следовало, что при подобном развитии событий правительство не обязано подавать в отставку: «В любом случае правительстводолжно остаться, если одновременно принят указ о роспуске рейхстага». В декабре 1932 г. юрист и социал-демократ Эрнст Френкель пришел к выводу (который до него также сделали Карл Шмитт и Иоганн Хекель, на которых он прямо ссылается), что рейхстаг в качестве центрального органа Веймарской конституции столь долго будет неспособен к исполнению своих обязанностей, пока коммунисты и национал-социалисты будут сохранять парламентское большинство. Чтобы воспрепятствовать «деструктивному парламенту» в его намерении застопорить государственную машину, дав тем самым врагам конституции столь желаемый ими повод к путчу, Френкель предлагал изменить ее путем плебисцита. Согласно его предложению, вотум недоверия, вынесенный парламентом в отношении канцлера или министров, будет иметь своим правовым следствием отставку только в том случае, «если народное представительство сопроводит вотум недоверия позитивным предложением президенту назначить министром на место подавшего в отставку государственного функционера персонально поименованную кандидатуру». Практики от политики на рубеже 1932–1933 гг. делали рейхсканцлеру предложения, также сводившиеся к фактическому введению конструктивного вотума недоверия, т. е. к преобразованию конституции без ее изменения. Уполномоченный представитель Баварии при рейхе, министериальдиректор Шперр, заявил в разговоре со Шлейхером 1 декабря 1932 г.: «Вынесение вотума недоверия не является решающим фактором. После этого можно также продолжать руководить страной в качестве кабинета, управляющего делами, т. е. пойти тем путем, который Папен отвергал как принижающий его авторитет». Депутат рейхстага и председатель Христианско-социальной народной партии Вильгельм Зимпфендорфер дал рейхсканцлеру аналогичный совет во время их беседы 19 января 1933 г. Спустя пять дней парламентарий обосновал свою рекомендацию в письменной форме. Негативное парламентское большинство не имеет права жаловаться на несоблюдение принятых им решений, писал 24 января Зимпфендорфер канцлеру. Согласно статье 53 правительство назначалось и распускалось рейсхпрезидентом; оно должно было следовать решениям негативного большинства только в той степени, в какой могло нести ответственность за их проведение. «Вынесение вотума недоверия чисто негативным большинством в случае разумного и ответственного применения парламентско-демократической системы и конституции рейха может означает лишь демонстрацию ни к чему не способного недовольства… Если же такое состояние не удовлетворяет негативное большинство, то тогда оно всего лишь должно приложить усилия и преобразоваться в большинство позитивное. Но у негативного большинства нет права на то, чтобы своей шутовской игрой загонять государство в пропасть». Но Шлейхер не вдавался в подробности тех предложений, которые были направлены на разрешение кризиса, не достигая порога введения чрезвычайного положения в стране. Очевидно, отсрочка очередных выборов была связана, по его мнению, с менее серьезным падением авторитета правительства, чем вотум недоверия рейхстага. Зависимость от парламента, неспособного к конструктивной работе, казалась Шлейхеру настолько непереносимой, что в начале 1933 г. он настаивал на быстром решении проблемы: если парламент своим поведением даст понять, что он не склонен к сотрудничеству с правительством, то он должен быть незамедлительно распущен. Хотя Шлейхер мог сослаться на то, что его правительство менее изолировано, чем кабинет Папена, было совершенно неясно, предоставит ли ему теперь Гинденбург на деле то, что он обещал Папену: роспуск рейхстага и антиконституционный перенос очередных выборов. Так как ни в первом, ни во втором не было уверенности, план по введению в стране чрезвычайного положения от 16 января 1933 г. основывался на в высшей степени хрупкой основе{604}. Через несколько дней после заседания правительства пресса была полна спекуляций о возможности предстоящего в скором времени введения чрезвычайного положения. 19 января Рудольф Брейтшейд обнародовал на собрании представителей СДПГ в Берлин-Фридрихсхайне то, что Шлейхер поведал ему 28 ноября 1932 г. о возможной отсрочке очередных выборов. Председатель фракции социал-демократов в рейхстаге также воспроизвел свой ответ рейхсминистру: для рабочего класса в целом такой шаг будет поводом выступить, используя все имевшиеся в его распоряжении законные средства, против такого рода нарушения конституции: «Подобная провокация без сомнения вызовет сильнейшую бурю протестов». 20 января 1933 г. газета «Форвартс» полагала, что ей уже был известен повод, который искало правительство для введения чрезвычайного положения: начальник берлинской полиции Мельхер дал разрешение на проведение 22 января, в воскресение, шествия национал-социалистов на Бюлов-Платц «строем против Карл-Либкнехт-Хауса», здания Центрального комитета КПГ. Контрдемонстрация коммунистов, также на Бюлов-Платц, была запрещена. Социал-демократическая газета полагала, что все это выльется в кровавые столкновения, которые будут использованы правительством как предлог, чтобы объявить проведение выборов невозможным. Но эскалации насилия не случилось. После того как правительство подтвердило запрет на проведение коммунистической демонстрации, несмотря на личные демарши депутатов рейхстага Торглера и Каспера в адрес Шлейхера, руководство КПГ призвало своих сторонников к дисциплине и осмотрительности, и массы последовали этому воззванию. Коммунистическая демонстрация была перенесена на 25 января{605}. Но темой, которая в это время больше всего занимала широкую общественность Германии, были отнюдь не демонстрации национал-социалистов и коммунистов или введение чрезвычайного государственного положения. На первом плане оказался скандал с финансовой помощью Восточной Германии. 19 января депутат от Центра Йозеф Эрзинг, секретарь Христианских профсоюзов, разоблачил в бюджетном комитете рейхстага подробности злоупотребления общественными средствами, выделенными для санации обремененных долгами дворянских поместий в Восточной Пруссии. В частности, Эрзинг заявил следующее: если круги, стоящие за Ландбундом, которые все время получали из общенародного кармана огромные суммы, выступают с нападками на имперское правительство, то этим делом должен заняться рейхстаг. И если субсидированные рейхом денежные средства пошли не на покрытие долгов, а на покупку шикарных авто, ставки на бегах и поездки на Ривьеру, тогда государство должно потребовать возврата денег. Круги латифундистов, утверждал Эрзинг, прилагают все усилия к тому, чтобы прекратить дальнейшее слушание вопроса о Восточной помощи в рейхстаге. Поэтому развивается такая бурная закулисная деятельность, нацеленная на немедленный роспуск рейхстага. Речь Эрзинга в бюджетном комитете обратила на себя большое внимание еще и потому, что незадолго до этого в газетных сообщениях в связи с восточной помощью всплыло имя личного друга рейхспрезидента: Эларду фон Ольденбург-Янушау при распределении государственных средств, очевидно, было оказано особое предпочтение. В это же время стали известны обстоятельства, при которых Гинденбург в 1927 г. вступил во владение своим поместьем Нейдек. Усадьба, полученная им в подарок на 80-летие от немецких предпринимателей, была записана на имя его сына Оскара, чтобы позволить сэкономить тому на налоге на наследство. Это не было формальным нарушением действующего законодательства, но все же представляло манипуляцию, вредившую авторитету главы государства{606}. Спустя день после сенсационной речи Эрзинга Совет старейшин принял решение о переносе пленума рейхстага с 24 января на 31 января, сам же Совет старейшин для подстраховки должен был еще раз собраться 27 января. Инициатива переноса заседаний исходила от национал-социалистов, которые обосновывали свою позицию тем, что правительство еще не представило на рассмотрение рейхстага проект бюджета. Центр, обеспокоенный планами введения чрезвычайного положения, вынашиваемых кабинетом, также сделал ставку на выигрыш времени, все еще надеясь добиться парламентского решения кризиса с участием НСДАП. В то время как национал-социалисты охотнее всего вручили бы вопрос о дате созыва рейхстага в руки его президента Германа Геринга, Центр высказался всего лишь за недельную отсрочку заседаний. Так как СДПГ и КПГ настаивали на первоначальном сроке созыва — 24 января, предложение Центра стало промежуточным решением, которое в итоге было поддержано большинством. Статс-секретарь Планк подчинился ему, но от имени правительства еще раз подчеркнул, что оно, как и прежде, считает совершенно необходимым в интересах политического успокоения страны и ее экономического оздоровления как можно скорее недвусмысленно прояснить политическую ситуацию{607}. У национал-социалистов были весомые причины избегать созыва заседания рейхстага. Ничто не должно было помешать продолжению политических переговоров, которые Гитлер вновь начал вести вскоре после завершения выборов в Липпе. 17 января он провел беседу с Гугенбергом, которая, однако, не привела к конкретным результатам: лидер немецких националистов отказался в случае совместного образования правительства передать национал-социалистам прусское министерство внутренних дел, а вместе с ним и контроль над прусской полицией. На следующий день Гитлер встретился, снова на вилле Риббентропа в Далеме, с Папеном. Ссылаясь на успех партии на выборах в Липпе, Гитлер решительнее, чем 4 января в Кёльне, потребовал для себя пост рейхсканцлера. Но если сам Папен и был убежден в необходимости такого решения проблемы, то к этому моменту по-прежнему отсутствовали какие-либо признаки изменения позиции Гинденбурга: рейхспрезидент вновь отклонил предложение вручить Гитлеру канцлерские полномочия. Тем временем положение рейхсканцлера становилось все более шатким. 21 января фракция немецких националистов в рейхстаге объявила о том, что она переходит в открытую оппозицию к кабинету Шлейхера. Нерешительная политика кабинета поставила под вопрос все предпосылки к улучшению, говорилось в решении фракции, которое тотчас же было передано рейхсканцлеру, но в печати появилось только 24 января. Главный упрек ДНФП гласил: экономическая политика правительства все больше и больше скатывается в «социалистически-интернациональную идейную колею». «Становится весьма опасным, когда возникает антагонизм между сильными и слабыми, особенно в сельском хозяйстве, что приводит к возникновению заразы большевизма в деревне. Повсеместно возникает подозрение, что нынешнее правительство рейха представляет собой не что иное, как ликвидацию авторитарной идеи, которую господин рейхспрезидент выдвинул вместе с формированием правительства Папена. Это означает возврат немецкой политики в русло, которое мы, как казалось, покинули благодаря усилению национального движения». В заключительном предложении своей резолюции немецкие националисты вновь заявили о приверженности убеждению, согласно которому «государственный и экономический кризис может быть преодолен только сильным государственным руководством». Утверждение о том, что Шлейхер готовил почву для распространения «большевизма в деревне», было таким же демагогическим и абсурдным, как и обвинения, выдвинутые фракцией немецких националистов в рейхстаге восемью месяцами ранее против правительства Брюнинга, что его программа поселений является «законченным большевизмом». Но лозунг, который был успешно использован в мае 1932 г., вновь имел хорошие шансы произвести впечатление на Гинденбурга. Своим решением от 21 января немецкие националисты повернули в ту же сторону, что и Ландбунд десятью днями ранее. Фронт противников Шлейхера стал шире и сильнее, и они могли надеяться, что рейхспрезидент скоро открыто примкнет к ним{608}. 22 января 1933 г. — через день после того, как ДНФП приняла решение выступить против Шлейхера — в доме Риббентропа состоялась очередная встреча между Гитлером и Папеном. Она приобрела особый вес и значение, т. к. в ней также приняли участие статс-секретарь Мейснер и Оскар фон Гинденбург, а со стороны национал-социалистов — Геринг и Фрик. Гитлер заверил, что в возглавляемом им президентском правительстве буржуазные министры смогут получить самое широкое представительство, если только они не будут нести ответственность перед своими партиями. Геринг заявил то же самое Мейснеру. Исходя из высказываний Папена можно было сделать вывод, что он отныне был готов удовлетвориться постом вице-канцлера в кабинете Гитлера. Самой важной частью встречи стала длинная беседа тет-а-тет между Гитлером и сыном рейхспрезидента. Во время совместного возвращения на Вильгельмштрассе Оскар фон Гинденбург дал понять Мейснеру, что его впечатлили аргументы Гитлера. Таким образом, фюрер НСДАП оставил позади себя еще один отрезок пути, значительно приблизившись к своей цели{609}. Когда рейхспрезидент на следующий день, 23 января, принял у себя рейхсканцлера для беседы, он уже был проинформирован своим сыном и статс-секретарем Мейснером о результатах состоявшейся накануне «далемской» встречи. Шлейхер доложил о выводах, к которым правительство пришло неделей ранее. Надо ожидать, заявил канцлер, что на заседании рейхстага, которое, очевидно, должно было теперь состояться 31 января, имперскому правительству будет вынесен вотум недоверия: «Поэтому он предлагает распустить рейхстаг. Но так как новые парламентские выборы, по всей видимости, не изменят положение, а напротив, будут означать складывание для государства чрезвычайной ситуации, не остается ничего другого, как отсрочить очередные выборы на несколько месяцев». Гинденбург, согласно официальному протоколу, заявил в ответ, «что вопрос о роспуске рейхстага он еще хочет обдумать, что же касается переноса очередных выборов на срок, больший предусмотренного конституцией, то он не может в настоящее время взять на себя такую ответственность. Подобный шаг был бы истолкован в его отношении всеми сторонами как нарушение конституции. Прежде чем решиться на подобный поступок, нужно убедиться путем опроса лидеров партий, что они признают введение чрезвычайного положения и не будут выдвигать обвинения в нарушении основного закона». Таким образом, план введения чрезвычайного положения практически потерпел крах. С уверенностью можно утверждать, что не только сомнения в правомерности нарушения конституции дали повод рейхспрезиденту отказать Шлейхеру в том, что дважды — в конце августа и в начале декабря 1932 г. — было обещано его предшественнику: отклонение от статьи 25 конституции, регулировавшей срок назначения очередных выборов в рейхстаг. В таком решении Гинденбурга свою роль, конечно же, сыграло то, что Шлейхер сам 2 декабря 1932 г. «штабной игрой Отта» предоставил наглядные доказательства того, насколько легко объявление о введении чрезвычайного положения может привести к развязыванию гражданской войны. К этому добавились также другие, на этот раз личные, мотивы. В бюджетном комитете рейхстага продолжались разоблачения, связанные со скандалом вокруг Восточной помощи, в связи с чем все снова и снова публично упоминалось имя Гинденбурга, а рейхсканцлер не поспешил встать на защиту рейхспрезидента. Соседи-помещики, такие как «старый Янушауец», поэтому прежде всего требовали свержения Шлейхера и назначения на пост канцлера Гитлера. Исходя из этих же соображений на рейхспрезидента воздействовал командующий военным округом в Восточной Пруссии генерал фон Бломберг. Но свергнуть Шлейхера и назначить канцлером Гитлера — это были два разныхдела. Когда 23 января 1933 г. Папен вслед за Шлейхером был принят рейхспрезидентом, чтобы поведать ему о вчерашней встрече в доме Риббентропа, Гинденбург вновь отклонил канцлерство Гитлера. Преемником Шлейхера должен был стать, по мнению рейхспрезидента, не кто иной, как Папен. Сам Папен ни в коей мере не был убежден в разумности такого шага и пытался отговорить президента. Но 23 января он тем не менее не заявил Гинденбургу о своем окончательном отказе от места канцлера. 24 января пресса была полна сообщениями о планах правительства по введению чрезвычайного положения. Шлейхер отдал распоряжение незамедлительно заявить от его имени, что он никогда не был сторонником теории «государственного чрезвычайного положения», и его правительство стремится к тому, чтобы сделать все от него зависящее для сохранения конституции. Но этому опровержению не поверили. Правление СДПГ и руководство фракции социал-демократов выступили 25 января с «резкими протестами против плана провозглашения так называемого “государственного чрезвычайного положения”». Они заявили, что его осуществление выльется в государственный переворот, что, в свою очередь, приведет к возникновению состояния анархии, «любое сопротивление которой будет разрешено и оправдано». Когда оба заместителя председателя АДГБ, Грассман и Эггерт, были приняты Шлейхером 26 января 1933 г., то они вместе заговорили о циркулирующих слухах, согласно которым правительство готовилось распустить рейхстаг и отсрочить новые выборы, не считаясь со сроками, определенными в конституции. Канцлер, в свою очередь, подтвердил то, что он публично оспаривал двумя днями ранее. Да, он предложил рейхспрезиденту опросить «вождей экономики», т. е. руководителей рабочих организаций и союзов предпринимателей, «не считают ли они, что целесообразнее перенести новые выборы на октябрь или ноябрь текущего года, чем проводить их в настоящее время. И если “вожди экономики” дадут свое согласие, поскольку выборы сейчас ничего не изменят в общем соотношении партий и не приведут к созданию работоспособного парламента, то тогда рейхспрезидент и правительство, поддержанные экономикой, на плечи которой ложатся расходы по проведению предвыборной борьбы, могут спокойно перенести выборы. Такой перенос представляет собой нечто совершенно иное, чем нарушение конституции». Ответ Эггерта едва ли мог ободрить Шлейхера. Он гласил: «Мы не желаем введения чрезвычайного положения в рейхе в какой бы то ни было форме». Отказ Партии католического Центра поддержать план провозглашения чрезвычайного положения был не менее однозначным. 26 января председатель партии, прелат Каас, предостерег канцлера в подробном письме от переноса срока очередных выборов. Уже во время своей последней беседы со Шлейхером 16 января Каас настоятельно высказался «против основных тенденций учения Карла Шмитта и его эпигонов, ставящих под сомнение государственное право в целом». «Перенос выборов на более поздний срок был бы несомненным нарушением конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями правового и политического свойства. Тот, кто проследит историю внутриполитического развития с момента падения кабинета Брюнинга и даст ей компетентные оценки, должен прийти к выводу, что не может идти и речи о якобы наступившем в государстве состоянии чрезвычайного положения. В лучшем случае можно говорить о чрезвычайном положении правительственной системы, которая в результате собственных ошибок и терпимого отношения или даже поощрения чужих оплошностей во все увеличивающемся темпе докатилась до сегодняшнего тяжелого состояния». Выход из этого стеснительного положения, как уверял далее теолог и юрист Каас, лежит не в направлении нарушения конституции, а в направлении серьезного и планомерного возврата к методам «разумного использования имеющихся в конституции возможности для достижения ответственных правительственных комбинаций». Если же забыть о юридической стороне и оценивать положение только с политической и моральной точек зрения, то и тогда следует охарактеризовать антиконституционную отсрочку новых выборов как «скатывание в ситуацию, чреватую безответственными возможностями». «Отсутствие легитимности наверху даст толчок таким незаконным действиям снизу, последствия которых невозможно предугадать. Поэтому мои политические соратники, если вопрос будет предоставлен на их рассмотрение и решение, без всякого сомнения отклонят и осудят такой путь». О таком видении ситуации Центром был извещен не только рейхсканцлер. По инициативе Брюнинга и с согласия фракции рейхстага Каас отправил копию письма рейхспрезиденту. Две самые большие демократические партии вели себя в конце января 1933 г. таким образом, как будто наибольшая опасностьреспублике грозила со стороны Шлейхера, а не Гитлера. Не тотальная ликвидация Веймарской конституции, а лишь нарушение одной из ее статей воспринималось ими как серьезнейшая опасность. Партия Центра уже достаточно давно заявляла, что будет рассматривать канцлерство Гитлера, если он сможет опереться на парламентское большинство и даст клятву верности конституции как демократически корректное, хотя и не единственно легитимное решение кризиса. СДПГ не примкнула к этой точке зрения. Но когда депутат рейхстага Зигфрид Ауфхойзер требовал 25 января в «Форвартс», чтобы рейхстаг «не был ограничен в своем праве заседать и действовать, выражая недовольство всего народа существующей государственной властью», он тем самым фактически агитировал в поддержку национал-социалистов, ополчившихся против Шлейхера. На деле кампания против переноса очередных выборов в рейхстаг допускала только один вывод: для социал-демократов пришедшее к власти легальным путем правительство Гитлера также представляло собой меньшее зло, чем временная диктатура Шлейхера{610}. 27 января по Берлину носились слухи о диктатуре совсем иного рода: «боевом кабинете» под руководством Франца фон Папена. «Итак, или карнавальный канцлер Гитлер или возвращение кавалериста фон Папена, чей курс вызвал в народе бурю возмущения и негодования», — по мнению «Форвартс», это были две наиболее вероятные альтернативы Шлейхеру, падение которого пресса ожидала со дня на день. Газета «Дер Дейче», орган Христианских профсоюзов, недвусмысленно заявила, что для нее является самым худшим из всех мыслимых вариантов: «Не было бы ничего губительнее, чем возвращение к проведению курса Папена». По ее мнению, главным мотивом сил, стоявших за планами возвращения Папена, являлось стремление воспрепятствовать дальнейшим разоблачениям в рамках скандала вокруг Восточной помощи. В свою очередь, окружение Гугенберга, писала газета, прилагает все усилия, чтобы заполучить рейхспрезидента на сторону приверженцев государственного переворота, что означает не менее, чем «попытку подстрекательства к государственной измене». В действительности Гугенберг27 января поставил все переговоры о «легальном» пути выхода из кризиса на грань срыва. В ходе встречи с Гитлером он вновь ответил отказом на намерение фюрера зарезервировать пост премьер-министра Пруссии для члена НСДАП, а также отклонил еще одно требование, которому фюрер национал-социалистов также придавал большое значение, а именно — роспуск рейхстага и проведение новых выборов. Столкновение между двумя партийными лидерами было настолько бурным, что Гитлер отменил встречу с Папеном, назначенную на тот же день. Тем не менее Гитлер мог отнести к своим достижениям, что Франц Зельдте, первый бундесфюрер «Стального шлема», тем временем встал на его сторону. Еще важнее было то, что Папен близко к сердцу воспринял заявление НСДАП, что она всеми силами будет бороться против правительства диктатуры, возглавляемого бывшим рейхсканцлером. В результате Папен вечером 27 января более четко, чем когда-либо ранее, заявил Риббентропу о своем решении поддержать Гитлера в качестве главы кабинета. «Папену становится совершенно ясно, что он теперь при любых обстоятельствах должен добиться назначения Гитлера канцлером и прекратить носиться, как раньше, с идеей, что он сам на всякий случай должен находиться под рукой у Гинденбурга, — констатировал Риббентроп. — Это понимание, сложившееся у Папена, по моему мнению, является решающим поворотным пунктом вопроса в целом. В субботу (28 января. — Г. В.) в 10 часов утра Папену назначено у Гинденбурга». Пресса также уделила большое внимание другому событию, случившемуся 27 января: Совет старейшин, рейхстага принял решение оставить без изменений дату созыва пленума рейхстага — 31 января. При этом было совершенно ясно, что рейхстаг вынесет на этом заседании вотум недоверия правительству Шлейхера, если только оно еще к этому моменту останется у власти: коммунисты и социал-демократы подготовили соответствующие запросы, а национал-социалисты заявили о своей готовности поддержать их. Заголовки утренних газет 28 января снова были посвящены главным образом слухам о готовящемся государственном перевороте, в большинстве из которых вновь фигурировало имя Папена. Издания немецких националистов настолько откровенно требовали нарушения конституции, что Отто Браун принял решение обратиться с публичным призывом к рейхсканцлеру. Министр-президент Пруссии, который еще в начале января сам рекомендовал Шлейхеру отсрочить при определенных обстоятельствах очередные выборы в рейхстаг, писал теперь в открытом письме канцлеру, что ссылка на чрезвычайное государственное положение юридически недопустима, а правительство рейха, как обладатель верховной власти в Пруссии, обязано преследовать открытые выступления в поддержку таких действий, квалифицировав их как подготовку государственной измены{611}. Поздним утром 28 января, около 11.30, на заседание собралось правительство. Сначала выступил Шлейхер, который заявил, что, по его мнению, 31 января правительство может представить рейхстагу свою декларацию только в том случае, если рейхспрезидент выдаст ему, рейхсканцлеру, ордер на роспуск парламента. «Насколько я знаю положение вещей, господин рейхспрезидент не готов к этому. Предположительно господин рейхспрезидент предоставит ему, рейхсканцлеру, выступать перед рейхстагом, не имея на руках указа о роспуске последнего. Но согласно его твердому убеждению, в настоящей ситуации это будет совершенно бессмысленным актом. Имперское правительство не располагает поддержкой парламентского большинства. Таким образом, перед лицом неизбежного поражения кабинет будет заниматься бесполезной игрой на публику. Борьба с рейхстагом, которую он, рейхсканцлер, полностью готов вести, в теперешней ситуации невозможна». Ближайшее будущее Шлейхер расценивал весьма мрачно: «Возможно, трудности будут не столь большими, если господин рейхспрезидент готов назначить Гитлера рейхсканцлером. Но, насколько ему известно, господин рейхспрезидент, как и прежде, не готов принять такое решение. Поэтому остается только назначение по-другому скомпонованного президентского кабинета, в который должны войти, по дошедшим до него сведениям, Папен и Гугенберг. Следствием назначения такого кабинета, поскольку широкие массы будут настроены решительно против него, может стать в ближайшем будущем как государственный кризис, так и кризис рейхспрезидента. Он, Шлейхер, намеревается незамедлительно совершенно открыто высказать свое мнение господину рейхспрезиденту. Если он, рейхсканцлер, не получит от господина рейхспрезидента, как это и ожидается, указа о роспуске рейхстага, то он намеревается незамедлительно предложить господину рейхспрезиденту как свою отставку, так и прошение об отставке всего правительства». Убедившись в полной поддержке членов своего правительства, Шлейхер прервал в 12.10 заседание, чтобы встретиться с рейхспрезидентом. Канцлер изложил ему три возможных пути преодоления кризиса: «1) правительство большинства Гитлера — это было бы очевидное решение, но он не верит в такую возможность; 2) правительство меньшинства Гитлера, но это не соответствует прежней позиции господина рейхспрезидента; 3) сохранение сегодняшнего президентского правительства, которое, однако, сможет работать только в том случае, если оно будет иметь в своем арсенале поддержку и полномочия господина рейхспрезидента». Еще одно решение Шлейхер решительно исключил: «⁹⁄₁₀ немецкого народа будет против правительства, сформированного на узкой базе немецких националистов и т. п. без национал-социалистов. Это, в свою очередь, приведет к революционным эксцессам и к государственному кризису». Гинденбург не стал обсуждать обрисованные Шлейхером возможности. На просьбу канцлера о предоставлении ему полномочий распустить рейхстаг президент лаконично ответил: «Этого в сложившейся ситуации я сделать не могу. Я благодарен Вам за Ваши попытки привлечь национал-социалистов на сторону правительства и добиться формирования парламентского большинства. К сожалению, этого сделать не удалось, и теперь должны быть опробованы другие возможности». Шлейхер настаивал, чтобы Гинденбург заслушал других членов кабинета, но президент ничего не хотел знать. Он только заверил канцлера, что пост главы министерства рейхсвера не будет занят одним из сторонников Гитлера. После этого в присутствии Шлейхера было сформулировано официальное заявление об отставке всего кабинета. В заключение Гинденбург выразил рейхсканцлеру свою благодарность, которая прозвучала, если верить тому, что позднее Шлейхер рассказывал Брюнингу, следующим образом: «Я благодарю Вас, господин генерал, за все, что Вы сделали для отечества. Теперь посмотрим, как, с Божьей помощью, карты лягут». Около 12.35 Шлейхер вернулся к ожидавшим его членам кабинета, отчитался о встрече с Гинденбургом и зачитал протокол, согласно которому отставка правительства была принята. У рейхсканцлера во время разговора с Гинденбургом было такое чувство, как записал в своем дневнике министр финансов фон Крозиг, «что он говорил со стеной. Старый Господин совершенно не воспринимал его аргументы, монотонно следуя раз и навсегда заученной процедуре. Мы все были глубоко потрясены этим сообщением. Кабинет Шлейхера прекратил свое существование спустя всего два месяца, лишившись доверия рейхспрезидента». Непосредственно вслед за отставкой кабинета Шлейхера рейхспрезидент дал поручение бывшему рейхсканцлеру фон Папену «прояснить политическое положение путем переговоров с партиями и установить имеющиеся возможности». Поясняя свое поручение, Гинденбург высказал Папену пожелание, что тот должен найти решение «в рамках конституции и в согласии с рейхстагом». Как стало известно немного позднее, Папен в тот же день, после обеда, вступил в контакт с вождем партии национал-социалистов. Хотя пресса уже довольно давно ожидала падения Шлейхера, официальные заявления 28 января были повсеместно восприняты как сенсация. Свое чрезвычайное беспокойство по этому поводу в тот же день выразили в письме на имя статс-секретаря Мейснера оба управляющих делами члена президиума Имперского союза немецкой промышленности и Немецкого съезда представителей промышленности и торговли, Людвиг Кастл и Эдуард Гамм. Оздоровление промышленности ни от чего не зависит в такой степени, как от надежды на политический мир и стабильность, говорилось в письме. «Пролонгация тревожных ожиданий в связи с политическим кризисом губит в зародыше экономическое оздоровление и делает невозможным заключение рабочих подрядов на будущее. Преодолеть политические трудности этого времени с минимальным возмущением нашего народа — вот что мы расцениваем как наиглавнейшую заповедь политики, направленной на рост рабочей занятости и диктующей политическому руководству ясное направление генеральной линии развития экономики». Председатель Имперского союза немецкой промышленности, Густав Крупп фон Болен унд Гальбах, проводивший свой отпуск в Швейцарии, в тот же день по телефону просил Кастла настоятельно заверить Мейснера в том, «что он полностью разделяет мою (Кастла. — Г. В.) точку зрения и что он рассматривает беспрерывные политические кризисы, и в особенности текущий, как в высшей степени губительные для спокойного развития экономики. По его мнению, необходимо избегать всего, что вновь может внести беспокойство в хозяйственную жизнь». Смысл обоих посланий был ясен: ведущие союзы немецкой промышленности не одобряли падение правительства Шлейхера и считали, что другие пути выхода из кризиса были связаны для экономики с большими рисками, чем сохранение прежнего кабинета. К рейхспрезиденту 28 января также обратилось большинство ведущих профессиональных союзов, «обуреваемых глубокой заботой по поводу политических опасностей, грозящих нашему народу». «Формирование социально-реакционного и враждебного по отношению к трудящимся правительства» было бы воспринято всеми рабочими и служащими Германии как брошенный им вызов, говорилось в телеграмме, отправленной Гинденбургу и подписанной АДГБ, АфА-Бундом, Объединенным союзом христианских профсоюзов, либеральным Профсоюзным объединением союзов немецких рабочих, служащих и чиновников и входившим в состав свободных профсоюзов Всеобщим немецким союзом государственных служащих. «Профсоюзы ожидают, что Вы, господин рейхспрезидент, решительно выступите против всех подводных течений, нацеленных на совершение путча и настоите на конституционном пути выхода из кризиса». Тем самым профильные профсоюзы четче, чем союзы предпринимателей, дали понять, что именно они рассматривают как самое худшее из зол — создание антипарламентского «боевого правительства», в котором ведущую скрипку играли бы немецкие националисты. Телеграмма не говорила об этом напрямую, но можно было прочесть между строк следующее: конституционное решение кризиса в союзе с Гитлером вызвало бы у организованного рабочего класса куда менее единодушное осуждение, чем комбинация Папен-Гугенберг. «Форвартс» вечером 28 января заняла позицию, которая не отличалась существенно от линии объединенных профсоюзов. По ее мнению, правление Шлейхера хотя и не означало прекращение реакционного курса, но по меньшей мере с ним завершился период «буйного помешательства» реакции. «Падение Шлейхера является сигналом тревоги чрезвычайного порядка. Оно показывает, что путь к нейтральному правительству должностных лиц, которое в настоящий момент, пожалуй, было бы единственной конституционной возможностью, не снискал популярности. Другой же путь, даже при условии, если конституция будет соблюдена, представляет собой путь безрассудно рискованного эксперимента, опаснейшее приключение. Но и на этом пути конституционный строй может быть сохранен только в том случае, если в поддержку Гитлера будет создано парламентское большинство и если будет дана гарантия того, что Гитлер исчезнет, как только он утратит это большинство. Это означает, что правительство Гитлера — Гугенберга будет конституционным только в том случае, если свое благословение ему даст Партия Центра». Согласно этой логике, имперское правительство во главе с Гитлером не было самым большим злом при любых обстоятельствах. Пока такое правительство располагало поддержкой парламентского большинства и не нарушало конституцию, социал-демократия могла ограничиться радикальной парламентской оппозицией. Но если подобное правительство не получит достаточную поддержку в рейхстаге, то ситуация будет расцениваться иначе. «Гарцбургское правительство без парламентского большинства означает путч и гражданскую войну. Его назначение стало бы покушением на безопасность государства… Тот момент, когда рейхспрезидент наделит так называемых “правых националистов“ особыми полномочиями, будет означать для всего рейха наступление состояния вне рамок конституционности и законности». Вероятно, содержание этой статьи вызвало значительную оппозицию в самой редакции партийного органа или в руководстве СДПГ, т. к. уже в следующем выпуске «Форвартс» расставила акценты совсем иначе. Газета назвала Гитлера «фюрером банды, нацеленной против немецкого рабочего движения», «главой кровавого фашизма, чьей целью является разгром демократии и сооружение фашистской диктатуры». После этого газета взвесила все риски кабинета Папена в сравнение с рисками кабинета Гитлера и пришла к выводу: «Правительство Гитлера, даже если Центр своей политикой толерантности создаст ему базис в парламенте, будет самым настоящим правительством провокации'… Правительство Гитлера — в этом и заключается замысел Гитлера — должно стать трамплином для фашистской диктатуры'.» Первым требованием окружения Папена и Гитлера станет запрет КПГ и аннулирование ее полномочий: «Против такой увертюры нарушения законности правительством реакции рабочий класс выступит как один человек, и на его стороне будет закон, вступивший в борьбу с открытым беззаконием!» Известие об объявлении войны Гитлеру и Папену со стороны социал-демократов было опубликовано утром в воскресение 29 января. СДПГ также призвала провести сразу же после обеда в Люстгартене массовый митинг подлозунгом «Берлин остается красным!». Таким образом партия хотела дать свой ответ на демонстрации нацистов и коммунистов, состоявшиеся несколькими днями ранее. Призыву СДПГ последовало, согласно подсчетам «Форвартс», около 100 тыс. человек. Когда демонстранты стали расходиться по домам, поджидавшие на многих перекрестках коммунисты стали выкрикивать оскорбления в их адрес. В тот же день коммунистическая «Роте Фане» потребовала от членов СДПГ и Свободных профсоюзов образовать «единый фронт борьбы против фашистского генерального наступления». Этот призыв не был адресован руководству социал-демократических организаций. Функционеров СДПГ коммунисты обвинили в том, что они занимаются тем же, чем и 20 июля 1932 г., — «классовым предательством». Из буржуазного центра после падения Шлейхера в адрес рейхспрезидента неоднократно направлялись предостережения ни в коем случае не идти на нарушение конституции. Премьер-министр Баварии Генрих Хельд, политик от БФП, назвал долгом совести своего правительства настоятельно предостеречь главу государства от проведения экспериментов, противоречащих конституции, «т. к. они ведут в пропасть, давая дополнительный импульс радикализму революционных масс, а также флер оправдания их беззаконий». «Германиа» от имени партии Центра указала «еще раз со всей возможной серьезностью на моральную, конституционно-юридическую и политическую невозможность нарушения конституции и провозглашения “чрезвычайной диктатуры” небольшого слоя, ограниченного приверженцами “Стального шлема” и немецкими националистами». «Кёльнише Фольксцайтунг» видела теперь только один выход, который могла бы поддержать партия Центра: попытку Гитлера «сформировать правительство, имеющее парламентскую поддержу»{612}. Правый «боевой кабинет», не имевший поддержки в массах — такой сценарий был самым худшим из всех возможных также и для высшего генералитета. Если бы дело дошло до путча и назначения правительства Папена — Гугенберга, то рейхсвер опасался развития ситуации по сценарию «учения на картах Отта», т. е. гражданской войны. Авторитетные военные считали формирование правительства Папена возможным уже потому, что Гинденбург 26 января в присутствии командующего сухопутных войск генерала фон Хаммерштейна и начальника ведомства личного состава вооруженных сил генерала фон дем Бусше-Иппенбурга вновь категорически исключил саму возможность канцлерства Гитлера, на этот раз со словами, что «он даже и не думал о том, чтобы сделать австрийского ефрейтора министром обороны или рейхсканцлером». Но правительство Гитлера также расценивалось офицерами министерства рейхсвера как рискованное предприятие. Однако Шлейхер выражал не только свое личное, но и совокупное мнение всего руководства рейхсвера, когда 28 января 1933 г., выступая в правительстве, а также в последнем разговоре с рейхспрезидентом провозгласил лозунг, согласно которому рейхсканцлер Папен представлял собой в сравнении с рейхсканцлером Гитлером гораздо большую опасность. На самом деле в этот момент все еще было неясно, какой из двух политиков сформирует новое правительство. Папен продолжал рассчитывать на «авторитарное» решение проблемы под своим собственным руководством на случай, если главный вариант под руководством Гитлера потерпит неудачу. Во второй половине дня 28 января бывший рейхсканцлер встречался с Гитлером и Гугенбергом, а вечером — с председателем БФП Фрицем Шеффером. Последний отклонил возможность своего участия в кабинете фон Папена и вновь выступил, вероятно также от имени Центра, за правительство парламентского большинства под руководством Гитлера — решение, в котором теперь уже не были заинтересованы ни Папен, ни Гитлер. По телефону Папен также связался с графом Лутцем Шверином фон Крозигом. Бывшему министру финансов был задан вопрос, готов ли он принять участие в кабинете Гитлера с Папеном в качестве вице-канцлера или в боевом кабинете Папена — Гугенберга. Крозиг ответил, что он готов предоставить себя в распоряжение рейха только в первом случае. В том же смысле высказались еще два члена правительства Шлейхера: Нейрат и Эльтц-Рюбенах. Когда Папен вечером сообщил Гинденбургу, что облик правительства Гитлера готовы определять испытанные консервативные политики, рейхспрезидент был весьма впечатлен. В результате он впервые продемонстрировал готовность забыть о своих сомнениях в отношении канцлерства Гитлера. Вечером 28 января Гинденбург принял еще одно важное персональное решение: главнокомандующий I военным округом (Восточная Пруссия) генерал фон Бломберг, который в то время пребывал в качестве технического советника немецкой делегации на конференции по разоружениям в Женеве, должен был стать преемником Шлейхера на посту министра рейхсвера независимо оттого, кто будет следующим рейхсканцлером. На следующее утро рейхспрезидент дал указание своему статс-секретарю Мейснеру, отдать Бломбергу по телеграфу распоряжение прибыть в Берлин. Около полудня 29 января у Папена появились Гитлер и Геринг и провели с ним длинную беседу. В ее ходе Гитлер назвал кандидатуру Вильгельма Фрика на пост рейхсминистра внутренних дел — ведомства, имевшего стратегическое значение для осуществления властных притязаний национал-социалистов. Гитлер, в свою очередь, отказался от поста рейхскомиссара Пруссии в пользу будущего вице-канцлера Папена, после того как тот выразил свое согласие на назначение Геринга заместителем рейхскомиссара Пруссии по вопросам внутренних дел, в результате чего тот получал контроль над полицией самого большого из немецких федеральных государств. Открытым в ходе этой встречи остался только вопрос о том, как рейхспрезидент отнесется к требованию национал-социалистов о роспуске рейхстага и назначении новых парламентских выборов. После обеда Папен встретился с Гугенбергом и обоими лидерами «Стального шлема», Зельдте и Дюстербергом. Гугенберг, в свою очередь, находился под сильным влиянием политиков от ДНФП — Эвальда фон Кляйста-Шменцина и Отто Шмидта-Ганновера, выступавших за авторитарное решение кризиса и настаивавших на энергичной борьбе против Гитлера. Сам Гугенберг испытывал сильные предубеждения в отношении требования национал-социалистов о проведении новых выборов в рейхстаг, здесь у него соединялись принципиальный антипарламентаризм и боязнь ослабления позиций своей партии. Однако, с другой стороны, Гугенберг находил предложение Гинденбурга о передаче ему как имперского, так и прусского «кризисных министерств» экономики и сельского хозяйства таким привлекательным, что он заявил о своей принципиальной готовности войти в кабинет Гитлера. Зельдте поддержал идею создания кабинета Гитлера, в котором ему было предназначено имперское министерство труда. Но окончательное решение «Стальной шлем» мог принять только в том случае, если бы от своих сомнений в отношении канцлерства Гитлера освободился Дюстерберг. Предпосылкой этого послужило бы извинение национал-социалистов за нападки, которым они подвергали Дюстерберга из-за его еврейского деда. На протяжении второй половины дня Геринг еще раз заглянул в гости к Папену. У президента рейхстага сложилось впечатление, что отныне «все будет прекрасно», и в таком духе он представил отчет Гитлеру, ожидавшему его в отеле «Кайзерхоф». Запись Геббельса в дневнике позволяет сделать вывод, что позитивная оценка ситуации Герингом касалась также возможности очередных выборов. И какие бы договоренности в этом отношении не были достигнуты между Па-пеном и Гинденбургом, но национал-социалисты 29 января уже больше не считались с возможным вето рейхспрезидента против проведения новых выборов в рейхстаг. Для Гитлера этот фактор играл решающее значение: для завоевания власти ему был нужен закон о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий, а его принятие он мог ожидать только от нового рейхстага, в котором НСДАП была бы представлена гораздо сильнее, чем в нынешнем парламенте. Что же касается формирования нового кабинета, то Гитлер и Па-пен также могли быть до некоторой степени уверены в успехе своего дела. Все свидетельствует в пользу того, что Папен проинформировал рейхспрезидента должным образом еще во второй половине дня 29 января 1933 г. Список министров наряду с Гитлером предусматривал назначение только двух министров — национал-социалистов: Фрика — в качестве министра внутренних дел и Геринга — в качестве имперского министра без портфеля, исполняющего обязанности министра внутренних дел Пруссии, а также имперского комиссара по вопросам воздушных сообщений. Все остальные министерские посты должны были занять политики и профессионалы из буржуазного правого лагеря, в том числе трое бывших членов кабинета фон Шлейхера: Нейрат, Крозиг и Эльтц-Рюбенах. На долю Папена приходились посты вице-канцлера и рейхскомиссара Пруссии. Открытым оставался вопрос о кандидатуре министра юстиции. Тем не менее в Берлине продолжали циркулировать упорные слухи о том, что в итоге будет образовано правительство Папена — Гугенберга без какого-либо участия НСДАП. Шлейхер и Хаммерштейн также разделяли эти оценки и попытались в последний момент воспрепятствовать тому, что они считали самым опасным вариантом выхода из сложившейся ситуации. Командующий сухопутными войсками нанес вечером визит Гитлеру, чтобы выяснить, действительно ли Гинденбург ведет с ним переговоры или только делает вид. Хаммерштейн предложил Гитлеру сделать попытку повлиять на ход событий в нужном направлении и осведомился у Гитлера, нет ли у него возражений против того, чтобы Шлейхер в кабинете Гитлера продолжал занимать пост министра рейхсвера, на что Гитлер дал отрицательный ответ. Вечером в квартире Геббельса на Рейхсканцлер-платц, где остановился Гитлер, появился Вернер фон Альвенслебен, посредник между Шлейхером и Гитлером. Поздний посетитель сделал несколько заявлений, которые звучали таким образом, что можно с часу на час ожидать начала военного путча: Гинденбург якобы намеревался на следующий день назначить правительство меньшинства Папена, чего рейхсвер, однако, не намерен допустить. Эти утверждения были лишены какой-либо реальной основы, но Гитлер тотчас же проинформировал о них Папена и Мейснера. Еще ночью распространился слух, что Шлейхер и Хаммерштейн хотят отдать приказ гарнизону Потсдама о выдвижении с целью арестовать отца и сына Гинденбургов, а также статс-секретаря Мейснера. Ложное известие ускорило формирование кабинета Гитлера. Когда генерал фон Бломберг утром 30 января прибыл на вокзал Анхальт, его там ожидал адъютант Хаммерштейна с приказом доставить генерала в министерство рейхсвера на Бендлерштрассе. Этому в последний момент помешал Оскар фон Гинденбург, который также поспешил приехать на вокзал. Он отдал распоряжение Бломбергу немедленно отправиться вместе с ним в резиденцию рейхспрезидента на Вильгельмштрассе. Там генерала проинформировали о якобы имевшихся планах путча Шлейхера и Хаммерштейна и в заключение привели к присяге в качестве нового министра рейхсвера. Так как рейхспрезидент имел право назначать имперских министров только по предложению рейхсканцлера, этот поступок был не чем иным, как беспардонным нарушением конституции. Тем временем Папен тоже не сидел сложа руки. Утром 30 января в своем бюро он вновь встретился с Гугенбергом, Шмидт-Ганновером, Зельдте и Дюстербергом. Папен заявил, что если новый кабинет не будет приведен к присяге до 11 часов утра, то всем грозит военная диктатура. Тем не менее Гугенберг недвусмысленно подтвердил, что он, каки прежде, отклоняет требование нацистов о проведении новых выборов в рейхстаг, таким образом вступление немецких националистов в правительство отнюдь не является свершившимся фактом. Зато в ходе этой встречи в бюро Папена на Вильгельмштрассе, участие в которой позднее также приняли Гитлер и Геринг, было устранено другое препятствие к образованию кабинета Гитлера: фюрер НСДАП заверил Дюстерберга в своем сожалении по поводу злобных оскорблений, которым второй бундесфюрер «Стального шлема» подвергался в нацистской прессе, и дал ему свое честное слово, что он не отдавал распоряжения начать эту травлю. В 10.45, за четверть часа до оговоренного между Папеном и Гинденбургом времени приведения к присяге нового кабинета, группа политиков, к которой также присоединился Бломберг, отправилась через Министерский сад в дом по адресу Вильгельмштрассе, 77. Там начиная с лета 1932 г., пока ремонтировался президентский дворец по адресу Вильгельмштрассе, 73, находилась резиденция Гинденбурга. Но приведение к присяге не могло состояться, т. к. все еще не было достигнуто единство по спорному вопросу о новых выборах в рейхстаг. В рабочей комнате Мейснера, где собрались будущие министры, Гитлер и Гутенберг так бурно схватились друг с другом по этому вопросу, что правительственная коалиция угрожала распасться в последний момент. В конце концов Гитлер был вынужден дать обещание, что состав кабинета не изменится и после новых выборов в рейхстаг, но это не произвело особого впечатления на вождя немецких националистов. После этого к спору подключился Папен. По его словам, Гугенберг должен был доверять слову, данному немцем, и забыть о своих сомнениях; помимо этого, в ходе выборов мог быть образован мощный избирательный блок, объединяющий все консервативные элементы. В конце концов после того как Мейснер неоднократно призвал не заставлять Гинденбурга ждать дольше, было принято решение просить рейхспрезидента издать указ о роспуске рейхстага. Папен также добился от Гитлера еще одного обещания, в котором Гугенберг вовсе не был заинтересован: будущий рейхсканцлер обязался незамедлительно вступить в переговоры с Центром и БФП с целью расширения правительственного лагеря. После этого все члены будущего правительства Гитлера — за исключением заболевшего Эльтц-Рюбенаха и еще не назначенного министра юстиции — наконец-то переступили порог рабочего кабинета Гинденбурга, чтобы принести клятву на верность конституции. После этого Гитлер обратился к рейхспрезиденту с кратким обращением, в котором он просил Гинденбурга о доверии к нему лично и возглавляемому им правительству. Короткая церемония была завершена словами Гинденбурга: «А теперь, господа, вперед и с Богом!»{613} В то время как на Вильгельмштрассе был брошен жребий, определивший судьбу Германии, в расположенном поблизости здании рейхстага заседало партийное руководство СДПГ совместно с представителями социал-демократической фракции рейхстага и руководством АДГБ. Исполняя обязанности заболевшего Отто Велса, Рудольф Брейтшейд предостерег от каких-либо общих действий с коммунистами и рекомендовал «засвидетельствовать свою решимость». Другие ораторы, среди которых были Пауль Лёбе и Фридрих Штампфер, напротив, потребовали проведения массовых акций против ставшего реальностью правительства Гитлера — Папена. Позицию Брейтшейда поддержали Отто Браун, Рудольф Гильфер-динг и заместитель председателя АДГБ Вильгельм Эггерт. Большинство, очевидно, склонялось к точке зрения, которую Эггерт обрисовал следующим образом: «Если Гитлер и Папен вначале возглавят правительство конституционным путем, то против этого нельзя будет ничего поделать». На известие о формировании кабинета Гитлера руководство СДПГ и партийная фракция рейхстага отреагировали призывом, в котором предостерегали «от недисциплинированных действий отдельных организаций и групп, предпринятых на собственный страх и риск» и называли требованием дня «хладнокровность и решительность». На следующий день Брейтшейд вновь решительно отклонил в комитете партии все внепарламентские акции сопротивления, снискав горячее одобрение присутствующих, в том числе представителей парламентской фракции и «Железного фронта»: «Если Гитлер поначалу будет оставаться на конституционной почве, и пусть это будет хоть стократным притворством, было бы неправильно, если бы мы дали ему повод нарушить конституцию… Если Гитлер вступит на путь конституции, то он будет стоять во главе правительства рейха, с которым мы можем и должны бороться, и бороться еще сильнее, чем ранее, но тем не менее это будет полноправное конституционное правительство». ЦК КПГ, напротив, посчитал, что 30 января 1933 г. пробил час для нападения, и впервые с момента «удара по Пруссии» 20 июля 1932 г. снова напрямую обратился к руководству СДПГ и профсоюзов. К АД ГБ, АфА-Бунду, СДПГ и Христианским профсоюзам был направлен призыв «провести вместе с коммунистами всеобщую забастовку, направленную против фашистской диктатуры Гитлера, Гугенберга и Папена, против разгрома рабочих организаций, за свободу рабочего класса». Но единый пролетарский фронт был 30 января 1933 г. предприятием еще более бесперспективным, чем 20 июля 1932 г. Принимая во внимание свыше 6 млн официально зарегистрированных безработных, нечего было даже думать о том, чтобы выдержать длительную всеобщую стачку, что же касается ограниченной по срокам забастовки, то она скорее была бы воспринята новым правительством как признак слабости, а не демонстрация силы. Помимо этого, оставалось в высшей степени неясным, готовы ли были коммунисты своевременно последовать призыву к завершению забастовки. После того как «Роте Фане» еще 26 января отвергла предложение «Форвартс», согласно которому СДПГ и КПГ должны были заключить между собой «пакт о ненападении», охарактеризовав его как «бесчестную насмешку над красным антифашистским Берлином», коммунистическому призыву к совместной оборонительной борьбе не хватало элементарной предпосылки — правдоподобности. СДПГ и профсоюзы должны были считаться с тем, что коммунисты тотчас же прибегнут к революционному насилию, чего только и ждали национал-социалисты, чтобы придать своему террору видимость законности. Но гражданская война могла закончиться только кровавым поражением рабочих организаций: у расколотых левых не было ни единого шанса, т. к. они не могли ничего противопоставить полувоенным союзам правых, полиции и рейхсверу. Вечером 30 января 1933 г. улицы не только Берлина, но многих мест и местечек в Германии оказались в руках «коричневых батальонов». На следующий день новый рейхсканцлер вступил в переговоры с Центром, выполняя данное Папену обещание. Но Гитлер вел переговоры только для видимости: он стремился доказать, что с рейхстагом, выбранным 6 ноября 1932 г., управлять страной невозможно. Центр же, напротив, как и прежде был искренне заинтересован в настоящей коалиции с НСДАП и больше негодовал из-за «реакционного состава» нового кабинета, чем по поводу канцлерства Гитлера. Но Каас тем не менее отклонил требование Гитлера отложить очередной созыв рейхстага на целый год. Тем самым он предоставил канцлеру повод уже 31 января объявить переговоры потерпевшими неудачу и добиться принятия первого важного решения своего правительства: ходатайства к Гинденбургу о роспуске рейхстага. 1 февраля был издан соответствующий декрет, а также постановление президента, согласно которому очередные выборы назначались на 5 марта 1933 г. В своем намерении уничтожить Веймарскую демократию Гитлер до конца исчерпал все те возможности, которые предоставила ему Веймарская конституция. Тактика легальности, которой он подчинил свою партию, оказалась несравненно плодотворней, чем открытое признание себя сторонником революционного насилия, верным приверженцем которого Гитлер был за десять лет до этого, и которое, как и прежде, исповедовала другая тоталитарная партия — КПГ. Своей тактикой легальности Гитлер разоружил демократические партии и само правовое государство. Чтобы защитить и сохранить правовое государство, его сторонники должны были в ходе последней фазы кризиса Веймара выступить против буквы конституции, которая была нейтральна в отношении ее духа. Но этому противоречила позиция, которую Эрнст Френкель заклеймил уже в конце 1932 г. как «конституционный фетишизм». Неспособность пойти на такой шаг не привела напрямую к капитуляции республики и сдаче государства в руки Гитлеру, но она сделала это возможным{614}.Заключение Место Веймара в немецкой истории
30 января 1933 г. стало одним из ключевых поворотных моментов в мировой истории. С приходом Гитлера к власти закончился не только период существования первой немецкой республики. Одновременно Германия перестала быть тем, чем она была уже задолго до 1918 г. — правовым и конституционным государством. Ему наследовала система бесправия, разрушительная политика которой с неумолимой внутренней логикой завершилась самоуничтожением. Так как немцам не удалось самим освободиться от господства Гитлера, его гибель означала также конец первого, созданного Бисмарком, национального немецкого государства. Вопрос о том, можно ли было избежать катастрофы, продолжает вплоть до сегодняшнего дня занимать не только историков. Некоторые ответы на него уже давно стали политическими мифами. Левые продолжают считать, что Веймар могло бы спасти единое рабочее движение. В действительности раскол рабочего класса был не только тяжелой политической обузой для первой немецкой республики, но одновременно также и исторической предпосылкой ее возникновения. Веймар основывался, если пользоваться марксистской терминологией, на «классовом компромиссе» между умеренными частями рабочего класса и буржуазии. Довоенная марксистская социал-демократия напрочь отметала такой компромисс. Если единство партии после 1914 г. не было окончательно сломлено вопросом о военных кредитах, то это случилось, самое позднее, со вступлением социал-демократов в коалиционное правительство. И только после свершившегося разрыва с левыми ортодоксами умеренное социал-демократическое большинство смогло начать ту совместную деятельность с буржуазными центристами, результатом которой стала парламентская демократия Веймара. Противоречия между социал-демократами и коммунистами были не тактического, а принципиального свойства. Коммунисты выступали за насильственный приход к власти и гражданскую войну. Для социал-демократов «нет», сказанное революционному насилию и гражданской войне, было неотъемлемой частью их политического кредо. Коммунисты заявляли о своей приверженности задачам разгрома веймарской демократии и ее замены Советской Германией. Социал-демократы, в свою очередь, позиционировали себя как партию, на плечах которой лежит ответственность за сохранение республиканской государственности. Чем меньше, начиная с 1930 г., Веймар продолжал оставаться их государством, тем больше усилий прикладывали социал-демократы к его сохранению. Коммунисты в первую очередь представляли ту часть рабочего класса, которая несла на себе наибольшие тяготы и лишения, в том числе многолетних безработных; социал-демократы же выступали прежде всего от имени имевших постоянную занятость и лучше оплачиваемых рабочих, которым вопреки знаменитому выражению Маркса и Энгельса было что терять, кроме своих цепей. По этой причине СДПГ все время была вынуждена играть по существующим политическим правилам, она была структурно неспособна осуществлять фундаментальную оппозицию слева — роль, которую взяли на себя коммунисты. Гитлер извлек пользу из политики обеих «марксистских» рабочих партий. Риторика, облик и дела коммунистов вызывали у буржуазии социальные страхи, которые никто не сумел использовать в своих интересах лучше, чем национал-социалисты. Социал-демократы вынужденно снабдили национал-социалистов «боеприпасами», до последнего поддерживая непопулярную политику Брюнинга. Это повышало шансы Гитлера представить свою партию как крупное оппозиционное движение справа от коммунистов и одновременно — как популярную альтернативу обеим разновидностям «марксизма» — и радикальной, и умеренной. И все же поддержка социал-демократами политика партии Центра Генриха Брюнинга была не столько политической «ошибкой», сколько выражением дилеммы, которую нельзя назвать иначе, чем трагической. СДПГ поддерживала правительство Брюнинга с октября 1930 г. не только с целью не допустить прихода к власти правого правительства, но и чтобы не поставить на кон коалицию СДПГ с Центром и Немецкой государственной партией в республиканской «цитадели» — Пруссии. Если бы Брюнинг был свергнут социал-демократами, то на них обрушился бы упрек в том, что они нарушили главный неписаный закон Веймарской республики, разорвав сотрудничество СДПГ и буржуазного центра и расчистив тем самым дорогу к власти заклятым врагам демократии. Пойдя на разрыв с Брюнингом, СДПГ очевидно подвинулась бы ближе к коммунистам. Однако последствия такого шага влево были предсказуемы: СДПГ должна была бы отказаться не только отостатков коалиционных отношений с буржуазными партиями, а тем самым — и от своего положения, дающего государственную власть, она также потеряла бы значительную часть своих сторонников и только усилила социальные страхи в среде буржуазии, что привело бы к еще более стремительному росту числа последователей национал-социализма. При таком варианте развития событий социал-демократия неизбежно привела бы своими действиями к той поляризации сил, которую она всеми силами стремилась избежать, т. к. это могло означать превращение латентной гражданской войны в войну открытую. Глубоко укоренившийся страх перед гражданской войной был также главной причиной того, почему социал-демократия и Свободные профсоюзы не ответили на «удар по Пруссии», нанесенный 20 июля 1932 г. наследником Брюнинга, Францем фон Папеном, всеобщей забастовкой и призывом к сопротивлению. Всеобщая забастовка летом 1932 г., принимая во внимание массовую безработицу, была бесперспективным предприятием, а боевая проба сил с рейхсвером и полувоенными союзами правых могла закончиться только кровавым поражением сторонников республики. Совместное с коммунистами отражение «удара по Пруссии»исключалось с самого начала: КПГ до последнего момента самым резким образом выступала против правительства Брауна. Следовательно, для коммунистического руководства был немыслимым призыв к собственным сторонникам совместно с «социал-фашистами» бороться за восстановление в правах ненавистного им правительства{615}. На более прочном фундаменте, чем миф об едином пролетарском фронте, который мог бы преградить Гитлеру путь к власти, основывается тезис о «добровольной сдаче» позиций Веймарской демократией. Согласно этому толкованию, предлагаемому многими либеральными и некоторыми консервативными авторами, парламентскую демократию можно было спасти, если бы демократические силы проявили больше благоразумия и способности к компромиссу. И в самом деле, крах в конце марта 1930 г. Большой коалиции, последнего правительства парламентского большинства, не был неизбежен. Социал-демократы совершили тогда ошибку, не согласившись с предложением об отсрочке по существу спора о реформировании страхования по безработице. Таким образом они могли бы продлить жизнь правительства Германа Мюллера на несколько месяцев, вероятно, вплоть до осени 1930 г. Но большего, однако, в тех условиях ожидать было нельзя. Правофланговая партия Большой коалиции — Немецкая народная партия — хотела расторгнуть союз с социал-демократией. Промышленность и крупное сельское хозяйство, командование рейхсвера и камарилья вокруг Гинденбурга стремились к перемещению властного центра тяжести от парламента к рейхспрезиденту. Силы, активно работавшие над переходом к президентской системе правления, не воспринимали себя как «демократов». Эти до-демократические властные элиты в гораздо большей степени несли ответственность за распад Большой коалиции, чем социал-демократы и Свободные профсоюзы. Уже поэтому формула о «добровольной сдаче демократии» применительно к весне 1930 г. вводит в заблуждение{616}. И тем не менее тезис о «добровольной сдаче» имеет здоровое ядро, если рассматривать развитие парламентской демократии Веймара в целом. Обычная причина частых правительственных кризисов заключалась в том, что для партнеров по коалиционному кабинету забота о собственной партийной идентичности значила куда больше, чем имидж правительства в целом. Это утверждение справедливо в первую очередь для последней Большой коалиции под руководством Германа Мюллера, которая снова и снова подвергалась пробам на прочность. Однако недостаточная готовность к компромиссу несла в себе угрозу не только существующим коалициям, но и не раз препятствовала образованию новых. Летом 1926 г. Большая коалиция не сложилась прежде всего потому, что социал-демократы в ходе плебисцита об отчуждении княжеских имуществ вступили во временный тактический альянс с коммунистами и после этого у них не хватило сил, чтобы достичь согласия с центристскими партиями. Если бы в 1926 г. дело дошло до Большой коалиции, то она, возможно, смогла бы решить проблему, с которой не смог после 1928 г. справиться кабинет Мюллера: санировать государственные финансы. Фатальными были также последствия отказа в конце ноября 1922 г. вновь объединенных социал-демократов под давлением бывших «независимых» от вступления в Большую коалицию с участием Немецкой народной партии Густава Штреземана. Правительство, созданное на широкой парламентской основе, очевидно, едва бы проводило такую рискованную политику, как буржуазное правительство меньшинства Куно, которое было назначено рейхспрезидентом Эбертом по решению его партийных товарищей. Германия должна была сначала оказаться на краю финансовой, экономической и политической катастроф, чтобы в августе кризисного 1923 г. все же была сформирована Большая коалиция под руководством Густава Штреземана. Но тот опыт, который СДПГ получила во время двух с половиной месяцев управления страной в составе «команды», имел, скорее, эффект самоустрашения: в течение четырех с половиной лет, вплоть до осени 1928 г., самая большая демократическая партия не участвовала в правительственных коалициях на уровне рейха. Коалиционная политика на уровне рейха осложнялась еще и тем, что конституционные партии — СДПГ, Центр, Немецкая демократическая партия — уже в ходе первых выборов в рейхстаг в июне 1920 г. утратили большинство, выпавшее на их долю в январе 1919 г. в ходе выборов учредительного Национального собрания. С этого времени правительство парламентского большинства было возможно сначала только в виде Большой коалиции с включением изначально монархической Немецкой народной партии, а начиная с 1924 г. — в форме правой коалиции от Центра до немецких националистов. Как один, так и другой тип правительства были чреваты конфликтами: если Большая коалиция угрожала распасться из-за спорных экономических и социально-политических вопросов, то камнем преткновения для правых кабинетов становились проблемы внешней политики и культуры. Буржуазные правительства меньшинства, в свою очередь, были весьма хрупкими образованиями: они могли утвердиться только в том случае, если им оказывали поддержку партии, не вошедшие в правительственную коалицию, как правило — СДПГ. Веймарская республика едва ли просуществовала бы 14 лет, если бы Пруссия не развилась после 1920 г. в некую разновидность образцового республиканского государства. Здесь социал-демократы и буржуазные центристы годами проводили сравнительно единодушную и успешную совместную политику; здесь с противниками и ненавистниками демократии боролись с такой энергией, которую едва ли можно было встретить в какой-нибудь другой федеральной земле. Успешное использование Пруссией возможности для развития республиканской демократии во многом было обусловлено радикальным изменением избирательной системы вследствие революционного перелома ноября 1918 г.: переход от трехклассного избирательного права к всеобщему, равному и тайному голосованию сделал здесь возможным становление нового «политического класса». В рейхе, который тогда же перешел от всеобщего и равного избирательного права «только» для мужчин к действительно всеобщему и равному голосованию, цезура 1918–1919 гг. была в этом отношении намного менее глубокой, а преемственность в формировании ведущих парламентских слоев — соответственно гораздо большей{617}. Персональной преемственности сопутствовала определенная преемственность политического поведения. В ноябре 1926 г. Пауль Леви, к тому моменту уже давно вернувшийся в лоно социал-демократии бывший председатель КПГ, классическим образом выразил «левое» понимание правильного соотношения между правительством и парламентом: «Демократия и республика четко знают только две вещи: правительство, которое управляет, и парламент, перед которым правительство ответственно… Правительство и парламент должны противостоять друг другу свободно, открыто и независимо: их противостояние, а при известных условиях и борьба, являются жизнью демократической республики»{618}. Леви говорил о демократической республике, но мыслил в категориях конституционной монархии. В ней правительство и парламент были независимы друг от друга. Напротив, в парламентской демократии правительство зависит от доверия парламентского большинства. Не правительство и парламент противостоят здесь друг другу, а правительственное большинство и парламентская оппозиция. В Германии, с ее партийным многообразием, когда ни одна из партий не располагала большинством мест в рейхстаге, это означало необходимость коалиции. Если марксисты-демократы, как Пауль Леви, не хотели принимать подобную логику, то они лишь отчасти придерживались немецкой традиции. II Интернационал на своем Амстердамском конгрессе в 1900 г. в принятой им «резолюции Каутского» сформулировал решение, согласно которому социалисты могли принимать участие в буржуазном правительстве только в том случае, если речь шла о «временном и чрезвычайном крайнем средстве в тяжелом положении». Французские социалисты придерживались этой доктрины, за исключением интермедии «union sacree» в годы Первой мировой войны, вплоть до образования правительства Народного фронта в 1936 г., последовательно отклоняя коалиции с буржуазными партиями. В сравнении с такой позицией немецкие социал-демократы оказались чрезвычайно восприимчивыми к новым реалиям и более гибкими политиками. Но они и должны были быть таковыми, т. к. в отличие от Франции времен Третьей республики парламентская демократия в Германии находилась под постоянной угрозой, если социал-демократы и умеренные буржуазные партии не были готовы или способны вступать в коалиции друг с другом{619}. Трудности, которые многие левые демократы испытывали с государством Веймара, были тесно связаны с историей его возникновения. Изменения, привнесенные революцией 1918–1919 гг. в общественное соотношение сил, не соответствовали ожиданиям большинства рабочего класса. То, что стрелки немецкой политики были в этот период переведены неправильно, казалось многим наблюдателям уже в то время. Спустя несколько месяцев после взятия Гитлером власти, 23 сентября 1933 г., Рудольф Гильфердинг, принадлежавший в 1918 г. к независимым социал-демократам, писал Карлу Каутскому, еще одному бывшему «независимцу»: «Наша политика в Германии начиная с 1923 г. в целом без сомнения жестко определялась ситуацией и не могла быть другой. Однако в период начиная с 1914 г. и уж тем более с 1918 г. и до капповского путча политика была гибкой и именно в это время были совершены главные ошибки. Это мы утверждали уже тогда и нам нет нужды брать свои слова обратно теперь». Спустя четыре месяца мнение Гильфердинга стало официальной точкой зрения партии. В написанном им «Пражском манифесте» СДПГ в изгнании в январе 1934 г. в отношении революции 1918–1919 гг. говорилось следующее: «То, что она практически в неизменном виде переняла старый бюрократический аппарат, было тяжелой исторической ошибкой, которую совершило немецкое рабочее движение, дезориентированное войной»{620}. Вердикт Гильфердинга резюмировал то, что с начала 1960-х гг. стало не совсем бесспорной, но тем не менее преобладающей интерпретацией немецкой революции 1918–1919 гг. в исторической науке. Новое видение истории, подкрепленное рядом исследований, сменило царившее до этого мнение, классическое выражение которого приведено Карлом Дитрихом Эрдманом в 1955 г.: в 1918–1919 гг. речь шла о ясной альтернативе, а именно или о «социальной революции в союзе с силами, стремившимися к пролетарской революции, или о парламентской республике в союзе с такими консервативными силами, как старый офицерский корпус». Более юная генерация историков выступила против тезиса Эрдмана, используя в первую очередь аргумент, сформулированный еще в 1935 г. независимым марксистом Артуром Розенбергом в книге «История немецкой республики»: союз с коммунистами не мог выступать действительной альтернативой демократическому Веймару уже потому, что в первые месяцы после завершения мировой войны и еще долго после этого коммунисты не обладали массовой поддержкой в народе. В большей степени речь шла тогда о коренных изменениях архаичных властных отношений — об изменениях, которые можно было бы провести с помощью советов рабочих и солдатских депутатов, имевших в тот момент преимущественно социал-демократическую ориентацию, если бы только вожди правых социалистов действительно этого захотели{621}. Ревизия «тезиса Эрдмана» дала возможность многое прояснить и имела почти освобождающий эффект. С тех пор как историческая наука начала выяснять границы свободы действий и выявлять альтернативы революционного периода, уже нельзя было оправдывать политику Эберта и Носке в целом, как вынужденную обстоятельствами. Но разрушение одного, в данном случае консервативного мифа, невольно благоприятствовало созданию другого, левого контрмифа получившего широкое распространение в ходе студенческого движения 1968 г.: он прославлял советы как носителей истинной демократии и утверждал, что настоящая «советская» революция, случись она после Первой мировой войны, сделала бы невозможной победу «немецкого фашизма» и тем самым — Вторую мировую войну. Огрубение ревизионистской позиции способствовало тому, что в историографии между тем осуществилось нечто вроде своеобразной «ревизии ревизии». Сегодня роль советов рабочих и солдатских депутатов оценивается гораздо более трезво, чем в середине — конце 1960-х гг. Советы могли бы, так можно обрисовать превалирующее мнение, оказать энергичную поддержку политике реформ «сверху», но сами они не справились бы с реализацией такой политики. Децентрализованные и раздробленные, какими они были на самом деле, советы не имели ни единого шанса породить из своей среды национальный центр власти. Они были только временной мерой переходного периода, когда не действовал парламент, и в большинстве случаев не хотели быть чем-то иным. В отличие от 1960-х гг., сегодня уже едва ли говорят о «третьем пути» между политикой правых социал-демократов вокруг Фридриха Эберта и политикой коммунистов. В 1918–1919 гг. не могло идти речи о каких-либо комбинациях между парламентской и советской системами, а лишь об общественных изменениях, обещавших послужить упрочению столь желанной парламентской демократии. Новая литература острее, чем это делалось в исследованиях революции 1960-х гг., подчеркивает рамки, которыми был ограничен политический и общественный перелом в Германии 1918–1919 гг. Германия была высокоразвитой индустриальной страной с типичной для индустриального общества потребностью в преемственности деятельности государственных органов власти. Помимо этого, Германия была благодаря заблаговременному введению всеобщего, равного и прямого избирательного права для мужчин — в 1867 г. в Северогерманском союзе и в 1871 г. — в Германском рейхе — частично демократической страной. Оба эти факта объясняют, почему в Германии не могло произойти переворота ни по образцу демократических революций Запада, ни по примеру Октябрьской революции в России, т. е. по образцу революций, состоявшихся в преимущественно аграрных обществах. В Германии в 1918–1919 гг. были возможны только профилактические структурные реформы: первые шаги в направлении демократизации управления, создания лояльной республике армии, введения общественного контроля за экономикой вплоть до обобществления горно-металлургического сектора. Но невозможен был тот радикальный разрыв с прошлым, который был необходим, чтобы освободиться от всего тягостного наследия кайзеровского авторитарного государства{622}. Исходя из этого заключения вновь встает вопрос об исторической связи между революцией 1918–1919 гг. и передачей власти Гитлеру. Даже если бы в ходе основания республики осуществилось все, что независимые социал-демократы, как Гильфердинг и Каутский, расценивали необходимым и возможным, это не исключало бы крушения республики в дальнейшем. Ни одна из старых элит не работала так долго, так активно и так успешно над разрушением Веймарской демократии, как остэльбское юнкерство. Но ни одна из сторон — ни народные уполномоченные, ни массы батраков и мелких крестьян — не собиралась проводить в 1918–1919 гг. экспроприацию помещиков. Юстиция, еще одна прочная опора старого авторитарного государства, также не спешила предоставить себя в распоряжение революции, и то же самое справедливо в отношении немецких университетов и гимназий. На деле не только отдельные властные элиты, но и значительная часть образованной буржуазии с самого начала относилась к противникам юной демократии. Сторонники этой демократии, очевидно, могли требовать, чтобы отдельные, открыто нелояльные республике судьи, адвокаты и чиновники были уволены со своих постов. Но для масштабной ротации кадров отсутствовали, во-первых, персональные ресурсы. Во-вторых, объявление войны целому сословию или вовсе всей «буржуазии» означало развязать гражданскую войну, чего не мог желать тот, кто стремился к демократии. Вследствие этого республика должна была с самого начала существовать с тем чиновничеством, среди которого убежденные республиканцы составляли только незначительное меньшинство{623}. Современники в отличие от историков, склонных делать выводы спустя десятилетия после изучаемых событий, давали другой ответ на вопрос о бремени, выпавшем на долю молодого демократического государства. Для большинства немцев, в сознательном возрасте переживших период с 1918 до 1933 г., тень на 14 лет первой республики бросала не кайзеровская Германия, а Версаль. Мирные условия так больно ударили по немцам еще и потому, что коалиционное правительство Шейдемана сознательно отказалось от того, чтобы объяснить общественности за оставшиеся недели до подписания договора более глубокую причину ожидавшейся расправы: ответственность Германии за развязывание мировой войны. Этот мирный договор нарушал принцип права народов на самоопределение; репарации стали тяжким бременем для немецкой экономики; статья о виновности в развязывании войны искажала историческую правду, поскольку речь в ней шла только об ответственности Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции, умалчивая о царской России. Но правительства стран-победительниц находились под давлением своих собственных народов, которые, в свою очередь, не видели повода, чтобы проявлять милосердие в отношении грешника, который и не думал раскаиваться. И все же Версаль не был «Карфагенским миром»[73]. Рейху была проведена ампутация, но он продолжил свое существование и имел хорошие перспективы спустя некоторое время вновь занять свое место среди великих европейских держав. Но к такому выводу в 1919 г. пришло только меньшинство современников. Ничто так не объединяло немцев веймарских лет, как отказ смириться с Версальским миром, хотя мнения о цели и средствах его ревизии расходились достаточно далеко. Социал-демократы и буржуазный центр, к которому, пока Штреземан был министром иностранных дел, относилась также Немецкая народная партия, делали ставку на частичную мирную корректировку Версаля и думали при этом прежде всего об изменении немецко-польской границы. Радикальные правые силы и коммунисты, напротив, открыто заявляли о своей приверженности к насильственному ниспровержению мирового порядка образца 1919 г. Насилие как средство достижения поставленной цели еще не могло быть применено в отношении внешнего мира и практиковалось поначалу в самой Германии. В периоде 9 ноября 1918 г. и вплоть до гитлеровского путча 8–9 ноября 1923 г. внутри страны так и не было заключено перемирие. Попытки переворота следовали как справа, так и слева. Первыми за оружие в январе 1919 г. взялись руководители рабочей оппозиции против мировой войны и коммунисты, чтобы воспрепятствовать выборам в Национальное собрание и добиться развития событий по русскому образцу, в направлении советской системы. Радикальные левые сыграли при этом на руку правым радикалам, дав им в руки козырь — выдать свою агрессию как реакцию на насилие со стороны коммунистов. Добровольческие корпуса (фрайкоры), сыгравшие решающую роль при подавлении восстаний коммунистов и анархистов, сначала действовали по поручению государства. Когда весной 1920 г. имперское правительство под давлением союзников готовилось распустить добровольческие корпуса, те ответили первой опасной попыткой государственного переворота справа — путчем Каппа — Лютвица. Но этот опыт не удержал рейхсвер от сотрудничества с полувоенными союзами правых в будущем, что позволило в определенной степени перечеркнуть наложенное Версальским миром ограничение численности вооруженных сил Германии 100-тысячной армией. Тем самым часть государственного аппарата невольно способствовала выхолащиванию государственного притязания на монополию легитимного физического насилия. Союзники также невольно способствовали в результате одностороннего разоружения Германии милитаризации общественной жизни в побежденной стране. Последствия этого оказались долговечнее схожих с гражданской войной конфликтов первого послевоенного пятилетия. И впоследствии полувоенные союзы различных направлений продолжали препятствовать формированию «гражданского общества». И тем не менее начиная с 1923–1924 гг. наблюдались несомненные признаки стабилизации в политике и экономике. Денежная реформа оказалась удивительно успешной. Выборы Гинденбурга рейхспрезидентом в апреле 1925 г. сделали республиканскую форму правления терпимой для консервативной Германии. Фундаментальная правая оппозиция больше не имела в зрелые годы республики массового количества сторонников, а притягательная сила коммунистов была гораздо слабее, чем на пике послевоенного кризиса летом 1923 г.{624} В отношении внешней политики позиции немецкого рейха также укрепились начиная с 1924 г. Франция не одержала победы в борьбе за гегемонию в континентальной Европе, вершиной которой стала оккупация Рурской области, и выразила готовность вести с Германией политику мирного компромисса. Советский Союз, в свою очередь, отказался от попыток революционизировать Германию по типу средненемецкого восстания 1921 г. или «немецкого октября» 1923 г. и сконцентрировался на «постройке социализма в одной отдельно взятой стране». Соединенные Штаты Америки играли активную роль в урегулировании репарационного вопроса и сделали возможным путем кредитования расцвет немецкой экономики. Но относительность стабилизации была очевидной, что осознавалось уже многими современниками. Германия вышла экономически ослабленной из войны и инфляции. Рост немецкой экономики отставал в середине 1920-х гг. от темпов роста мирового хозяйства. Идущая на сбережение часть доходов понизилась с 17 % от национального дохода в последний военный год до 10 % в 1926 г. Уровень промышленного производства 1913 г. был преодолен Германией только в 1928–1929 гг. Объем экспорта 1913 г. так и не был достигнут немецкой промышленностью после войны. Чистую прибыль от торговли товарами Германия получила в ходе «стабилизационной фазы» только однажды, а именно в 1926 г. Для баланса текущих операций, который включает в себя торговлю товарами, предоставление услуг, а также трансферт процентов и дивидендов, справедливо то же самое утверждение. После окончания войны Германия платила большие суммы в виде репараций и процентов, чем получала заграничных активов. И только избыток притока капиталов, ставший в первую очередь результатом предоставления американских кредитов, давал возможность выравнивать платежный баланс и производить репарационные выплаты{625}. Таким образом, время относительной стабилизации может быть также названо временем относительной стагнации, а конъюнктурный взлет экономики — видимостью процветания. Несмотря на это, рейх, федеральные земли и муниципалитеты вели такую политику расходов, словно они могли черпать средства из неиссякаемого источника. Предпринимательство, которое уже к концу инфляционного периода было достаточно сильным, чтобы в значительной мере аннулировать свою главную социальную уступку ноября 1918 г. — введение восьмичасового рабочего дня, — выдвигало убедительные аргументы, с помощью которых снова и снова пыталось подвигнуть общественные учреждения на путь экономии и бережливости. Но дело не ограничилось только призывом к взвешенной финансовой политике. Чем хуже становилась экономическая конъюнктура, тем громче союзы промышленности, сельского хозяйства и промыслового среднего сословия требовали демонтажа Веймарского социального государства и отхода от системы парламентской демократии, которой они ставили в вину то, что она поощряет алчность масс и ставит производителей в невыгодное положение. Веймарская конституция 1919 г. предоставила в распоряжение своих врагов инструментарий для вытеснения парламентаризма в форме права рейхспрезидента издавать внепарламентские законодательные акты в соответствии со статьей 48. Задуманная изначально как ответ на ситуацию, ставившую под угрозу общественную безопасность и порядок, т. е. когда действительно имелось налицо чрезвычайное положение, статья 48 конституции уже во времена президентства Фридриха Эберта стала средством ускоренного законодательства в условиях кризиса, а рейхспрезидент был возведен в ранг ограниченного эрзац-законодателя. При Гинденбурге, начиная с лета 1930 г., режим чрезвычайных постановлений превратился в хроническое явление, а второй рейхспрезидент даже не задумывался о том, чтобы вернуться от президентской «резервной конституции» к нормальному парламентскому законодательству. По чести говоря, начиная с сентябрьских выборов 1930 г., в ходе которых на сторону национал-социалистов толпами переходили прежде всего либеральные и консервативные избиратели, для такого возврата отсутствовали также и парламентские предпосылки, а именно — способное к управлению парламентское большинство. Весной 1932 г. массовый приток сторонников к национал-социалистам достиг такой силы, что у Гитлера были хорошие шансы выйти победителем в избирательной борьбе за пост рейхспрезидента. Он наверняка достиг бы этой цели, если бы социал-демократам и Центру не удалось мобилизовать своих сторонников для повторных выборов Гинденбурга. Однако пожилого рейхспрезидента весьма задевало то обстоятельство, что своей второй легислатурой он был обязан не правым, а своим бывшим противникам. Дополнительное раздражение у Гинденбурга и его камарильи вызывали уступки, которые правительство Брюнинга было вынуждено сделать социал-демократам, чтобы заручиться их поддержкой на будущее. Чтобы разрушить зависимость от социал-демократов и приобщить к управлению государством национал-социалистов, — с точки зрения Гинденбурга плебейское, но все же «национальное» движение, — 30 мая 1932 г. был отправлен со своей должности в отставку Брюнинг. Вскоре вслед за этим его намного более правый преемник, Франц фон Папен, выполняя свои договоренности с Гитлером, распустил рейхстаг, выбранный в сентябре 1930 г. Тем самым окружение Гинденбурга без какой-либо настоятельной причины драматически обострило государственный кризис. Обособление исполнительной власти вступило в новую стадию: если до этого президентский режим стремился к тому, чтобы ему оказывалась парламентская поддержка, то теперь он открыто выступал против рейхстага. Новые выборы в рейхстаг 31 июля 1932 г. привели к формированию «негативного» большинства двух тоталитарных партий, НСДАП и КПГ. Теперь парламентский способ решения кризиса был возможен только в том случае, если бы НСДАП, лидировавшая с большим отрывом, отказалась от своего тоталитарного характера и пошла бы на формирование «черно-коричневой» коалиции с участием Центра и Баварской народной партии. Обе католические партии стремились к такому «компромиссу». Но Гитлер не был в нем заинтересован. Он отнюдь не хотел быть канцлером парламентского коалиционного кабинета, наделенным ординарными правами, напротив, он претендовал на пост главы президентского кабинета с чрезвычайными полномочиями. Но к этому не был готов Гинденбург. Он был склонен приветствовать национал-социалистов как «младших» партнеров президентского кабинета Папена, но не как носителей правительственной власти, играющих решающую роль. 13 августа 1932 г. рейхспрезидент в резкой форме отклонил притязания Гитлера на пост рейхсканцлера. Двумя с половиной неделями позднее, 30 августа, рейхспрезидент выбрал путь, который предложило ему «ядро правительства» в составе рейхсканцлера фон Папена, министра иностранных дел фон Гайла и министра обороны фон Шлейхера: новый роспуск рейхстага, отсрочка очередных выборов на время, превышавшее установленный конституцией максимальный срок в 60 дней и объявление «надзаконного» чрезвычайного государственного положения. Но 17 сентября 1932 г. этот план нарушения конституции не получил поддержки большинства кабинета. В итоге выборы в рейхстаг, роспуск которого состоялся пятью днями ранее, были назначены на 6 ноября 1932 г., максимально позднюю дату, допустимую конституцией. Ноябрьские выборы не устранили «негативного» большинства НСДАП и КПГ в рейхстаге, но в их результате национал-социалисты понесли серьезные потери среди электората, в то время как количество избирателей, отдавших свои голоса коммунистам, резко возросло. Именно в этом стечении собственного поражения и успеха крайне левых заключался, как бы парадоксально это не звучало, последний шанс Гитлера прийти к власти. Страх того, что в результате новых выборов зимой 1932–1933 гг. коммунисты могут стать еще сильнее, а национал-социалисты — еще слабее, подвиг часть старых элит, в том числе ведущих предпринимателей тяжелой промышленности, сделать ставку на сделку между Гитлером и Папеном. Сам Папен уже в ноябре 1932 г. очевидно склонялся к канцлерству Гитлера, «обрамленному» консервативными рамками, но потом поддался Гинденбургу и стал выступать за выход из кризиса путем введения чрезвычайного положения. Большинство кабинета, напротив, следовало линии министра рейхсвера фон Шлейхера. Тот хотел сперва попытаться создать правительству широкий общественный фундамент, возможно, в форме «поперечного фронта» от профсоюзов до национал-социалистов. Но и переноса новых выборов Шлейхер ни в коем случае не исключал. Однако, с его точки зрения, решение об этом могло быть принято только в том случае, если массовая поддержка правительства будет настолько сильной, что больше не придется опасаться того, что введение чрезвычайного положения вызовет гражданскую войну. После того как 3 декабря 1932 г. Шлейхер наследовал Папену на посту рейхсканцлера, он попытался претворить в жизнь свою концепцию. Ему удалось снять напряженность в отношениях с профсоюзами, но ему не удалось ни завоевать на свою сторону национал-социалистическое движение в целом, ни расколоть его. Он также не смог предотвратить открытого разрыва с аграриями, которые начиная с 11 января 1933 г. открыто работали над его свержением. По меньшей мере столь же серьезная опасность для него таилась в том, что его предшественник на посту рейхсканцлера, пользуясь поддержкой части тяжелой индустрии, трудился над осуществлением проекта «дуумвирата» Папен — Гитлер, который должен был сменить правительство Шлейхера. Когда кабинет 16 января 1933 г. принял решение просить Гинденбурга о роспуске рейхстага и переносе новых выборов на осень 1933 г., для осуществления этого плана отсутствовала важнейшая предпосылка — решимость рейхспрезидента пойти по пути введения чрезвычайного положения. В борьбе, развернувшейся вокруг Гинденбурга, в январе 1933 г. победили те, кому доверял Старый Господин. Шлейхер уже давно не относился к их числу, зато в круг доверенных лиц входили помещики — личные друзья Гинденбурга, его сын Оскар, статс-секретарь Мейснер, и не в последнюю очередь Франц фон Папен. Гинденбург по-прежнему не доверял «богемскому ефрейтору» вплоть до конца января 1933 г. Но так как все, к чьему суждению прислушивался рейхспрезидент, уверяли его, что Гитлер во главе преимущественно консервативного кабинета является гораздо менее опасным вариантом выхода из кризиса, чем план Шлейхера о введении в государстве чрезвычайного положения, то Гинденбург в конце концов уступил. 30 января 1933 г. Гинденбург был вынужден произвести смену канцлера в столь же малой степени, в какой он должен был в мае 1932 г. отправить в отставку Брюнинга и назначить Папена. Он мог бы оставить на посту канцлера Шлейхера, который в ходе их последнего разговора 28 января 1933 г. уже вовсе не просил об антиконституционном переносе очередных выборов, а лишь требовал роспуска парламента, или мог сделать канцлером политика, чье назначение не оказало бы такого политически поляризирующего влияния. Однако Гинденбург видел только одну альтернативу: либо кабинет Гитлера — Папена, находящийся под контролем консервативных сил, либо националистически ориентированный «боевой кабинет» Папена — Гугенберга. Таким образом, для рейхспрезидента существовали только «правые» решения. Его политические убеждения были убеждениями той среды, из которой он вышел и к которой он прислушивался, но не принципами четырех миллионов социал-демократов и католиков, отдавших ему свои голоса на выборах рейхспрезидента в апреле 1932 г. для того, чтобы воспрепятствовать взятию власти Гитлером. Но так как дела обстояли именно так, то экономически слабое остэльбское юнкерство обладало на завершающей стадии кризиса Веймарской республики большим политическим влиянием, чем несравнимо более могущественная крупная индустрия. Не промышленники, а представители земельной аристократии имели привилегию прямого доступа к рейхспрезиденту. В мае 1932 г. Ландбунд использовал этот шанс для того, чтобы в союзе с руководством рейхсвера и немецкими националистами свалить Брюнинга. Только отставка последнего и роспуск избранного в 1930 г. рейхстага привели к ситуации, в которой введение в стране чрезвычайного положения могло казаться путем выхода из кризиса. В январе 1933 г. Гинденбург вновь должен был вступить в конфронтацию с последствиями своего собственного вклада в обострение кризиса немецкой государственности. Как и за восемь месяцев до этого, лицами, которые особенно рьяно добивались свержения канцлера, снова были крупные аграрии. В то время как ведущие союзы промышленников стремились поддержать Шлейхера, Ландбунд работал над его отставкой. Представители помещиков знали, что рейхспрезидент обижен на канцлера, т. к. тот не защитил его от обвинений в связи со скандалом о растранжиривании средств, выделенных в рамках акции помощи Восточной Германии, а также в связи с налоговыми манипуляциями в отношении подаренного семейству Гинденбург имения Нейдек. Крупные землевладельцы были самыми заинтересованными лицами в том, чтобы воспрепятствовать бюджетному комитету рейхстага вести дальнейшее разбирательство по поводу злоупотребления государственными средствами, выделенными на поддержку обремененных долгами восточно-прусских имений. С этой точки зрения причины, сыгравшие решающее значение в падении правительства Шлейхера и передаче власти Гитлеру, были банальными. Но они также были частью социальной истории Германии. Ни в каком другом высокоразвитом индустриальном обществе доиндустриальные элиты не смогли сохранить такой политической власти, как юнкерство в Германии во времена Веймарской республики. Передача власти Гитлеру не была необходимым результатом предшествовавших ей выборов. Но она стала возможной только потому, что НСДАП превратилась 31 июля 1932 г. в сильнейшую партию и смогла подтвердить этот статус, несмотря на потерю голосов, 6 ноября 1932 г. Таким образом, Гитлер получил свое канцлерство не только в результате интриг властных элит, но и благодаря массам, оказавшим ему, как и ранее, свою поддержку. С момента выборов в рейхстаг 31 июля 1932 г. в действительности не оставалось больше сомнений в том, что большинство немцев голосовали против Веймара. Но одними только заявлениями о неприкосновенности конституции нельзя было преодолеть состояние конституционного паралича. Отклонение от отдельных ее статей было неизбежно, если только стояла задача отразить атаку ее противников. Самым минимальным отклонением было бы игнорирование чисто деструктивного вотума недоверия. Но ни президентские кабинеты Папена и Шлейхера, ни ведущие демократические партии даже не рассматривали серьезно в качестве спасательного средства это «мягкое» нарушение конституции. Гораздо проблематичнее был перенос новых выборов рейхстага на более поздний срок, чем было предусмотрено конституцией. Если какое-либо правительство перенесло бы выборы, чтобы в промежутке установить новый, авторитарный режим (как это намеревались сделать Папен и его министр внутреннихдел фон Гайл), то это означало бы покушение на конституцию. Когда же правительство Шлейхера приняло в январе 1933 г. решение о необходимости провозглашения чрезвычайного положения, то речь шла уже не об авторитарной конституционной реформе, а о том, чтобы в отсутствие парламента дать импульс экономике и повести действенную борьбу с тоталитарными партиями. Перенос выборов в рейхстаг в таком случае должен оцениваться иначе, чем планы по введению чрезвычайного положения предшествующего правительства. Решение правительства Шлейхера от 16 января 1933 г. могло бы открыть выход из ситуации государственного кризиса, конечно же, при условии, что эта попытка была бы недвусмысленно поддержана рейхспрезидентом, а конституционные партии и профсоюзы отнеслись бы к ней по крайней мере терпимо. Отказ демократических сил дать свое согласие на ultima ratio оборонительного чрезвычайного положения, объясняется в первую очередь их традиционным легализмом. Более глубокой причиной этого легализма был страх гражданской войны. Поэтому почти все партии и союзы расценивали в январе 1933 г. националистический «боевой кабинет» Папена — Гугенберга как наиопаснейший вариант выхода из кризиса. От этого правительства, против которого выступало ⁹⁄₁₀ немецкого народа, можно было ожидать государственного путча, а вслед за ним и восстания масс. Но и в случае объявления чрезвычайного положения Шлейхером, СДПГ, Центр и БФП — последние «веймарские» партии, еще располагавшие значительным количеством сторонников среди электората — опасались обострения ситуации вплоть до развязывания открытой гражданской войны. Формально законная передача власти Гитлеру вызывала у них сравнительно меньше страха. Таким образом, веймарские конституционные партии со своим принципиальным легализмом внесли свой вклад в оправдание расчетов Гитлера, которые он преследовал своим тактическим легализмом. Предположительно кабинет Шлейхера после введения чрезвычайного положения стал бы правительством скрытой военной диктатуры, а рейхсвер — истинным носителем исполнительной власти. При таком варианте развития событий следовало считаться с массовыми протестами национал-социалистов и коммунистов. Напротив, можно было исключить вероятность того, что профсоюзы призовут к проведению всеобщей забастовки против «социального генерала». Социал-демократы, католические партии и либеральная пресса протестовали бы против переноса новых выборов в рейхстаг на осень 1933 г., но, конечно, не выступили бы за применение силы. Возможность гражданской войны при таких обстоятельствах была бы скорее всего минимальной. Фактическая военная диктатура, очевидно, была последним средством спасения от диктатуры Гитлера: альтернатива ей показывает, куда пришел Веймар. С того момента, как Гинденбург был впервые избран на высший государственный пост, не существовало больше гарантии, что в случае крайней необходимости он покажет себя хранителем духа конституции. Парламентская демократия потерпела крушение спустя пять лет, потому что большая часть властных элит выступала против нее, а демократические партии больше не оказывали ей решительной поддержки. Последующая вслед за тем радикализация была вынужденной реакцией на экономическую депрессию и обособление исполнительной власти. Зато передача власти Гитлеру не была вынужденной. Но для того, чтобы предотвратить катастрофу, которая началась 30 января 1933 г., необходим был устойчивый антитоталитарный консенсус между президентской властью и демократическим меньшинством парламента. Так как этого минимума согласия не существовало, путь для Гитлера оказался открыт. Трансформация, которую претерпела Германия с 1918 г. по 1933 г., демонстрирует как параллели, так и бросающиеся в глаза отличия от эволюции других европейских стран в это же время. Во многих государствах после Первой мировой войны парламентская система была потрясена кризисами. И для «старых» демократий Западной и Северной Европы были свойственны как критические ситуации, связанные с формированием парламентского большинства, так и частые правительственные кризисы, но нигде они не привели к упразднению парламентской системы. Иначе обстояло дело в странах, расположенных на востоке Северной, Средней и Южной Европы, из которых только две — Чехословакия и Финляндия — смогли сохранить свои демократии. Во всех остальных в межвоенный период воцарились правые авторитарные режимы. То же самое справедливо для Португалии, и, как результат Гражданской войны 1936–1939 гг., для Испании. Образцом для новых авторитарных систем была фашистская Италия, которая начиная с 1922 г. преподала урок того, как. можно трансформировать неустойчивую демократию в стабильную диктатуру: путем радикального национализма, культа фюрера, господства одной партии и подавления любой возможной оппозиции, прежде всего — марксистских организаций рабочих. Ни одно из государств, в которых в период между двумя мировыми войнами была установлена правая диктатура, не было высокоиндустриальным, все они были преимущественно странами с аграрной экономикой. Это касалось с некоторыми исключениями также Италии, где индустриализирован был только север страны. Германия была единственной высокоразвитой промышленной державой, которая в ходе мирового кризиса утратила свою демократию, заменив ее тоталитарной диктатурой справа — диктатурой, которую корректно характеризовать как «фашистскую», и все же этого будет недостаточно, поскольку итальянской «модели» фашизма не хватало такой сущностной черты национал-социализма как убийственный расизм. Причины особого немецкого пути развития лежат, как мы видели, в глубоком прошлом. В ходе революции 1848 г. буржуазный либерализм потерпел неудачу в своей попытке одновременно добиться как единства Германии, так и свободы для ее граждан. Единство пришло в форме империи, основанной Бисмарком. Но о свободомыслящей конституции кайзеровской Германии не могло идти и речи, поскольку рейхсканцлер и его статс-секретари не были ответственны перед рейхстагом. Нерешенный вопрос свободы должен был быть поэтому вновь поставлен на повестку дня в 1918–1919 гг. Парламентская демократия Веймара была попыткой разрешить главное противоречие кайзеровского рейха — устранить антагонизм междуэкономической и культурной новизной, с одной стороны, и отсталостью политической системы — с другой. Германия должна была в процессе демократизации достигнуть политического уровня развития Западной Европы. Восстановление бюрократического авторитарного государства при Брюнинге означало неудачу попытки модернизации. Уже к этому моменту едва ли можно было сомневаться в том, что социал-демократы, в руках которых так неожиданно в 1918–1919 гг. оказалась власть, не справились с поставленной ими самими двойной задачей — воплощением в жизнь политической и социальной демократии, как и либералы за столетие до них. У наблюдателя, который рассматривает проблему ретроспективно, сам собой напрашивается вопрос: не сыграли ли свою роль в обоих случаях наряду с субъективной неспособностью также объективные чрезмерные вызовы, обращенные к свободолюбивым силам Германии. Успешные революции Западной Европы состоялись в национальных государствах, имевших многолетнюю историю. «Германия» 1848 г. состояла из множества государств, в том числе из двух крупных держав — Пруссии и Австрии. Немецкий либерализм так никогда и не оправился полностью от поражения в этой революции. Его сосуществование с авторитарным государством имело последствия, оказавшиеся долговечнее кайзеровского рейха. Позади либеральных партий в отличие от социал-демократии и партии Центра не стояла крепко спаянная среда. Сила националистических лозунгов была для когда-то либеральных избирателей настолько притягательной, что обе либеральные партии с 1930 г. все в большей мере превращались в мелкие группировки. Итак, к моменту вступления Веймара в заключительную фазу кризиса, социал-демократия уже утратила одного из своих партнеров по парламентской коалиции, а именно либералов. Другой ее партнер, католический Центр, все больше сдвигался вправо и в конце концов погряз в иллюзии, согласно которой его исторической миссией являлось усмирение национал-социалистов путем втягивания их в коалицию. Тем самым изоляция социал-демократии стала полной. Если у крушения Веймара была одна главная причина, то она состоит в следующем: республика утратила широкую поддержку среди буржуазии, а без достаточно сильного буржуазного партнера умеренное крыло рабочего движения не могло спасти демократию. Насколько слабости демократических сил имели причины, лежавшие в далеком прошлом, настолько же глубокие корни имела сила победившей в итоге партии. Национализм был изначально оружием либеральной буржуазии в борьбе против династий, аристократии и партикулярно-государственной раздробленности Германии, а следовательно, элементом буржуазной эмансипации. Правые политики «открыли» для себя национализм только в десятилетие, последовавшее за образованием империи, и использовали его для борьбы с левыми всех оттенков. Впредь быть «национальным» означало быть «антиинтернациональным». Такая функциональная трансформация национализма от «левого» к «правому», от орудия эмансипации к средству интеграции наблюдалась в XIX веке не только в Германии, но и во многих других странах, в том числе во Франции — матери современного национализма. Однако нигде утрата национализмом демократичности и либеральности не зашла так далеко, как в Германии. Разрыв с ранним, «прогрессивным» национализмом был в Германии настолько радикален потому, что демократические корни национализма были здесь слабее, чем в Западной Европе. Немецкий национализм зародился в борьбе против иноземного владычества и гегемонии наполеоновской Франции. Этот опыт дискредитировал в глазах многих немцев те универсальные ценности, с помощью которых легитимировал себя французский национализм — идеи 1789 г. Так как к тому времени еще не существовало немецкого национального государства, то ранний немецкий национализм не мог также равняться на собственный политический порядок, который субъективно воспринимается образцовым. В большей степени он апеллировал к таким якобы объективным величинам, как народ, язык и культура, которые будто бы имели приоритет над политической волей. От этой «народнической» зависимости немецкий национализм так и не смог никогда полностью освободиться. Экстремальный национализм Гитлера был не только ответом на травму проигранной войны и национального унижения Версаля. Наряду с этим он служил сглаживанию противоречивых интересов различных социальных слоев, собиравшихся под знаменами со свастикой. Когда Гитлер противопоставлял социальной боязни перехода в низший класс обещание национального возрождения, он главным образом обращался к средним слоям, которые в первую очередь были подвержены подобным страхам во времена Великой депрессии. И все же, экстремальный национализм прежде всего являлся контридеологией по отношению к марксистскому интернационализму, неважно какого именно толка — социал-демократического или коммунистического. Благодаря этой конфронтации национализм национал-социалистов удовлетворял потребность в обособлении, которую испытывали не только буржуазные избиратели, но и «национальные» рабочие. Что касается «социализма» НСДАП, то он давно уже был интерпретирован таким образом, что под ним подразумевалось не преобразование отношений собственности, а ориентированные на общее благо экономические убеждения, ликвидация устаревших привилегий и тем самым усиление социальной справедливости. Трактуемый таким образом «национальный социализм», с одной стороны, сочетался с антисоциалистическими предубеждениями буржуазии, с другой стороны, он позволял НСДАП существенно отличаться от «реакционной» разновидности буржуазного национализма в духе Гугенберга. Радикальный антисемитизм национал-социалистов был адресно обращен к тем группам населения, которые пострадали от специфической еврейской конкуренции: розничным торговцам, десятилетиями боровшимся с еврейскими универсальными магазинами, и к студентам, из которых многие полагали, что существует еврейское засилье в профессиях, связанных с получением университетского образования. Однако в целом антисемитские лозунги больше служили делу активизации «старых борцов», чем завоеванию голосов избирателей. Гитлер правильно понял, что путем антисемитской агитации ему не удастся завоевать те массы сторонников, в которых он нуждался, если хотел прийти к власти легальным путем. На своих предвыборных митингах и в призывах к избирателям в периоде 1930 по 1932 г. НСДАП чаще и жестче, чем евреев, бичевала Версаль и «преступников ноября», международный банковский и биржевой капитал, марксизм и буржуазные партии. Хотя не может быть сомнения в стойкой юдофобии национал-социалистов, тем не менее политические левые с давних пор склонялись к тому, чтобы ошибочно интерпретировать антисемитизм нацистов как тактический маневр, попытку отвлечь массы от борьбы с их настоящим противником — крупным капиталом. Вследствие этого социал-демократы и коммунисты недооценивали грозящую евреям опасность. Справа от центра антисемитизм уже давно стал вполне «пристойным». Что смущало часть буржуазии, так это тот чудовищный способ, которым штурмовики СА выражали свою юдофобию, но отнюдь не предрассудки в отношении евреев как таковые. Голосовавший за НСДАП не обязательно был законченным антисемитом, но по крайней мере одобрительно относился к антисемитизму национал-социалистов. Приток сторонников в ряды национал-социалистов после 1930 г. был также мятежом против попытки президентских правительств повернуть в обратную сторону колесо истории. К тому времени немцы уже как шесть десятилетий знали всеобщее избирательное право для мужчин, ас 1918 г. действовало правило, согласно которому правительство нуждалось в доверии народного представительства, т. е. в поддержке населения. Национал-социалисты постоянно издевались над парламентской демократией, функционировавшей с грехом пополам, однако когда она начиная с 1930 г. действительно стала фарсом, а рейхстаг имел меньше влияния, чем при конституционной кайзеровской монархии, нацисты попытались выдать себя за защитников народа, лишенного гражданских прав. В результате Гитлер мог апеллировать как к распространенной неприязни в отношении якобы «ненемецкой», навязанной союзниками парламентской системы, так и к старому, гарантированному еще в бисмарковские времена притязанию масс на участие в политике в форме всеобщего избирательного права. Другими словами, он выигрывал не только от авторитарных традиций, но и от частичной демократизации до 1918 г. Гитлер был политиком, умело извлекавшим выгоду из противоречий процесса модернизации Германии. Гитлер желал революции, но в 1923 г. он получил убедительный урок, согласно которому эту цель можно было достичь не в борьбе против государственной машины, а только поставив ее себе на службу. Поэтому он принес клятву верности законности, которая ежедневно нарушалась его эпигонами. Поэтому он изображал из себя хранителя той конституции, которую намеревался уничтожить. Гитлер содержал самую большую армию для ведения гражданской войны в Германии и именно поэтому мог делать ставку на боязнь перед гражданской войной, что являлось его главным козырем. Коммунисты, открыто выступая за гражданскую войну, тем самым давали национал-социалистам шанс представить себя в качестве опоры порядка, готовых вместе с полицией и рейхсвером отразить попытку насильственного переворота слева. Одновременно Гитлер мог угрожать гражданской войной правительству в том случае, если бы оно пошло на нарушение конституции, чтобы преградить ему путь к власти. Давление со стороны Гитлера не воспринималось как политический скандал, хотя оно, без сомнения, было таковым. Полувоенное насилие справа и слева давно уже выхолостило монополию государства на применение силы и привело ко всеобщей апатии в отношении подобных эксцессов как на практике, так и на словах. И все же если двое делали то же самое, это было еще совсем далеко не одно и то же. У переворота по советскому образцу было немного сторонников, и применение коммунистами силы едва ли могло встретить одобрение вне их собственных рядов. Зато воинствующий антикоммунизм национал-социалистов пользовался широкой поддержкой как в обществе, так и в государственном аппарате. В то время как крайние левые призывали к насильственному изменению существовавших отношений, национал-социалисты одновременно выдавали себя за защитников и реформаторов унаследованного от прошлого общества. Новый политический порядок, который они пропагандировали, должен был представлять собой не господство партий, как это было свойственно для Веймара, и не авторитарный режим в консервативном духе. Это должно было быть государство фюрера, поддерживаемое всем народом и получившее плебисцитарную легитимацию. В этом заключалась относительная новизна этого проекта правления, отличавшая гитлеровскую концепцию от представлений традиционных правых и ставшая залогом ее превосходства. Свою «национальную революцию» Гитлер смог осуществить в 1933 г. только потому, что он обещал удовлетворить как потребность в преемственности, так и нужду в радикальном обновлении{626}. «Третий рейх» стал той «немецкой катастрофой», о которой, оглядываясь назад, говорил в 1946 г. Фридрих Мейнеке. Цена, которую Германиядолжна была заплатить за политику национал-социалистов, стала одной из причин того, что 1945 г. стал в истории Германии куда более глубокой цезурой, чем год 1918. Национал-социалистическая диктатура была и продолжает оставаться самым сильным аргументом в пользу демократии и свободы, имеющимся в немецкой истории. Для коллективной памяти немцев катастрофический провал их антидемократической революции имеет такое же значение, как у других народов — воспоминание об успешной демократической революции. После «краха» 1945 г. только одна часть Германии, западная, еще раз получила шанс построить демократию. Основной закон Федеративной Республики Германия, выработанный Парламентским советом в 1948–1949 гг., являлся попыткой извлечь уроки из опыта Веймара. Никогда не должна была снова появиться возможность устранить демократический порядок легальным путем, никогда снова глава республиканского государства не мог выступать в роли эрзац-законодателя, никогда негативное, неспособное к формированию правительства, парламентское большинство не должно было получить право свергнуть рейхсканцлера. Тем самым Парламентский совет заместил релятивистскую демократию демократией, готовой дать отпор; он придал должности федерального президента преимущественно представительское значение; он ввел конструктивный вотум недоверия, который больше, чем какая-либо другая статья конституции, внес свой вклад в то, что Федеративная Республика Германия стала «канцлерской демократией». Бонн также сделал выводы из Веймара, устранив плебисцитарную конкуренцию парламентской демократии, тем самым усилив бундестаг в качестве законодательного органа{627}. Различие между конституциями 1919 г. и 1945 г. только отчасти объясняют, почему второе издание демократии в Германии оказалось намного успешнее, чем первое. Моральный разрыв с предшествующим режимом, который после 1945 г. в отличие от 1918 г. проделали многие немцы, также лишь одна из множества причин того, что «Бонн» не стал «Веймаром». По крайней мере такими же важными были общественные изменения, затронувшие ведущие слои общества. В результате утраты восточных немецких областей и «земельной реформы» в советской зоне оккупации прекратила свое существование старая властная элита, особенно активно боровшаяся против Веймара — остэльбское юнкерство. Тяжелая промышленность, которая до 1933 г. была настроена также, как и прусские помещики, антидемократически, играла в ФРГ гораздо менее значительную роль, чем в Веймарской республике, и благодаря рабочему контролю политически она также не могла следовать по своим собственным стопам. После 1945 г. у Германии первоначально вообще не было своей армии. После того как в 1955 г. был образован Бундесвер, республиканская конституция и строгий отбор в офицерский корпус позаботились о том, чтобы армия снова не превратилась в «государство в государстве». Внешнеполитическая и политико-экономическая ситуация в ФРГ также кардинальным образом отличалась от Веймара. В ходе «холодной войны» Западная Германия была быстро реабилитирована союзниками. План Маршалла был исторической контрпрограммой в сравнении с репарациями, легшими тяжким бременем на Веймарскую республику и внесшими свой существенный вклад в обострение социального и политического кризиса после 1930 г. Федеративной республике не пришлось также столкнуться с таким вызовом извне, как Великая депрессия. На еще одно важное различие между первой и второй республиками указал уже в 1955 г. швейцарский публицист Фриц Рене Аллеман в книге «Бонн — не Веймар»: после 1949 г. умеренные правые, представленные Аденауэром, а также партиями Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, проводили в отличие от периода после 1918 г. политику наднациональной интеграции, в то время как умеренные левые в рамках Социал-демократической партии под руководством Курта Шумахера взяли на себя исполнение роли национальной партии, получая политические дивиденды как партия немецкого единства. Консервативные демократы добились успеха, потому что их политика давала убедительный ответ на потребность западных немцев в безопасности. В отличие от Веймара ей едва ли что-либо угрожало изнутри. Зато налицо присутствовал распространенный и оправданный страх перед внешней угрозой, а именно перед стремлением Советского Союза к расширению зоны своего влияния и господства. Политика интеграции Германии с Западом соответствовала такому положению вещей в большей степени, чем подчеркнуто национальная политика, настаивавшая на процессе воссоединения обеих Германий{628}. Второе немецкое государство — Германская Демократическая Республика — извлекло другие уроки из Веймара. Первая немецкая республика согласно марксистко-ленинскому толкованию была детищем буржуазно-демократической революции, которая в определенной мере была осуществлена пролетарскими средствами и методами. Тем не менее классовое предательство руководства правой социал-демократии дало возможность монополистической буржуазии утвердить и упрочить свое господство. В ходе обострившегося кризиса капитализма после 1929 г. верхи монополистической буржуазии, согласно историографии Социалистической единой партии Германии, добились замены буржуазной демократии фашизмом. Согласно доктрине Коминтерна, вступившей в силу с декабря 1933 г., восточнонемецкие историки интерпретировали «фашизм у власти» как «открытую террористическую диктатуру наиболее реакционных, самых шовинистических и империалистических элементов финансового капитала» — формула, которая с течением времени хотя и толковалась преимущественно дифференцированно, но которой тем не менее продолжали принципиально придерживаться. Взятию власти фашистами согласно этому прочтению можно было воспрепятствовать только в результате своевременного решения вопроса о власти в пользу рабочего класса и его союзников. То, что такого решения не последовало, объяснялось официальной историей ГДР расколом рабочего класса социал-демократическим руководством. Из такого исторического опыта после освобождения от фашизма был возможен лишь один правильный вывод: рабочий класс должен быть объединен в рамках одной партии, последовательно порвавшей с традициями социал-демократического оппортунизма, и получить в свои руки все важнейшие государственные и общественные рычаги власти. А так как западный империализм, поддерживаемый правыми социал-демократическими лидерами, сделал в данное время невозможным выполнение этой исторической задачи в Западной Германии, то претворение в жизнь уроков Веймара было пока возможно только в той ее части, которая избежала благодаря дружеской помощи Советского Союза вмешательства со стороны империализма — в ГДР. Таким был перечень историко-политических догм, на который ориентировалась восточно-немецкая историческая наука — под конец с некоторыми нюансами по отдельным вопросам, но в основных чертах верная заданной линии{629}. Таким образом, Веймар продолжал служить политической системой координат обоим немецким государствам, причем и ФРГ, и ГДР подчеркивали отсутствие преемственности: учиться у Веймара означало, как правило, делать иначе, чем это было сделано Веймаром. Между тем историческая наука Запада установила, что у первой республики были также и достижения, главным образом в сферах социальной политики, новой жилищной культуры и реформы образования, определив тем самым позитивные линии преемственности. Однако перед лицом краха республики нельзя написать историю успеха, можно только сделать более взвешенным в целом негативный совокупный исторический приговор. До объединения обоих немецких государств в 1990 г. время существования первой немецкой республики было единственной фазой немецкой истории, в ходе которой Германия одновременно была и республикой и национальным государством. «Старая» Федеративная республика Германия черпала свое самосознание, с тех пор как «восточные договоры» сделали разделение Германии на два государства более терпимым, в значительной мере из чувства того, что она является «постнациональной демократией среди национальных государств». Но для вновь объединенной Германии эта формула Карла Дитриха Брахера, одного из пионеров исследования Веймарской республики, больше не соответствует действительности. Новая федеративная республика снова является демократией и — хотя и не классическим, а интегрированным в Европу и Североатлантический блок — национальным государством{630}. Тем самым Веймар в определенной степени становится ближе к современности. Первая немецкая республика больше не является лишь предысторией «Третьего рейха» и противоположностью двум своим государствам-преемникам, но выступает как в негативном, так и в позитивном плане предтечей второй общенемецкой демократии. Однако в отличие от Веймара новая федеративная республика больше не представляет собой неумелую демократию. Теперь у нее в багаже не только ученические годы Веймара, но и более успешный опыт Бонна. Обе эти главы в ее истории образуют тот фундамент, на котором продолжает строиться демократия объединенной Германии.Список сокращений и русско-немецких соответствий
АДГБ (Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund) — Всеобщая федерация немецких профсоюзов АфА-Бунд (Allgemeiner freier Angestellenbund, AfA-Bund) — Всеобщий свободный союз служащих БФГ (Berliner Verkehrs-Gesellschaft) — Берлинская транспортная компания БФП (Bayerische Volkspartei) — Баварская народная партия ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) ГдА (Gewerkschafstbund der Angestellten) — Федерация профсоюзов служащих Гедаг (Gesamtverband Deutscher Angestelltengewerkschaften) — Общий союз профсоюзов немецких служащих ДДП (Deutsche Demokratische Partei) — Немецкая демократическая партия ДНФП (Deutschnationale Volkspartei) — Немецкая национальная народная партия ДФП (Deutsche Volkspartei) — Немецкая народная партия ИККИ — Исполнительный комитет Коммунистического интернационала КАГ (Kommunistische Arbeitsgemeinschaft) — Коммунистическая рабочая группа КАПД(Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands) — Коммунистическая рабочая партия Германии КПГ (Kommunistische Partei Deutschlands) — Коммунистическая партия Германии НСБО (Nationalsozialistische Betriebszellen-Organisation) — Национал-социалистическая производственная организация НСДАП (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) — Национал-социалистическая рабочая партия Германии НСДПГ (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) — Независимая социал-демократическая партия Германии ОК (О.С., Organisation Consul) — организация «Консул» ОКПГ (Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlands) — Объединенная коммунистическая партия Германии ОХЛ (Oberste Heeresleitung) — Верховное военное командование РГО (Revolutionäre Gewerkschafts-Opposition) — Революционная профсоюзная оппозиция РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков) СА (Sturmabteilungen) — штурмовые отряды СДПГ (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) — Социал-демократическая партия Германии СРП (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands) — Социалистическая рабочая партия СС (Schutzstaffel) — охранные отряды ЦАГ — (Die Zentral-Arbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmerverände Deutschlands) — Центральное трудовое содружество промышленных и ремесленных союзов работодателей и работников ГерманииСписок сокращений наименований научной литературы и периодики
ADAP — Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik AdR — Akten der Reichskanzlei AfS — Archiv für Sozialgeschichte AHR — American Historical Review APZ — Aus Politik und Zeitgeschichte ASS — Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik BA — Bundesarchiv CEH — Central European History DAZ — Deutsche Allgemeine Zeitung DFW — Das Freie Wort DuM — Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen AArbeiterbewegung GG — Geschichte und Gesellschaft GWU — Geschichte in Wissenschaft und Unterricht GZ — Gewerkschafts-Zeitung HZ — Historische Zeitschrift IfZ — Institut für Zeitgeschichte IRSH — International Review of Social History IWK — Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung JCH — Journal of Contemporary History JGMO — Jarbuch für GeschichteMittel- und Osteuropas JGO — Jarbücher für Geschichte Osteuropas JMH — Journal of Modern History JNS — Jarbücher für Nationalökonomie und Statistik MGM — Militärgeschichtliche Mitteilungen ND — Neudruck PVS — Politische Vierteljahresheft RF — Rote Fahne RGBL — Reichsgesetzblatt SM — Sozialistische Monatshefte SPW — Sozialistische Politik und Wirtschaft VfZ — Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte ZfP — Zeitschrift für PolitikИздательские данные


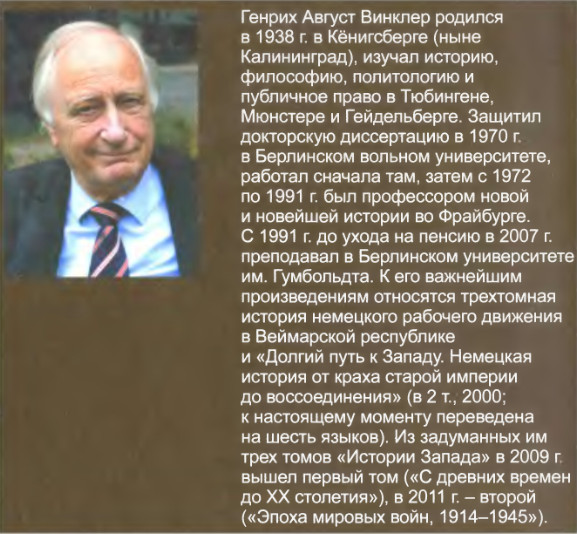

Последние комментарии
11 часов 25 минут назад
16 часов 29 минут назад
1 день 18 минут назад
1 день 2 часов назад
1 день 2 часов назад
2 дней 14 часов назад