Ракушка на шляпе, или Путешествие по святым местам Атлантиды [Григорий Михайлович Кружков] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

 Григорий Кружков
Ракушка на шляпе, или Путешествие по святым местам Атлантиды
Григорий Кружков
Ракушка на шляпе, или Путешествие по святым местам Атлантиды
— А иногда, Нуф-Нуф, меня приподнимают и слегка встряхивают. — Зачем это, Наф-Наф? — Проверяют, много ли во мне накопилось монет. И не пора ли меня того… — А, вот в чем дело! — Думаешь, это приятно, когда тебя… вот это самое? — Неприятно, Наф-Наф. — А все потому, что внутри меня монетки. Обидно! — Ты, Наф-Наф, дороже всяких монет.
Вступление
«Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною <…>? или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?» — риторически спрашивал Пушкин, томясь в своей Михайловской ссылке (а ему только двадцать пять лет!). Если бы он обратил этот вопрос ко мне, я бы без заминки ответил: «Конечно, Александр Сергеевич, еще бы! Даже у флюгера есть свои воспоминания, что уж тут говорить». Так бы я ответил Пушкину и не покривил душой. Покажите мне человека, который не писал, не пишет или не собирается писать мемуаров. Нету такого, хоть обыщитесь. Так не пора ли и мне приняться за то же самое? Собрать вместе хотя бы какие-то частицы бытия, чтобы они не расточились, как тучки в небе, не ушли под воду, как древний тонущий материк? Ну, так решено. Именно сегодня, в лето Господне две тысячи двадцать второе, в этом нашем холерном карантине, когда силы зла, казалось бы, «властвуют безраздельно» (как сказано в том самом старинном манускрипте, хранившемся в семействе Баскервилей), — когда же, как не сейчас, отправиться в путешествие, уже воображаемое, в страну, которую я так долго представлял только по книгам и даже не мечтал увидеть наяву? И вдруг то, что казалось невероятным, сбылось, и каждая поездка была, как подарок, незаметно и беззвучно падающий в копилку памяти. Настало время разбить этого английского поросенка и высыпать на стол свои невинные сокровища. У одного умного автора есть такая мысль. Чтобы новое место, новое пространство могло открыться путешественнику, ему необходимо иметь особый ключ. Это может быть что угодно: например, какая-то идея, хотя бы и надуманная, или свой персональный миф, связанный с этим местом. Без внутреннего ключа восприятию не на чем будет держаться, не от чего оттолкнуться. У меня такой миф был, и назывался он английская поэзия. На каждый город, куда я приезжал, на каждый пейзаж я смотрел сквозь этот сроднившийся со мною миф: каждое место было связано с судьбой какого-то поэта, жившего, может быть, сотни лет назад, будило в памяти стихотворение или легенду. Иными словами, все мои английские путешествия были, по сути, поэтическими паломничествами. В средние века паломники, которые возвращались из святых мест, прикрепляли к шляпам или дорожным плащам морские ракушки — в знак того, что они побывали за морем. Назовем так же — ракушками — главки, на которые делится это вольное и необязательное повествование.
Часть I. Дороги

Ракушка первая. Оксфорд (Джон Донн, Льюис Кэрролл)
Половина английских поэтов, которых я переводил, училась в Оксфорде (другая, не худшая, половина — в Кембридже или вообще не получила университетского образования, как Шекспир). И вот я их вижу своими глазами: эти башни, колледжи, улицы, по которым кто только ни ходил, Бодлианскую библиотеку, старейшую в Европе, плавно текущую Айзис — в сущности, ту же самую Темзу, только выше по течению, — в чем вы легко сможете убедиться, если бросите в реку свою шляпу (конечно, вниз тульей), сядете на коня и поскачете в Лондон. Клянусь, вы еще успеете хорошо пообедать в таверне «Русалка» и даже посмотреть «Горбодука» в театре «Роза», а потом, кликнув лодочника, снова перебраться на левый берег, усесться на краю маленького причала, немного подождать… и вот она, голубушка, плывёт, да прямо к вам. Останется только притянуть её к себе багром, вынуть из воды и отдать слуге, чтобы просушил и хорошенько почистил, — будет как новая! Джон Донн тоже учился в Оксфорде. Он поступил в колледж Харт-Холл в 1584 году двенадцатилетним подростком, но через три года, не закончив курса, переехал в Кембридж, где учинил тот же трюк, то есть покинул колледж, не доучившись. А суть в том, что для получения диплома нужно было произнести клятву на верность протестантской вере, а Донн был из католической семьи. Впрочем, через двадцать лет, уже сменив конфессию и сделавшись личным проповедником короля Иакова, он, по слову монарха, получил почетную степень и в Оксфорде, и в Кембридже. А в 1592 году мы застаем его уже в Лондоне студентом юридической школы Линкольнз-Инн. Молодой человек — заядлый театрал, он пишет сатирические стихи, ловеласничает, участвует во всяческих веселых затеях, предводительствует в красочных студенческих шествиях и праздничных представлениях. В подражание придворной должности его зовут «master of revels», то есть «маэстро увеселений».
Как все это совмещается с чумой, пришедшей в 1592 году в Лондон, трудно понять. Парламент принимает меры, запрещает большие скопления народа, это как будто бы помогает, но ненадолго. Так продолжается почти два года. Зараза то утихает, то снова свирепеет — театры то открываются, то закрываются. Труппа Шекспира уезжает в провинцию; многие друзья Донна тоже уезжают, он шлет им письма из зачумленного города, конечно, в стихах. О том, что столица обезлюдела, что таверны и театры опустели, а из развлечений остались «лишь казни да медвежьи бои» (впрочем, медвежьи бои тоже скоро запретят; но не казни — это святое). Он тревожится о друзьях, от которых нет вестей, и тоскует без них. Все это сегодня особенно понятно и живо.
А в 1592 году мы застаем его уже в Лондоне студентом юридической школы Линкольнз-Инн. Молодой человек — заядлый театрал, он пишет сатирические стихи, ловеласничает, участвует во всяческих веселых затеях, предводительствует в красочных студенческих шествиях и праздничных представлениях. В подражание придворной должности его зовут «master of revels», то есть «маэстро увеселений».
Как все это совмещается с чумой, пришедшей в 1592 году в Лондон, трудно понять. Парламент принимает меры, запрещает большие скопления народа, это как будто бы помогает, но ненадолго. Так продолжается почти два года. Зараза то утихает, то снова свирепеет — театры то открываются, то закрываются. Труппа Шекспира уезжает в провинцию; многие друзья Донна тоже уезжают, он шлет им письма из зачумленного города, конечно, в стихах. О том, что столица обезлюдела, что таверны и театры опустели, а из развлечений остались «лишь казни да медвежьи бои» (впрочем, медвежьи бои тоже скоро запретят; но не казни — это святое). Он тревожится о друзьях, от которых нет вестей, и тоскует без них. Все это сегодня особенно понятно и живо.
(«Из Пиндемонти»)
Лепечущий малыш

(«О веке нынешнем»).
(«О наследии отцовском»)
 Между прочим, Иосиф Бродский написал к юбилею статью «Исайя Берлин в 80 лет», опубликованную в «Нью-Йоркском книжном обозрении». Там он рассказывает, как в 1972 году (когда он только-только оказался на Западе и в первый раз приехал в Лондон), сэр Исайя позвонил ему и пригласил его в клуб «Атенеум». Бродский явился туда в свитерке, чем явно смутил швейцара. Из текста не совсем понятно, прошел ли наш поэт дальше в этой форме, вошедшей в моду в России вместе с романами Хемингуэя и его знаменитым портретом с трубкой и «подтекстом в кулаке», или он подвергся той же процедуре, что и я двадцать лет спустя, когда сэр Исайя самолично привел меня в этот оплот лондонской элиты, но не аристократической и не чиновной, а интеллектуальной.
Между прочим, Иосиф Бродский написал к юбилею статью «Исайя Берлин в 80 лет», опубликованную в «Нью-Йоркском книжном обозрении». Там он рассказывает, как в 1972 году (когда он только-только оказался на Западе и в первый раз приехал в Лондон), сэр Исайя позвонил ему и пригласил его в клуб «Атенеум». Бродский явился туда в свитерке, чем явно смутил швейцара. Из текста не совсем понятно, прошел ли наш поэт дальше в этой форме, вошедшей в моду в России вместе с романами Хемингуэя и его знаменитым портретом с трубкой и «подтекстом в кулаке», или он подвергся той же процедуре, что и я двадцать лет спустя, когда сэр Исайя самолично привел меня в этот оплот лондонской элиты, но не аристократической и не чиновной, а интеллектуальной.
«Без пиджака в клуб не пускают, — сказал он, когда мы вошли. — Но не беда; на этот случай имеется дежурный пиджак». И действительно, в раздевалке висел светло-голубой пиджак достаточных размеров, в который я и облекся, оставив на крючке свою куртку. «Постойте, — сказал Берлин. — Дайте мне ваш фотоаппарат, надо сделать снимок на память». И сфотографировал меня в атенеумском пиджаке на фоне моей почему-то желтой, как у дорожного рабочего, куртки. После этого мы поднялись на второй этаж и расположились в удобных креслах. Все было примерно так, как описано Бродским. Интересно, что и у нас, как тогда, на первое место в разговоре вышло то ложное истолкование, которое получила в России встреча Берлина с Ахматовой поздней осенью 1945 года. По этому поводу он сильно сокрушался. Но что поделаешь! Вокруг знаменитых писательских имен существует, видимо, такое магнитное поле, что легенды возникают сами, как узоры на железном порошке, от малейшего встряхивания пластинки. Эти легенды, исходя от «сведущих людей» и обрастая намеками и недомолвками, быстро распространяются вширь. Казалось бы, надо быть простаком, чтобы поверить в мгновенную страстную любовь, вспыхнувшую между молодым английским дипломатом и 55-летней Анной Андреевной за несколько часов разговора о поэзии! Увы, романтически настроенные читатели и, в особенности, читательницы (между ними, и литературоведши) склонны принимать стихотворения за интимный дневник и искать в них соответствующие улики. В то время, как стихи растут из самых разных впечатлений и воспоминаний, которые свободно и бесстыдно соединяются в них и смешиваются. Всё объединяет только музыка — и та лирическая волна, которую эта музыка несет. Но любопытной публике не хватает одной лишь музыки. Она желает «сеансов черной магии с полным ее разоблачением». Забывая, что тайна — главный нерв ахматовской поэзии, самый воздух ее стихов. Поклонница Мориса Метерлинка, она хорошо усвоила его завет: Silence and Secrecy! — с которого начинается его «Сокровище смиренных». Впрочем, поэтическая стратегия Ахматовой сложнее и «коварней». По тонкому замечанию Пастернака, она, как в русской пляске, то подступает к вам, широко раскинув руки, то отступает, прикрываясь платочком. То дает внятный намек, то заставляет в нем усомниться и сбивает с толку следующим намеком — дразнит. С этой точки зрения, она и есть первый «провокатор» возникших вокруг нее легенд и мифов. В 1965 году Анну Ахматову наградили мантией почетного доктора Оксфордского университета. Она полагала (не без оснований), что и тут, как с итальянской премией Таормина, не обошлось без Исайи Берлина. Награждение прошло в Шелдонском театре, сооруженном тем же самым Кристофером Ренном, архитектором собора Святого Павла в Лондоне. Шелдонский театр не предназначен для театральных спектаклей, он построен специально для торжественных университетских церемоний. О театре напоминает лишь ряд бюстов на ограде, по-актерски строящих всякие физиономии. Не средневековые горгульи, конечно, но впечатление они производят забавное. Ride, si sapis, о puella ride (Смейся, если умна, красотка, смейся!), писал Марциал. Смейся, коли не дурак, вторит ему Джон Донн в одном из своих юношеских «парадоксов»; даром речи и даром смеха наделен только человек, почему же не почитать мудрейшим самого смешливого? Разумеется, будучи в Оксфорде, не забыл я и про Льюиса Кэрролла. Прогулялся к стенам его Колледжа Церкви Христовой (Christ Church), заглянул в книжную лавочку напротив главных ворот да, войдя внутрь, обошел большой зеленый двор с фонтаном посередине. А через пару лет Брук Горовиц (с ним я тоже подружился в Москве) предложил мне навестить своего однокашника Роберта, аспиранта Крайст-Чёрч, писавшего диссертацию по английскому Возрождению. В том году как раз вышел мой перевод поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка». Первым делом Роберт повел меня в Кэрролловскую мемориальную библиотеку, и я вдруг увидел свою книгу, неведомо каким образом уже попавшую туда. Она лежала в стеклянном гробу, как спящая красавица, и аккуратная табличка на английском языке гласила:
Translated into Russian by Grigoriia KruzhkovaTo есть: «Перевела на русский язык Григория Кружкова». Вот так я превратился из джентльмена в даму. Шутник этот Кэрролл!
 Потом мы вышли во двор, окруженный каре старинных зданий. Напрямик по зеленому газону имеют право ходить лишь преподаватели колледжа. Мы с Робертом обошли по сторонам квадрата и оказались в углу, где табличка на двери гласила «The Deanery» — «Дом декана». Здесь в 1856 году Чарльз Доджсон впервые увидел четырехлетнюю Алису Лидделл. Нынешний декан с семьей и любимой собакой был по случаю летних каникул в отъезде; но Роберт достал из кармана ключ, открыл дверь, и мы вошли. Каким-то удивительным образом Роберт оказался квартирантом декана, которому тот на время своей отлучки доверил весь дом.
Потом мы вышли во двор, окруженный каре старинных зданий. Напрямик по зеленому газону имеют право ходить лишь преподаватели колледжа. Мы с Робертом обошли по сторонам квадрата и оказались в углу, где табличка на двери гласила «The Deanery» — «Дом декана». Здесь в 1856 году Чарльз Доджсон впервые увидел четырехлетнюю Алису Лидделл. Нынешний декан с семьей и любимой собакой был по случаю летних каникул в отъезде; но Роберт достал из кармана ключ, открыл дверь, и мы вошли. Каким-то удивительным образом Роберт оказался квартирантом декана, которому тот на время своей отлучки доверил весь дом.
 Помню, экскурсия наша началась с крыши. Именно там, прямо на угловой башенке, Роберт утвердил свое главное летнее убежище: повесил гамак, привязав его одним концом к зубцу стены, а другим к каминной трубе, и проводил там часы, качаясь на солнышке и почитывая стихи и прозу своего любимого Джона Лили, учившегося здесь же, в Крайст-Чёрч, каких-нибудь четыреста лет назад.
Потом мы прошлись по всему дому декана снизу доверху. Дубовая лестница была великолепна, резные львы на столбах перил стояли как цирковые звери на тумбах. А вот в этой спальне на третьем этаже, рассказывал Роберт, в шестнадцатом веке ночевала королева (я не запомнил какая), на столике возле кровати доныне лежит молитвенник, который она читала на ночь. Молитвенник королевы произвел на меня такое впечатление, что я забыл о главной причине, которая привела меня в дом декана, и был застигнут врасплох, когда Роберт, проведя меня через кухню, вывел во внутренний дворик и сказал: «В этом дворике играла Алиса».
Помню, экскурсия наша началась с крыши. Именно там, прямо на угловой башенке, Роберт утвердил свое главное летнее убежище: повесил гамак, привязав его одним концом к зубцу стены, а другим к каминной трубе, и проводил там часы, качаясь на солнышке и почитывая стихи и прозу своего любимого Джона Лили, учившегося здесь же, в Крайст-Чёрч, каких-нибудь четыреста лет назад.
Потом мы прошлись по всему дому декана снизу доверху. Дубовая лестница была великолепна, резные львы на столбах перил стояли как цирковые звери на тумбах. А вот в этой спальне на третьем этаже, рассказывал Роберт, в шестнадцатом веке ночевала королева (я не запомнил какая), на столике возле кровати доныне лежит молитвенник, который она читала на ночь. Молитвенник королевы произвел на меня такое впечатление, что я забыл о главной причине, которая привела меня в дом декана, и был застигнут врасплох, когда Роберт, проведя меня через кухню, вывел во внутренний дворик и сказал: «В этом дворике играла Алиса».
Ракушка вторая. Кембридж и Излингтон (Эрнст Даусон)
И все-таки начать надо «из-за такта», с предыстории. В середине 1980-х мы познакомились с двумя молодыми композиторами Димой Смирновым и Леной Фирсовой. Дима, который с молодости увлекался Уильямом Блейком и переводил его стихи, захотел показать мне свои переводы и посоветоваться. Мы сразу сошлись и подружились. У них с Леной был крепкий творческий союз. Оба начали заниматься музыкой необычайно поздно для профессиональных музыкантов, чуть ли не в подростковом возрасте, оба в консерватории учились у Эдисона Денисова. Мы с Мариной стали часто бывать у них в Строгино. Это было, когда еще ни Филипа, ни Алисы не было даже в проекте. Дима с Леной были настолько замкнуты друг на друге, что больше никто им не был нужен. Марина до сих пор считает, что Лена решилась завести детей, поглядев на наших двух мальчишек. Незадолго до того председатель московского Союза композиторов Борис Хренников в своем докладе перечислил группу «неправильных» композиторов, которые увлекаются авангардизмом и пишут «сумбур вместо музыки». Это начальственное «ай-ай-ай» принесло одну сплошную пользу: имена композиторов-нонконформистов стали популярны в музыкальных кругах на Западе, и это привело к контактам, сначала заочным, а потом и личным, к музыкальным заказам и так далее. А когда с наступившей горбачевской оттепелью границы сделались проницаемыми, в гости к Диме и Лене зачастили музыканты, посещавшие Москву, и так они познакомились с Джерардом Макберни, молодым английским композитором и музыковедом, и Розамундой Бартлетт, аспиранткой из Оксфорда. Скоро они стали и нашими друзьями. Это были мои первые английские друзья, притом самые милые и самые верные. Розамунда собирала в Москве материалы для своей книги «Вагнер в России». Джерард изучал русскую музыку XX века, в частности, ему удалось восстановить музыку балета Шостаковича 1930 года «Условно убитый». Рози тоже прекрасно разбиралась в музыке, а еще она была членом университетской команды гребцов (на восьмерке). Ко мне она почему-то относилась как к младшему брату и учила организованности и правильным привычкам. Помню, отучила меня есть бананы на улице: «Фи, Гриша, ты же не в Нью-Йорке!» В любую погоду она ходила нараспашку.
— Вы, русские, совершенно не разбираетесь в правильном питании, — говорила Рози, сделав себе на обед бутерброд с сыром и запивая его стаканом чая без сахара.
Джерард прекрасно знал английскую поэзию — до музыкального получил ещё и филологическое образование. Из русских поэтов он особенно увлекся Хармсом. Смуглый, с густыми темными волосами и бородой (шотландское, кельтское наследство), он выглядел, как я понимаю, немного экзотично. Однажды он приехал к нам озадаченный.
— Марина, Гриша, объясните мне, что значит «жидовая морда»?
Он произнес эти слова нараспев и с явным удовольствием.
— Чего, чего?
— Я ехал в трамвае, и мне там сказали: «жидовая морда». Что это такое?
Ко мне она почему-то относилась как к младшему брату и учила организованности и правильным привычкам. Помню, отучила меня есть бананы на улице: «Фи, Гриша, ты же не в Нью-Йорке!» В любую погоду она ходила нараспашку.
— Вы, русские, совершенно не разбираетесь в правильном питании, — говорила Рози, сделав себе на обед бутерброд с сыром и запивая его стаканом чая без сахара.
Джерард прекрасно знал английскую поэзию — до музыкального получил ещё и филологическое образование. Из русских поэтов он особенно увлекся Хармсом. Смуглый, с густыми темными волосами и бородой (шотландское, кельтское наследство), он выглядел, как я понимаю, немного экзотично. Однажды он приехал к нам озадаченный.
— Марина, Гриша, объясните мне, что значит «жидовая морда»?
Он произнес эти слова нараспев и с явным удовольствием.
— Чего, чего?
— Я ехал в трамвае, и мне там сказали: «жидовая морда». Что это такое?
 В его характере чувствовалась веселая театральность. Это проявлялось и в музыке; например, его сочинение для двенадцати барабанов, которое он написал специально для ансамбля Марка Пекарского, его музыкальные сцены по Даниилу Хармсу «Из дома вышел человек». Наверное, это семейное; его брат Саймон Макберни — известный актер и режиссер, мы с ним вскоре познакомились в Лондоне и даже были в основанном им театре «Complicité» («Соучастие») на спектакле «Визит старой дамы», в котором он играл главную мужскую роль. А спектакль по Хармсу до сих пор в репертуаре театра.
Возможно, Джерард полюбил Хармса, потому что почувствовал английские корни его эксцентрики, его подспудной лирики.
В его характере чувствовалась веселая театральность. Это проявлялось и в музыке; например, его сочинение для двенадцати барабанов, которое он написал специально для ансамбля Марка Пекарского, его музыкальные сцены по Даниилу Хармсу «Из дома вышел человек». Наверное, это семейное; его брат Саймон Макберни — известный актер и режиссер, мы с ним вскоре познакомились в Лондоне и даже были в основанном им театре «Complicité» («Соучастие») на спектакле «Визит старой дамы», в котором он играл главную мужскую роль. А спектакль по Хармсу до сих пор в репертуаре театра.
Возможно, Джерард полюбил Хармса, потому что почувствовал английские корни его эксцентрики, его подспудной лирики.
В капелле королевского колледжа в Кембридже
 Иным предстает он в своей знаменитой «Кинаре». По-настоящему это стихотворение называется латинской цитатой из Проперция, которая в переводе звучит так: «Нет, не таким я был в царствование доброй Кинары». Там речь идет о пьяной ночи с продажными женщинами, о разгуле, которым герой стихотворения пытается заглушить тоску неутоленной любви. И в конце каждой строфы повторяется двусмысленная фраза: «I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion». To есть: «Я оставался верен тебе, Кинара, — по-своему (на свой манер)». Фраза, конечно, пьяненькая и циничная; но сквозь горькую иронию все же пробивается свет незабытой, не пропитой любви.
Как это перевести? Долго пришлось помаяться, пока, наконец, я не нашел русскую формулу, столь же циничную и, в то же время, искреннюю и горькую.
Иным предстает он в своей знаменитой «Кинаре». По-настоящему это стихотворение называется латинской цитатой из Проперция, которая в переводе звучит так: «Нет, не таким я был в царствование доброй Кинары». Там речь идет о пьяной ночи с продажными женщинами, о разгуле, которым герой стихотворения пытается заглушить тоску неутоленной любви. И в конце каждой строфы повторяется двусмысленная фраза: «I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion». To есть: «Я оставался верен тебе, Кинара, — по-своему (на свой манер)». Фраза, конечно, пьяненькая и циничная; но сквозь горькую иронию все же пробивается свет незабытой, не пропитой любви.
Как это перевести? Долго пришлось помаяться, пока, наконец, я не нашел русскую формулу, столь же циничную и, в то же время, искреннюю и горькую.
 Если задуматься, в этом образе есть что-то необычайно грустное. Вспомните — ведь от большинства людей, которых вы знали когда-то, умерших или просто отнесенных далеко волнами жизни, остается в памяти именно улыбка, прежде всего — улыбка…
Вспомнилось, как в Оксфорде в маленькой букинистической лавочке на Хай-стрит я увидел под стеклом старый сборник стихов, озаглавленный: «Смех с облаков». Автором был обозначен сэр Уолтер Рэли. Я сразу сделал стойку. Сэр Уолтер Рэли — один из моих самых любимых поэтов Возрождения. Конечно, я тотчас попросил посмотреть книгу. И что вы думаете? Это оказался совсем не тот сэр, а полный его тезка, первый глава кафедры английской литературы Оксфордского университета, посвященный королем в рыцари в 1911 году и умерший в 1921-м. После его смерти сын издал эту книгу, в которую вошли стихи, проза и пьесы. Самое известное стихотворение профессора Уолтера Рэли (в сущности, единственное, пощаженное временем), — вот это:
Если задуматься, в этом образе есть что-то необычайно грустное. Вспомните — ведь от большинства людей, которых вы знали когда-то, умерших или просто отнесенных далеко волнами жизни, остается в памяти именно улыбка, прежде всего — улыбка…
Вспомнилось, как в Оксфорде в маленькой букинистической лавочке на Хай-стрит я увидел под стеклом старый сборник стихов, озаглавленный: «Смех с облаков». Автором был обозначен сэр Уолтер Рэли. Я сразу сделал стойку. Сэр Уолтер Рэли — один из моих самых любимых поэтов Возрождения. Конечно, я тотчас попросил посмотреть книгу. И что вы думаете? Это оказался совсем не тот сэр, а полный его тезка, первый глава кафедры английской литературы Оксфордского университета, посвященный королем в рыцари в 1911 году и умерший в 1921-м. После его смерти сын издал эту книгу, в которую вошли стихи, проза и пьесы. Самое известное стихотворение профессора Уолтера Рэли (в сущности, единственное, пощаженное временем), — вот это:
Ракушка третья. Норидж (Джон Скельтон)
Нет, наверное, в Англии такой деревушки, которая не гордилась бы родством или свойством с каким-нибудь известным писателем. А каждый большой город имеет целый список литературных достопримечательностей. Древний Норидж, столица Норфолька, с его великолепным собором, основанном при Вильгельме Завоевателе, конечно, не исключение. Я бывал в Норидже трижды, даже, лучше сказать, не бывал, а жил (благодаря гостеприимству Университета Восточной Англии), так что успел проникнуться своего рода местным патриотизмом. Норидж гордится именами двух выдающихся женщин-мистиков средневековья. Это, во-первых, Святая Юлиана Нориджская, автор «Откровений божественной любви», жившая в XIV веке. Во-вторых, ее младшая современница Марджери Кемп, знаменитая паломница, описавшая свои многие «хождения» по Англии, а также в Рим и в Святую Землю в своей надиктованной под старость «Книге Марджери Кемп» — самой первой travel book, сочиненной англичанкой. И этим, я считаю, вполне заслужившая орден Большой Ракушки с мечами и с бантом.А вот Джона Скельтона, первого поэта английского Возрождения, можно изобразить в рясе священника и в шутовском колпаке, со связкой книг в одной руке и жезлом с погремушками в другой. Он получил ученую степень в Оксфорде и звание «поэта-лауреата», перевел с латыни «Письма» Цицерона, составил «Новую английскую грамматику» и был выбран самой королевой учить сына полезным наукам. Так он сделался наставником, а со временем товарищем и собутыльником будущего короля Генриха VIII (вспомним Фальстафа и принца Гарри!).
 При этом он был уроженцем Нориджа и имел приход по соседству. Неподалеку от Нориджа расположен и монастырь Кэроу, где обитал ручной воробышек Филип — тот самый, чью добродетельную жизнь и злосчастную гибель Скельтон обессмертил в своей поэме «Книга воробышка Фила, или Плач Джейн Скроуп, ученицы монастырской школы в Кэроу по своему милому дружочку, погибшему злой смертью от лап кота Гилберта».
Потому, должно быть, он и называл себя «британским Катуллом», — имея в виду стихотворение Катулла, посвященное смерти любимого птенчика его возлюбленной:
При этом он был уроженцем Нориджа и имел приход по соседству. Неподалеку от Нориджа расположен и монастырь Кэроу, где обитал ручной воробышек Филип — тот самый, чью добродетельную жизнь и злосчастную гибель Скельтон обессмертил в своей поэме «Книга воробышка Фила, или Плач Джейн Скроуп, ученицы монастырской школы в Кэроу по своему милому дружочку, погибшему злой смертью от лап кота Гилберта».
Потому, должно быть, он и называл себя «британским Катуллом», — имея в виду стихотворение Катулла, посвященное смерти любимого птенчика его возлюбленной:
(Перевод А. Пиотровского).
 Отношение к Джону Скельтону потомков было, мягко говоря, скептическое. Поэты новых времен называли его «грубым и ругливым рифмачом», «буффоном» и так далее. Но лучше всего о своей поэзии сказал он сам:
Отношение к Джону Скельтону потомков было, мягко говоря, скептическое. Поэты новых времен называли его «грубым и ругливым рифмачом», «буффоном» и так далее. Но лучше всего о своей поэзии сказал он сам:
 Читая, мы автоматически переводим на современный язык: «…чтобы он передал и смысл, и поэтическую силу оригинала». Но как весомо — еще весомее оттого, что непривычно, — звучит это выражение: «разум, содержащийся в каждом стихе», насколько оно сильнее и выразительнее нашего замыленного и стершегося «смысла»!
Подобные совершенно современные, только выраженные старинным, освежающим слух языком мысли находим мы и у Скельтона. Вот, например, рефлексия о поэтическом ремесле, вопрос, который и поныне задает себе каждый автор:
Читая, мы автоматически переводим на современный язык: «…чтобы он передал и смысл, и поэтическую силу оригинала». Но как весомо — еще весомее оттого, что непривычно, — звучит это выражение: «разум, содержащийся в каждом стихе», насколько оно сильнее и выразительнее нашего замыленного и стершегося «смысла»!
Подобные совершенно современные, только выраженные старинным, освежающим слух языком мысли находим мы и у Скельтона. Вот, например, рефлексия о поэтическом ремесле, вопрос, который и поныне задает себе каждый автор:
Ракушка четвертая. Норидж (Продолжение: Республика Поэтов)
В Норидж я приехал на месячную стипендию в Британский центр литературного перевода при Университете Восточной Англии. Как бывает на новом месте, скоро жизнь вошла в новые берега, наладилась какая-то житейская рутина. Раз в два-три дня я ходил запасаться продуктами в супермаркет по тропинке через луга и отводные канавы, которые характерны для этой изначально болотистой норфолкской земли. Главное блюдо, которое я готовил себе на обед, было изо дня в день одно и то же: макароны-гнездышки с парой тонких ломтиков ветчины, разогретых в той же кастрюльке; оно мне не приедалось. С секретаршей Центра перевода, чудесной Берил, вдовой университетского профессора, мы сразу подружились. Однажды я даже был у нее в гостях и выкосил весь наглухо заросший сад; ей было уже не под силу, а мне интересно: в первый раз орудовал бензиновой сенокосилкой. Познакомился и с директором Центра, это был высокий человек примерно моего возраста, очень простой и милый. Не раз мы с ним оказывались в одной компании в ближайшем кафетерии во время ланча, состоявшего всегда из сэндвича и кофе. Все вокруг называли его просто Винни. Я знал, что его фамилия Зебальд, но это мне ничего не говорило. Однажды он признался мне, что пишет, что его первая книга только что вышла на немецком языке в Берлине и сейчас он работает над второй. Именно с того берлинского дебюта начался взлет писательской славы Винфрида Зебальда в Европе. Он писал и по-немецки, и по-английски, и за десять лет приобрел большой авторитет — по крайней мере, в глазах серьезных читателей и серьезной критики. Много времени спустя, когда я рассказал об этом эпизоде другу, он посмотрел на меня с завистью: я был знаком с его кумиром, автором «Аустерлица» и других великих книг!
С секретаршей Центра перевода, чудесной Берил, вдовой университетского профессора, мы сразу подружились. Однажды я даже был у нее в гостях и выкосил весь наглухо заросший сад; ей было уже не под силу, а мне интересно: в первый раз орудовал бензиновой сенокосилкой. Познакомился и с директором Центра, это был высокий человек примерно моего возраста, очень простой и милый. Не раз мы с ним оказывались в одной компании в ближайшем кафетерии во время ланча, состоявшего всегда из сэндвича и кофе. Все вокруг называли его просто Винни. Я знал, что его фамилия Зебальд, но это мне ничего не говорило. Однажды он признался мне, что пишет, что его первая книга только что вышла на немецком языке в Берлине и сейчас он работает над второй. Именно с того берлинского дебюта начался взлет писательской славы Винфрида Зебальда в Европе. Он писал и по-немецки, и по-английски, и за десять лет приобрел большой авторитет — по крайней мере, в глазах серьезных читателей и серьезной критики. Много времени спустя, когда я рассказал об этом эпизоде другу, он посмотрел на меня с завистью: я был знаком с его кумиром, автором «Аустерлица» и других великих книг!
Чем же были заняты мои дни в Переводческом центре? Чем угодно, только не переводом (это было бы тавтологией!). А захотелось мне, наоборот, писать о Пастернаке, точнее, об игровом начале в его стихах. Может быть, дух Скельтона меня попутал, уж и не знаю; а только написал я довольно большую статью под названием «„Как бы резвяся и играя…“ Детство и игра у Пастернака». Это была самая первая моя литературоведческая статья. Я послал ее Исайе Берлину, а он, прочитав, переправил ее своему другу профессору Виктору Эрлиху в Йейльский университет. Больше ничего я о ее судьбе не знал и никак не мог предполагать, что Виктор Эрлих, в свою очередь, пошлет статью в «Новый журнал» (русский журнал в Бостоне, основанный еще Марком Алдановым). Так что по возвращении в Россию я со спокойной совестью предложил ее «Новому миру», где она и была напечатана в четвертом номере 1992 года. То, что она была опубликована тогда же в США, я узнал потом, когда «Новый журнал» впервые приехал в Москву и я совершенно случайно оказался на его вечере в Центральном доме литераторов. Впрочем, об этом «дубле» никто не узнал и, кажется, до сих пор не знает. Разумеется, я интересовался и многими вещами, лежавшими дальше моего носа. Узнав, что в Норидже издается журнал «Rialto», входящий в полудюжину самых известных в Англии журналов поэзии, я договорился о встрече с его редактором Джоном Уэйкманом, который охотно рассказал мне историю своего детища и подарил пару свежих номеров. Конечно, все предприятие возникло на чистом энтузиазме, из разговоров нескольких друзей за бутылкой вина. С самого начало было решено, что журнал будет «Республикой Поэтов», где наряду с известными поэтами, будут печататься и совершенно новые имена, никогда прежде не являвшиеся в печать. Критерий один — чтобы стихотворение понравилось обоим соредакторам (Уэйкману и Майклу Макмину). Было также решено, что журнал будет большого формата, чтобы он распространялся в газетных киосках и не терялся на фоне всяких Vogue. Полсотни страниц, отличная бумага, стихи за стихами, прореженные лишь ненавязчивыми полосными иллюстрациями: договорились с местным художественным училищем, чьи учащиеся иллюстрируют содержание своими графическими работами и делают дизайн. Ничего, кроме стихотворений (не больше двух одного автора), в журнале нет; лишь в конце небольшое прозаическое эссе или просто краткие заметки редактора, таков номер «Риальто». Журнал быстро завоевал популярность в поэтическом сообществе. Поначалу он был безгонорарный, но потом, по совету Саймона Армитиджа, стали платить — сперва пять фунтов за стихотворение, а потом двадцать. «Сумма чисто символическая, и все же это жест уважения к поэту и его труду». У издателей хороший вкус; практически в каждом стихотворении на страницах «Риальто» есть что-то живое, а это можно сказать не о каждом престижном журнале. Вот, например, «Турист» Роберта Дикинсона, в котором современный Чайльд-Гарольд жалуется на скуку странствий (концовка):
 Уильям Куксон еще в приготовительном классе издавал газету под гордым названием «Утренняя зевота», а чуть попозже, в Вестминстерской школе, вместе с друзьями воскресил школьный журнал «Бездельник», чье существование в стенах этого почтеннейшего учебного заведения восходит аж к XVIII веку.
Именно в «Бездельнике» Куксон опубликовал свою рецензию на стихи Эзры Паунда, который в это время сидел в американской психбольнице, спасшей его от смертного приговора за измену Родине. Рецензия понравилась Паунду и между ним и юным Уильямом завязалась переписка. Паунд и стал повивальной бабкой «Адженды». Он предложил назвать еще безымянную поэтическую газету «Четыре страницы», но молодой редактор оказался мудрее: он интуитивно почувствовал, что это название не оставляет маневра для роста вширь!
Первый номер «Адженды» 1959 года включал передовицу Эзры Паунда и перевод стихотворения Осипа Мандельштама (сделанный Питером Расселом) — один из первых послевоенных переводов русского поэта на английский. Через год журнал потолстел и обзавелся обложкой: Уильям Куксон вспоминает, как актриса Вирджиния Маскел пожертвовала для этой цели 10 фунтов. Регулярная поддержка Британского Совета по Искусству началась лишь пятью годами позже.
Итак, номер о рифме. Ответы на вопросник, предложенный журналом пятидесяти поэтам и критикам, можно разделить на pro и contra.
Противники рифмы говорят, что в рифмованном стихе «хвост вертит собакой». В наш век сидеть и подбирать рифмы — занятие, достойное Кая во дворце Снежной королевы, который составлял из осколков льда слово «вечность». Или помните анекдот о пьянице, который приходит домой среди ночи, снимает один башмак, швыряет его о стенку и засыпает, а сосед за стеной не спит до утра — ждет, когда тот кинет второй? Вот что такое ваша рифма — ожидание, когда же, наконец, бросят второй башмак!
Отвечая на эти нападки, защитники рифмы говорят, что именно она — рифма — придает поэзии достоинство искусства, уравновешивает форму и содержание. Рифма подразумевает труд, а истинный художник любит свое ремесло, считает за честь состязаться с предшественниками. Рифма — игра, доставляющая удовольствие и поэту и читателю.
Многие объясняют засилье верлибра работой нескольких поколений учителей, со школьной скамьи внушающих людям, что стихи писать нетрудно. Свободный стих действительно легче пишется и воспринимается, но резкое падение престижа поэзии — плата за эти «выгоды». Кэтлин Рейн (поэт, автор книг о Блейке и Йейтсе) ссылается на русскую поэзию, придерживающуюся «прекрасных традиционных форм» — не потому ли, что русские ждут от поэзии утоления духовного голода?
Бесконечность этого разговора подчеркивается подбором исторических цитат, начиная с четырнадцатого века, причем в команде «за рифму» мы находим Филипа Сидни, Александра Поупа и Поля Валери, в команде «против» — Томаса Кэмпиона, Джона Мильтона и Уолта Уитмена. Впрочем, немало и примиряющих высказываний, например, того же Паунда: «О пользе и вреде рифмы скажу только, что она не является ни обязанностью, ни табу».
К этому, в общем-то, и склоняется дискуссия. Не скучно ли, если соревнование заканчивается вничью? Наоборот — интересно и поучительно услышать такое множество разных голосов, мнений и остроумных выпадов — с фехтовальным уколом в конце.
«Если запретить рифму, сколько бы напудренных париков свалилось!» (Томас Элиот).
«Не последнее удовольствие от рифмы в той ярости, которую она возбуждает в несчастных головах, которые думают, будто на свете существует нечто более важное, чем условность» (Поль Валери).
Уильям Куксон еще в приготовительном классе издавал газету под гордым названием «Утренняя зевота», а чуть попозже, в Вестминстерской школе, вместе с друзьями воскресил школьный журнал «Бездельник», чье существование в стенах этого почтеннейшего учебного заведения восходит аж к XVIII веку.
Именно в «Бездельнике» Куксон опубликовал свою рецензию на стихи Эзры Паунда, который в это время сидел в американской психбольнице, спасшей его от смертного приговора за измену Родине. Рецензия понравилась Паунду и между ним и юным Уильямом завязалась переписка. Паунд и стал повивальной бабкой «Адженды». Он предложил назвать еще безымянную поэтическую газету «Четыре страницы», но молодой редактор оказался мудрее: он интуитивно почувствовал, что это название не оставляет маневра для роста вширь!
Первый номер «Адженды» 1959 года включал передовицу Эзры Паунда и перевод стихотворения Осипа Мандельштама (сделанный Питером Расселом) — один из первых послевоенных переводов русского поэта на английский. Через год журнал потолстел и обзавелся обложкой: Уильям Куксон вспоминает, как актриса Вирджиния Маскел пожертвовала для этой цели 10 фунтов. Регулярная поддержка Британского Совета по Искусству началась лишь пятью годами позже.
Итак, номер о рифме. Ответы на вопросник, предложенный журналом пятидесяти поэтам и критикам, можно разделить на pro и contra.
Противники рифмы говорят, что в рифмованном стихе «хвост вертит собакой». В наш век сидеть и подбирать рифмы — занятие, достойное Кая во дворце Снежной королевы, который составлял из осколков льда слово «вечность». Или помните анекдот о пьянице, который приходит домой среди ночи, снимает один башмак, швыряет его о стенку и засыпает, а сосед за стеной не спит до утра — ждет, когда тот кинет второй? Вот что такое ваша рифма — ожидание, когда же, наконец, бросят второй башмак!
Отвечая на эти нападки, защитники рифмы говорят, что именно она — рифма — придает поэзии достоинство искусства, уравновешивает форму и содержание. Рифма подразумевает труд, а истинный художник любит свое ремесло, считает за честь состязаться с предшественниками. Рифма — игра, доставляющая удовольствие и поэту и читателю.
Многие объясняют засилье верлибра работой нескольких поколений учителей, со школьной скамьи внушающих людям, что стихи писать нетрудно. Свободный стих действительно легче пишется и воспринимается, но резкое падение престижа поэзии — плата за эти «выгоды». Кэтлин Рейн (поэт, автор книг о Блейке и Йейтсе) ссылается на русскую поэзию, придерживающуюся «прекрасных традиционных форм» — не потому ли, что русские ждут от поэзии утоления духовного голода?
Бесконечность этого разговора подчеркивается подбором исторических цитат, начиная с четырнадцатого века, причем в команде «за рифму» мы находим Филипа Сидни, Александра Поупа и Поля Валери, в команде «против» — Томаса Кэмпиона, Джона Мильтона и Уолта Уитмена. Впрочем, немало и примиряющих высказываний, например, того же Паунда: «О пользе и вреде рифмы скажу только, что она не является ни обязанностью, ни табу».
К этому, в общем-то, и склоняется дискуссия. Не скучно ли, если соревнование заканчивается вничью? Наоборот — интересно и поучительно услышать такое множество разных голосов, мнений и остроумных выпадов — с фехтовальным уколом в конце.
«Если запретить рифму, сколько бы напудренных париков свалилось!» (Томас Элиот).
«Не последнее удовольствие от рифмы в той ярости, которую она возбуждает в несчастных головах, которые думают, будто на свете существует нечто более важное, чем условность» (Поль Валери).
Ракушка пятая. Перепляс из Лондона в Норидж (Вилли Кемп)
Родом из Нориджа, кроме Джона Скельтона, еще один веселый персонаж того веселого века: Вилли Кемп, для которого Шекспир писал роли своих шутов, комический актер откровенно площадного, балаганного типа, любимец публики, непревзойденный исполнитель джиги и морриса. Впрочем, он играл не только роли шутов, но и, например, Фальстафа в «Генрихе IV» Шекспира и даже роль Кормилицы в «Ромео и Джульетте». Но в 1599 или в 1600 году он ушел из шекспировской труппы, очевидно, не поладив с товарищами, и отколол такую штуку — поспорил, что протанцует всю дорогу из Лондона в Норидж (а это сто миль без малого). Видно, очнулась в нем кровь его пра-пра-пра-бабушки неугомонной странницы Марджери Кемп! Я не знал об этом эпизоде, пока в университетской библиотеке, роясь в литературе того времени — это было в 2001 году, когда я во второй раз получил переводческую стипендию в Норидже, — не наткнулся случайно на репринт книжки под названием «Девятидневное чудо Кемпа, или Перепляс из Лондона в Норидж». В этой книжке, которую сам Кемп написал по живым следам событий и которая представляет подробный отчет о его подвиге, есть одна любопытная фраза. В предисловии Кемп яростно ополчается на неких куплетистов, которые опорочили его доблестное предприятие своими подлыми нападками. Обращаясь к своим клеветникам, пытавшимся высмеять его в сатирической песенке, он, между прочим, пишет: «Достославные мои Оборванцы [Му notable Shakerags], цель моего обращения к вам явствует из содержания сей петиции. Но дабы вам было ясней: ибо знаю, что вы, безмозглые тупицы, понимаете лишь то, что вам втемяшат в головы, и т. д.» Обобщенное имя «потрясателей лохмотьев», которым Кемп наградил всех своих врагов в тот момент, когда он был вынужден расстаться с театром Шекспира и пытался поддержать свою славу другими путями, вряд ли случайно. Shakerags довольно близко подходит к имени Shakespeare («потрясатель копья»). Особенно если учесть известную выходку Роберта Грина против Шекспира, основанную на таком же каламбуре с фамилией (он иронически назвал его Shake-scene, «потрясатель сцены»). Поэтому Shakerags может быть свидетельством — хотя и неявным — Кемпова раздражения против Шекспира.
Достоверно об этом конфликте мы ничего не знаем. Очевидно лишь (и это отмечают все критики), что примерно после 1600 года роль дурака в шекспировских пьесах резко меняется, делается более сложной и философской; вспомним, например, шута в «Короле Лире».
Если верить Кемпу, его перепляс из Лондона в Норидж окончился триумфом: его встречали толпы, его одаривали деньгами, в его честь сочиняли стихи. Как свидетельствует анонимный памфлет «Возвращение с Парнаса», слава Кемпа в 1602 году была в зените: не было такой деревенской девушки, плясуньи и насмешницы, которая не слышала бы о Вилли Кемпе и о его планах протанцевать джигу через всю Европу к турецкому султану. Никто не знает точно, когда Кемп окончил свой танец на земле, но известна стихотворная эпитафия Ричарда Брэйтуэйта, опубликованная в 1618 году; она кончается так:
Обобщенное имя «потрясателей лохмотьев», которым Кемп наградил всех своих врагов в тот момент, когда он был вынужден расстаться с театром Шекспира и пытался поддержать свою славу другими путями, вряд ли случайно. Shakerags довольно близко подходит к имени Shakespeare («потрясатель копья»). Особенно если учесть известную выходку Роберта Грина против Шекспира, основанную на таком же каламбуре с фамилией (он иронически назвал его Shake-scene, «потрясатель сцены»). Поэтому Shakerags может быть свидетельством — хотя и неявным — Кемпова раздражения против Шекспира.
Достоверно об этом конфликте мы ничего не знаем. Очевидно лишь (и это отмечают все критики), что примерно после 1600 года роль дурака в шекспировских пьесах резко меняется, делается более сложной и философской; вспомним, например, шута в «Короле Лире».
Если верить Кемпу, его перепляс из Лондона в Норидж окончился триумфом: его встречали толпы, его одаривали деньгами, в его честь сочиняли стихи. Как свидетельствует анонимный памфлет «Возвращение с Парнаса», слава Кемпа в 1602 году была в зените: не было такой деревенской девушки, плясуньи и насмешницы, которая не слышала бы о Вилли Кемпе и о его планах протанцевать джигу через всю Европу к турецкому султану. Никто не знает точно, когда Кемп окончил свой танец на земле, но известна стихотворная эпитафия Ричарда Брэйтуэйта, опубликованная в 1618 году; она кончается так:
Ракушка шестая Виндзор (Генрих, поэт и Анна)
Однажды (сколько помню, это был 1991 год) Джерард Макберни повез нас к своей сестре Генриетте в Виндзорский замок. Только не подумайте, что Джерард на самом деле был переодетым принцем, путешествовавшим по России инкогнито. Дело просто в том, что Генриетта работала у Ее Величества Королевы смотрителем коллекции рисунков и акварелей и жила с мужем и семилетней дочерью Франческой в квартире в Верхнем дворе Виндзорского замка. Ее муж был искусствоведом, занимался итальянской живописью и много времени проводил в Италии. Первым делом Джерард показал мне Капеллу Святого Георгия. В ее великолепном готическом холле уже шестьсот лет проходят службы и торжественные обряды Ордена Подвязки. Как известно, сей благороднейший из английских рыцарских орденов основан королем Эдуардом III в 1348 году и название получил от женской подвязки, потерянной одной из придворных дам во время танца. Дама смутилась, но король поднял сей интимный предмет, привязал его к своему рукаву и сказал знаменитую фразу, ставшую девизом Ордена: «Honni soit qui mal y pense». То есть: «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает» С тех пор в этот высший британский орден принимают самых достойных рыцарей королевства (по выбору монарха). Членов ордена только 24. Каждому из них выделена одна секция Капеллы Св. Георгия, в которой выставлены его рыцарские атрибуты: герб, плащ, гребень шлема, меч и знамя. Висящие по двум сторонам холла красочные знамена придают капелле особенно живописный и торжественный вид.Какое имя чуждо перемены,Хоть наизнанку выверни его?Все буквы в нем мучительно блаженны,В нем — средоточье горя моего,Страдание мое и торжество.Пускай меня погубит это имя, —Но нету в мире имени любимей.Томас Уайет
 Девиз Ордена Подвязки вошел в мою балладу об Анне Болейн. Но сначала — два слова о Королевской библиотеке. Именно здесь хранятся папки со знаменитыми рисунками Ганса Гольбейна. Художник приезжал в Англию дважды: первый раз в 1527–1528 годах, а во второй раз — в 1532 году, когда он окончательно обосновался в Лондоне. Ганс Гольбейн Младший (1497–1543) был выдающимся портретистом, а его виндзорские рисунки — лучшее, что он создал в графике. Искусствоведы считают, что это — подготовительные наброски к живописи, они выполнены, в основном, серебряным карандашом и цветными мелками, но впоследствии чужая рука прошлась пером по контуру некоторых рисунков и добавила кое-где акварельной подкраски.
Перед нами — портреты придворных Генриха VIII. Тут есть и сам король, и Анна Болейн, его несчастная королева, и первый поэт английского Возрождения Томас Уайет, чей куртуазный роман с Анной сделался романтической легендой. Король Генрих унаследовал от отца мрачный, еще вполне средневековый двор и полностью преобразовал его, превратив жизнь королевской семьи и своих придворных в беспрерывное празднество. Он приглашал лучших музыкантов из Венеции, Милана, Германии, Франции. За музыкантами шли ученые и художники, в том числе и Ганс Гольбейн из Аугсбурга, рекомендованный Генриху Эразмом Роттердамским. Король и его придворные упражнялись в сочинении стихов и музыки; постоянно устраивали красочные шествия, праздники, даже рыцарские турниры (собственно говоря, бывшие уже анахронизмом). В общем, это был Золотой век, в особенности по сравнению с ушедшей, казалось, в далекое прошлое эпохой войн, интриг и злодейств.
Злодейства, как известно, все-таки воспоследовали. Король, так долго и упорно ухаживавший за Анной, все-таки женился на ней, но наследника мужского пола не дождался, а после рождения мертвого младенца послал свою королеву на плаху, обвинив в измене (само собой, измена королю автоматически превращалась в государственную измену!). Анна и несколько ее предполагаемых «любовников» и «сообщников» были арестованы. Одновременно взяли и Томаса Уайета. Из окна своей темницы в Тауэре он мог видеть казнь своих друзей Джорджа Болейна, сэра Генри Норриса, сэра Фрэнсиса Уэстона, сэра Уильяма Брертона, Марка Смитона — и ждать своей очереди.
Девиз Ордена Подвязки вошел в мою балладу об Анне Болейн. Но сначала — два слова о Королевской библиотеке. Именно здесь хранятся папки со знаменитыми рисунками Ганса Гольбейна. Художник приезжал в Англию дважды: первый раз в 1527–1528 годах, а во второй раз — в 1532 году, когда он окончательно обосновался в Лондоне. Ганс Гольбейн Младший (1497–1543) был выдающимся портретистом, а его виндзорские рисунки — лучшее, что он создал в графике. Искусствоведы считают, что это — подготовительные наброски к живописи, они выполнены, в основном, серебряным карандашом и цветными мелками, но впоследствии чужая рука прошлась пером по контуру некоторых рисунков и добавила кое-где акварельной подкраски.
Перед нами — портреты придворных Генриха VIII. Тут есть и сам король, и Анна Болейн, его несчастная королева, и первый поэт английского Возрождения Томас Уайет, чей куртуазный роман с Анной сделался романтической легендой. Король Генрих унаследовал от отца мрачный, еще вполне средневековый двор и полностью преобразовал его, превратив жизнь королевской семьи и своих придворных в беспрерывное празднество. Он приглашал лучших музыкантов из Венеции, Милана, Германии, Франции. За музыкантами шли ученые и художники, в том числе и Ганс Гольбейн из Аугсбурга, рекомендованный Генриху Эразмом Роттердамским. Король и его придворные упражнялись в сочинении стихов и музыки; постоянно устраивали красочные шествия, праздники, даже рыцарские турниры (собственно говоря, бывшие уже анахронизмом). В общем, это был Золотой век, в особенности по сравнению с ушедшей, казалось, в далекое прошлое эпохой войн, интриг и злодейств.
Злодейства, как известно, все-таки воспоследовали. Король, так долго и упорно ухаживавший за Анной, все-таки женился на ней, но наследника мужского пола не дождался, а после рождения мертвого младенца послал свою королеву на плаху, обвинив в измене (само собой, измена королю автоматически превращалась в государственную измену!). Анна и несколько ее предполагаемых «любовников» и «сообщников» были арестованы. Одновременно взяли и Томаса Уайета. Из окна своей темницы в Тауэре он мог видеть казнь своих друзей Джорджа Болейна, сэра Генри Норриса, сэра Фрэнсиса Уэстона, сэра Уильяма Брертона, Марка Смитона — и ждать своей очереди.
 Неизвестно, что его спасло, чье заступничество, какой каприз короля. Но жизнь Уайета будто переломилась пополам; «в тот день молодость моя кончилась», — писал он в стихах. Уайет уцелел, но был отправлен — с глаз долой — в свое поместье в Кент, под опеку отца. Отныне он будет перелагать стихами покаянные псалмы и писать сатиры на придворную жизнь. Например, так:
Неизвестно, что его спасло, чье заступничество, какой каприз короля. Но жизнь Уайета будто переломилась пополам; «в тот день молодость моя кончилась», — писал он в стихах. Уайет уцелел, но был отправлен — с глаз долой — в свое поместье в Кент, под опеку отца. Отныне он будет перелагать стихами покаянные псалмы и писать сатиры на придворную жизнь. Например, так:
Песня о несчастной королеве Анне Болейн и ее верном рыцаре Томасе Уайете
Ракушка седьмая. Виндзор (Продолжение: граф Сарри)
Второе, что мне крепко запомнилось из поездки в Виндзор, кроме Капеллы Св. Георгия, это как мы поднимались на старинную башню (не то Генриха III, не то Эдуарда III), с которой открывался широкий вид на окрестности замка, на Темзу и заречные луга. И так прочно оно соединилось в голове со стихами Генри Говарда, графа Сарри, который провел в этом замке свои отроческие годы (а потом дважды ссылался сюда за скверные проделки), что сейчас и не вспомнить, перевел ли я их до своей поездки или после. В 1536 году, вскоре после казни Анны Болейн, граф Ричмонд неожиданно умер при подозрительных обстоятельствах — видно, само существование бастарда Генриха VIII, которого король мог в любой момент сделать своим законным наследником, не устраивало какую-то из борющихся за власть придворных партий. «Воспоминания в Виндзорском замке», посвященные памяти друга, замечательны и описаниями их юношеских «забав», и общим элегическим настроением:
В 1536 году, вскоре после казни Анны Болейн, граф Ричмонд неожиданно умер при подозрительных обстоятельствах — видно, само существование бастарда Генриха VIII, которого король мог в любой момент сделать своим законным наследником, не устраивало какую-то из борющихся за власть придворных партий. «Воспоминания в Виндзорском замке», посвященные памяти друга, замечательны и описаниями их юношеских «забав», и общим элегическим настроением:
Ракушка восьмая Лондон, Тауэр (Уолтер Рэли)
Тауэр я посетил во время первого своего приезда в Лондон — как же туристу без Тауэра? О тамошних воронах и гвардейцах в мохнатых шапках я читал еще в детстве, они меня не слишком интересовали. Так же, по обязанности, я посетил выставку драгоценностей Короны в Белой Башне. Самым сильным моим впечатлением стал домик Уолтера Рэли — почти сразу, как входишь в крепость, по правую сторону. «Домик Рэли» — так я сам его назвал, и так запомнилось, а на самом деле, этот «домик» называется Кровавая Башня: по легенде, в ней умертвили двух малолетних принцев, законных наследников английского престола.
 Сэр Уолтер Рэли — фигура легендарная. Родом из небогатых девонширских дворян, он бросил университет на первом году, пять лет добровольцем воевал во Франции на стороне гугенотов, а вернувшись, сделал головокружительную карьеру: стал фаворитом королевы Елизаветы I, капитаном дворцовой гвардии, одним из самых могущественных людей в государстве. Опытный моряк и славный воин, заклятый враг Испании, сыгравший важную роль в разгроме Великой Армады и в английской колонизации Америки, автор увлекательного «Плавания в Гвиану», он был также философом и историком, физиком, химиком, ботаником и изобретателем. И еще блестящим поэтом, тяготевшим — как и Томас Уайет за полвека до него — к прямому и неукрашенному стилю (plain style).
Сэр Уолтер Рэли — фигура легендарная. Родом из небогатых девонширских дворян, он бросил университет на первом году, пять лет добровольцем воевал во Франции на стороне гугенотов, а вернувшись, сделал головокружительную карьеру: стал фаворитом королевы Елизаветы I, капитаном дворцовой гвардии, одним из самых могущественных людей в государстве. Опытный моряк и славный воин, заклятый враг Испании, сыгравший важную роль в разгроме Великой Армады и в английской колонизации Америки, автор увлекательного «Плавания в Гвиану», он был также философом и историком, физиком, химиком, ботаником и изобретателем. И еще блестящим поэтом, тяготевшим — как и Томас Уайет за полвека до него — к прямому и неукрашенному стилю (plain style).
 Последним стихотворением Уолтера Рэли считается «Странствие» (с подзаголовком: «Написано, как полагают, кающимся на пороге смерти»), в котором последний путь человека представляется паломничеством на небеса, в край бессмертия. Начинается оно с уже знакомого нам образа «ракушки на шляпе»:
Последним стихотворением Уолтера Рэли считается «Странствие» (с подзаголовком: «Написано, как полагают, кающимся на пороге смерти»), в котором последний путь человека представляется паломничеством на небеса, в край бессмертия. Начинается оно с уже знакомого нам образа «ракушки на шляпе»:
Ракушка девятая. Уолтер Рэли (Продолжение)
Когда я рассказал историю Уолтера Рэли своему одиннадцатилетнему другу Арсению и дошел до казни, он воскликнул: — Фу, какое варварство! К чему такие ужасы: палач, топор, плаха? И он напомнил мне, как воспитатель из старой комедии укорял детишек: «Представьте, как огорчатся родители, когда узнают о вашем плохом поведении. А ваша бабушка? Вы ее просто убьете!» — Вот так бы и король Яков, — говорил мне остроумный мальчик Арсений. — Лучше бы он убил Уолтера Рэли своим плохим поведением.
Однако все это было — и топор, и плаха. Рассказывают, что перед казнью Рэли выкурил трубочку. Ведь это именно он ввел в Англии моду курить табак. А набожный король Яков был ярым врагом этой моды, написавшим даже памфлет против табака.
Сэру Уолтеру Рэли приписывают и следующие иронические строфы:
— Вот так бы и король Яков, — говорил мне остроумный мальчик Арсений. — Лучше бы он убил Уолтера Рэли своим плохим поведением.
Однако все это было — и топор, и плаха. Рассказывают, что перед казнью Рэли выкурил трубочку. Ведь это именно он ввел в Англии моду курить табак. А набожный король Яков был ярым врагом этой моды, написавшим даже памфлет против табака.
Сэру Уолтеру Рэли приписывают и следующие иронические строфы:
О ДУШЕСПАСИТЕЛЬНОЙ ПОЛЬЗЕ ТАБАЧНОГО КУРЕНИЯ
Любовь океана к Ирландии
Уолтер Рэли в темнице
 Тут всё основано на аллюзиях, и всё, по сути, верно. Хотя корабль, на котором Уолтер Рэли плыл в Гвиану, ни в первый, ни во второй раз не был галеоном, но созвездия над ним светили действительно девственные, невиданные — созвездия Южного полушария. И назывался его корабль во втором (роковом) плавании «Destiny», то есть «Судьба». Так что Жребий Уолтера Рэли качался тогда и в прямом, и в переносном смысле. А перо в последней строфе — намек на «Историю мира», которую он писал в Тауэре, не ведая, закончится ли его собственная история на следующее утро или еще продлится.
Тут всё основано на аллюзиях, и всё, по сути, верно. Хотя корабль, на котором Уолтер Рэли плыл в Гвиану, ни в первый, ни во второй раз не был галеоном, но созвездия над ним светили действительно девственные, невиданные — созвездия Южного полушария. И назывался его корабль во втором (роковом) плавании «Destiny», то есть «Судьба». Так что Жребий Уолтера Рэли качался тогда и в прямом, и в переносном смысле. А перо в последней строфе — намек на «Историю мира», которую он писал в Тауэре, не ведая, закончится ли его собственная история на следующее утро или еще продлится.
Ракушка десятая. То ли Лондон, то ли Оксфорд (Спайк Миллиган)
Теперь (если только читатель не сочтет такой переход слишком резким и несообразным) мне бы хотелось уйти от этих трагических сюжетов и переключиться на что-то более оптимистичное. Оставим Виндзор, навеявший на нас воспоминания об эпохе Генриха VIII, и перенесемся снова в Лондон. Впрочем, может быть, это был и Оксфорд. Помню только, что мы гуляли вместе с Рози по городу, зашли в книжный магазин, и там, как я теперь догадываюсь, с заранее обдуманным намерением и особенным коварством, она купила мне книжку стихов Спайка Миллигана. С этого все и началось. На оборотной стороне тонкой пингвиновской книжки красовалось такое объявление:
На оборотной стороне тонкой пингвиновской книжки красовалось такое объявление:
Эта книга не содержит искусственных ароматизаторов. Проверьте, подойдет ли она по габаритам к вашему гаражу.За этим следовало название и комментарий к нему:
Не отжатые носочки из куриной постирушки
Ракушка одиннадцатая Стратфорд-на-Эйвоне (Этот пресловутый Шекспир)
Как я уже говорил, в те времена железный занавес между Востоком и Западом только-только дал слабину, и всякий новый человек из Москвы воспринимался с большим интересом. Меня пригласили выступить на русской службе ВВС в Буш Хаус. Для приехавшего это был способ немного заработать, что в поездке не лишне. Я выступал там дважды с литературными передачами. В последний раз — с рассказом о русском стихотворном переводе, который был разделен на две передачи, и их даже повторяли — я сам слышал в Москве через полгода. Моя редактор Наташа Рубинштейн спросила, не хотел бы я познакомиться с ее мужем, переводчиком Георгием Беном? Еще бы я не хотел! Ведь это имя связано с первой моей публикацией в двухтомнике Эдгара По в 1972 году, и всех переводчиков в этой книге я запомнил, а впоследствии познакомился почти со всеми, за исключением питерца Георгия Бена, который в 1973 году эмигрировал в Израиль. Он переводил стихи и прозу, в том числе выпустил первый сборник Суинберна на русском языке. Но главным своим переводом он считал перевод трагедии Шекспира «Ричард III». Наташа и Георгий свозили меня в Стратфорд-на-Эйвоне. Вела машину, конечно, Наташа. Я знавал немало семей, где главный или единственный водитель — жена. Особенно, если глава семьи поэт; тогда руль ему лучше совсем не давать — упаси Бог, задумается о чем-то, зазевается… Нет уж, лучше пускай тихонько сидит и рифмы подбирает.
Наташа и Георгий свозили меня в Стратфорд-на-Эйвоне. Вела машину, конечно, Наташа. Я знавал немало семей, где главный или единственный водитель — жена. Особенно, если глава семьи поэт; тогда руль ему лучше совсем не давать — упаси Бог, задумается о чем-то, зазевается… Нет уж, лучше пускай тихонько сидит и рифмы подбирает.
 И вот она, эта речка, эта церковь на берегу, в которой Шекспир был крещен 26 апреля 1564 года — и похоронен в 1616 году чуть ли не в тот же самый день; вот они — виденные прежде лишь на картинках эпитафия поэта и его надгробный памятник. Сторонники графа Оксфорда или графа Рэтленда — те, кто не верит, что человек плебейского происхождения, сын перчаточника, мог взойти на вершину Олимпа, считают, что памятник типично мещанский, что в нем нет и отблеска гения истинного Шекспира, творца «Гамлета» и «Короля Лира». А я так думаю, что вполне достойно почтили стратфордцы своего земляка; получился уважаемый мужчина с пером в руках — сразу видно, умственных занятий человек. Ведь не Микеланджело же было приглашать, не Генри Муру заказывать памятник отставному актеру, хотя бы и автору удачных пьес.
И вот она, эта речка, эта церковь на берегу, в которой Шекспир был крещен 26 апреля 1564 года — и похоронен в 1616 году чуть ли не в тот же самый день; вот они — виденные прежде лишь на картинках эпитафия поэта и его надгробный памятник. Сторонники графа Оксфорда или графа Рэтленда — те, кто не верит, что человек плебейского происхождения, сын перчаточника, мог взойти на вершину Олимпа, считают, что памятник типично мещанский, что в нем нет и отблеска гения истинного Шекспира, творца «Гамлета» и «Короля Лира». А я так думаю, что вполне достойно почтили стратфордцы своего земляка; получился уважаемый мужчина с пером в руках — сразу видно, умственных занятий человек. Ведь не Микеланджело же было приглашать, не Генри Муру заказывать памятник отставному актеру, хотя бы и автору удачных пьес.
 И хорошо, что вышло так, как вышло. Представляю себе, что мог наваять Микеланджело, какого Давида без пращи или Моисея без рогов. А Генри Мур соорудил бы, наверное, большую тушу с дыркой посередине. Критики стали бы говорить, что это раненое сердце поэта, сквозь которое прошли все печали и страдания мира. А другие — что творчество поэта (как взгляд на мир сквозь эту дырку!) позволяет нам увидеть реальность подлинную, а не придуманную.
М-да… Нет, уж пусть лучше будет, как оно есть! По крайней мере, это достоверно и прилично.
А вот здание грамматической школы, в которую Уильям ходил с семи до пятнадцати лет. В то время она называлось Королевской новой школой. Учение продолжалось, с перерывами, от шести или семи утра до пяти вечера. Здесь говорили только на латыни. Читали, переводили и зазубривали десятками страниц латинские тексты — от Горация и Овидия до Эразма Роттердамского (причем переводили и прозой и стихами), изучали правила риторики, упражнялись в умении писать и произносить речи на любые предложенные темы. Вот где будущий драматург приучался думать афоризмами и сентенциями, остро и кратко выражать свои мысли, пробуждать эмоции слушателей, доказывать и убеждать. Нет, не Shakespeare’s Birthplace (дом, где родился Шекспир), не та бутафорская колыбелька — сентиментальная скорлупка, из которой якобы вылупился великий Бард, а этот просторный и голый учебный класс с высоким потолком и деревянными скамьями — истинное гнездо, откуда выпорхнул «лебедь Эйвона». Так о нем сказал Бен Джонсон в своей знаменитой элегии, помещенной в Первом фолио: «Sweet swan of Avon!» — сладкоречивый, прекрасный лебедь.
И хорошо, что вышло так, как вышло. Представляю себе, что мог наваять Микеланджело, какого Давида без пращи или Моисея без рогов. А Генри Мур соорудил бы, наверное, большую тушу с дыркой посередине. Критики стали бы говорить, что это раненое сердце поэта, сквозь которое прошли все печали и страдания мира. А другие — что творчество поэта (как взгляд на мир сквозь эту дырку!) позволяет нам увидеть реальность подлинную, а не придуманную.
М-да… Нет, уж пусть лучше будет, как оно есть! По крайней мере, это достоверно и прилично.
А вот здание грамматической школы, в которую Уильям ходил с семи до пятнадцати лет. В то время она называлось Королевской новой школой. Учение продолжалось, с перерывами, от шести или семи утра до пяти вечера. Здесь говорили только на латыни. Читали, переводили и зазубривали десятками страниц латинские тексты — от Горация и Овидия до Эразма Роттердамского (причем переводили и прозой и стихами), изучали правила риторики, упражнялись в умении писать и произносить речи на любые предложенные темы. Вот где будущий драматург приучался думать афоризмами и сентенциями, остро и кратко выражать свои мысли, пробуждать эмоции слушателей, доказывать и убеждать. Нет, не Shakespeare’s Birthplace (дом, где родился Шекспир), не та бутафорская колыбелька — сентиментальная скорлупка, из которой якобы вылупился великий Бард, а этот просторный и голый учебный класс с высоким потолком и деревянными скамьями — истинное гнездо, откуда выпорхнул «лебедь Эйвона». Так о нем сказал Бен Джонсон в своей знаменитой элегии, помещенной в Первом фолио: «Sweet swan of Avon!» — сладкоречивый, прекрасный лебедь.
 Между прочим, Шекспир был не один такой талантливый выпускник Стратфордской школы, в его классе был другой мальчик, его сверстник, которому сулили блестящее будущее; но он, к сожалению, умер в ранней молодости. То был сын мясника по имени Адриан Тайлер, и надо полагать, что именно к нему относится легенда о школьнике, который помогал отцу-мяснику в его ремесле и, когда надо было заколоть теленка, приступая к делу, произносил обвинительную речь в самом торжественном стиле. Вполне естественно, что через полвека после смерти Шекспира эта легенда была перенесена с того забытого подростка на его знаменитого земляка. Джон Обри, простодушный мемуарист второй половины XVII века, способствовал ее распространению. Но к школьнику Уильяму Шекспиру она не могла иметь отношения, ведь его отец и перчаточным-то делом давно уже не занимался, он был главным магистратом и казначеем Стратфорда.
Интересно, что на роль «настоящего Шекспира» антистратфордианцы прочат лишь высокородных особ, в основном графьев: графа Оксфорда, графа Рэтленда, графа Пембрука — в крайнем случае, лорда Бэкона, барона Вируламского; хотя творческий вклад королевы Елизаветы тоже не исключается. Эти эксперты как будто не ведают, что почти все знаменитые драматурги той эпохи были куда как скромного происхождения: Кристофер Марло — сын сапожника, Бен Джонсон — сын каменщика, Джон Уэбстер — сын каретника, Томас Мидлтон — опять-таки сын каменщика. А Уильям Дэвенант был сыном владельца оксфордского трактира, где часто останавливался Шекспир и по одним слухам — его крестником, а по другим — незаконным сыном. На что он сам любил намекнуть друзьям за стаканом вина.
Как же нелепо выглядят на этом фоне утверждения, что, дескать, Шекспир был малограмотен. В то время как в стратфордской школе учили свободно говорить на латыни, переводить прозу и поэзию, публично выступать и произносить речи. И притом снабжали множеством заученных на всю жизнь классических цитат и афоризмов. То есть, выпускников словно специально готовили к профессии драматурга! Семь строгих лет в такой школе дало Шекспиру куда больше, чем мог бы дать университет, где студенты, как известно, больше лоботрясничают и предаются эксцессам молодости, чем грызут науку.
Моя рецензия на книгу Ильи Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса», откуда я взял вышеприведенное суждение о малограмотности Шекспира, было одной из первых в ряду антиантистратфордианских статей, которые эта книга у нас спровоцировала. Разумеется, все эти статьи, сколь бы они ни были доказательны, никоим образом не повлияли на популярность «Великого Феникса», чье кряканье по-прежнему возбуждает читателя, падкого на всякие разоблачения.
Между прочим, Шекспир был не один такой талантливый выпускник Стратфордской школы, в его классе был другой мальчик, его сверстник, которому сулили блестящее будущее; но он, к сожалению, умер в ранней молодости. То был сын мясника по имени Адриан Тайлер, и надо полагать, что именно к нему относится легенда о школьнике, который помогал отцу-мяснику в его ремесле и, когда надо было заколоть теленка, приступая к делу, произносил обвинительную речь в самом торжественном стиле. Вполне естественно, что через полвека после смерти Шекспира эта легенда была перенесена с того забытого подростка на его знаменитого земляка. Джон Обри, простодушный мемуарист второй половины XVII века, способствовал ее распространению. Но к школьнику Уильяму Шекспиру она не могла иметь отношения, ведь его отец и перчаточным-то делом давно уже не занимался, он был главным магистратом и казначеем Стратфорда.
Интересно, что на роль «настоящего Шекспира» антистратфордианцы прочат лишь высокородных особ, в основном графьев: графа Оксфорда, графа Рэтленда, графа Пембрука — в крайнем случае, лорда Бэкона, барона Вируламского; хотя творческий вклад королевы Елизаветы тоже не исключается. Эти эксперты как будто не ведают, что почти все знаменитые драматурги той эпохи были куда как скромного происхождения: Кристофер Марло — сын сапожника, Бен Джонсон — сын каменщика, Джон Уэбстер — сын каретника, Томас Мидлтон — опять-таки сын каменщика. А Уильям Дэвенант был сыном владельца оксфордского трактира, где часто останавливался Шекспир и по одним слухам — его крестником, а по другим — незаконным сыном. На что он сам любил намекнуть друзьям за стаканом вина.
Как же нелепо выглядят на этом фоне утверждения, что, дескать, Шекспир был малограмотен. В то время как в стратфордской школе учили свободно говорить на латыни, переводить прозу и поэзию, публично выступать и произносить речи. И притом снабжали множеством заученных на всю жизнь классических цитат и афоризмов. То есть, выпускников словно специально готовили к профессии драматурга! Семь строгих лет в такой школе дало Шекспиру куда больше, чем мог бы дать университет, где студенты, как известно, больше лоботрясничают и предаются эксцессам молодости, чем грызут науку.
Моя рецензия на книгу Ильи Гилилова «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса», откуда я взял вышеприведенное суждение о малограмотности Шекспира, было одной из первых в ряду антиантистратфордианских статей, которые эта книга у нас спровоцировала. Разумеется, все эти статьи, сколь бы они ни были доказательны, никоим образом не повлияли на популярность «Великого Феникса», чье кряканье по-прежнему возбуждает читателя, падкого на всякие разоблачения.
 Однако воевать против ветряных мельниц глупости, чья энергия практически неистощима, — хотя и бесполезно, но до́лжно. И на этом пути, кроме шишек, порой обретаются и неожиданные радости. Так в переделкинском писательском доме мне посчастливилось познакомиться с Николаем Ивановичем Балашовым, академиком и членом редколлегии «Литературных памятников», который, как и я, был задет антинаучностью гилиловского сочинения и тогда же написал даже не статью, а целую книжку[3], в которой со всей академической вежливостью демонстрировал его бесконечные ошибки и промахи.
С Николаем Ивановичем мы подружились, я бывал у него в гостях и помню некоторые из его воспоминаний. Особенно врезалось в память одно — так ярко, как будто это было со мной самим. В 1936 году, окончив школу с золотой медалью, он поступил на филфак МГУ и сразу уехал на Северный Кавказ — перевести дух перед началом учебы. Он ходил в одиночку по горам и старался понять, как жить дальше, и думал про отца, расстрелянного в 1933 году, но успевшего за год до этого, сразу после первого ареста, развестись с женой и тем самым спасшего ее, а может быть, и сына от репрессий. Горное солнце, ветер, обвевавший лицо, и стихи Горация, которые он во весь голос декламировал облакам и ущельям, спасали от тоски, передавали ему свою силу — силу жить, не изменяя себе и не сдаваясь. Николай Иванович подарил мне старенькую книжку Горация, по которой он в молодости учил латинские стихи, с карандашными маргиналиями, с размеченными ударениями и ритмическими пометками. Старенькая, ничего не стоящая на чужой взгляд книжечка, почти брошюра. Но я бы не обменял ее даже на сундук пиастров.
Однако воевать против ветряных мельниц глупости, чья энергия практически неистощима, — хотя и бесполезно, но до́лжно. И на этом пути, кроме шишек, порой обретаются и неожиданные радости. Так в переделкинском писательском доме мне посчастливилось познакомиться с Николаем Ивановичем Балашовым, академиком и членом редколлегии «Литературных памятников», который, как и я, был задет антинаучностью гилиловского сочинения и тогда же написал даже не статью, а целую книжку[3], в которой со всей академической вежливостью демонстрировал его бесконечные ошибки и промахи.
С Николаем Ивановичем мы подружились, я бывал у него в гостях и помню некоторые из его воспоминаний. Особенно врезалось в память одно — так ярко, как будто это было со мной самим. В 1936 году, окончив школу с золотой медалью, он поступил на филфак МГУ и сразу уехал на Северный Кавказ — перевести дух перед началом учебы. Он ходил в одиночку по горам и старался понять, как жить дальше, и думал про отца, расстрелянного в 1933 году, но успевшего за год до этого, сразу после первого ареста, развестись с женой и тем самым спасшего ее, а может быть, и сына от репрессий. Горное солнце, ветер, обвевавший лицо, и стихи Горация, которые он во весь голос декламировал облакам и ущельям, спасали от тоски, передавали ему свою силу — силу жить, не изменяя себе и не сдаваясь. Николай Иванович подарил мне старенькую книжку Горация, по которой он в молодости учил латинские стихи, с карандашными маргиналиями, с размеченными ударениями и ритмическими пометками. Старенькая, ничего не стоящая на чужой взгляд книжечка, почти брошюра. Но я бы не обменял ее даже на сундук пиастров.
Ракушка двенадцатая. Из Бата в Кентербери (Путь паломника)
Рози Бартлетт привезла нас знакомиться к своим родителям в Ричмонд. Если на метро, это на юго-западной ветке, за ботаническими садами Кьюз, и еще нужно немного проехать на автобусе. Пол был местным доктором, по-нашему, «участковым врачом». Он был худощав, ироничен и решителен. Отрадой Хилэри была лохматая Полли благороднейшей старинной породы спаниелей, — в точности таких, каких мы видим на английских портретах XVII века. Дом, в котором они жили, стоял на краю поля для гольфа. С гольфом до этого мы в Москве как-то не сталкивались. Пол вывел нас за калитку поглядеть. Воздух был свежий и сладкий, совсем деревенский. Пол подобрал с травы увесистый белый шарик и вручил Марине на память.
— А что будет, если такой шарик попадет, например, в висок? — спросила она. Ответ Пола был краток и внушителен:
— Instant death (мгновенная смерть).
Пол вызвался в ближайшее воскресенье отвезти нас на экскурсию в Бат, знаменитый город-курорт, куда (как нам известно из классической литературы) зимой съезжалось на воды всё лондонское общество. Поехали вшестером: Пол, Хилэри, Рози, Полли и мы с Мариной.
Маршрут Пол выбрал такой, чтобы проехать через Солсбери и посетить его знаменитый готический собор. Сей собор, как известно, гордится самым высоким церковным шпилем в Англии.
Но я-то глядел со своей колокольни (хоть и пониже, но своей), и Солсбери был для меня, прежде всего, местом, где служил священником преподобный Джордж Герберт, выдающийся поэт метафизической школы. Он был сыном миссис Магдален Герберт, доброй покровительницы Джона Донна, которой он посвящал стихи; так что Джордж и его брат Эдвард (известный как лорд Герберт из Чербери) знали Донна еще мальчиками. Джордж Герберт был не только поэтом, но и прекрасным музыкантом. Он мог бы сделать недурную карьеру при дворе благоволившего к нему Якова I, но после смерти короля все изменилось, и он решил посвятить себя церкви.
Дом, в котором они жили, стоял на краю поля для гольфа. С гольфом до этого мы в Москве как-то не сталкивались. Пол вывел нас за калитку поглядеть. Воздух был свежий и сладкий, совсем деревенский. Пол подобрал с травы увесистый белый шарик и вручил Марине на память.
— А что будет, если такой шарик попадет, например, в висок? — спросила она. Ответ Пола был краток и внушителен:
— Instant death (мгновенная смерть).
Пол вызвался в ближайшее воскресенье отвезти нас на экскурсию в Бат, знаменитый город-курорт, куда (как нам известно из классической литературы) зимой съезжалось на воды всё лондонское общество. Поехали вшестером: Пол, Хилэри, Рози, Полли и мы с Мариной.
Маршрут Пол выбрал такой, чтобы проехать через Солсбери и посетить его знаменитый готический собор. Сей собор, как известно, гордится самым высоким церковным шпилем в Англии.
Но я-то глядел со своей колокольни (хоть и пониже, но своей), и Солсбери был для меня, прежде всего, местом, где служил священником преподобный Джордж Герберт, выдающийся поэт метафизической школы. Он был сыном миссис Магдален Герберт, доброй покровительницы Джона Донна, которой он посвящал стихи; так что Джордж и его брат Эдвард (известный как лорд Герберт из Чербери) знали Донна еще мальчиками. Джордж Герберт был не только поэтом, но и прекрасным музыкантом. Он мог бы сделать недурную карьеру при дворе благоволившего к нему Якова I, но после смерти короля все изменилось, и он решил посвятить себя церкви.
 Он был рукоположен в священники и получил приход в Солсбери. Естественно, служил преподобный Джордж Герберт не в знаменитом соборе, а в своем приходе — в маленькой церкви Святого Андрея на окраине города, но в соборе Солсбери он был похоронен, и я хотел взглянуть на его памятник.
Своему новому призванию Джордж Герберт отдался ревностно и сделал много полезного для своих прихожан. Перед своей ранней смертью (от туберкулеза) он отослал другу пачку своих стихов с просьбой прочесть их и опубликовать — но только «если от того может произойти польза какой-нибудь отчаявшейся христианской душе», в противном же случае — сжечь. Так появилась одна из самых знаменитых книг в английской поэзии «Храм» (1633).
Приведу в качестве примера одно из стихотворений, вошедших в эту книгу:
Он был рукоположен в священники и получил приход в Солсбери. Естественно, служил преподобный Джордж Герберт не в знаменитом соборе, а в своем приходе — в маленькой церкви Святого Андрея на окраине города, но в соборе Солсбери он был похоронен, и я хотел взглянуть на его памятник.
Своему новому призванию Джордж Герберт отдался ревностно и сделал много полезного для своих прихожан. Перед своей ранней смертью (от туберкулеза) он отослал другу пачку своих стихов с просьбой прочесть их и опубликовать — но только «если от того может произойти польза какой-нибудь отчаявшейся христианской душе», в противном же случае — сжечь. Так появилась одна из самых знаменитых книг в английской поэзии «Храм» (1633).
Приведу в качестве примера одно из стихотворений, вошедших в эту книгу:
Молитва
 Обе книги опубликованы посмертно Мэри Сидни, несомненно, одной из самых образованных и талантливых женщин елизаветинского века, покровительницей поэтов. Она была замужем за Генри Гербертом, вторым графом Пембруком и, насколько мы знаем, именно при содействии графа, с которым Джордж Герберт был в отдаленном родстве, он получил приход по соседству с Уилтон-Хаусом.
Обе книги опубликованы посмертно Мэри Сидни, несомненно, одной из самых образованных и талантливых женщин елизаветинского века, покровительницей поэтов. Она была замужем за Генри Гербертом, вторым графом Пембруком и, насколько мы знаем, именно при содействии графа, с которым Джордж Герберт был в отдаленном родстве, он получил приход по соседству с Уилтон-Хаусом.
Тут следует добавить, что старший сын Мэри Сидни Уильям Герберт, третий граф Пембрук, как и его мать, покровительствовал искусствам и даже был основателем одного из колледжей в Оксфорде — Пембрук-колледжа. Он же считается самым вероятным претендентом на роль Друга в шекспировских сонетах; его скандальная связь с фрейлиной королевы Мэри Фиттон (претенденткой на роль Темной Леди) закончилась отсидкой в тюрьме Флит. Именно ему — вместе с его младшим братом Филипом — издатели посвятили первое Полное собрание пьес Шекспира («Первое фолио», 1623). Вот как всё вяжется вместе, как плетутся и переплетаются в причудливые узлы многие нити поэтических судеб, связанные всего лишь с несколькими милями английской дороги. Пообедали мы в Брэдфорде-на-Эйвоне, еще одном чудесном городке, каких немало в Уэссексе. Река разделяет его на две половины, а соединяет элегантный мост, построенный при королеве Виктории в классическом, я бы сказал, истинно палладианском стиле. Говорят, что в Англии насчитывается не менее полудюжины рек, называемых Эйвон (что означает просто «вода» или «река» на языке бриттов), но этот Эйвон — тот самый, что протекает через шекспировский Стратфорд. Так что если бы Шекспир был нежеланным ребенком в семье, его запросто могли бы положить спящего в корзину и пустить по реке; и он плыл бы и плыл, пока бы его не заметили брэдфордские бабы, полощущие белье в реке, и не вытащили на берег. И он вырос бы в другом городе, хотя на берегу той же реки, и все равно стал бы тем гением, которого мы знаем. Только про него говорили бы не «Шекспир из Стратфорда-на-Эйвоне», а «Шекспир из Брэдфорда-на-Эйвоне», но это никак не помешало бы Бену Джонсону написать свой знаменитый панегирик и назвать Шекспира «sweet swan of Avon». В Бате мы, прежде всего, осмотрели откопанные археологами римские термы (колонны, картины, статуи богов) и попили целебной водички («Прелесть!» — сказал я, «гадость!» — Марина). Из много другого, что мы видели, запомнилось посещение музея быта XVIII века в одном из больших георгианских домов. Более всего я был впечатлен грандиозной кухней в подвале — размером с хороший баскетбольный зал, а в кухне — среди прочей утвари и всяких хитроумных устройств — набором вертелов с ручками, от малых до самых огромных, как набор колоколов на нашем Иване Великом. Самые большие вертела простой ручкой не провернешь: усилие туда передается через хитроумную систему валов и шестерен. Я попытался представить себе зажаренного быка на этом вертеле, а потом английского лорда в камзоле и в напудренном парике, откладывающего томик Плиния Младшего и берущего в руки вилку величиной с охотничий сапог. Да, эти вертелы запомнились мне навсегда. Не то, чтобы они меня устрашили, но какой-то когнитивный диссонанс я ощутил. О тщете усилий человеческих задумался. И много, много картин прошло в эту минуту перед моими глазами. «Кому нужны все эти перевороты?» — сказал Поросенок на Вертеле шустрому Поваренку. Поваренок, очевидно, был революционером (от revolgere — переворачивать), а поросенок — консерватором. Мой еще не раскулаченный Наф-Наф был всей душою с ним согласен.
 Что касается встреч с поэзией, то это, увы, не сложилось. Бат город не стихов, а прозы и драматургии: Шеридан, Диккенс, Джейн Остин… Полюбоваться можно разве домом, где жил Джек Хорнер, о котором сложена такая песенка:
Что касается встреч с поэзией, то это, увы, не сложилось. Бат город не стихов, а прозы и драматургии: Шеридан, Диккенс, Джейн Остин… Полюбоваться можно разве домом, где жил Джек Хорнер, о котором сложена такая песенка:
В Кентербери мы отправились уже немножко другой компанией: Пол с Джерардом и мы с Мариной. Водитель наш не шутил: мы летели, как ветер — или как ведьма на помеле. Да, во времена Джефри Чосера двигались помедленнее. Сколько всего успели рассказать паломники, тащившиеся по дороге в Кентербери! Взять хотя бы ту же Батскую ткачиху. Одно вступление к ее рассказу заняло, я думаю, все время от завтрака до обеда. В машине Пола духу не хватило бы даже для короткого анекдота. Мысли в голове от скорости дробились на маленькие осколки, мелькающие перед глазами, как гагачьи крылья на птичьем базаре где-нибудь на Алеутских островах. Графство Кент — юго-восточный край Англии, ее угловая башня, смотрящая через Ла-Манш в сторону французского побережья. А вот и цель нашего паломничества — диво дивное, одна из лучших готических церквей Англии. Все они жемчужины, и все в своем роде. Кентерберийский собор — это не про уход от мира в молитвенную тишину, как собор в Или, и не про спокойную жизнь в оазисе знаний, нарушаемую лишь мелкими стычками амбиций, как кембриджская King’s College Chapel. Стоя здесь, в архиепископском соборе, вы ни на секунду не можете забыть о великих событиях, колебавших эти стены, о драме долгой и страшной английской истории, непременной частью которых был этот храм. И кажется, что запах крови не до конца выветрился отсюда. Но все перебивает свет, сочащийся в окна сквозь цветные витражи. В том числе — самые старые в Англии витражи XII века, работа над которыми началась через два года после убийства архиепископа Томаса Бекета в 1170 году. На одном из этих витражей есть его лик. В средневековой Англии было два главных места паломничества — Кентербери и Вальсингам. Гробница святого Томаса Бекета — и монастырь Девы Марии с главным объектом поклонения: Домом Святого Семейства в Назарете; внутри можно было увидеть статую Святой Девы, сидящей на кипарисовом троне. (Ничего странного; дети тоже играют в домики, и разве не сказал Спаситель: будьте как дети?) Традиция паломничества стала угасать после разрыва Генриха VIII с Римом и разгона монахов как паразитического класса. Что касается архиепископа Томаса Бекета, то в 1538 году король велел привлечь его к суду за предательство; свирепость Генриха распространилась и на давно усопших, а репертуар обвинений был тот же. За неявкой в суд подсудимого признали виновным и постановили конфисковать его имущество. Вот уж действительно, как сказал поэт: «Letum non omnia finit», «со смертью не все кончается». Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Деревня Вальсингам (Уолсингем) расположена в графстве Норфолк, в тридцати милях севернее Нориджа. Паломники шли туда той же дорогой, которую проплясал в 1600 году уже известный нам Вилли Кемп. Помните, у меня в балладе:
Дорога в Вальсингам
Ракушка тринадцатая. Волшебные холмы (Редьярд Киплинг)
В следующем году я снова заехал на несколько дней в Ричмонд, к Полу и Хилэри. Дом у них был большой, я никого не стеснил. Наоборот, гость из России, нетвердо ориентирующийся в английской жизни, их явно развлекал. Дети разъехались, так надобно было кого-то воспитывать и наставлять. Кроме лопоухих «кавалеров короля Карла» — так называлась любимая порода спаниелей Хилэри; между прочим, оба «кавалера» были, на самом деле, дамами — матерью и дочкой. В том году мне как раз предстояло переводить книгу Редьярда Киплинга «Пак с Волшебных холмов», и был у меня план: прежде, чем приступить к делу, побывать в тех краях, что описывает Киплинг. Это окрестности деревушки Бэрваш в графстве Сассекс, где он жил тридцать пять лет, места, которые вдохновляли его, когда он писал свои историко-приключенческие книги. Я поделился своими планами с Полом: дескать, субботу и воскресенье собираюсь посвятить паломничеству по киплинговским местам. И примерно описал свой будущий маршрут. — Так в чем же дело? — сказал Пол. — В субботу я еду с друзьями за цветочками в Западный Сассекс. Заброшу тебя по дороге в Бэрваш. Тут я должен объяснить, что значит поехать «за цветочками». Пол — ботаник-любитель, его цель — отыскать редкое растение. Не сорвать, боже упаси, а просто увидеть, сфотографировать, описать. Причем, чем дальше цель, тем ценнее. Поэтому в отпуск Пол уезжает туда, где местность подиче и покруче — в Уэльс, в Анды, в Гималаи. Итак, на следующий день мы проснулись пораньше и помчались. Водил машину Пол стремительно, как заправский гонщик, аж дух захватывало. В своей автобиографической книге «Кое-что о себе» Киплинг рассказывает, как в 1899 году кто-то прокатил его на одном из первых в Англии авто и все его семейство влюбилось в новинку прогресса. Они купили машину с паровым двигателем, т. н. «локомобиль», и наняли шофера. Киплинг описывает, как это было: «Вместе с горсткой других отчаянных первопроходцев, нам пришлось принять на себя первый взрыв общественного негодования. Графы, привставая в своих изящных ландо, бросали нам вслед ужасные проклятия. Цыгане, дамы в двуколках, пивовары на тяжелых фургонах — казалось, весь мир громогласно возглашал нам анафему…» На таком локомобиле Киплинг с женой впервые прикатили сюда, к этому старинному дому, называвшемуся (очевидно, по имени первого владельца) «Бейтманз-Хаус». Они как раз были озабочены поисками места, где можно поселиться всерьёз и надолго. С первого момента, едва они увидели этот дом, решение было принято. «Это он! Он! Единственный и неповторимый!» — шепнула им Судьба. «Мы вошли и сразу почувствовали, что его дух — фэнь-шу — благоприятен. Мы прошлись по всем комнатам и нигде не обнаружили ни тени застарелой тоски или притаившихся бед, никакое зло не витало над этим домом, хотя его „новой“ части было уже триста лет». Когда мы подъехали к Бейтманз-Хаус на своем серебристом пикапе, было еще довольно рано. Абориген в резиновых сапогах и с палкой в руке объяснил нам, что музей откроется в десять. За идеально подстриженной зеленой изгородью виднелся внушительных размеров дом семнадцатого века. Напротив, на зеленом выгоне паслись два симпатичных белых ослика. Это были «киплинговские» ослики; они не возили телег, а просто жили здесь по традиции, как живые экспонаты. Пол пожелал мне удачи и умчался. Я подошел к мостику и заглянул вниз — густая зелень деревьев скрывала ручей. Тот самый, по которому плавали Дан и Уна! Книга Киплинга начинается с того, что двоедетей, брат и сестра, на берегу Мельничного ручья устраивают театральное представление. Они разыгрывают комедию Шекспира «Сон в летнюю ночь». Конечно, не всю целиком: отец специально для них сократил ее, сделав из большой пьесы маленькую. Они играют ту сцену, где ткач Основа, бродя по лесу с ослиной головой на плечах, находит спящую королеву фей Титанию, и она, очарованная волшебным зельем, которое капнул ей в глаз проказник Пак, влюбляется в этого монстра. Титанию играет Уна, а Дан исполняет сразу несколько ролей, в том числе и самого Пака, слугу короля эльфов Оберона.
И вдруг оказывается, что зрителями их пьесы были не только три задумчивые коровы, которые паслись рядом на лугу. Сам Пак собственной персоной, не выдержав, выходит к ним из зарослей, чтобы показать, как надо правильно исполнять его роль. Настоящий Пак — не то порхающее существо со стрекозиными крылышками, в которое превратила эльфов фантазия поэтов, а старейший из старых духов Англии, испокон веков обитавший в этих местах, в окрестностях Волшебного Холма. Он всё видел и всё помнит — и солдат Рима, и викингов в рогатых шлемах, и знаменитую битву при Гастингсе, и первых нормандских королей Англии, и время великой Елизаветы, и войны, и нашествия чумы. Из его увлекательных рассказов, переносящих детей в далекое прошлое Англии и состоит книга «Пак с Волшебных холмов» — и ее продолжение «Награды фей».
Книга Киплинга начинается с того, что двоедетей, брат и сестра, на берегу Мельничного ручья устраивают театральное представление. Они разыгрывают комедию Шекспира «Сон в летнюю ночь». Конечно, не всю целиком: отец специально для них сократил ее, сделав из большой пьесы маленькую. Они играют ту сцену, где ткач Основа, бродя по лесу с ослиной головой на плечах, находит спящую королеву фей Титанию, и она, очарованная волшебным зельем, которое капнул ей в глаз проказник Пак, влюбляется в этого монстра. Титанию играет Уна, а Дан исполняет сразу несколько ролей, в том числе и самого Пака, слугу короля эльфов Оберона.
И вдруг оказывается, что зрителями их пьесы были не только три задумчивые коровы, которые паслись рядом на лугу. Сам Пак собственной персоной, не выдержав, выходит к ним из зарослей, чтобы показать, как надо правильно исполнять его роль. Настоящий Пак — не то порхающее существо со стрекозиными крылышками, в которое превратила эльфов фантазия поэтов, а старейший из старых духов Англии, испокон веков обитавший в этих местах, в окрестностях Волшебного Холма. Он всё видел и всё помнит — и солдат Рима, и викингов в рогатых шлемах, и знаменитую битву при Гастингсе, и первых нормандских королей Англии, и время великой Елизаветы, и войны, и нашествия чумы. Из его увлекательных рассказов, переносящих детей в далекое прошлое Англии и состоит книга «Пак с Волшебных холмов» — и ее продолжение «Награды фей».
 Дилогию о Паке проиллюстрировал Сергей Любаев — великий, я считаю, художник книги; хотя тогда, почти тридцать лет назад, он не был еще таким маститым. Подобно тому, как мы с Мариной переводили Киплинга, не имея ни договора, ни уговора с издателями, так и Сергей рисовал иллюстрации и делал оформление книги на чистом энтузиазме — просто я заразил его этой идеей. Лишь когда книги были полностью готовы, мы задумались, кто бы это всё напечатал. В первом издательстве, куда мы пошли, засомневались — книга-то была совершенно неизвестная; во втором издательстве — усомнились. И только в третьем — в «Терре» — просто взяли и напечатали. Потом мы с Сергеем Любаевым сделали вместе еще несколько книг, в том числе отмеченных премиями и наградами, но иллюстрации к «Паку», остались моими самыми любимыми; конечно, это сентиментальность и ностальгия, но это так.
Дилогию о Паке проиллюстрировал Сергей Любаев — великий, я считаю, художник книги; хотя тогда, почти тридцать лет назад, он не был еще таким маститым. Подобно тому, как мы с Мариной переводили Киплинга, не имея ни договора, ни уговора с издателями, так и Сергей рисовал иллюстрации и делал оформление книги на чистом энтузиазме — просто я заразил его этой идеей. Лишь когда книги были полностью готовы, мы задумались, кто бы это всё напечатал. В первом издательстве, куда мы пошли, засомневались — книга-то была совершенно неизвестная; во втором издательстве — усомнились. И только в третьем — в «Терре» — просто взяли и напечатали. Потом мы с Сергеем Любаевым сделали вместе еще несколько книг, в том числе отмеченных премиями и наградами, но иллюстрации к «Паку», остались моими самыми любимыми; конечно, это сентиментальность и ностальгия, но это так.
 Всё начиналось здесь. Вот Длинный Скат к ручью, вот луг с загадочными «ведьмиными кольцами», вот и старая Мельница — «самое распрекрасное место» для игр в дождливый день. Она восстановлена энтузиастами; схемы на стенах рассказывают о мукомольных колесах и жерновах. Казалось бы, всё в порядке: есть туристы, приходящие сюда «вразброд и парами», есть лавочка при музее, есть даже я, невесть каким ветром занесенный сюда гость из России. И только никто не огласит чердак Мельницы кровожадным пиратским кличем, и никто не высунется из маленького «Утиного окошка» посмотреть, перестало ли моросить на улице или нет. И нет девочки Элси и мальчика Джона — тех самых Уны и Дана, встречавшихся здесь с Паком, с Гэлом-чертежи и ком и лесником Хобденом… Они были погодки, Элси и Джон, она родилась в 1896 году, а он в 1897-м. Значит, сколько ему было, когда он погиб во Фландрии, в бою при Лоосе 27 сентября 1915 года? Восемнадцать лет…
Я заранее изучил по карте окрестности Бэрваша: где какие горы, в какой стороне море и древний замок Пэвенси, и как далеко отсюда до поля битвы при Гастингсе, откуда нормандский воин сэр Ричард с саксонцем Хью вместе добирались до его поместья, причем раненый Хью шел пешком, а сэр Ричард ехал верхом. Они шли полдня через холмы и долины, днем и в лесной темноте, и лишь к полуночи добрались до цели. Мне казалось, что я обязан оттопать собственными ногами путь Ричарда и Хью, — лишь тогда мне по-настоящему откроется дух этой книги, дух славной истории Англии.
Итак, я наметил себе — после киплинговского музея — пешеходную прогулочку до Батла. Это имя, собственно, и означает «битва»; нормандское войско Вильгельма и войско последнего саксонского короля Гарольда Смелого сошлись именно здесь, где сейчас город Батл и древнее Батлское аббатство.
И я прошел эту дорогу — пятнадцать миль вверх и вниз по холмам. Ну, если совсем честно, первые десять миль прошел, а последние пять меня подвезли: укатали сивку крутые горки. И к вечеру я уже сидел в поезде, идущем в Лондон, рассматривая свои сувениры: шелковую закладку с вышитой на ней «Песней контрабандистов» и книгу о Киплинге, в которую я вложил засушиваться несколько листьев дуба, тёрна и ясеня — тех самых листьев, с помощью которых Пак творил свое колдовство.
Всё начиналось здесь. Вот Длинный Скат к ручью, вот луг с загадочными «ведьмиными кольцами», вот и старая Мельница — «самое распрекрасное место» для игр в дождливый день. Она восстановлена энтузиастами; схемы на стенах рассказывают о мукомольных колесах и жерновах. Казалось бы, всё в порядке: есть туристы, приходящие сюда «вразброд и парами», есть лавочка при музее, есть даже я, невесть каким ветром занесенный сюда гость из России. И только никто не огласит чердак Мельницы кровожадным пиратским кличем, и никто не высунется из маленького «Утиного окошка» посмотреть, перестало ли моросить на улице или нет. И нет девочки Элси и мальчика Джона — тех самых Уны и Дана, встречавшихся здесь с Паком, с Гэлом-чертежи и ком и лесником Хобденом… Они были погодки, Элси и Джон, она родилась в 1896 году, а он в 1897-м. Значит, сколько ему было, когда он погиб во Фландрии, в бою при Лоосе 27 сентября 1915 года? Восемнадцать лет…
Я заранее изучил по карте окрестности Бэрваша: где какие горы, в какой стороне море и древний замок Пэвенси, и как далеко отсюда до поля битвы при Гастингсе, откуда нормандский воин сэр Ричард с саксонцем Хью вместе добирались до его поместья, причем раненый Хью шел пешком, а сэр Ричард ехал верхом. Они шли полдня через холмы и долины, днем и в лесной темноте, и лишь к полуночи добрались до цели. Мне казалось, что я обязан оттопать собственными ногами путь Ричарда и Хью, — лишь тогда мне по-настоящему откроется дух этой книги, дух славной истории Англии.
Итак, я наметил себе — после киплинговского музея — пешеходную прогулочку до Батла. Это имя, собственно, и означает «битва»; нормандское войско Вильгельма и войско последнего саксонского короля Гарольда Смелого сошлись именно здесь, где сейчас город Батл и древнее Батлское аббатство.
И я прошел эту дорогу — пятнадцать миль вверх и вниз по холмам. Ну, если совсем честно, первые десять миль прошел, а последние пять меня подвезли: укатали сивку крутые горки. И к вечеру я уже сидел в поезде, идущем в Лондон, рассматривая свои сувениры: шелковую закладку с вышитой на ней «Песней контрабандистов» и книгу о Киплинге, в которую я вложил засушиваться несколько листьев дуба, тёрна и ясеня — тех самых листьев, с помощью которых Пак творил свое колдовство.
 Но в рюкзаке моем лежала еще одна книжка, которую я открыл — и увлекся. И вот как она ко мне попала. Когда музей открылся и я совершил тур по дому, — прежде чем отправиться бродить вокруг, я поднялся в дирекцию, чтобы попросить показать мне план усадьбы и ее окрестностей. Если таковой найдется.
План нашелся. Я наспех перечертил к себе в блокнот основные ориентиры: Мельничный ручей, саму Мельницу, Волшебный холм, Омут Выдры и так далее — это всё реальные места, перекочевавшие потом на страницы киплинговских книг.
Вот там и нашла меня эта немолодая, но очень живая и подвижная женщина. Эмма была из семьи русских немцев, эмигрировавших в Америку перед самым началом Первой мировой войны. Она успела еще родиться в России, буквально за неделю или две до их отплытия из Риги. А выросла она в штате Небраска, где у них был русско-немецкий дом, бережно хранивший уклад и обычаи прежней жизни. Эммаша (так называли ее в семье) как-то узнала, что я приехал из России. Она попросила меня показать на карте, где именно жили немцы Поволжья, и много об этом расспрашивала. А когда я покидал музей, уже во дворе, выбежала ко мне и торопливо передала книжку («в подарок от дочери»), которую я сразу положил в рюкзак. Из нее я узнал продолжение истории Эммы — удивительной истории, которую я назвал «сагой беженцев».
Как я уже сказал, Эммаша жила с родителями в Небраске. Там она вышла замуж за эквадорского летчика, который увез ее в Киото, самую высокогорную столицу Южной Америки. Семья мужа, гордившаяся своим знатным старинным родом, без энтузиазма приняла невесту гринго; но они любили друг друга и были счастливы. Марко обучал курсантов в лётном лагере на побережье, когда узнал о рождении сына. В тот же день, несмотря на ужасную погоду в Андах и почти нулевую видимость, он сел в самолет, полетел домой через горы и разбился.
Так она осталась одна с сыном в этом полуиндейском чужом городе, к которому она, тем не менее, уже успела привыкнуть. Маленькому Тони исполнилось два года, когда она познакомилась с Гансом. Он жил со своими братьями на Галапагосских островах, в то время практически необитаемых, в Киото приехал по важному делу, но обратный пароход сломался, и ремонт затянулся на долгие недели.
Но как же четыре брата из-под Гамбурга очутились в Тихом океане на островах, где, кроме них, жили только гигантские черепахи, галапагосские игуаны и другие эндемики? Тут начинается вторая ветвь этой саги, и начать ее можно так, как сказки сказывают. Жили в германском городке муж и жена, у которых было четыре умных и веселых сына. Между тем наступил 1935 год, и родителям, которые были не дураки, стало ясно, что Гитлер ведет Германию к большой войне. Им не хотелось, чтобы их дети стали пушечным мясом в игре фюрера. Они продали дом, купили парусный корабль, посадили на него детей, благословили их и простились. На этом корабле Гансу с братьями удалось доплыть до затерянных в океане Черепашьих островов, о которых они слыхали в Гамбурге от старого матроса. В детстве они любили играть в робинзонов, и вот теперь довелось сыграть по-настоящему. Трудностей они не боялись, скуки не знали.
Ганс хорошо рисовал, играл на аккордеоне, на мандолине и на гитаре, был ловок к любой работе. Эмма тоже играла на аккордеоне и тоже любила рисовать; они подружились, двое беженцев из двух не в меру воинственных империй. Спустя несколько месяцев Ганс, волнуясь, сделал ей предложение. Их дочь Джоанна родилась уже на Черепашьих островах, где Эмма с Гансом прожили четыре счастливых года. Но роковые обстоятельства грянувшей где-то там, за тысячи километров от них, войны разлучили их, а потом у Ганса открылся туберкулезный процесс и он умер в госпитале в Киото.
Но в рюкзаке моем лежала еще одна книжка, которую я открыл — и увлекся. И вот как она ко мне попала. Когда музей открылся и я совершил тур по дому, — прежде чем отправиться бродить вокруг, я поднялся в дирекцию, чтобы попросить показать мне план усадьбы и ее окрестностей. Если таковой найдется.
План нашелся. Я наспех перечертил к себе в блокнот основные ориентиры: Мельничный ручей, саму Мельницу, Волшебный холм, Омут Выдры и так далее — это всё реальные места, перекочевавшие потом на страницы киплинговских книг.
Вот там и нашла меня эта немолодая, но очень живая и подвижная женщина. Эмма была из семьи русских немцев, эмигрировавших в Америку перед самым началом Первой мировой войны. Она успела еще родиться в России, буквально за неделю или две до их отплытия из Риги. А выросла она в штате Небраска, где у них был русско-немецкий дом, бережно хранивший уклад и обычаи прежней жизни. Эммаша (так называли ее в семье) как-то узнала, что я приехал из России. Она попросила меня показать на карте, где именно жили немцы Поволжья, и много об этом расспрашивала. А когда я покидал музей, уже во дворе, выбежала ко мне и торопливо передала книжку («в подарок от дочери»), которую я сразу положил в рюкзак. Из нее я узнал продолжение истории Эммы — удивительной истории, которую я назвал «сагой беженцев».
Как я уже сказал, Эммаша жила с родителями в Небраске. Там она вышла замуж за эквадорского летчика, который увез ее в Киото, самую высокогорную столицу Южной Америки. Семья мужа, гордившаяся своим знатным старинным родом, без энтузиазма приняла невесту гринго; но они любили друг друга и были счастливы. Марко обучал курсантов в лётном лагере на побережье, когда узнал о рождении сына. В тот же день, несмотря на ужасную погоду в Андах и почти нулевую видимость, он сел в самолет, полетел домой через горы и разбился.
Так она осталась одна с сыном в этом полуиндейском чужом городе, к которому она, тем не менее, уже успела привыкнуть. Маленькому Тони исполнилось два года, когда она познакомилась с Гансом. Он жил со своими братьями на Галапагосских островах, в то время практически необитаемых, в Киото приехал по важному делу, но обратный пароход сломался, и ремонт затянулся на долгие недели.
Но как же четыре брата из-под Гамбурга очутились в Тихом океане на островах, где, кроме них, жили только гигантские черепахи, галапагосские игуаны и другие эндемики? Тут начинается вторая ветвь этой саги, и начать ее можно так, как сказки сказывают. Жили в германском городке муж и жена, у которых было четыре умных и веселых сына. Между тем наступил 1935 год, и родителям, которые были не дураки, стало ясно, что Гитлер ведет Германию к большой войне. Им не хотелось, чтобы их дети стали пушечным мясом в игре фюрера. Они продали дом, купили парусный корабль, посадили на него детей, благословили их и простились. На этом корабле Гансу с братьями удалось доплыть до затерянных в океане Черепашьих островов, о которых они слыхали в Гамбурге от старого матроса. В детстве они любили играть в робинзонов, и вот теперь довелось сыграть по-настоящему. Трудностей они не боялись, скуки не знали.
Ганс хорошо рисовал, играл на аккордеоне, на мандолине и на гитаре, был ловок к любой работе. Эмма тоже играла на аккордеоне и тоже любила рисовать; они подружились, двое беженцев из двух не в меру воинственных империй. Спустя несколько месяцев Ганс, волнуясь, сделал ей предложение. Их дочь Джоанна родилась уже на Черепашьих островах, где Эмма с Гансом прожили четыре счастливых года. Но роковые обстоятельства грянувшей где-то там, за тысячи километров от них, войны разлучили их, а потом у Ганса открылся туберкулезный процесс и он умер в госпитале в Киото.
 Джоанна выросла, окончила университет в Англии и стала филологом. Она и написала книгу об отце, о котором в детстве почти ничего не знала. Для этого ей пришлось дважды совершить путешествие на Галапагосы, познакомиться со своими дядьями, все еще живущими там, на острове. А потом Джоанна вышла замуж и теперь жила в Бэрваше, потому что ее муж был назначен директором Музея Киплинга. Эмма, переселившаяся к дочери, соответственно, стала тещей директора. По-английски это звучит элегантнее: «мать в законе», mother-in-law.
Такова последняя глава Эмминой судьбы, таков оказался мирный закат бурной и драматической жизни девочки, родившейся в XX веке в России.
Джоанна выросла, окончила университет в Англии и стала филологом. Она и написала книгу об отце, о котором в детстве почти ничего не знала. Для этого ей пришлось дважды совершить путешествие на Галапагосы, познакомиться со своими дядьями, все еще живущими там, на острове. А потом Джоанна вышла замуж и теперь жила в Бэрваше, потому что ее муж был назначен директором Музея Киплинга. Эмма, переселившаяся к дочери, соответственно, стала тещей директора. По-английски это звучит элегантнее: «мать в законе», mother-in-law.
Такова последняя глава Эмминой судьбы, таков оказался мирный закат бурной и драматической жизни девочки, родившейся в XX веке в России.
Ракушка четырнадцатая От Чичестера до Хэмпстеда (Джон Китс)
Деревушка Уинчелси, где в последние годы жил Спайк Миллиган и где его могила горько упрекает мир (по-ирландски!) в равнодушии и нечуткости, расположена на южном побережье Англии, примерно на одной долготе с Лондоном. Здесь когда-то был важный морской порт, но прибой и наводнения постепенно разрушили его, и деревушка переехала дальше от берега, полностью потеряв былое значение. То же самое пережил и соседний Рай, тоже когда-то важный порт. В восьми милях к западу от Уинчелси — популярный курорт Гастингс, известный всякому школьнику по «битве при Гастингсе». Но если точнее, она произошла не здесь, а несколько севернее, по дороге в Лондон. И высадился Вильгельм Завоеватель тоже не здесь, а в Певенси, еще миль на восемь западнее. Певенси, Гастингс и Уинчелси — были главными портами торговли с Нормандией, и отсюда началось завоевание Англии норманнами в XI веке. Певенси для меня — громкое имя и долгое эхо. Еще римляне построили здесь крепкий каменный форт; тогда он назывался Андерида. Спустя тысячу лет Вильгельм соорудил на его месте мощную крепость по всем правилам военного искусства. В этой крепости происходят важнейшие события книги Киплинга «Пак с Волшебных холмов», здесь было орлиное гнездо мудрого наместника Певенси рыцаря Ричарда де Акилы, сюда возвратились из своего африканского плавания Ричард и Хью, здесь было спрятано добытое ими золото, которое еще сыграет свою выдающуюся роль в истории Англии. Нужда в золоте заставит короля Джона подписать «Великую Хартию Вольностей», возвестившую зарю будущего английского права и парламентаризма. Двигаясь дальше вдоль побережья, мы попадаем в большой город этой части страны Брайтон. Я бывал в нем дважды, но ничего не помню, кроме их главной туристской достопримечательности — дворца в мавританском стиле, построенном в конце восемнадцатого века принцем Уэльским, будущим королем Георгом IV. Это сооружение с тюрбанами-луковицами и башенками-минаретами напомнило мне почему-то русские открытки, которые слали с фронтов Первой мировой: огонь небесный поражает минареты, осквернившие православную Святую Софию, они трескаются и низвергаются на землю.
Еще дальше на запад от Брайтона лежит Чичестер — город, как показывает его название, основанный римлянами (Честер, Глостер, Манчестер — все от латинского castrum). Впрочем, на это указывает не только название. Город и по сей день сохраняет план римского лагеря эпохи Цезаря и Августа. Улицы, ориентированные по сторонам света, пересекаются под прямым углом; центр лагеря стал главной рыночной площадью, и здесь в XV веке было сооружено подобие сквозного павильона или беседки с часами и крестом наверху. Очень удобно укрываться от внезапного дождя и знакомиться с промокшими девушками.
Чичестер — город университетский и притом центр обширной церковной епархии. Его древний собор был одной из целей моего паломничества. В нем находится средневековый надгробный памятник, описанный в стихотворении Филипа Ларкина «Могила графов Арунделов в Чичестерском соборе». Мне давно хотелось посмотреть на него собственными глазами. В результате произошло вот что: стихотворение Ларкина совершенно стерлось у меня из памяти, а вместо него стало рождаться свое…
Двигаясь дальше вдоль побережья, мы попадаем в большой город этой части страны Брайтон. Я бывал в нем дважды, но ничего не помню, кроме их главной туристской достопримечательности — дворца в мавританском стиле, построенном в конце восемнадцатого века принцем Уэльским, будущим королем Георгом IV. Это сооружение с тюрбанами-луковицами и башенками-минаретами напомнило мне почему-то русские открытки, которые слали с фронтов Первой мировой: огонь небесный поражает минареты, осквернившие православную Святую Софию, они трескаются и низвергаются на землю.
Еще дальше на запад от Брайтона лежит Чичестер — город, как показывает его название, основанный римлянами (Честер, Глостер, Манчестер — все от латинского castrum). Впрочем, на это указывает не только название. Город и по сей день сохраняет план римского лагеря эпохи Цезаря и Августа. Улицы, ориентированные по сторонам света, пересекаются под прямым углом; центр лагеря стал главной рыночной площадью, и здесь в XV веке было сооружено подобие сквозного павильона или беседки с часами и крестом наверху. Очень удобно укрываться от внезапного дождя и знакомиться с промокшими девушками.
Чичестер — город университетский и притом центр обширной церковной епархии. Его древний собор был одной из целей моего паломничества. В нем находится средневековый надгробный памятник, описанный в стихотворении Филипа Ларкина «Могила графов Арунделов в Чичестерском соборе». Мне давно хотелось посмотреть на него собственными глазами. В результате произошло вот что: стихотворение Ларкина совершенно стерлось у меня из памяти, а вместо него стало рождаться свое…

Могила графов Арунделов в Чичестерском соборе
 Сюжет поэмы, восходящий к средневековой новелле, напоминает пьесу Шекспира (легко догадаться, какую), но кончается она не трагически, а счастливо. Просперо и Маделина любят друг друга, хотя их семейства смертельно враждуют. Просперо знает, что его появление в замке Маделины грозит неминуемой гибелью. И все же проникает туда в разгар празднества, в канун Дня Святой Агнессы. В эту ночь Маделина ложится спать, сотворив особые обряды: согласно поверью, в эту ночь во сне она должна увидеть своего суженого. Просперо, уговорив сочувствующую служанку, прячется в спальне и, когда его любимая засыпает, достает приготовленные яства и, приготовив маленький пир у ее ложа, будит Маделину. Она поначалу не понимает, сон это или явь, но, в конце концов, поддается на уговоры Просперо и бежит с ним из объятого пьяным храпом замка, мимо упившихся до бесчувствия стражей.
Сюжет поэмы, восходящий к средневековой новелле, напоминает пьесу Шекспира (легко догадаться, какую), но кончается она не трагически, а счастливо. Просперо и Маделина любят друг друга, хотя их семейства смертельно враждуют. Просперо знает, что его появление в замке Маделины грозит неминуемой гибелью. И все же проникает туда в разгар празднества, в канун Дня Святой Агнессы. В эту ночь Маделина ложится спать, сотворив особые обряды: согласно поверью, в эту ночь во сне она должна увидеть своего суженого. Просперо, уговорив сочувствующую служанку, прячется в спальне и, когда его любимая засыпает, достает приготовленные яства и, приготовив маленький пир у ее ложа, будит Маделину. Она поначалу не понимает, сон это или явь, но, в конце концов, поддается на уговоры Просперо и бежит с ним из объятого пьяным храпом замка, мимо упившихся до бесчувствия стражей.
 Тут надо сказать, что Китс был моей первой, нержавеющей любовью в английской поэзии. Я перевел много его стихов, в том числе «Оду Соловью» и «Оду Греческой Урне», но за «Канун Святой Агнессы» не брался — робел. Но однажды у меня написалось стихотворение «Спящая», как бы по мотивам поэмы. Вот три строфы из середины:
Тут надо сказать, что Китс был моей первой, нержавеющей любовью в английской поэзии. Я перевел много его стихов, в том числе «Оду Соловью» и «Оду Греческой Урне», но за «Канун Святой Агнессы» не брался — робел. Но однажды у меня написалось стихотворение «Спящая», как бы по мотивам поэмы. Вот три строфы из середины:
Ракушка пятнадцатая. От Хэмпстеда до Рима (Мнемозина)
Милой соседкой была Фанни Брон, чья семья сняла в Хэмпстеде дом рядом с Китсом и Брауном, их сады были разделены лишь маленьким заборчиком. Поначалу она показалась ему не особенно умной, и притом «с причудами», но уже через две недели все перевернулось. Он полюбил — полюбил, как никогда прежде, со всей пылом молодости и ускользающей, убывающей жизни. Биографы Китса называют 1819 год annus mirabilis — годом чудес. Он был вершинным в творчестве поэта; вскоре болезнь окончательно надломит его силы, и настанет немота. Начался год поэмой «Канун Святой Агнессы», продолжился весенними одами, которые критики именуют не иначе, как «великими» и «бессмертными». Первой была «Ода к Соловью» — конец апреля 1819 г. По воспоминаниям Брауна, в тот день после завтрака Китс вынес из дома свой стул и долго сидел, задумавшись, под цветущей сливой, слушая соловья, устроившего гнездо в их саду.
Я дважды посещал это священное для всякого китсолюба место, с перерывом примерно в двадцать лет. В первый раз — это было в 1990 году — мы пришли вместе с Мариной и подарили музею русское издание стихотворений и поэм Джона Китса в серии «Литературные памятники», в котором были и наши переводы. И мы увидели под стеклом то самое обручальное колечко, которое поэт вернул невесте, когда понял, что он болен безнадежно. И вышли в сад, где они гуляли.
Во второй раз я был один, и музей в тот день был закрыт. Конечно, можно было заранее поинтересоваться, посмотреть, предусмотреть, учесть и заранее спланировать. Ничего этого я не догадался сделать, увы. Но небеса любят разгильдяев и наказывают их не строго. Да и был ли я наказан в тот день? Наоборот, награжден — чистотой и безлюдьем раннего утра, рассветной свежестью — и каким-то неслыханным безумием соловьев, гремевшим из каждого куста, из-за каждой ограды. А еще — строками, которые в тот день у меня сложились.
По воспоминаниям Брауна, в тот день после завтрака Китс вынес из дома свой стул и долго сидел, задумавшись, под цветущей сливой, слушая соловья, устроившего гнездо в их саду.
Я дважды посещал это священное для всякого китсолюба место, с перерывом примерно в двадцать лет. В первый раз — это было в 1990 году — мы пришли вместе с Мариной и подарили музею русское издание стихотворений и поэм Джона Китса в серии «Литературные памятники», в котором были и наши переводы. И мы увидели под стеклом то самое обручальное колечко, которое поэт вернул невесте, когда понял, что он болен безнадежно. И вышли в сад, где они гуляли.
Во второй раз я был один, и музей в тот день был закрыт. Конечно, можно было заранее поинтересоваться, посмотреть, предусмотреть, учесть и заранее спланировать. Ничего этого я не догадался сделать, увы. Но небеса любят разгильдяев и наказывают их не строго. Да и был ли я наказан в тот день? Наоборот, награжден — чистотой и безлюдьем раннего утра, рассветной свежестью — и каким-то неслыханным безумием соловьев, гремевшим из каждого куста, из-за каждой ограды. А еще — строками, которые в тот день у меня сложились.
Памятник
 А ведь той весной ему не было и двадцати четырех лет! Мальчишка — вся жизнь впереди… Но его младший брат Том умер от чахотки лишь несколько месяцев назад у него на руках; от той же болезни раньше умерла мать, и Джон хорошо понимал, чем такая наследственность ему грозит.
В юности он учился в медицинской школе и получил диплом врача. Ему не раз приходилось участвовать в операциях, которые тогда делали практически без наркоза (которого еще не было), так что на человеческие страдания поэт насмотрелся. Нет, он не испугался. Но с отроческих лет его влекло к литературе, к стихам, и с каждым годом в нем крепло желание отдаться целиком одной поэзии. В письме Чарльзу Кларку он вспоминает, как, сидя на лекции по химии, следил за проникшим в аудиторию солнечным лучом с пляшущими в нем пылинками и видел в нем вьющийся рой чудесных видений, его уносило в Страну фей, в державу короля Оберона и прекрасной Титании.
Сохранился стишок, который Китс написал на конспекте лекций по химии (снова по химии!) своего соседа по парте Генри Стивенса осенью того же 1815 года:
А ведь той весной ему не было и двадцати четырех лет! Мальчишка — вся жизнь впереди… Но его младший брат Том умер от чахотки лишь несколько месяцев назад у него на руках; от той же болезни раньше умерла мать, и Джон хорошо понимал, чем такая наследственность ему грозит.
В юности он учился в медицинской школе и получил диплом врача. Ему не раз приходилось участвовать в операциях, которые тогда делали практически без наркоза (которого еще не было), так что на человеческие страдания поэт насмотрелся. Нет, он не испугался. Но с отроческих лет его влекло к литературе, к стихам, и с каждым годом в нем крепло желание отдаться целиком одной поэзии. В письме Чарльзу Кларку он вспоминает, как, сидя на лекции по химии, следил за проникшим в аудиторию солнечным лучом с пляшущими в нем пылинками и видел в нем вьющийся рой чудесных видений, его уносило в Страну фей, в державу короля Оберона и прекрасной Титании.
Сохранился стишок, который Китс написал на конспекте лекций по химии (снова по химии!) своего соседа по парте Генри Стивенса осенью того же 1815 года:
(Из «Оды к Соловью»)
(Перевод Евг. Витковского)
 Есть в Риме знаменитая площадь Пьяцца ди Спанья. Ее главная достопримечательность — живописная, в двенадцать пролетов, лестница, ведущая наверх, к церкви Тринита-деи-Монти. Здесь всегда много молодежи — смеются, едят мороженое, знакомятся. По странному совпадению дом, в котором умирал Джон Китс (и в котором сейчас его музей), стоит на самом углу этой площади.
Окна его комнаты выходили прямо на знаменитую лестницу. Хотя вряд ли он даже открывал эти окна: в те времена врачи полагали, что порыв свежего воздуха может оказаться роковым для больного чахоткой. Но и просто глядя через стекло на высокую лестницу, обтекающую с двух сторон мраморную балюстраду, не вспоминал ли он лестницу из своей поэмы «Падение Гипериона», по которой поэт восходят к алтарю бессмертия?
Там, на вершине лестницы, у алтаря его встречает богиня памяти Мнемозина в образе жрицы, закутанной в покрывало, которая почему-то называет себя Монетой. Почему? Вообще-то, Монета — прозвище римской богини Юноны и означает «Предупреждающая»: по преданию, ее священные гуси спасли Рим своим бдительным кряканьем. На месте разрушенного храма Юноны Монеты позднее устроили чеканку денег, и отсюда произошло позднелатинское и современное значение слова «монета». Почему Китс выбрал такое имя для Мнемозины — с одной стороны, необычное, а с другой — вызывающе современное?
Прежде всего, стоит увидеть то место на Капитолийском холме, где стоял храм Монеты. Теперь там церковь Санта Мария д’Аракели, построенная в VII веке. Две крутых лестницы, расходясь от подножья холма, ведут вверх: одна — к Сенаторскому дворцу, другая (я пытался сосчитать ее ступени, но сбился) к церкви Аракели. Трудно отделаться от мысли, что Китс, работая над своей поэмой, представлял себе именно эту лестницу к одному из древнейших алтарей Рима. И разве храм, сделавшийся монетным двором, не мог привлечь его внимания как символ? Ведь смысл истории, которую рассказывает Китс в «Гиперионе», в том, что древний род богов-титанов погиб; и горькая ирония (особенно внятная в наши дни!) чудится мне в двусмысленном имени жрицы храма:
Есть в Риме знаменитая площадь Пьяцца ди Спанья. Ее главная достопримечательность — живописная, в двенадцать пролетов, лестница, ведущая наверх, к церкви Тринита-деи-Монти. Здесь всегда много молодежи — смеются, едят мороженое, знакомятся. По странному совпадению дом, в котором умирал Джон Китс (и в котором сейчас его музей), стоит на самом углу этой площади.
Окна его комнаты выходили прямо на знаменитую лестницу. Хотя вряд ли он даже открывал эти окна: в те времена врачи полагали, что порыв свежего воздуха может оказаться роковым для больного чахоткой. Но и просто глядя через стекло на высокую лестницу, обтекающую с двух сторон мраморную балюстраду, не вспоминал ли он лестницу из своей поэмы «Падение Гипериона», по которой поэт восходят к алтарю бессмертия?
Там, на вершине лестницы, у алтаря его встречает богиня памяти Мнемозина в образе жрицы, закутанной в покрывало, которая почему-то называет себя Монетой. Почему? Вообще-то, Монета — прозвище римской богини Юноны и означает «Предупреждающая»: по преданию, ее священные гуси спасли Рим своим бдительным кряканьем. На месте разрушенного храма Юноны Монеты позднее устроили чеканку денег, и отсюда произошло позднелатинское и современное значение слова «монета». Почему Китс выбрал такое имя для Мнемозины — с одной стороны, необычное, а с другой — вызывающе современное?
Прежде всего, стоит увидеть то место на Капитолийском холме, где стоял храм Монеты. Теперь там церковь Санта Мария д’Аракели, построенная в VII веке. Две крутых лестницы, расходясь от подножья холма, ведут вверх: одна — к Сенаторскому дворцу, другая (я пытался сосчитать ее ступени, но сбился) к церкви Аракели. Трудно отделаться от мысли, что Китс, работая над своей поэмой, представлял себе именно эту лестницу к одному из древнейших алтарей Рима. И разве храм, сделавшийся монетным двором, не мог привлечь его внимания как символ? Ведь смысл истории, которую рассказывает Китс в «Гиперионе», в том, что древний род богов-титанов погиб; и горькая ирония (особенно внятная в наши дни!) чудится мне в двусмысленном имени жрицы храма:
Ракушка шестнадцатая. Алтарь ветров (Альфред Теннисон)
На полдороге между Лондоном и Чичестером лежит точка еще одного моего литературного паломничества, на этот раз к прославленному поэту викторианской эпохи Альфреду Теннисону. После Китса к Теннисону — не слишком ли крутой вираж? Казалось бы, что общего у погибшего в юности гения, безденежного и бездомного, осмеянного критикой, — с прославленным поэтом-лауреатом, награжденным за свои стихи титулами баронета и лорда? На первый взгляд, ничего; но лишь на первый взгляд. И судьба Теннисона не так безоблачна, как может показаться; просто ее драма скрыта от посторонних глаз. И вовсе не случайно, что художники-прерафаэлиты, писавшие картины на сюжеты поэзии Китса, одновременно иллюстрировали и стихи Теннисона, находя в них ту же глубокую печаль, то же стремление к идеальной, далекой Красоте. Загадочная английская душа! Как уживаются в ней самая глубокая меланхолия с самым безудержным абсурдом и эксцентрикой? Не странно ли, что и Льюис Кэрролл и Эдвард Лир — два великих мастера английского нонсенса — так почитали Альфреда Теннисона? Кэрролл приезжал с целым возом фотографических приспособлений, чтобы сделать снимок поэта, почитал за счастье, если удостаивался его беседы. Лир не только исполнил сотни иллюстраций к стихам Теннисона, но и писал романсы и песни на его стихи, с большим чувством исполняя их в компании. Было издан даже сборник этих песен, и сам Теннисон говорил, что это лучшие — и даже единственные удавшиеся музыкальные переложения его стихов. Некоторые теоретики пишут, что между поэзией и нонсенсом вообще нет особой разницы: то и другое враждебно здравому смыслу и не имеет никакой позитивной ценности. Интересное суждение, над которым надо еще подумать. У меня давно возник такой вопрос: а был ли в России полноценный нонсенс до XX века, до Чуковского и обериутов? Полагаю, что был. Наш отечественный ответ Лиру и Кэрроллу — это, конечно, Алексей Константинович Толстой. Да, тот самый, который: «Средь шумного бала, случайно…» Вот у кого сатирические стихи непринужденно отрываются от низкой реальности и свободно парят в области чистого абсурда. Например, так: Но ничего не случается просто так в этом лучшем из миров. И случайное соседство двух поэтов устроилось не напрасно. Из писем Хопкинса мы знаем, как в юности он был очарован и околдован «Волшебницей Шалотт» и многими другими стихотворениями Теннисона. Его портрет висел в студенческой комнате Хопкинса в Оксфорде рядом с портретами Шекспира и Китса. А вот теперь он и сам — рядом с героями Теннисона — смотрит из цветных церковных стекол на прихожан, на забредших в храм туристов.
Кстати, автор витражей в церкви Св. Варфоломея — никто иной, как знаменитый художник-прерафаэлит Эдвард Берн-Джонс. Киплинг был женат на его родной племяннице. Они с художником дружили; и как рассказывал экскурсовод, часть мебели в Бейтманс-Хаусе перешла Киплингам по наследству от Берн-Джонса.
Жизнь английская сплетает свои ниточки так причудливо, что потяни за одну, напрягутся другие, какие и не ожидаешь. Как вы думаете, кто стал членом Палаты Общин от Хейзелмира в 1630-х годах?[5] Никто иной, как Кэрью Рэли, сын сэра Уолтера Рэли, рожденный в Тауэре в 1605 году; условия содержания узника были на время смягчены, и леди Рэли разрешили жить в тюрьме вместе со своим мужем.
А вот какую историю рассказала мне Розамунда Бартлетт. Ее родной пра-пра-пра-прадедушка жил на острове Уайт, где тогда обитал и Теннисон с семьей — в собственном доме, купленном на доходы от стихов. В окрестностях Хейзелмира он поселился позднее, надеясь укрыться от любопытных, мешающих его работе. Так вот: однажды младший из детей Теннисона заболел, и нужно было срочно привезти врача. А была страшная гроза с ураганным ветром и ливнем. Никто не решался, и лишь отважный предок Рози запряг лошадей и привез доктора. Теннисон щедро наградил его, а доблестный пра-пра-пра-пра вложил эти деньги в компанию дилижансов, с основания которой и началось возвышение рода Бартлеттов. Недавно от скончавшегося дяди к Рози перешли две реликвии: фотография дяди, правящего дилижансом, и почтовый рожок.
Но что это я все брожу вокруг да около, медля перейти к делу?
Итак, в том уже далеком году, когда я надумал отправиться в гости к Теннисону, никаких гаджетов с навигацией не было, так что на поиски усадьбы Олдворт мы отправились с каким-то сомнительным планом окрестностей, на котором никакой усадьбы не значилось. Впрочем, нас предупреждали, что даже если мы ее найдем, все равно получим «от ворот поворот»: нынешние владельцы приехали из Австралии, они люди серьёзные и нелюдимые. Так оно и оказалось.
Но ничего не случается просто так в этом лучшем из миров. И случайное соседство двух поэтов устроилось не напрасно. Из писем Хопкинса мы знаем, как в юности он был очарован и околдован «Волшебницей Шалотт» и многими другими стихотворениями Теннисона. Его портрет висел в студенческой комнате Хопкинса в Оксфорде рядом с портретами Шекспира и Китса. А вот теперь он и сам — рядом с героями Теннисона — смотрит из цветных церковных стекол на прихожан, на забредших в храм туристов.
Кстати, автор витражей в церкви Св. Варфоломея — никто иной, как знаменитый художник-прерафаэлит Эдвард Берн-Джонс. Киплинг был женат на его родной племяннице. Они с художником дружили; и как рассказывал экскурсовод, часть мебели в Бейтманс-Хаусе перешла Киплингам по наследству от Берн-Джонса.
Жизнь английская сплетает свои ниточки так причудливо, что потяни за одну, напрягутся другие, какие и не ожидаешь. Как вы думаете, кто стал членом Палаты Общин от Хейзелмира в 1630-х годах?[5] Никто иной, как Кэрью Рэли, сын сэра Уолтера Рэли, рожденный в Тауэре в 1605 году; условия содержания узника были на время смягчены, и леди Рэли разрешили жить в тюрьме вместе со своим мужем.
А вот какую историю рассказала мне Розамунда Бартлетт. Ее родной пра-пра-пра-прадедушка жил на острове Уайт, где тогда обитал и Теннисон с семьей — в собственном доме, купленном на доходы от стихов. В окрестностях Хейзелмира он поселился позднее, надеясь укрыться от любопытных, мешающих его работе. Так вот: однажды младший из детей Теннисона заболел, и нужно было срочно привезти врача. А была страшная гроза с ураганным ветром и ливнем. Никто не решался, и лишь отважный предок Рози запряг лошадей и привез доктора. Теннисон щедро наградил его, а доблестный пра-пра-пра-пра вложил эти деньги в компанию дилижансов, с основания которой и началось возвышение рода Бартлеттов. Недавно от скончавшегося дяди к Рози перешли две реликвии: фотография дяди, правящего дилижансом, и почтовый рожок.
Но что это я все брожу вокруг да около, медля перейти к делу?
Итак, в том уже далеком году, когда я надумал отправиться в гости к Теннисону, никаких гаджетов с навигацией не было, так что на поиски усадьбы Олдворт мы отправились с каким-то сомнительным планом окрестностей, на котором никакой усадьбы не значилось. Впрочем, нас предупреждали, что даже если мы ее найдем, все равно получим «от ворот поворот»: нынешние владельцы приехали из Австралии, они люди серьёзные и нелюдимые. Так оно и оказалось.
 Итак, мы отправились по лесной дороге, которая на плане значилась как аллея Теннисона. Километров через пять дошли до развилки, которую моя догадливая спутница идентифицировала как поворот к усадьбе. Нас поразила мощная ограда, из-за которой сквозь кусты и ветви деревьев был виден угол такого же мощного особняка. На воротах имелось несколько загадочных кнопок; я нажал на одну — ничего не произошло.
— Вроде бы, никого нет, — заметил я с облегчением.
— Да, тихо. Кенгуру, наверное, пообедали и спят, — сказала моя спутница, умевшая прозревать внутренним оком.
На этом гештальт был закрыт. И мы отправились искать Алтарь ветров. Вообще-то окрестности дома Теннисона носят название Черная Гора (Black Down). Почему черная, я не знаю, а почему гора, стало ясно через двадцать минут, когда мы подошли к краю возвышенности, круто обрывающейся вниз, в долину. Теннисон любил, гуляя по здешним лесам и холмам, выходить сюда, на гребень горы. Особенно ему нравилось одна площадка на склоне, откуда открывалась потрясающая панорама Сассекса — вплоть до угадывающегося вдали моря. Это место, которое Теннисон назвал Храмом Всех Ветров, отмечено теперь каменной скамьей и Алтарем ветров.
Итак, мы отправились по лесной дороге, которая на плане значилась как аллея Теннисона. Километров через пять дошли до развилки, которую моя догадливая спутница идентифицировала как поворот к усадьбе. Нас поразила мощная ограда, из-за которой сквозь кусты и ветви деревьев был виден угол такого же мощного особняка. На воротах имелось несколько загадочных кнопок; я нажал на одну — ничего не произошло.
— Вроде бы, никого нет, — заметил я с облегчением.
— Да, тихо. Кенгуру, наверное, пообедали и спят, — сказала моя спутница, умевшая прозревать внутренним оком.
На этом гештальт был закрыт. И мы отправились искать Алтарь ветров. Вообще-то окрестности дома Теннисона носят название Черная Гора (Black Down). Почему черная, я не знаю, а почему гора, стало ясно через двадцать минут, когда мы подошли к краю возвышенности, круто обрывающейся вниз, в долину. Теннисон любил, гуляя по здешним лесам и холмам, выходить сюда, на гребень горы. Особенно ему нравилось одна площадка на склоне, откуда открывалась потрясающая панорама Сассекса — вплоть до угадывающегося вдали моря. Это место, которое Теннисон назвал Храмом Всех Ветров, отмечено теперь каменной скамьей и Алтарем ветров.
 Здесь, на этом ветреном обрыве мне вспомнились строки поэта (из неопубликованного при жизни стихотворения):
Здесь, на этом ветреном обрыве мне вспомнились строки поэта (из неопубликованного при жизни стихотворения):
Ракушка семнадцатая. В Лондоне (Анна Ахматова и Борис Анреп)
«Ахматовскую мозаику» в Лондонской Национальной галерее я впервые увидел в 1991 году. Пришел в музей специально ради нее, но оказалось, как назло, что в тот год мозаики Бориса Анрепа были на ремонте; стояло банальное веревочное ограждение, и служитель музея отказался пропустить меня дальше — даже «на минутку, на цыпочках». Однако я проявил настырность, пошел к начальнику смены, объяснил, что я из России, что мне надо для моего исследования, и он, голубчик, моментально разрешил. Мозаики находятся на площадке главной лестницы — там, где она разворачивается на 180 градусов после первого пролета. Точнее, это четыре площадки, и все они украшены мозаикамиАнрепа. Посередине — основная, да две боковые, куда ведут небольшие пролеты, да еще небольшое фойе за редким рядом колонн двумя или тремя ступеньками выше. Именно там находилось то, что я хотел увидеть. Все мозаики — аллегорические, причем в некоторых из них художник запечатлел облик известных людей своего времени, в том числе Уинстона Черчилля, Бертрана Рассела, Томаса Элиота, Вирджинии Вулф. «Ахматовская» мозаика называется «Compassion» — «Сострадание».Первое впечатление — от необычности позы. Ахматова лежит, как шахтер в забое, в низком и вытянутом (длина в три раза больше высоты) пространстве мозаики. Потом уже приходит в голову, что это, может быть, не дол, а высь, и лежит она, как альпинист над краем обрыва; но первоначальное ощущение — туннеля, забоя — остается. Ахматова изображена очень юной и хрупкой, в каком-то голубом гимнастическом трико с короткими рукавами и низким (как на картине Альтмана) вырезом. Сходство большое, несомненное: челка, профиль, глаза. Ахматова лежит, чуть приподнявшись на не совсем ловко подогнутой кисти, и всматривается вперед, как спелеолог в открывшуюся за проходом пещеру.
 Перед ней — рушащиеся здания и груда обломков, подсвеченных красным огнем, а позади — черная яма, в которой копошатся какие-то изможденные полулюди-полускелеты …
Автору мозаики художнику Борису Анрепу посвящено едва ли не больше всего ахматовских стихотворений (больше тридцати), в том числе, самые счастливые и светлые стихи Ахматовой из сборника «Белая стая». Был 1915 год, он приезжал с фронта то в отпуск, то в командировку. Это были романтические встречи — катания на санях, разговоры, стихи.
Борис уехал из России в первые дни после Февральской революции. Он пришел к ней попрощаться, сняв погоны, потому что у мостов стояли баррикады, и офицерам появляться на улицах было небезопасно.
«Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, еще хуже», — сказал он.
Меньше чем через месяц после отъезда Анрепа, 24 марта 1917 года, Николай Гумилев вписывает в альбом Ахматовой стихотворение-акростих, начинающееся строкой: «Ангел лег у края небосклона…» Оно было впервые опубликовано посмертно, в сборнике 1922 года; в экземпляре книги, принадлежавшем Ахматовой, есть пометка «1911».
Перед ней — рушащиеся здания и груда обломков, подсвеченных красным огнем, а позади — черная яма, в которой копошатся какие-то изможденные полулюди-полускелеты …
Автору мозаики художнику Борису Анрепу посвящено едва ли не больше всего ахматовских стихотворений (больше тридцати), в том числе, самые счастливые и светлые стихи Ахматовой из сборника «Белая стая». Был 1915 год, он приезжал с фронта то в отпуск, то в командировку. Это были романтические встречи — катания на санях, разговоры, стихи.
Борис уехал из России в первые дни после Февральской революции. Он пришел к ней попрощаться, сняв погоны, потому что у мостов стояли баррикады, и офицерам появляться на улицах было небезопасно.
«Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, еще хуже», — сказал он.
Меньше чем через месяц после отъезда Анрепа, 24 марта 1917 года, Николай Гумилев вписывает в альбом Ахматовой стихотворение-акростих, начинающееся строкой: «Ангел лег у края небосклона…» Оно было впервые опубликовано посмертно, в сборнике 1922 года; в экземпляре книги, принадлежавшем Ахматовой, есть пометка «1911».
(«Песенка», март 1916)
 А его жена Аннабел оказалась племянницей знаменитой писательницы Элеоноры Фарджен (я в свое время перевел несколько ее стихотворений для детей), а также автором биографической книги о своей тете. Но то, что она написала еще книгу о своем русском свекре-художнике, основанную не только на личном и устном материале, но и на основе сохранившегося архива семьи, об этом она даже не упомянула. Так что, когда три года спустя я увидел изданную журналом «Звезда» книгу: «Аннабел Фарджен. Приключения русского художника. Жизнь Бориса Анрепа», это было как отсроченное эхо того лондонского вечера.
А его жена Аннабел оказалась племянницей знаменитой писательницы Элеоноры Фарджен (я в свое время перевел несколько ее стихотворений для детей), а также автором биографической книги о своей тете. Но то, что она написала еще книгу о своем русском свекре-художнике, основанную не только на личном и устном материале, но и на основе сохранившегося архива семьи, об этом она даже не упомянула. Так что, когда три года спустя я увидел изданную журналом «Звезда» книгу: «Аннабел Фарджен. Приключения русского художника. Жизнь Бориса Анрепа», это было как отсроченное эхо того лондонского вечера.
 Добрые хозяева напоили меня чаем, после чего Игорь Анреп стал приносить и показывать мне картины отца. Это были, сколько помнится, подготовительные вещи для его мозаик, а также один или два автопортрета. Увидеть их было очень интересно; но я бессознательно ожидал чего-то еще… Вдруг хозяин вынесет мне папку с рисунками Бориса Анрепа, а там — Ахматова в 25 лет, увиденная глазами влюбленного в нее художника.
Увы, здесь меня ждал полный облом. Сенсации не состоялось.
Добрые хозяева напоили меня чаем, после чего Игорь Анреп стал приносить и показывать мне картины отца. Это были, сколько помнится, подготовительные вещи для его мозаик, а также один или два автопортрета. Увидеть их было очень интересно; но я бессознательно ожидал чего-то еще… Вдруг хозяин вынесет мне папку с рисунками Бориса Анрепа, а там — Ахматова в 25 лет, увиденная глазами влюбленного в нее художника.
Увы, здесь меня ждал полный облом. Сенсации не состоялось.
Ракушка восемнадцатая Дартингтон-холл (Собака Баскервилей)
Поездка в Дартингтон-холл была моим единственным путешествием в Девоншир, графство на юго-западе Англии, похожее на подбородок старика, заканчивающийся острой, торчащей вперед бороденкой (Корнуолл). Беззубый рот этого старика — Бристольский залив, а кончик носа — мыс Сент-Дэйвидс в Уэльсе, где мы еще, надеюсь, побываем. Итак, я доехал на поезде до городка Тотнес, ничем особенно не знаменитом, кроме того, что сюда когда-то приплыл Брут — но не тот, который «и ты, Брут!», а племянник троянца Энея. По имени этого Брута (племянника) Британия и получила свое название; так свидетельствует достопочтенный Гальфрид Монмутский в «Истории королей Британии», а ему нельзя не верить. Тем более, что в городе до сих пор стоит Камень Брута с надписью, гласящей: «Here I stand and here I rest. And this town shall be called Totnes» (то есть, в вольном переводе на русский):
Итак, я доехал на поезде до городка Тотнес, ничем особенно не знаменитом, кроме того, что сюда когда-то приплыл Брут — но не тот, который «и ты, Брут!», а племянник троянца Энея. По имени этого Брута (племянника) Британия и получила свое название; так свидетельствует достопочтенный Гальфрид Монмутский в «Истории королей Британии», а ему нельзя не верить. Тем более, что в городе до сих пор стоит Камень Брута с надписью, гласящей: «Here I stand and here I rest. And this town shall be called Totnes» (то есть, в вольном переводе на русский):
 В тот вечер, провожая меня в мою комнату, в качестве чтения перед сном Дима дал мне первый том Пруста в их собственном с Леной переводе, аккуратно перепечатанный и переплетенный. Переводили они с оригинала, но так как французский оба знали слабовато, то пользовались, как подспорьем, переводом на польский (который знали еще хуже). То, что у них получилось нечто, вполне читаемое, можно считать чудом.
Иной спросит: «Зачем? Разве нет переводов Пруста? Кому нужна эта кустарщина?» Но ведь и переводили они не для издательства, а для себя. Потому что, если кто понимает, это и есть самый увлекательный квест. Не так ли, сопоставляя несколько текстов на разных языках, Генри Роулинсон расшифровывал клинописную надпись на Бехистунской скале, а Жан-Франсуа Шампольон — иероглифы на Розеттском камне? То, что два супруга, притом композитора, избрали такую форму совместного досуга (а не дюдики по видео, например), удивительно демонстрирует, по-моему, не только склад их умов, но и взаимную душевную настроенность, то самое «согласье струн», о котором писал поэт.
В тот вечер, провожая меня в мою комнату, в качестве чтения перед сном Дима дал мне первый том Пруста в их собственном с Леной переводе, аккуратно перепечатанный и переплетенный. Переводили они с оригинала, но так как французский оба знали слабовато, то пользовались, как подспорьем, переводом на польский (который знали еще хуже). То, что у них получилось нечто, вполне читаемое, можно считать чудом.
Иной спросит: «Зачем? Разве нет переводов Пруста? Кому нужна эта кустарщина?» Но ведь и переводили они не для издательства, а для себя. Потому что, если кто понимает, это и есть самый увлекательный квест. Не так ли, сопоставляя несколько текстов на разных языках, Генри Роулинсон расшифровывал клинописную надпись на Бехистунской скале, а Жан-Франсуа Шампольон — иероглифы на Розеттском камне? То, что два супруга, притом композитора, избрали такую форму совместного досуга (а не дюдики по видео, например), удивительно демонстрирует, по-моему, не только склад их умов, но и взаимную душевную настроенность, то самое «согласье струн», о котором писал поэт.
 Дима провел меня по парку Дартингтон-холла, замечательному образцу садового искусства XX века. Ничего нарочито современного, но с садом викторианским или георгианским никак не спутаешь. Амуры и психеи выглядели бы здесь, как на корове седло, а вот «Отдыхающая женщина» Генри Мура с могучими круглыми коленями естественно вписалась. Неплохо вписался и бронзовый ослик под вечнозеленым тисом. Я, конечно, сразу на него уселся, даже не подумав, а вдруг это тот самый длинноухий ослик, на котором в Пальмовое воскресенье въехал в Иерусалим Иисус из Назарета? Все ослики — даже те, с которыми их хозяева дурно обращаются, — до сих пор помнят этот день. Как о том говорится в стихотворении Честертона:
Дима провел меня по парку Дартингтон-холла, замечательному образцу садового искусства XX века. Ничего нарочито современного, но с садом викторианским или георгианским никак не спутаешь. Амуры и психеи выглядели бы здесь, как на корове седло, а вот «Отдыхающая женщина» Генри Мура с могучими круглыми коленями естественно вписалась. Неплохо вписался и бронзовый ослик под вечнозеленым тисом. Я, конечно, сразу на него уселся, даже не подумав, а вдруг это тот самый длинноухий ослик, на котором в Пальмовое воскресенье въехал в Иерусалим Иисус из Назарета? Все ослики — даже те, с которыми их хозяева дурно обращаются, — до сих пор помнят этот день. Как о том говорится в стихотворении Честертона:
«Прощание с Александрой»
 Ни Гримпенской трясины, где до сих пор, говорят, висит табличка «ОСТОРОЖНО ЗЛАЯ СОБАКА», ни Принстаунской тюрьмы, откуда сбежал несчастный брат миссис Бэрримор (две главные приманки для приезжающих туристов), мы не искали и не интересовались. Зато видели гуляющих среди вереска длинногривых дартмурских пони — это старейшая на Британских островах порода лошадей. В Дартмуре они живут в полудиком состоянии, но людей не дичатся и подходили к нам совсем близко.
Из Дартингтона путь мой лежал в Норидж с остановкой в Лондоне. Прощаясь, Дима наказал мне посетить в Лондоне поэтессу Кэтлин Рейн, которая помогла им с Леной получить стипендию в Дартингтон-Холле, и передать ей привет. Я с удовольствием обещал, тем более, что Кэтлин Рейн была большим специалистом не только по «диминому» Блейку, но и по «моему» Йейтсу.
Ни Гримпенской трясины, где до сих пор, говорят, висит табличка «ОСТОРОЖНО ЗЛАЯ СОБАКА», ни Принстаунской тюрьмы, откуда сбежал несчастный брат миссис Бэрримор (две главные приманки для приезжающих туристов), мы не искали и не интересовались. Зато видели гуляющих среди вереска длинногривых дартмурских пони — это старейшая на Британских островах порода лошадей. В Дартмуре они живут в полудиком состоянии, но людей не дичатся и подходили к нам совсем близко.
Из Дартингтона путь мой лежал в Норидж с остановкой в Лондоне. Прощаясь, Дима наказал мне посетить в Лондоне поэтессу Кэтлин Рейн, которая помогла им с Леной получить стипендию в Дартингтон-Холле, и передать ей привет. Я с удовольствием обещал, тем более, что Кэтлин Рейн была большим специалистом не только по «диминому» Блейку, но и по «моему» Йейтсу.
 …На обратном пути я все-таки посетил Тотнесскую крепость, обошел изнутри ее стены и купил путеводитель, в котором прочел: «What makes Totnes Castle special is the fact that it never saw battle». В поезде на меня напало меланхолическое настроение, и я написал стихи, развернув эту фразу в целое нравоучение (сомнительное, как и все нравоучения):
…На обратном пути я все-таки посетил Тотнесскую крепость, обошел изнутри ее стены и купил путеводитель, в котором прочел: «What makes Totnes Castle special is the fact that it never saw battle». В поезде на меня напало меланхолическое настроение, и я написал стихи, развернув эту фразу в целое нравоучение (сомнительное, как и все нравоучения):
Тотнесская крепость
Ракушка девятнадцатая. Лондон, Челси (Дела оккультные)
Я отыскал дом, в котором жила Кэтлин Рейн, в тихом и зеленом уголке Челси, на Полтонс-сквер. С детства млею от этих названий: Кенсингтон, Пимлико, Челси — с тех пор, как в первый раз прочел рассказы о Шерлоке Холмсе, лучшую в мире книгу, как печать, легшую на мою младенческую душу (вот как красиво сказал!) Встретившая меня немолодая леди была мила и приветлива. Кое-что о ней я знал еще с России, поскольку мне довелось перевести ее стихотворение для английской антологии. Я знал, что Кэтлин Рейн родом с английского Севера, по матери шотландка, что она не только поэт, но и автор монографий об английской поэзии, главным образом, об Уильяме Блейке, непризнанном при жизни гении, творце собственной поэтической мифологии, мистике и визионере. Наш разговор добавил к этому еще другое, важное. Кэтлин Рейн рассказала мне о своих университетских годах, которые она провела в Кембридже (конец 1920-х — начало 1930-х), когда и в Кембридже, и в Оксфорде большинство молодых поэтов были леваками, в основном, марксистской ориентации. Кэтлин принадлежала к тому меньшинству идеалистов, которые считали необходимым продолжать линию возвышенной поэзии Мильтона, Блейка, Шелли и так далее, вплоть до Уильяма Йейтса. О тех временах — ее книга воспоминаний «Прощайте, счастливые поля!»
В последние годы она издавала альманах «Теменос» («преддверие» по-гречески) и была соучредителем Академии Теменос (лекции, семинары, поэтические чтения), с уклоном в «священные знания Запада и Востока». Патроном и альманаха, и Академии был сам принц Уэльский. Ну да, тот самый принц Чарли, можно не объяснять.
Вот таким образом нечаянно-негаданно я оказался чуть ли не в штаб-квартире английского спиритуализма. Вообще говоря, мистическая традиция имеет давние корни в английском мире. Особенно она процвела в конце XIX и начале XX века. Недаром глава всемирного Теософского общества мадам Блаватская в 1889 году переехала из Нью-Йорка в Лондон. Здесь под ее обаяние попал молодой Уильям Йейтс, да и не он один. Мистиком был и мой любимый Конан-Дойль, он даже увлекался спиритизмом. Мода на сверхъестественное сделалась тогда повальной в английском обществе. Молодой человек не имел шансов увлечь юную леди, если он не мог рассказать пары вещих снов или поведать о каких-нибудь таинственных и необъяснимых явлениях, которым был самолично свидетель.
Но вот вопрос: много ли лучше наивного увлечения мистикой то тотальное разочарование «потерянного поколения», которое воцарилось после Первой мировой, упразднив прежние вкусы и прежних кумиров? И те потоки бескрылого, лишенного воображения натурализма и политического стихоплетства, которые затопили послевоенную поэзию?
Впрочем, у этого потока был и свой противоток. К нему принадлежали не худшие поэты XX века. Уильям Йейтс и вернувшийся с войны Роберт Грейвз, не глядя ни на кого, создавали собственные поэтические мифы. Романтиком и визионером предстал читателю и пришедший двадцатью годами позже юный Дилан Томас. (Интересно, что все трое: ирландцы Йейтс и Грейвз и валлиец Томас — несли в себе наследственный кельтский код.) Мифотворцем по сути своей был и родившийся еще одним поколением позже Тед Хьюз.
К тому же направлению принадлежала и Кэтлин Рейн. Во всех своих работах она занята одним — защитой тех древних родников[8], из которых когда-то родилась мировая поэзия. И в самом деле, разве поэт не был изначально жрецом, пророком и визионером? Разве не общался он с силами таинственными и божественными? Если эту нить оборвать, Данте и Мильтон сделаются для нас грудой мертвых слов и само существование поэзии прекратится, от нее останется только название, пустая шелуха. Или хуже того — в колыбельке, где лежал человеческий ребенок, окажется подброшенный эльфами уродливый оборотень.
Кэтлин Рейн подарила мне последние номера «Теменоса» — довольно увесистую стопку (точнее сказать, стопу).
— Вот в этом номере, — сказала она, — стихи Арсения Тарковского в переводе Питера Рассела.
Я выразил свой щенячий восторг по этому поводу.
— Питер, — продолжала Кэтлин, — говорит, что Тарковский ему нравится больше Ахматовой.
Питер Рассел, издававший в 1950-х годах поэтический журнал «Девять» (в честь девяти муз), представлял собой довольно колоритную фигуру на английской литературной сцене. Двоюродный брат философа Бертрана Рассела, поэт, полиглот и первый переводчик стихов Осипа Мандельштама на английский язык, он прожил бурную и запутанную жизнь и умер в Италии на какой-то заброшенной мельнице, не изменив до конца своей главной страсти — стихам и литературе.
Те восемь номеров «Теменоса», которые подарила мне Кэтлин Рейн, до сих пор стоят у меня на полке. Я достаю и открываю № 12 за 1991 год. Подборка А. Тарковского большая, и заканчивается она стихотворением «Первые свидания», которое мы с юности помнили наизусть:
Наш разговор добавил к этому еще другое, важное. Кэтлин Рейн рассказала мне о своих университетских годах, которые она провела в Кембридже (конец 1920-х — начало 1930-х), когда и в Кембридже, и в Оксфорде большинство молодых поэтов были леваками, в основном, марксистской ориентации. Кэтлин принадлежала к тому меньшинству идеалистов, которые считали необходимым продолжать линию возвышенной поэзии Мильтона, Блейка, Шелли и так далее, вплоть до Уильяма Йейтса. О тех временах — ее книга воспоминаний «Прощайте, счастливые поля!»
В последние годы она издавала альманах «Теменос» («преддверие» по-гречески) и была соучредителем Академии Теменос (лекции, семинары, поэтические чтения), с уклоном в «священные знания Запада и Востока». Патроном и альманаха, и Академии был сам принц Уэльский. Ну да, тот самый принц Чарли, можно не объяснять.
Вот таким образом нечаянно-негаданно я оказался чуть ли не в штаб-квартире английского спиритуализма. Вообще говоря, мистическая традиция имеет давние корни в английском мире. Особенно она процвела в конце XIX и начале XX века. Недаром глава всемирного Теософского общества мадам Блаватская в 1889 году переехала из Нью-Йорка в Лондон. Здесь под ее обаяние попал молодой Уильям Йейтс, да и не он один. Мистиком был и мой любимый Конан-Дойль, он даже увлекался спиритизмом. Мода на сверхъестественное сделалась тогда повальной в английском обществе. Молодой человек не имел шансов увлечь юную леди, если он не мог рассказать пары вещих снов или поведать о каких-нибудь таинственных и необъяснимых явлениях, которым был самолично свидетель.
Но вот вопрос: много ли лучше наивного увлечения мистикой то тотальное разочарование «потерянного поколения», которое воцарилось после Первой мировой, упразднив прежние вкусы и прежних кумиров? И те потоки бескрылого, лишенного воображения натурализма и политического стихоплетства, которые затопили послевоенную поэзию?
Впрочем, у этого потока был и свой противоток. К нему принадлежали не худшие поэты XX века. Уильям Йейтс и вернувшийся с войны Роберт Грейвз, не глядя ни на кого, создавали собственные поэтические мифы. Романтиком и визионером предстал читателю и пришедший двадцатью годами позже юный Дилан Томас. (Интересно, что все трое: ирландцы Йейтс и Грейвз и валлиец Томас — несли в себе наследственный кельтский код.) Мифотворцем по сути своей был и родившийся еще одним поколением позже Тед Хьюз.
К тому же направлению принадлежала и Кэтлин Рейн. Во всех своих работах она занята одним — защитой тех древних родников[8], из которых когда-то родилась мировая поэзия. И в самом деле, разве поэт не был изначально жрецом, пророком и визионером? Разве не общался он с силами таинственными и божественными? Если эту нить оборвать, Данте и Мильтон сделаются для нас грудой мертвых слов и само существование поэзии прекратится, от нее останется только название, пустая шелуха. Или хуже того — в колыбельке, где лежал человеческий ребенок, окажется подброшенный эльфами уродливый оборотень.
Кэтлин Рейн подарила мне последние номера «Теменоса» — довольно увесистую стопку (точнее сказать, стопу).
— Вот в этом номере, — сказала она, — стихи Арсения Тарковского в переводе Питера Рассела.
Я выразил свой щенячий восторг по этому поводу.
— Питер, — продолжала Кэтлин, — говорит, что Тарковский ему нравится больше Ахматовой.
Питер Рассел, издававший в 1950-х годах поэтический журнал «Девять» (в честь девяти муз), представлял собой довольно колоритную фигуру на английской литературной сцене. Двоюродный брат философа Бертрана Рассела, поэт, полиглот и первый переводчик стихов Осипа Мандельштама на английский язык, он прожил бурную и запутанную жизнь и умер в Италии на какой-то заброшенной мельнице, не изменив до конца своей главной страсти — стихам и литературе.
Те восемь номеров «Теменоса», которые подарила мне Кэтлин Рейн, до сих пор стоят у меня на полке. Я достаю и открываю № 12 за 1991 год. Подборка А. Тарковского большая, и заканчивается она стихотворением «Первые свидания», которое мы с юности помнили наизусть:
(«Красавица моя, вся стать…»)
 И еще — вместо эпилога. Когда эта глава уже была написана, произошел мелкий, но, я считаю, мистический случай. Потянулся я достать какую-то книгу с полки; и вдруг давно и мирно стоявшая там большая открытка с рисунками Эдварда Лира (четыре смешных птицы), нечаянно задетая моей рукой, спланировала на пол, и я увидел на оборотной стороне письмо, написанное чрезвычайно корявым почерком. Это было письмо от Кэтлин Рейн, которое я получил через день после моего визита и о котором совсем забыл: «Буду очень рада увидеть Вас снова и узнать, как идут дела и как осуществляются Ваши планы. Я могу представить себе, какой хаос творится сейчас в России, но не думаю, что у Запада есть решения; распад ценностей происходит быстро и повсеместно…»
И это было последним приветом от Кэтлин, неожиданным и очень в ее духе.
И еще — вместо эпилога. Когда эта глава уже была написана, произошел мелкий, но, я считаю, мистический случай. Потянулся я достать какую-то книгу с полки; и вдруг давно и мирно стоявшая там большая открытка с рисунками Эдварда Лира (четыре смешных птицы), нечаянно задетая моей рукой, спланировала на пол, и я увидел на оборотной стороне письмо, написанное чрезвычайно корявым почерком. Это было письмо от Кэтлин Рейн, которое я получил через день после моего визита и о котором совсем забыл: «Буду очень рада увидеть Вас снова и узнать, как идут дела и как осуществляются Ваши планы. Я могу представить себе, какой хаос творится сейчас в России, но не думаю, что у Запада есть решения; распад ценностей происходит быстро и повсеместно…»
И это было последним приветом от Кэтлин, неожиданным и очень в ее духе.
Ракушка двадцатая. Блумсбери (Йейтс и Гумилев)
Я, конечно, съездил и в Блумсбери, где в доме 18 на улице Уобурн-уок (Woburn Walk) век назад жил Уильям Йейтс. Тогда только ленивый карикатурист не потешался над мистиком Йейтсом, изображая его в виде астрального тела или привидения, левитирующего в воздухе над стопкой оккультных книг.Адресов, связанных с Йейтсом, в Лондоне немало — начиная с дома в Бедфорд-парке, где он жил в детстве и в юности: этот красивый артистический район построили художники, близкие к прерафаэлитам, в числе которых был и отец Йейтса. Другое место — таверна «Старый Чеширский сыр» на Флит-стрит, где он еженедельно собирался со своими друзьями из «Клуба рифмачей» («последние романтики» — так он назвал их в стихах). Еще одно — Британская библиотека, где он просиживал штаны, составляя сборники ирландского фольклора и прозы, работая над двухтомником Уильяма Блейка, роясь в средневековых алхимических и астрологических трактатах.
 В Бедфорд-парк меня уже привозил Брук Горовиц в 1990 году, но основательно я побывал-погулял в нем лишь в один из своих поздних приездов в Лондон. Здесь Уильям Йейтс жил пока окончательно не улетел из родительского гнезда. Дом, который был мне нужен, отыскался не сразу: семья Йейтсов тоже несколько раз переезжала. Редкие прохожие — нынешние обитатели Бедфорд-парка — помочь не могли, они вообще не понимали, о чем речь. Что ж, понятно; спросите у прохожего на Тверской, в каком доме родился Борис Пастернак: на вас посмотрят недоуменно, — если даже это будет в пятидесяти шагах от дома, где висит памятная доска.
В Бедфорд-парк меня уже привозил Брук Горовиц в 1990 году, но основательно я побывал-погулял в нем лишь в один из своих поздних приездов в Лондон. Здесь Уильям Йейтс жил пока окончательно не улетел из родительского гнезда. Дом, который был мне нужен, отыскался не сразу: семья Йейтсов тоже несколько раз переезжала. Редкие прохожие — нынешние обитатели Бедфорд-парка — помочь не могли, они вообще не понимали, о чем речь. Что ж, понятно; спросите у прохожего на Тверской, в каком доме родился Борис Пастернак: на вас посмотрят недоуменно, — если даже это будет в пятидесяти шагах от дома, где висит памятная доска.

 Стояла осень. Вся Бленхейм-роуд была засыпана золотым ковром удивительных листьев, похожих на изящный китайский веер. Но больше, чем форма, поражало, что все листья, как один, были без единого изъяна, без малейшего пятна или иного признака бренности — идеально ровные, как новенькие дукаты только что из монетного двора. Это золото фей, подумалось мне, они расплачиваются им на рынке, покупая речной жемчуг у русалок и малину у деревенских мальчишек. Я набрал целую горсть этого золота: хватило и на закладки в мои ирландские книги, и на сбережение поросенку, который довольно хрюкнул.
И вот я стоял перед домом номер три, перед той самой белой калиткой, в которую когда-то вошла Мод Гонн. Она приехала к отцу Йейтса с каким-то подписным листом и разговорилась с его сыном-поэтом. Он еще не знал, что к нему явилась его муза и многолетняя мука. У нее была походка богини, и вся она была похожа на яблоневое дерево в цвету. О, какие он ей писал стихи, какую безутешную печаль разглядел за внешней гордостью и силой!
Стояла осень. Вся Бленхейм-роуд была засыпана золотым ковром удивительных листьев, похожих на изящный китайский веер. Но больше, чем форма, поражало, что все листья, как один, были без единого изъяна, без малейшего пятна или иного признака бренности — идеально ровные, как новенькие дукаты только что из монетного двора. Это золото фей, подумалось мне, они расплачиваются им на рынке, покупая речной жемчуг у русалок и малину у деревенских мальчишек. Я набрал целую горсть этого золота: хватило и на закладки в мои ирландские книги, и на сбережение поросенку, который довольно хрюкнул.
И вот я стоял перед домом номер три, перед той самой белой калиткой, в которую когда-то вошла Мод Гонн. Она приехала к отцу Йейтса с каким-то подписным листом и разговорилась с его сыном-поэтом. Он еще не знал, что к нему явилась его муза и многолетняя мука. У нее была походка богини, и вся она была похожа на яблоневое дерево в цвету. О, какие он ей писал стихи, какую безутешную печаль разглядел за внешней гордостью и силой!
Розе, распятой на кресте времен
В моей погрызенной книжице лишь пара страниц посвящена «Клубу рифмачей». Однако здесь упоминается их антология 1892 года, и перечисляются участники собраний: Эрнст Даусон, Эдвин Эллис, Лайонел Джонсон, Ричард Ле Гальен, Виктор Плар, Эрнст Рис, Артур Симонс, Джон Тодхантер, Уильям Йейтс.
 Что же это была за компания, которая собиралась раз в неделю или две, чтобы читать и обсуждать стихи за кружкой эля, скромно попыхивая дешевыми глиняными трубочками? Декаденты? Несомненно, хоть строгое английское воспитание и давало о себе знать; но многим удалось вполне успешно разложиться и даже перещеголять французов по части алкоголизма и ранних смертей. Эстеты? Пожалуй, хотя зеленых гвоздик в петлице, как Оскар Уайльд, никто из них не носил, но они поклонялись Красоте и, сжигая себя во имя Искусства, верили, что это божество достойно человеческих жертвоприношений.
Когда столь сладостные певцы встречаются, — умиляется анонимный автор проспекта, — можно быть уверенным, что вечер будет восхитителен, мир с его заботами исчезнет и поэтические турниры «Русалки» вновь оживут, как о том дивно писал мистер Эрнст Рис:
Что же это была за компания, которая собиралась раз в неделю или две, чтобы читать и обсуждать стихи за кружкой эля, скромно попыхивая дешевыми глиняными трубочками? Декаденты? Несомненно, хоть строгое английское воспитание и давало о себе знать; но многим удалось вполне успешно разложиться и даже перещеголять французов по части алкоголизма и ранних смертей. Эстеты? Пожалуй, хотя зеленых гвоздик в петлице, как Оскар Уайльд, никто из них не носил, но они поклонялись Красоте и, сжигая себя во имя Искусства, верили, что это божество достойно человеческих жертвоприношений.
Когда столь сладостные певцы встречаются, — умиляется анонимный автор проспекта, — можно быть уверенным, что вечер будет восхитителен, мир с его заботами исчезнет и поэтические турниры «Русалки» вновь оживут, как о том дивно писал мистер Эрнст Рис:
 Настоящее ее имя (спустя век мы уже никого не смутим) — Оливия Шекспир. Она была хорошо образована, знала французский и итальянский, пробовала писать прозу и увлекалась поэзией. Со скучным мужем-адвокатом у нее давно не было ничего общего. Она влюбилась в Йейтса, и их дружба со временем переросла в роман. По многим причинам, Оливия не могла развестись, и они решили встречаться, не афишируя свою связь. Вот тогда и была снята квартира на Уобурн-уок. Йейтс признается, что на первом свидании он «так переволновался, что оказался не способен ни на что». Неудачным было и второе свидание. Только на третий раз чуткость и нежность Оливии помогли преодолеть этот барьер, и наступили дни взаимного счастья. Так Йейтс был посвящен в тайны Венеры — и стал «the Initiate» и в этом смысле тоже.
Роман с Оливией Шекспир (это была первая реальная женщина в его жизни) длился около года; но в какой-то момент его роковая безответная любовь Мод Гонн снова оказалась в Лондоне и ее привычная власть над душой поэта начала разрывать его надвое. Оливия поняла это и ушла. Хотя их дружба с Йейтсом сохранилась, и они переписывались до самых последних лет. И если сейчас перечитывать его книгу «Ветер в камышах» под биографическим углом, то сразу становится ясным, какие стихи посвящены Мод Гонн, а какие Оливии.
В 1910-х годах Йейтс раз в неделю устраивал журфиксы в своей квартире на Уобурн-уок, и здесь Николай Гумилев, оказавшийся в Лондоне по пути в Париж, познакомился с ним в июне 1917 года. Об этом есть его краткий отчет в письме Анне Ахматовой, причем он характеризует Йейтса как «их, английского Вячеслава», по-видимому, вспоминая вечера на Башне Вячеслава Иванова и проницательно отводя Йейтсу роль главного теоретика и «гуру» английского символизма.
Эта встреча, как она ни была мимолетна (добавим, что Гумилев плохо говорил по-английски, а Йейтс так же плохо по-французски), была важной и со временем отозвалась в намерении Гумилева издать ирландского поэта в России. Об этом свидетельствует, в частности, книга Йейтса, посланная его другу акмеисту Михаилу Зенкевичу с предложением перевести два отмеченных стихотворения. В одном из них, «Ирландии грядущих времен», Йейтс с гордостью заявляет, что со временем займет место среди самых известных ирландских поэтов — и даже выше их!
Настоящее ее имя (спустя век мы уже никого не смутим) — Оливия Шекспир. Она была хорошо образована, знала французский и итальянский, пробовала писать прозу и увлекалась поэзией. Со скучным мужем-адвокатом у нее давно не было ничего общего. Она влюбилась в Йейтса, и их дружба со временем переросла в роман. По многим причинам, Оливия не могла развестись, и они решили встречаться, не афишируя свою связь. Вот тогда и была снята квартира на Уобурн-уок. Йейтс признается, что на первом свидании он «так переволновался, что оказался не способен ни на что». Неудачным было и второе свидание. Только на третий раз чуткость и нежность Оливии помогли преодолеть этот барьер, и наступили дни взаимного счастья. Так Йейтс был посвящен в тайны Венеры — и стал «the Initiate» и в этом смысле тоже.
Роман с Оливией Шекспир (это была первая реальная женщина в его жизни) длился около года; но в какой-то момент его роковая безответная любовь Мод Гонн снова оказалась в Лондоне и ее привычная власть над душой поэта начала разрывать его надвое. Оливия поняла это и ушла. Хотя их дружба с Йейтсом сохранилась, и они переписывались до самых последних лет. И если сейчас перечитывать его книгу «Ветер в камышах» под биографическим углом, то сразу становится ясным, какие стихи посвящены Мод Гонн, а какие Оливии.
В 1910-х годах Йейтс раз в неделю устраивал журфиксы в своей квартире на Уобурн-уок, и здесь Николай Гумилев, оказавшийся в Лондоне по пути в Париж, познакомился с ним в июне 1917 года. Об этом есть его краткий отчет в письме Анне Ахматовой, причем он характеризует Йейтса как «их, английского Вячеслава», по-видимому, вспоминая вечера на Башне Вячеслава Иванова и проницательно отводя Йейтсу роль главного теоретика и «гуру» английского символизма.
Эта встреча, как она ни была мимолетна (добавим, что Гумилев плохо говорил по-английски, а Йейтс так же плохо по-французски), была важной и со временем отозвалась в намерении Гумилева издать ирландского поэта в России. Об этом свидетельствует, в частности, книга Йейтса, посланная его другу акмеисту Михаилу Зенкевичу с предложением перевести два отмеченных стихотворения. В одном из них, «Ирландии грядущих времен», Йейтс с гордостью заявляет, что со временем займет место среди самых известных ирландских поэтов — и даже выше их!
 Одной из последних работ Николая Гумилева перед гибелью стал перевод стихотворной пьесы Йейтса «Графиня Кэтлин», о чем мы имеем свидетельство самого поэта в виде загадочного автографа на книге, которой владел парижский русист Петр Струве икоторая исчезла после его смерти. Как пропал и сам перевод пьесы после ареста Гумилева петроградской ЧК. Но это уже другая история, о которой рассказывается в другой книге[9].
Одной из последних работ Николая Гумилева перед гибелью стал перевод стихотворной пьесы Йейтса «Графиня Кэтлин», о чем мы имеем свидетельство самого поэта в виде загадочного автографа на книге, которой владел парижский русист Петр Струве икоторая исчезла после его смерти. Как пропал и сам перевод пьесы после ареста Гумилева петроградской ЧК. Но это уже другая история, о которой рассказывается в другой книге[9].
Ракушка двадцать первая. В Уэльсе (Дилан Томас)
Давно хотелось мне побывать в Уэльсе, и причин на то было, по меньшей мере, две. Во-первых, мой давний ирландский уклон; ведь валлийцы те же кельты, что ирландцы, и древняя валлийская поэзия имеет много сходных черт с древнеирландской. Во-вторых, это родина Дилана Томаса, самого яркого британского поэта 1940–1950-х годов. Так что когда Оля Кельберт пригласила нас в Суонси, я обрадовался и сразу согласился. Так я очутился в этом заповедном краю. Заповедном в буквальном смысле: на карте Уэльса, куда ни ткни, или национальный заповедник или «территория выдающейся природной красоты» (an Area of Outstanding Natural Beauty). В общем, живого места для туриста нет — везде надо либо удивляться, либо восторгаться. Но красота — это еще ничего. Скажу, забегая вперед, что нигде, даже в Ирландии, я не ощущал такого разлитого повсюду волшебства, такой исконной и замшелой, обволакивающей магии, как в Уэльсе. Нет, конечно, она и в Ирландии имеется — отдельными сгущениями, то тут, то там; но чтобы волшебство было так густо размазано по всей поверхности страны, такого я больше нигде не встречал. Суонси — большой университетский город, тут еще надо принюхиваться, но достаточно отъехать на 20–30 км, например, к северо-западу в Кармартен или к юго-западу на полуостров Гауэр, и вы попадаете в настоящий Уэльс. В Гауэре мне, например, показали камень среди поля — увесистый такой камешек, — который зашвырнул сюда не кто иной, как сам король Артур. Легенда гласит, что в башмак Артура попал камень. Король достал его и выбросил. Камень этот пролетел 30 миль из Кармартена в Гауэр и в полете вырос (как та собачка у Маршака). Рассказывают еще, что камень иногда гуляет: как захочет пить, идет к ближайшему ручью, напьется и возвращается обратно. А иные уточняют, что бывает это только в Иванову ночь. Вот он, этот камушек. По совпадению, мне в тот момент тоже в кроссовку что-то попало, вот я и сижу рядом, переобуваюсь.
Олин муж Марк — математик, преподает в местном университете. Квартирка их в Суонси в точности такая, какая бывает, когда муж — математик или физик, а жена — поэт и филолог, я таких перевидал и в Москве и в Питере: никакого мещанского уюта, нормальный рабочий беспорядок (он же порядок). Две их дочери, Аня и Женя, выросли, учились в Америке, так что место, куда приткнуть нас с Дашей, было. Марк устроил мне экскурсию в университет Суонси. На математической кафедре, где он работал, ничего интересного, кроме черных досок с рядами непонятных дробей, не обнаружилось, и он меня повел в Археологический отдел с богатой коллекцией древнеегипетских предметов (уж где эти хитрые валлийцы откопали их у себя в Уэльсе, не знаю!), а потом в университетский парк. Парк мне сильно понравился. В каждом его уголке, в каждой перспективе чувствовалась рука художника. Важнейшие точки ландшафта были подчеркнуты огромными, отдельно стоящими деревьями, замечательно вписанными в рельеф местности. Эти деревья высились как некие цари или сказочные великаны. Вспомнилось тут и кельтское древобожие, и тайный алфавит деревьев, который знали друиды и о котором так подробно и интересно рассказывает Роберт Грейвз в «Белой богине». Кстати, через пару дней в букинистической лавке Суонси мне удалось купить старинное издание книги родного батюшки Роберта Грейвза: «Кельтский псалтырь: Ирландская и валлийская поэзия, переложенная на английский язык Альфредом Персивалем Грейвзом. 1917». (Переводы очень симпатичные, они переиздаются до сих пор.) Так что и тут все идет по наследству.
 Тогда, в 2007 году, музея Дилана Томаса в Суонси еще не было (кажется, он открылся вскоре после моего отъезда). Его функции до какой-то степени исполнял культурный центр при маленьком любительском театре, к которому прибился Томас в юности, сыграв в нем несколько ролей. Театр существует и доныне, и на его пожалованном городскими властями здании красуется гордое название «Театр Дилана Томаса». Фасад здания украшен настенными картинами (муралами), и я с туристским нахальством сфотографировался у стены рядом с фигурой поэта.
Тогда, в 2007 году, музея Дилана Томаса в Суонси еще не было (кажется, он открылся вскоре после моего отъезда). Его функции до какой-то степени исполнял культурный центр при маленьком любительском театре, к которому прибился Томас в юности, сыграв в нем несколько ролей. Театр существует и доныне, и на его пожалованном городскими властями здании красуется гордое название «Театр Дилана Томаса». Фасад здания украшен настенными картинами (муралами), и я с туристским нахальством сфотографировался у стены рядом с фигурой поэта.
Дилану едва исполнилось двадцать лет, когда вышла его первая книга «Восемнадцать стихотворений». Уже в этой юношеской книге появилась та особая поэтическая дикция, по которой мы моментально узнаем Дилана Томаса, — речь темная, двусмысленная, вязкая, обволакивающая. А иногда она превращается в какое-то невнятное бормотание-волхование. Будто клубы пара поднимаются над котлом с колдовским зельем.

Там, где лицо твое в потоках вод
Артуровская легенда тоже пошла из этих мест. Она была впервые записана упомянутым уже Гальфридом Монмутским, который поместил замок Камелот возле города Карлеона — основанного, как и Монмут, еще римлянами, — близ юго-восточной границы Уэльса. Латинская «История королей Британии», написанная сим ученым клириком и местным патриотом, была необычайно популярна в Европе в средние века, до нас дошло две сотни ее списков. Правда, многими учеными людьми еще тогда, в XII веке она была раскритикована как сборник домыслов и врак. Но ты попробуй так соври, чтобы эхо пошло чуть не на тысячу лет, чтобы и до сего дня снимались фильмы о короле Артуре и ставились спектакли о короле Лире и его дочерях, сюжет которой взят Шекспиром, в конечном счете, из той же «Истории» Гальфрида Монмутского! Предводительствуемые Олей Кельберт, мы побывали и в Кармартене. И хотя точного места, откуда король Артур метнул свой знаменитый камешек, установить не удалось, нельзя сказать, что поездка была совсем напрасной. Все-таки одно место силы мы тут нашли. Как известно, за право называться тем самым озером, хозяйка которого подарила Артуру его волшебный меч Эскалибур, спорят, по крайней мере, три равно достойных озера в Уэльсе. Зато по поводу родины Мерлина ни малейших сомнений нет. Это подтверждают и холм Мерлина в Кармартене, и замок Мерлина, и дуб Мерлина, в конце концов. Правда, дуба мы уже не нашли, от него остался только огромный почерневший пень, который за несколько лет до нашего визита выкорчевали и поместили в местный музей. И сразу же случилась невиданная буря и вслед за ней неслыханное наводнение. Потому что забыли старое предсказание: «Доколе стоит дуб Мерлина, дотоле стоять и Кармартену». Хорошо еще, что так обошлось. Только тогда горожане спохватились и посадили на месте старого Дуба — новый, молодой дуб. Конечно, замена не полноценная; но мы постояли на том самом месте, под дубовыми ветвями — что-то от старой магии оно сохранило, какой-то прибыток древней мудрости я в себе ощутил. Пора было отправляться дальше, вглубь страны — навстречу драконам, оборотням и всякой нечистой силе. Накануне поездки Кирилл Кобрин писал мне, делясь своим опытом путешествия по Уэльсу, и советовал посетить западное и северо-западное побережье, особенно Абериствит, Карнарвон, потрясающий замок Харлех и замок Бомарис на остров Энглси. Да не торопясь, а останавливаясь где на одну ночь, а где на две или на три. Но я не был таким уж яростным охотником за достопримечательностями — скорее, домоседом, привыкшим добирать всё воображением. Да и названные Кириллом цены за ночь смущали. В прежние времена, помнится, можно было расплатиться парой звонких экю за ночевку четырех мушкетеров и четырех лошадей, включая сюда ужин и вино. Но с тех пор владельцы гостиниц безбожно подняли цены за постой, и где взять столько экю скромному путешественнику из «Индии духа», неизвестно. Ведь я паломник, а не турист. И мне не нужно целого чемодана впечатлений, довольно немногого, чтобы привезти домой и обрадовать моего поросенка. Но все-таки в Сент-Дэвидсе мы побывали. Здесь в самой западной точке южного побережья был когда-то монастырь, где служил игумен Давид, прославившийся своей святостью и уже больше тысячи лет считающийся главным святым Уэльса. В полумиле от архиепископского храма море, обрывающийся вертикально берег, внушающие трепет скалы внизу и полуостров Дракон с бугристой спиной и обращенной к морю пастью. Этот берег я потом представлял, переводя «Короля Лира»:
 На обратный автобус мы, конечно, опоздали. Он отходил то ли в четыре, то ли в полпятого. Городок-то крошечный. Нас подвезла милая женщина, которая оказалась детской писательницей, живущей в Сент-Дэвидсе. «Тут тихо. Атмосфера вдохновляющая».
— А какие книги вы пишете? — поинтересовался я. — Реальные истории или сказки?
— Ближе к сказкам, — ответила она немножко загадочно.
На обратный автобус мы, конечно, опоздали. Он отходил то ли в четыре, то ли в полпятого. Городок-то крошечный. Нас подвезла милая женщина, которая оказалась детской писательницей, живущей в Сент-Дэвидсе. «Тут тихо. Атмосфера вдохновляющая».
— А какие книги вы пишете? — поинтересовался я. — Реальные истории или сказки?
— Ближе к сказкам, — ответила она немножко загадочно.
Ракушка двадцать вторая Нортумбрия (Монахи и легионеры)
Самым северным английским городом, который мне довелось посетить, был Дарэм. Сей городок невелик, но славен своим уникальным собором романского стиля на высоком берегу реки Уир. Вплотную к собору стоит укрепленный замок епископа; впрочем, ныне этот замок стал частью Дарэмского университета, в который я как раз и был приглашен на русскую кафедру с лекцией. Лекция моя была посвящена «Поэме без героя» Анны Ахматовой. Выдвигалось много объяснений названия поэмы, в том числе самые неожиданные. Лев Лосев, например, обратил внимание, что аббревиатура этого названия ПБГ совпадает с известным сокращением слова Петербург — Пбг, а значит, поэма посвящена Петербургу. Вообще, многие исследователи делали главный акцент на мемуарном и эпическом аспектах этой вещи. Но ведь Ахматова — не летописец Пимен. Она — лирик, и только лирической могла быть поэма, преследовавшая ее все поздние годы. Только исповедью и «разгадкой жизни».
Лекция моя была посвящена «Поэме без героя» Анны Ахматовой. Выдвигалось много объяснений названия поэмы, в том числе самые неожиданные. Лев Лосев, например, обратил внимание, что аббревиатура этого названия ПБГ совпадает с известным сокращением слова Петербург — Пбг, а значит, поэма посвящена Петербургу. Вообще, многие исследователи делали главный акцент на мемуарном и эпическом аспектах этой вещи. Но ведь Ахматова — не летописец Пимен. Она — лирик, и только лирической могла быть поэма, преследовавшая ее все поздние годы. Только исповедью и «разгадкой жизни».
«Тилмиль. Снег идет!.. Вон две кареты шестериком!..»[10]Помните, как начинается пьеса Метерлинка? Канун Рождества. Однако на этот раз Митиль и Тильтиль не дождутся подарка. И праздник они могут наблюдать только в окне, отделенные от него далью и холодом стекла… Но взамен скупой реальности к ним является сказка-фея, оживают молчащие души вещей и начинается фантасмагория, исход, поиски Синей птицы счастья. Они навещают Страну Воспоминаний, Дворец Ночи, Кладбище, Царство Будущего… И когда возвращаются назад, оказывается, что все было сном. Вот схема, на которую ложится «Поэма без героя». Разве что ночь не рождественская, а новогодняя. И не сама собой загорается лампа, а рука автора зажигает «заветные свечи». И не с милым братом героиня встречает канун праздника, а с «тобой, ко мне не пришедшим». Но Страна Воспоминаний есть. И ожившие вещи («Эта поэма — своеобразный бунт вещей» — из «Прозы о поэме»). И даже Гость из Будущего. И та же роковая невстреча, предсказанная Метерлинком.
 Я говорю о той сцене, когда в Царство Будущего, где обитают еще не рожденные Дети, является Время, «высокий бородатый старик с косой и песочными часами»; он намерен забрать с собой на корабль тех, кому выпал черед жить. Несмотря на мольбы и слезы, он разлучает двух влюбленных детей. Они знают, что могут больше не встретиться на Земле и будут вечно одиноки, они боятся, что если и встретятся, то не узнают друга. «Подай мне знак!.. Хоть какой-нибудь знак!.. Скажи, как тебя найти!..» — говорит один ребенок, и другой отвечает: «Я буду печальнее всех!.. Так ты меня и узнаешь…»
Я говорю о той сцене, когда в Царство Будущего, где обитают еще не рожденные Дети, является Время, «высокий бородатый старик с косой и песочными часами»; он намерен забрать с собой на корабль тех, кому выпал черед жить. Несмотря на мольбы и слезы, он разлучает двух влюбленных детей. Они знают, что могут больше не встретиться на Земле и будут вечно одиноки, они боятся, что если и встретятся, то не узнают друга. «Подай мне знак!.. Хоть какой-нибудь знак!.. Скажи, как тебя найти!..» — говорит один ребенок, и другой отвечает: «Я буду печальнее всех!.. Так ты меня и узнаешь…»
В черновиках Поэмы мы находим еще одно подтверждение нашей версии — строфу, которая не может быть ничем иным, как прямой ссылкой на Страну Будущего из «Синей птицы»:
На русской кафедре благосклонно выслушали мой рассказ, мне даже показалось, что он понравился. Среди слушающих была знаменитая Аврил Пайман, чью «Историю русского символизма» я читал, и она стоит у меня на полке. В том году Пайман была уже professor emeritus (то есть на пенсии), но она специально пришла ради моего доклада. Впрочем, англичане — народ настолько вежливый, такой невероятно воспитанный, что нипочем не поймешь, понравилось ли им на самом деле или нет. Русские, которые живут тут давно и вполне пообвыкли, говорят, что «How interesting!» (буквально: «как интересно») у англичан вполне может означать: «Ну и чепуху же вы несете!» Поездку в Дарэм мне устроила — догадайтесь с трех раз, кто? — конечно, Розамунда Бартлетт, которая в том году преподавала в университете русскую литературу. Как бы иначе я туда попал! А места заманчивые. В раннем Средневековье эти прибрежные области Нортумбрии были очагом христианской культуры и святости. Монастырь в Ярроу, например, был обителью Беды Достопочтенного, автора «Церковной истории народа англов» (закончена в 731 году), в Ландисфарне создавались удивительные иллюминированные книги, в частности, «Ландисфарнское евангелие», хранящееся в Британском музее. Седьмой и восьмой века были временем расцвета монастырской жизни в этих землях. До тех пор, пока сюда не причалили длинные ладьи викингов. Дарэм возник как прямое следствие того страшного нашествия. И нынешний Дарэмский собор тоже. Когда-то он привлекал толпы паломников из-за хранящихся в нем святых мощей, в первую очередь, Святого Гумберта. До девятого века они хранились в монастыре на «Святом Острове» (так называли Ландисфарн), пока он не был взят, разграблен и сожжен викингами. Оставшиеся в живых монахи спасли раку с мощами и перенесли ее в другой монастырь, — но и туда вскоре добрались северные разбойники. Монахи подхватили мощи и укрыли их в другом месте, потом еще в одном. Вот так и носились монахи со своим святым по всей Нортумбрии, пока пути-дороги не привели их на крутой берег Уира, и здесь ковчежец со Гумбертом прирос к земле. Это было знаком. Так возникла первая церковь и поселение вокруг нее, а в конце XI века король Вильгельм велел строить на этом месте каменный собор. Поездка получилась запоминающейся. Жаль, не добрался я немного до Адрианова Вала. Всего лишь пятнадцать миль не доехал до его самого западного форта Сегедунум — это в пригороде нынешнего Ньюкасла. Римляне построили Вал Адриана как кардинальную защиту — от моря до моря — от набегов северных пиктов, как границу между тем, что потом станет Англией и тем, что назовется Шотландией. Киплинг в «Паке с Волшебных холмов» посвятил Адрианову валу три великолепных главы. В них есть всё — и римский центурион Парнезий (от чьего имени ведется рассказ), и мудрый пикт-охотник, и император Британии Максим, и вторгшиеся из-за моря варяги.

«С востока на запад, насколько хватает глаз, одна длинная, убегающая к горизонту, то поднимающаяся, то ныряющая вниз линия башен и укреплений», — так описывает Вал впервые увидевший его римлянин Парнезий. Он объясняет Дану и Уне: «Вал Адриана — это, прежде всего, Стена, поверх которой идут оборонительные и караульные башни. По гребню этой Стены даже в самом узком месте трое солдат со щитами свободно могут пройти в шеренгу».
Двести лет без малого эту стену охраняли римские гарнизоны, квартировавшие в фортах, расположенных через равные промежутки вдоль всей стокилометровой стены. Естественно, что за это время Стена обросла всем, чем обрастают гарнизоны и пограничные города. Вот как описывает это Парнезий:
 «Но не так удивителен сам Вал, как город, расположенный за ним. Поначалу там были бастионы и земляные укрепления, и никому не разрешалось строиться на этом месте. Те укрепления давно снесены, и вдоль всего Вала протянулся город длиной в восемьдесят миль. Вы только представьте! Один сплошной, шумный и безалаберный город — с петушиными боями, травлей валков и конными скачками — от Итуны на западе до Сегедунума на холодном восточном побережье! С одной стороны Вала — вереск, дебри и руины, где прячутся пикты, а с другой стороны — огромный город, длинный, как змея, и как змея, опасный.
Змея, растянувшаяся погреться у подножия Стены!»
Эти главы книги, несомненно, произвели особое впечатление на Уистана Одена, написавшего свои стихи об Адриановом Вале — по-своему, но явно с подачи Киплинга.
«Но не так удивителен сам Вал, как город, расположенный за ним. Поначалу там были бастионы и земляные укрепления, и никому не разрешалось строиться на этом месте. Те укрепления давно снесены, и вдоль всего Вала протянулся город длиной в восемьдесят миль. Вы только представьте! Один сплошной, шумный и безалаберный город — с петушиными боями, травлей валков и конными скачками — от Итуны на западе до Сегедунума на холодном восточном побережье! С одной стороны Вала — вереск, дебри и руины, где прячутся пикты, а с другой стороны — огромный город, длинный, как змея, и как змея, опасный.
Змея, растянувшаяся погреться у подножия Стены!»
Эти главы книги, несомненно, произвели особое впечатление на Уистана Одена, написавшего свои стихи об Адриановом Вале — по-своему, но явно с подачи Киплинга.
Блюз римской стены
(Новелла Матвеева)
Ракушка двадцать третья. В Шотландии (Три Роберта)
В девятом классе я взял в библиотеке книгу из серии ЖЗЛ о Роберте Бернсе, и она мне так понравилась, что я отклеил портрет на фронтисписе, поместил его в рамку под стекло и повесил в своей комнате. И так, без портрета, вернул, поганец, в библиотеку.
 Хочу привести пример, показывающий, как Стюарт переводил русские стихи; но сперва несколько слов, чтобы ввести в курс дела. Как вы помните, ведьмы предсказали Макбету, что он будет непобедим, пока Бирнамский лес не пойдет на Дунсинан. И Макбет, ничего не страшась, совершает свои ужасные злодейства — ведь так не бывает, чтобы лес ходил. И вдруг он видит, пораженный, что Бирнамский лес двинулся и пошел штурмом на его замок.
Но разве не всегда лес оказывался победителем? — спрашивает стихотворение, — чему же тут удивляться? «Не лес ли поглотил становища древлян, / Палаты конунгов, землянки партизан, / Ацтеков города, дворцы и храмы майя?» И дальше:
Хочу привести пример, показывающий, как Стюарт переводил русские стихи; но сперва несколько слов, чтобы ввести в курс дела. Как вы помните, ведьмы предсказали Макбету, что он будет непобедим, пока Бирнамский лес не пойдет на Дунсинан. И Макбет, ничего не страшась, совершает свои ужасные злодейства — ведь так не бывает, чтобы лес ходил. И вдруг он видит, пораженный, что Бирнамский лес двинулся и пошел штурмом на его замок.
Но разве не всегда лес оказывался победителем? — спрашивает стихотворение, — чему же тут удивляться? «Не лес ли поглотил становища древлян, / Палаты конунгов, землянки партизан, / Ацтеков города, дворцы и храмы майя?» И дальше:
 За монументом Скотта был спуск как бы в широкий и длинный овраг, превращенный в парк. По склонам оврага цвели белые и голубые подснежники, напоминая о весне, пока еще только календарной. Я подумал, что в Москве такого оврага посередине столицы не допустили бы. Засыпали бы в два счета, проложили улицу и назвали ее, например, Скотцев Вражек.
За монументом Скотта был спуск как бы в широкий и длинный овраг, превращенный в парк. По склонам оврага цвели белые и голубые подснежники, напоминая о весне, пока еще только календарной. Я подумал, что в Москве такого оврага посередине столицы не допустили бы. Засыпали бы в два счета, проложили улицу и назвали ее, например, Скотцев Вражек.
 Дом Роберта Стивенсона я отправился искать сам. И нашел его неподалеку, на Хэриот-Роу. В этом доме он прожил большую часть своего детства. Мальчик часто и подолгу болел, слабые легкие достались ему по наследству. Так что «Постельная страна» в его сборнике детских стихов не выдумана. Задолго до того, как ему было суждено отправиться в настоящие путешествия, он странствовал со своими игрушками в постели, воображая в складках одеяла горы, долины и ущелья. Может быть, он и не выжил бы, если бы не самоотверженная забота его преданной няни. Посвящением ей открывается «Детский цветник стихов» Стивенсона:
Дом Роберта Стивенсона я отправился искать сам. И нашел его неподалеку, на Хэриот-Роу. В этом доме он прожил большую часть своего детства. Мальчик часто и подолгу болел, слабые легкие достались ему по наследству. Так что «Постельная страна» в его сборнике детских стихов не выдумана. Задолго до того, как ему было суждено отправиться в настоящие путешествия, он странствовал со своими игрушками в постели, воображая в складках одеяла горы, долины и ущелья. Может быть, он и не выжил бы, если бы не самоотверженная забота его преданной няни. Посвящением ей открывается «Детский цветник стихов» Стивенсона:
Алисон Каннинхем — от ее малыша
Подруга
«To strive, to seek, to find, and not to yield» («Дерзать, искать, найти и не сдаваться») — эта последняя строка «Улисса» Теннисона была вырезана в 1913 году на памятном кресте, поставленном на южной оконечности острова Росса в память Скотта и его спутников. …В мою последнюю ночь в Шотландии я не спал допоздна, читал какой-то запутанный детектив, где действие происходит в эдинбургских подземельях. Может быть, оттого мне и приснился этот сон. Будто идем мы со Стюартом Сандерсоном по Кэнон-Гейт, и он говорит: «Зайдем сюда, тут хороший погребок». Мы спускаемся по лестнице, проходим длинный коридор, поворачиваем и идем по другому коридору, в конце которого дверь с полувырванной ручкой, висящей на одном гвозде. За дверью комната, похожая на чулан, где всё так заставлено швабрами и коробками, что не сразу замечаешь еще одну дверь слева. Мы открываем эту дверь и вдруг действительно оказываемся в погребке со сводчатыми стенами и большим столом посередине, за которым сидят и неспешно разговаривают три джентльмена.
 Они сразу стали махать, приглашая нас к себе. Мы подошли и поприветствовали их. «Грегори», — сказал я, непринужденно снимая плащ и вешая его на спинку дубового стула. «Стюарт», сказал Стюарт, присаживаясь рядом.
«Роберт», — представился парень с каштановыми, слегка вьющимися волосами, чем-то напомнивший мне Сергея Есенина.
«Роберт», — кивнул худой и одновременно усатый джентльмен с добрыми насмешливыми глазами.
«Роберт», — подтвердил капитан, чье волевое капитанское лицо несло на себе загар обоих полушарий. Рядом с ним на столе лежала фуражка с «крабом».
Мы сидели, прихлебывая светлое пиво, и славно разговаривали — о чем, и не вспомнить, а после третьей кружки, переглянувшись, вдруг запели.
«Should auld acquaintance be forgot», — затянул Роберт, похожий на Есенина, и мы радостно подхватили припев:
Они сразу стали махать, приглашая нас к себе. Мы подошли и поприветствовали их. «Грегори», — сказал я, непринужденно снимая плащ и вешая его на спинку дубового стула. «Стюарт», сказал Стюарт, присаживаясь рядом.
«Роберт», — представился парень с каштановыми, слегка вьющимися волосами, чем-то напомнивший мне Сергея Есенина.
«Роберт», — кивнул худой и одновременно усатый джентльмен с добрыми насмешливыми глазами.
«Роберт», — подтвердил капитан, чье волевое капитанское лицо несло на себе загар обоих полушарий. Рядом с ним на столе лежала фуражка с «крабом».
Мы сидели, прихлебывая светлое пиво, и славно разговаривали — о чем, и не вспомнить, а после третьей кружки, переглянувшись, вдруг запели.
«Should auld acquaintance be forgot», — затянул Роберт, похожий на Есенина, и мы радостно подхватили припев:

Часть 2. Поэты

Сокол по кличке Удача
Фортуна хмурится.Где взять лекарство?Меня швырнуло в прахСудьбы коварство.Т.У.
I
В королевской библиотеке Виндзорского замка вот уже четыреста лет хранятся две папки с рисунками Ганса Гольбейна — немецкого художника, много лет прожившего в Англии. Искусствоведы считают, что это — подготовительные наброски к живописи, но очевидно одно — они сами по себе шедевры высочайшей марки. Перед нами — портреты придворных Генриха VIII. Среди них — сэр Томас Уайет, поэт. Умное, благородное лицо прекрасно «рифмуется» с дошедшими до нас стихами, письмами, переводами. Глядя на него, я думаю о том, как трудна моя задача. На живописный, красочный портрет мне не замахнуться. Попробую лишь очертить чернилами «по контуру» карандашный рисунок, оставленный в стихах и документах, расцветив его по своему разумению более или менее правдоподобными соображениями и догадками.II
Двор Генриха VIII был сценой одной из самых патетических драм в мировой истории, и притом блестяще украшенной сценой. Его прижимистый батюшка Генрих VII позаботился о том, чтобы наполнить казну, и эти денежки очень пригодились наследнику. В глазах народа Генрих выглядел идеальным королем. Шести футов росту, румяный и статный, с величественной осанкой и манерами, он любил пиры, танцы,маскарады и сюрпризы. Он приглашал лучших музыкантов из Венеции, Милана, Германии, Франции, а также выдающихся ученых и художников, среди которых были, например, необузданный Пьетро Торриджано из Рима (сломавший в драке нос Микеланджело), Ганс Гольбейн из Аугсбурга, Иоанн Корвус из Брюгге и другие. В Лондоне жил знаменитый Томас Мор, автор «Утопии», чей дом сравнивали с Платоновской Академией. Говорили, что по числу ученых английский двор может затмить любой европейский университет. Король и его придворные упражнялись в сочинении стихов и музыки; постоянно устраивали красочные шествия, праздники, даже рыцарские турниры (собственно говоря, бывшие уже анахронизмом). Томасу Уайету было суждено сыграть на этой сцене одну из приметных ролей. Он появился здесь молодым человеком, только что окончившим Кембриджский университет, и сразу выдвинулся благодаря своим исключительным талантам: писал стихи, замечательно пел и играл на лютне, свободно и непринужденно говорил на нескольких языках, был силен и ловок в обращении с оружием (отличился на турнире в 1525 году). К тому же, этот образцовый рыцарь был из знатной дворянской семьи. Он родился в 1503 году в замке Аллингтон в Кенте. Отец его, сэр Генри Уайет, во времена междоусобиц сохранил верность Генриху VII; за это (как сказывают) Ричард III его пытал и заточил в Тауэр, где лишь сочувственный кот, приносивший узнику по голубю каждый день, спас его от голодной смерти. Сохранился портрет сэра Генри в темнице — с котом, протягивающим ему через решетку голубя, а также отдельный портрет «Кота, спасшего жизнь сэра Генри Уайета». После освобождения из тюрьмы Генри Уайет возлюбил котов, а благодарный Генрих VII — своего верного подданного, которого он сделал рыцарем ордена Бани. Генрих VIII также любил старого Уайета; среди почетных должностей, пожалованных ему, была должность коменданта Норвичского замка, на которую он был назначен вместе с сэром Томасом Болейном. Так завязывались узлы фортуны: отец Томаса Уайета сдружился с отцом Анны Болейн, его будущей дамы и королевы; история с котом, однажды позабавив короля, в критический момент могла спасти жизнь сына того самого, спасенного котом, узника. Здесь, при дворе, и встретился молодой Уайет с юной Анной Болейн, вернувшейся в 1521 году из Франции, где, будучи фрейлиной королевы, она довершила свое образование и приобрела придворный лоск. Смуглая, черноволосая, с выразительными черными глазами и нежным овалом лица, она сразу приобрела много поклонников. Анна прекрасно танцевала и играла на лютне. У нее были красивые руки; впоследствии, когда злая молва превратила ее в ведьму, стали говорить, что она была шестипалой: друзья уточняли, что речь шла о небольшом дефекте ногтя. Ее распущенные до пояса волосы с вплетенными в них жемчужными нитями были совсем не по моде того времени, но она их носила так. Она затмевала анемичных дам английского двора и своими талантами, и остроумным изяществом разговора. Мог ли Уайет не обратить внимание на ту, кому посвящал стихи Клеман Маро, мог ли сам не принести ей поэтической дани? В точности неизвестно, когда король Генрих обратил свой благосклонный взор на красавицу Анну Болейн. История соперничества монарха и поэта — тема многочисленных легенд и исторических анекдотов. Мы не знаем, какова была природа той куртуазной игры, которая уже связывала Анну с Уайетом; но ясно, что после появления на сцене влюбленного Генриха VIII ситуация для придворного создалась непростая. В сонете «Noli me tangere» («Не трогай меня»), переложенном с итальянского, он уже говорит об Анне, как о запретной дичи королевского леса.Noli me tangere
 Рассказывают, что примерно в это время Генрих VIII получил у Анны перстень в залог ее согласия на брак. Томас Уайет еще раньше завладел маленьким бриллиантом, принадлежавшим Анне: он как бы играючи взял его и спрятал за пазухой; дама попеняла ему и потребовала возвращения вещицы, но кавалер не отдавал, надеясь на продолжение галантной забавы. Владелица больше не возобновляла иска, так что Уайет повесил бриллиант на шнурок и носил на груди под дублетом. Случилось вскоре, что король Генрих играл в мяч с придворными, среди которых были сэр Фрэнсис Брайан и Томас Уайет, и будучи весело настроен, стал утверждать, что один особенно удачный бросок принадлежит ему, — хотя все видели противоположное. Уайет вежливо возразил, но король поднял руку и ткнул в воздух указательным перстом, оттопыривая при этом мизинец, котором блестел перстень Анны Болейн: «А я говорю, Уайет, это мой бросок».
Рассказывают, что примерно в это время Генрих VIII получил у Анны перстень в залог ее согласия на брак. Томас Уайет еще раньше завладел маленьким бриллиантом, принадлежавшим Анне: он как бы играючи взял его и спрятал за пазухой; дама попеняла ему и потребовала возвращения вещицы, но кавалер не отдавал, надеясь на продолжение галантной забавы. Владелица больше не возобновляла иска, так что Уайет повесил бриллиант на шнурок и носил на груди под дублетом. Случилось вскоре, что король Генрих играл в мяч с придворными, среди которых были сэр Фрэнсис Брайан и Томас Уайет, и будучи весело настроен, стал утверждать, что один особенно удачный бросок принадлежит ему, — хотя все видели противоположное. Уайет вежливо возразил, но король поднял руку и ткнул в воздух указательным перстом, оттопыривая при этом мизинец, котором блестел перстень Анны Болейн: «А я говорю, Уайет, это мой бросок».
Поэт приметил перстень, но, чувствуя, что король в добром расположении духа, решил поддержать игру и когда Генрих повторил во второй раз: «Уайет, он мой!» достал шнурок с бриллиантовой подвеской, известной королю, и сказал: «Если Ваше величество позволит, я измерю этот бросок: надеюсь, что он все-таки окажется моим». С этими словами он наклонился и стал вымерять шнурком расстояние; король же, признав бриллиант, отшвырнул мяч и сказал: «Коли так, значит, я обманулся» — и не продолжал игры. Многие бывшие при том придворные не уразумели ничего из этого происшествия, но были такие, что поняли и запомнили. (Джордж Уайет, «Некоторые подробности из жизни королевы Анны Болейн»).
В 1532 году Генрих жалует Анне Болейн титул маркизы Пембрук, тогда же она становится его любовницей. В январе 1533-го выясняется, что Анна беременна, и король тайно венчается с нею. Спустя несколько месяцев брак легализуется и состоится коронация, сопровождаемая трехдневными торжествами и водным праздником. Анна, как Клеопатра, в золотом платье, с распущенными черными волосами, восседает на борту галеры, украшенной лентами, вымпелами и гирляндами цветов. Два ряда гребцов, налегая на весла, влекут корабль вперед, сотни меньших судов и суденышек сопровождают его. Тауэр, подновленный и сияющий, встречает королеву музыкой, знаменами, триумфальными арками и толпой разодетых придворных. «Цезарева лань» заполучила, наконец, свой золотой ошейник.
III
По наблюдениям современной критики,[11] образы охоты и соколиной ловли играют важную роль в стихах Уайета. С образом лани связан и его знаменитый шедевр — стихотворение «Они меня обходят стороной»:IV
Итак, Генрих настоял на своем. Он объявил себя главой английской церкви, развелся с Екатериной Арагонской и женился на Анне Болейн, но с этого времени тучи начали сгущаться над его царствованием, и атмосфера непрерывного празднества, сохраняясь при английском дворе, стала приобретать все более зыбкий и зловещий характер. Дальнейшие события известны: рождение принцессы Елизаветы в 1534 году, Акт о престолонаследии, объявивший принцессу Марию незаконнорожденной, насильственное приведение к присяге дворянства, казнь епископа Фишера и самого Томаса Мора, еще недавно лорда-канцлера короля, охлаждение Генриха к Анне Болейн, которая так и не смогла дать ему наследника мужского пола… Судьба королевы была окончательно решена после рождения ею мертвого младенца в 1536 году. Анна и несколько ее предполагаемых любовников и сообщников в государственной измене были арестованы и заключены в Тауэр. Суд был недолог. Сперва казнили брата королевы Джорджа Болейна, потом Генри Норриса, Фрэнсиса Уэстона, Уильяма Брертона и Марка Смитона. Томас Уайет, также арестованный, мог видеть их смерть из окна своей темницы. 19 мая очередь дошла до самой Анны Болейн. На эшафоте ей прислуживала Мэри, сестра Томаса Уайета — ей Анна передала свой прощальный дар — миниатюрный молитвенник в золотом, с черной эмалью, переплете. В последнюю минуту перед казнью королева обратилась к собравшимся с такими словами:Люди христианские! Я должна умереть, ибо в согласии с законом я осуждена и по законному приговору, и против этого я говорить не буду. Не хочу ни обвинять никого, ни говорить о том, почему меня судили и приговорили к смерти. Я лишь молю Бога хранить Короля и послать ему многие годы правления над всеми вами, ибо более кроткого и милосердного государя доселе не бывало, а для меня он всегда был полновластным и добрым Господином. Если кто-нибудь вздумает вмешаться в мое дело, я прошу его рассудить как можно лучше. А теперь я оставляю сей мир и всех вас, и молю вас молиться за меня. Господи, смилуйся надо мной. Богу препоручаю я душу мою.
 «И когда раздался роковой удар, нанесенный дрожащей рукой палача, всем показалось, что он обрушился на их собственные шеи; а она даже не вскрикнула», — продолжает первый биограф королевы Джордж Уайет.
Томасу Уайету повезло. 14 июня он был освобожден из Тауэра; неясно, что его спасло — покровительство Кромвеля или петиция отца, взявшего своего сына «на поруки» и увезшего в Аллингтон. Король вскоре вернул ему свою милость. Но жизнь Уайета будто переломилась пополам («в тот день молодость моя кончилась», — писал он в стихах). Достаточно сравнить два портрета, выполненные Гансом Гольбейном до и после 1536 года[12]: на втором из них мы видим полностью изменившегося человека — преждевременно постаревшего, с каким-то остановившимся выражением глаз; ушла легкость и свобода, сокол удачи улетел.
Теперь он будет перелагать стихами покаянные псалмы и писать сатиры на придворную жизнь. Например, так:
«И когда раздался роковой удар, нанесенный дрожащей рукой палача, всем показалось, что он обрушился на их собственные шеи; а она даже не вскрикнула», — продолжает первый биограф королевы Джордж Уайет.
Томасу Уайету повезло. 14 июня он был освобожден из Тауэра; неясно, что его спасло — покровительство Кромвеля или петиция отца, взявшего своего сына «на поруки» и увезшего в Аллингтон. Король вскоре вернул ему свою милость. Но жизнь Уайета будто переломилась пополам («в тот день молодость моя кончилась», — писал он в стихах). Достаточно сравнить два портрета, выполненные Гансом Гольбейном до и после 1536 года[12]: на втором из них мы видим полностью изменившегося человека — преждевременно постаревшего, с каким-то остановившимся выражением глаз; ушла легкость и свобода, сокол удачи улетел.
Теперь он будет перелагать стихами покаянные псалмы и писать сатиры на придворную жизнь. Например, так:
V
Кончилось царствование Генриха VIII, и власть перешла к его дочери Марии, отменившей Реформацию и восстановившей связь с Римом. Когда в 1554 году она объявила о своем браке с испанским королем Филиппом II, многие возмутились и выступили с оружием в руках против коварной католички. Сын Томаса Уайета, сэр Томас Уайет Младший во главе отряда в три тысячи солдат пробился в Лондон, но был разбит правительственным войском и обезглавлен. Интересно, что именно его сын, Джордж Уайет, внук поэта, спустя тридцать лет напишет первую биографию Анны Болейн (дважды цитированную выше), в которой он также сообщает интересные сведения и о своем деде. Стихи Уайета были впервые опубликованы в 1557 году в первой английской антологии поэзии, полное название которой звучало так: «ПЕСНИ И СОНЕТЫ, сочиненные высокоблагородным лордом Генри Говардом, покойным графом Сарри, и другими». Впрочем, эта книга сделалась более известной под именем «Сборника Тоттела» (Tottel’s Miscellany). Упомянутые в названии лорд Генри Говард и граф Сарри — одно и то же лицо, стихи же сэра Томаса Уайета занимают в ней более скромное место, рядом с большим отделом стихов «неизвестных авторов», среди которых наверняка находятся стихи его друзей-поэтов графа Рошфора и сэра Фрэсиса Брайана. (Все трое — Сарри, Рошфор и Брайан — сложили свои головы под топором палача.). Именно издатель Тоттеловского сборника ввел живописные заголовки стихов, которые четыреста лет подряд украшали антологии английской поэзии и которые я счел естественным сохранить в своих переводах: «Влюбленный рассказывает, как безнадежно он покинут теми, что прежде дарили ему отраду», «Он восхваляет прелестную ручку своей дамы», «Отвергнутый влюбленный призывает свое перо вспомнить обиды от немилосердной госпожи», и прочее. В современных изданиях эти названия искоренены, как не достоверные, не авторские. Зато они старые — и передают аромат своего времени. За тридцать лет сборник Тоттела переиздавался семь раз. В 1589 году Дж. Патнем писал в своем трактате «Искусство английской поэзии»:Они [Уайет и Сарри] отчистили нашу грубую и домодельную манеру писать стихи от бывшей в ней доселе вульгарности, и посему справедливо могут считаться первыми реформаторами нашей английской метрики и стиля… Они были двумя ярчайшими лампадами для всех, испробовавших свое перо на ниве Английской поэзии… их образы возвышенны, стиль торжественен, выражение ясно, слова точны, размер сладостен и строен, в чем они подражают непринужденно и тщательно своему учителю Франциску Петрарке.Томасу Уайету принадлежит честь и заслуга впервые ввести сонет в английскую литературу, а также дантовские терцины. Белый пятистопный ямб — размер шекспировских пьес — изобретение Сарри. Так сложилось, что именно графу Сарри на протяжении столетий отдавалось предпочтение. «Эдинбургское обозрение» в 1816 году, отзываясь на первое большое издание двух поэтов и, в целом благожелательно оценивая стихи Сарри, о его старшем современнике и учителе отзывалось так: «Сэр Томас Уайет был умным человеком, зорким наблюдателем и тонким политиком, но никак не поэтом в истинном смысле этого слова». В этом опрометчивом суждении был, тем не менее, свой резон. «Эдинбургское обозрение» руководствовалось классическим мерилом и вкусом. С этой точки зрения, граф Сарри — значительно более очищенный, «петраркианский» поэт. Если думать, что английский Ренессанс начался с усвоения Петрарки, тогда Томас Уайет — дурной ученик, «испортивший» и «не понявший» своего учителя. Но дело в том, что для английской поэзии Петрарка был скорее раздражителем, чем учителем. Уже Чосер нарушил все его главные принципы и заветы. Народный, а не очищенный язык; здравый смысл и естественные чувства, а не возвышенный неоплатонизм. Таков был и Уайет, бравший новые формы у итальянцев, а стиль и суть — у Чосера и у французских куртуазных поэтов. Все это легко увидеть на любом его переводе из Петрарки. Скажем, на цитированном выше сонете «Noli me tangere». Мог ли Петрарка сказать, что преследование возлюбленной — «пустое дело» или «я уступаю вам — рискуйте смело, кому не жаль трудов своих и дней»? Никогда — ведь это убивает самую суть петраркизма. Чтобы продолжить сравнение, я позволю себе привести тот же самый сонет («На жизнь Мадонны Лауры», СХС) в переводе Вячеслава Иванова:
(«Пища Амура»)
VI
Тот свод стихотворений Уайета, которым мы сейчас располагаем, основан не только на антологии Тоттела, но и на различных рукописных источниках, среди которых важнейшие два: так называемые «Эджертонский манускрипт» и «Девонширский манускрипт». Первый из них сильно пострадал, побывав в руках неких набожных владельцев, которые, презирая любовные стишки, писали поверх них полезные библейские изречения и подсчитывали столбиком расходы. По этой причине почерк Уайета кое-где трудно разобрать. И все же стихи не погибли. Как отмечает исследователь рукописи мисс Фоксуэлл (не вкладывая, впрочем, в свои слова никакого символического смысла), «чернила Уайета оказались лучшего качества, чем чернила пуритан и меньше выцвели».[13] Особый интерес представляет Девонширский манускрипт. Это типичный альбом стихов, вроде тех, что заводили русские барышни в XIX веке, только на триста лет старше: он ходил в ближайшем окружении королевы Анны Болейн, его наверняка касались руки и Уайета, и Сарри, и самой королевы. Предполагают, что первым владельцем альбома был Генри Фицрой, граф Ричмонд, незаконный сын Генриха VIII. В 1533 году Фицрой женился на Мэри Говард (сестре своего друга Генри Говарда) и альбом перешел к ней. После свадьбы невесту сочли слишком молодой, чтобы жить с мужем (ей было всего-навсего четырнадцать лет) и, по обычаю того времени, отдали под опеку старшей родственницы, каковой, в данном случае, явилась сама королева Анна Болейн. Здесь, в доме Анны, Мэри Фицрой подружилась с другими молодыми дамами, в первую очередь, с Маргаритой Даглас, племянницей короля. Альбом стал как бы общим для Мэри и Маргариты, и они давали его читать знакомым — судя по записи, сделанной какой-то дамой по-французски, очевидно, при возвращении альбома: «Мадам Маргарите и Мадам Ричфорд — желаю всего самого доброго».
На страницах альбома встречается и пометки королевы, подписанные именем Анна (Àn), одна из которых останавливает внимание — короткая бессмысленная песенка, последняя строка которой читается: «I ama yowres an», то есть «Я — ваша. Анна». Эта строчка обретает смысл, если сопоставить ее с сонетом Томаса Уайета («В те дни, когда радость правила моей ладьей»), записанным на другой странице того же альбома. Сонет заканчивается таким трехстишьем:
Предполагают, что первым владельцем альбома был Генри Фицрой, граф Ричмонд, незаконный сын Генриха VIII. В 1533 году Фицрой женился на Мэри Говард (сестре своего друга Генри Говарда) и альбом перешел к ней. После свадьбы невесту сочли слишком молодой, чтобы жить с мужем (ей было всего-навсего четырнадцать лет) и, по обычаю того времени, отдали под опеку старшей родственницы, каковой, в данном случае, явилась сама королева Анна Болейн. Здесь, в доме Анны, Мэри Фицрой подружилась с другими молодыми дамами, в первую очередь, с Маргаритой Даглас, племянницей короля. Альбом стал как бы общим для Мэри и Маргариты, и они давали его читать знакомым — судя по записи, сделанной какой-то дамой по-французски, очевидно, при возвращении альбома: «Мадам Маргарите и Мадам Ричфорд — желаю всего самого доброго».
На страницах альбома встречается и пометки королевы, подписанные именем Анна (Àn), одна из которых останавливает внимание — короткая бессмысленная песенка, последняя строка которой читается: «I ama yowres an», то есть «Я — ваша. Анна». Эта строчка обретает смысл, если сопоставить ее с сонетом Томаса Уайета («В те дни, когда радость правила моей ладьей»), записанным на другой странице того же альбома. Сонет заканчивается таким трехстишьем:
Томас Уайет
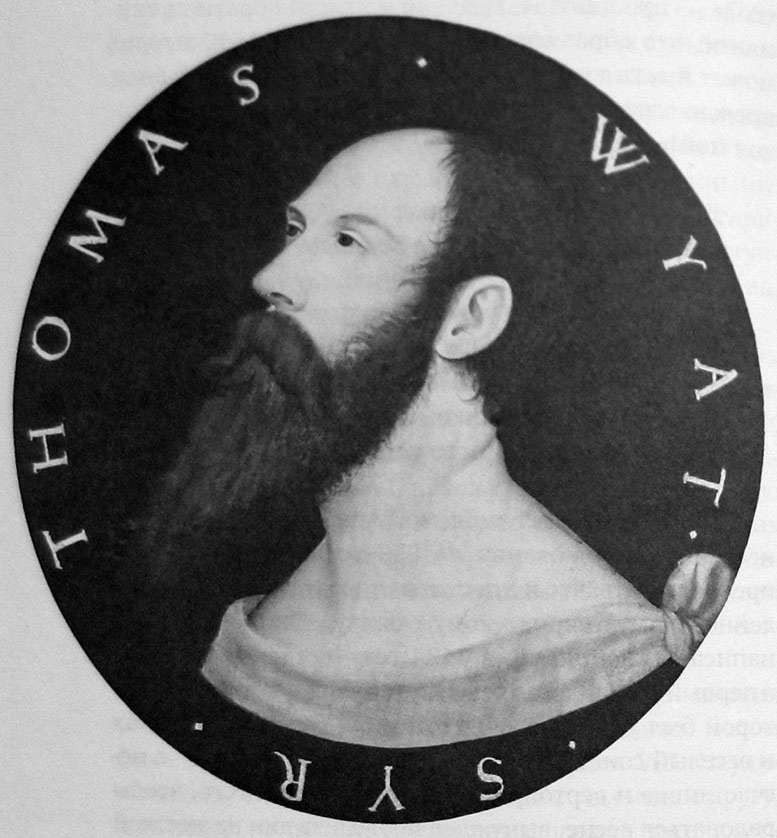
Отвергнутый влюбленный призывает свое перо вспомнить обиды от немилосердной госпожи
Влюбленный сравнивает себя с галерным рабом, а даму со звездой
In aeternum
Влюбленный рассказывает, как безнадежно он покинут теми, кто прежде дарил ему отраду
Сонет из тюрьмы
Прощай, любовь
Сатира I
Английский Петрарка, или Гнездо Феникса
Период правления Эдуарда VI и Марии Католички, а также первые десять-пятнадцать лет царствования великой Елизаветы, были «тощими годами» для английской литературы, не ознаменовавшимися появлением ярких имен. Недаром автор предисловия к знаменитой антологии лирики 1557 года, так называемому «Сборнику Тоттела», впервые представляя широкой публике стихи Томаса Уайета и графа Сарри, писал:Погиб наш Сципион, наш Ганнибал,Петрарка наших дней и Цицерон,Кому мой стих лишь причинит урон, —Ведь он достоин ангельских похвал.Уолтер Рэли
Ежели, паче чаяния, не всем придется по нраву утонченный стиль, непривычный для закосневших в дикости ушей, я обращаюсь за поддержкой к людям образованным — да защитят они своих ученых собратьев, авторов сей книги. А невежд я призываю умерить чтением оных стихов свое невежество и смягчить свинскую грубость, понуждающую их недовольно хрюкать от запаха сладкого майорана.Действительно, после смерти графа Сарри настала довольно продолжительная пауза, в течение которой читатели и поэты переваривали преподанные им уроки неведомого доселе ренессансного изящества. Талант Джорджа Гаскойна обозначил канун нового рассвета. Но открыть заключительную, самую блестящую страницу английского Возрождения довелось лишь Филипу Сидни (1554–1586), которого современники справедливо назвали «английским Петраркой». По своему рождению Сидни принадлежал к высшей знати королевства. Его отец был наместником Ирландии, мать — дочерью герцога Нортумберлендского. Проучившись несколько лет в Оксфордском университете (и покинув его по случаю разразившейся в городе чумы), он получает разрешение отправиться путешествовать на континент «ради получения навыка в иностранных языках». В Париже, живя под опекой английского посольства, он знакомится с высшей французской знатью и покоряет всех своими знаниями и талантами. Карл IX награждает его титулом барона; Генрих Наваррский обходится с ним как с равным. 18 августа 1572 года Сидни присутствует на его свадьбе с Маргаритой де Валуа («королевой Марго») в соборе Нотр-Дам, а еще через пять дней становится свидетелем жутких событий Варфоломеевской ночи, когда многие его друзья-гугеноты были злодейски умерщвлены, — и воспоминания об этой резне остались с ним на всю жизнь. Из Парижа Сидни направился в Германию, где изучал вопросы религии и обсуждал возможность создания Протестантской лиги. Летом 1573 года он посетил двор императора Максимилиана в Вене, где (как он потом вспоминает втрактате «Защита поэзии») совершенствовался в искусстве верховой езды. Это почиталось весьма важным рыцарским качеством и в будущем пригодилось Сидни на рыцарских турнирах в Лондоне, где он считался одним из лучших бойцов. Королева Елизавета очень любила эти турниры, самый главный из которых проводился ежегодно в день ее коронации и обставлялся как роскошный, красочный спектакль. Затем Сидни побывал в Италии, продолжив там свои занятия наукой и литературой, по несколько месяцев провел в Падуе, Генуе и Венеции, где позировал для Тинторетто и Веронезе. Кроме того, он посетил Польшу, Венгрию и Прагу. В 1575 году Сидни вернулся на родину и сразу сделался всеобщим любимцем. Наверное, уже тогда начала складываться легенда о Филипе Сидни, завершенная и канонизированная уже после его безвременной гибели.
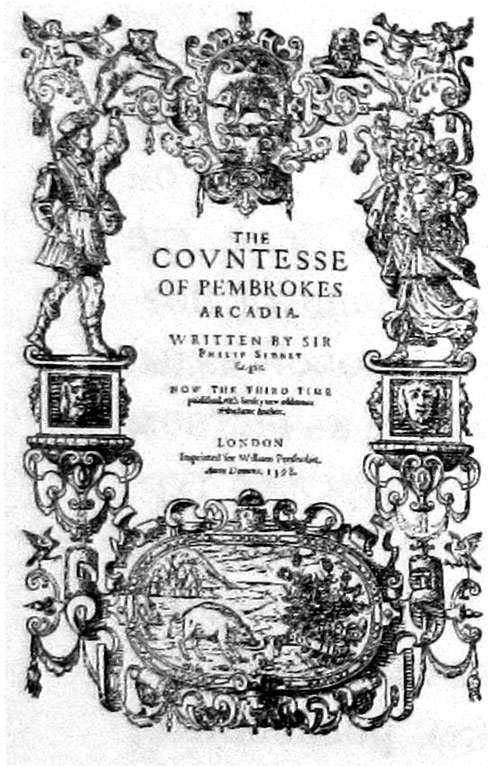 Главные герои этой галантной сказки Пирокл и Музидор влюблены в дочерей короля Базилия, который, оставив свое королевство временному правителю, удалился в глухой, необитаемый лес. Чтобы приблизиться к принцессам, бдительно оберегаемым от женихов, Пирокл переодевается в амазонку, а Музидор — в пастуха. Сложный сюжет изобилует многими приключениями, вставными новеллами и стихами… Впрочем, дело не в сюжете, а в тоне повествования, сделавшим «Аркадию» настоящим кодексом рыцарского «вежества». Им восхищалось несколько поколений английского дворянства, а Карл I, как говорят, даже взял его с собой на эшафот. Можно добавить, что мотивы и сама атмосфера «Аркадии» отозвались во многих пьесах Шекспира — в частности, в «Двух веронцах» и «Как вам это понравится», а также в его более поздних романтических сказках.
Однако главным поэтическим достижением Сидни стала не «Аркадия», а цикл любовных сонетов «Астрофил и Стелла». «Астрофил» по-гречески значит «влюбленный в звезду», «Стелла» по латыни — «звезда»; этим именем Сидни называет вдохновительницу своих стихов. Вряд ли можно сомневаться, что ею была Пенелопа Деверё, в замужестве леди Рич: в тридцать седьмом сонете, который начинается и кончается словом «rich», Сидни прямо высказывает свои ревнивые чувства, едко обыгрывая имя ее мужа.
Разумеется, перед нами не хроника действительных событий, а лишь отражение владевших поэтом чувств («Сонет есть памятник мгновению», сказал Данте Габриэль Россетти); но за искусным художеством ощутима подлинная история любви. Эту диалектику точно угадал Томас Нэш в предисловии к первому изданию сонетов.
Главные герои этой галантной сказки Пирокл и Музидор влюблены в дочерей короля Базилия, который, оставив свое королевство временному правителю, удалился в глухой, необитаемый лес. Чтобы приблизиться к принцессам, бдительно оберегаемым от женихов, Пирокл переодевается в амазонку, а Музидор — в пастуха. Сложный сюжет изобилует многими приключениями, вставными новеллами и стихами… Впрочем, дело не в сюжете, а в тоне повествования, сделавшим «Аркадию» настоящим кодексом рыцарского «вежества». Им восхищалось несколько поколений английского дворянства, а Карл I, как говорят, даже взял его с собой на эшафот. Можно добавить, что мотивы и сама атмосфера «Аркадии» отозвались во многих пьесах Шекспира — в частности, в «Двух веронцах» и «Как вам это понравится», а также в его более поздних романтических сказках.
Однако главным поэтическим достижением Сидни стала не «Аркадия», а цикл любовных сонетов «Астрофил и Стелла». «Астрофил» по-гречески значит «влюбленный в звезду», «Стелла» по латыни — «звезда»; этим именем Сидни называет вдохновительницу своих стихов. Вряд ли можно сомневаться, что ею была Пенелопа Деверё, в замужестве леди Рич: в тридцать седьмом сонете, который начинается и кончается словом «rich», Сидни прямо высказывает свои ревнивые чувства, едко обыгрывая имя ее мужа.
Разумеется, перед нами не хроника действительных событий, а лишь отражение владевших поэтом чувств («Сонет есть памятник мгновению», сказал Данте Габриэль Россетти); но за искусным художеством ощутима подлинная история любви. Эту диалектику точно угадал Томас Нэш в предисловии к первому изданию сонетов.
После тысяч строк всяческих глупостей, с важным видом выведенных на сцену, после созерцания двух Гор, породивших одну единственную Мышь, после оглушающего звона бесстыдных Фанфар и невыносимого скрипа тупых Перьев, после зрелища Пана в шалаше, окруженного толпой Мидасов, восхищающихся его жалкой музыкой, да не побрезгуют ваши пресыщенные очи, возвратившись из балагана, обернуться и удостоить взглядом этот восхитительный Театр, ибо здесь вам предстанет бумажная сцена, усыпанная настоящими перлами, перед вашими любопытными глазами воздвигнутся хрустальные стены и при свете звезд будет разыграна трагикомедия любви. Главную роль в ней играет сама Мельпомена, чьи темные одежды, обрызганные чернильными слезами, до сих пор, если приглядеться, роняют влажные капли. Содержание пьесы — жестокая добродетель, ее Пролог — надежда, Эпилог — отчаянье…В сущности, Нэш говорит то же самое, что Блок в своем «Балаганчике»:
(Сонет II)
(Сонет LIX)
 По смерти Сидни вся рыцарская Европа погрузилась в траур. Монархи многих стран прислали в Лондон свои соболезнования. Принц Вильгельм Оранский просил у Елизаветы разрешения похоронить Сидни там же, в Голландии. Если бы это осуществилось, лежать бы ему в Дельфтском соборе неподалеку от помпезной гробницы самого Вильгельма. Но Англия, конечно, не отдала прах своего героя. Похороны Филипа Сидни в соборе Святого Павла были грандиозны. Весь церемониал был запечатлен в серии специальных гравюр, выпущенных по следам этого события. Насколько долгой и «всенародной» была память о геройской смерти Филипа Сидни, свидетельствует мемуарист Джон Обри, родившийся через полвека после его смерти:
По смерти Сидни вся рыцарская Европа погрузилась в траур. Монархи многих стран прислали в Лондон свои соболезнования. Принц Вильгельм Оранский просил у Елизаветы разрешения похоронить Сидни там же, в Голландии. Если бы это осуществилось, лежать бы ему в Дельфтском соборе неподалеку от помпезной гробницы самого Вильгельма. Но Англия, конечно, не отдала прах своего героя. Похороны Филипа Сидни в соборе Святого Павла были грандиозны. Весь церемониал был запечатлен в серии специальных гравюр, выпущенных по следам этого события. Насколько долгой и «всенародной» была память о геройской смерти Филипа Сидни, свидетельствует мемуарист Джон Обри, родившийся через полвека после его смерти:
Мне было девять лет, когда мы с отцом заезжали в дом некоего мистера Синглтона, купца-суконщика и городского олдермена в Глостере. У него в гостиной над камином висело полное описание Похорон Сэра Филипа Сидни, выгравированное и напечатанное на листах бумаги, склеенных вместе в длинную ленту от стены до стены, и он так ловко укрепил их на двух штырях, что, вращая любой из них, можно было заставить изображенные фигуры маршировать друг за другом, как в настоящей похоронной процессии. Это произвело такое сильное впечатление на мою мальчишескую фантазию, что я до сих пор помню все так, как будто это было только вчера.Сколь силен был взрыв скорбных чувств в момент похорон Сидни, доказывает, например, тот факт, что брат Пенелопы, граф Роберт Эссекс, дал торжественный обет жениться на вдове погибшего друга. Королева долго противилась этому браку, но после того, как на турнире 1590 года Эссекс выехал на арену в сопровождении роскошной траурной процессии, напомнив одновременно о смерти своего благородного друга и о собственном отчаянии от невозможности выполнить данную клятву, Елизавета вынуждена была согласиться. Так посмертно, мистически породнились Астрофил и Стелла — брат «Стеллы» женился на вдове «Астрофила». Брак с Фрэнсис Сидни не помешал настойчивому Эссексу со временем сделаться фаворитом королевы, могущественнейшим человеком в государстве. Его сестра леди Пенелопа Рич тем временем блистала при дворе. Но когда в 1601 году после неудачного мятежа граф Эссекс был схвачен и обвинен в государственной измене, именно она, проявив незаурядное мужество, защищала своего брата перед королевой и членами Тайного совета. Тем не менее Эссекс был казнен, а улики против Пенелопы, имеющиеся в показаниях раскаявшегося графа, оставили без последствий. Может быть, это стихи Сидни спасли ее от тюрьмы и приговора? — королева не посмела тронуть воспетую поэтом Стеллу.
 Томас Нэш назвал героя сидниевских сонетов Фениксом, возродившимся из пепла своей погибшей любви. Отсюда, вероятно, происходит название поэтического сборника «Гнездо Феникса» (1593), включавшего стихи разных поэтов, в том числе и самого Сидни. Было издано два сборника элегий на смерть Сидни, один в Оксфорде, другой в Кембридже. Елизаветинская плеяда остро чувствовала свой долг перед ее признанным законодателем: из «Астрофила и Стеллы», как из гнезда, выпорхнул целый выводок неутомимых сонетистов. «Сонетная лихорадка» начала 1590-х годов вошла в историю английской поэзии. За несколько лет были созданы сонетные циклы «Делия» Дэниэла, «Диана» Генри Констебля, «Идея» Дрейтона, «Фелида» Лоджа, «Аморетти» Спенсера, «Личия» Джайлза Флетчера, «Кэлия» Уильяма Перси, «Партенофил и Партенофа» Барнаби Барнса, «Фидесса» Гриффина, «Лаура» Роберта Тофта, анонимная «Зефирия» и так далее.
По сути же, влияние Сидни на лучших из его современников было глубже, чем может показаться на первый взгляд. Даже Джон Донн, основатель метафизической школы в поэзии, казалось бы, порвавший с петраркизмом, не избежал этого влияния. Например: читая сонет Сидни «Расставание» («Я понял, хоть не сразу и не вдруг, / Зачем о мертвых говорят: „Ушел“…»), мы замечаем, что здесь уже содержатся основные мотивы знаменитых валедикций Донна — в том числе, его «Прощания, запрещающего печаль».
Когда Уолтер Рэли, описывая отчаяние любви в поэме «Океан к Цинтии», пишет:
Томас Нэш назвал героя сидниевских сонетов Фениксом, возродившимся из пепла своей погибшей любви. Отсюда, вероятно, происходит название поэтического сборника «Гнездо Феникса» (1593), включавшего стихи разных поэтов, в том числе и самого Сидни. Было издано два сборника элегий на смерть Сидни, один в Оксфорде, другой в Кембридже. Елизаветинская плеяда остро чувствовала свой долг перед ее признанным законодателем: из «Астрофила и Стеллы», как из гнезда, выпорхнул целый выводок неутомимых сонетистов. «Сонетная лихорадка» начала 1590-х годов вошла в историю английской поэзии. За несколько лет были созданы сонетные циклы «Делия» Дэниэла, «Диана» Генри Констебля, «Идея» Дрейтона, «Фелида» Лоджа, «Аморетти» Спенсера, «Личия» Джайлза Флетчера, «Кэлия» Уильяма Перси, «Партенофил и Партенофа» Барнаби Барнса, «Фидесса» Гриффина, «Лаура» Роберта Тофта, анонимная «Зефирия» и так далее.
По сути же, влияние Сидни на лучших из его современников было глубже, чем может показаться на первый взгляд. Даже Джон Донн, основатель метафизической школы в поэзии, казалось бы, порвавший с петраркизмом, не избежал этого влияния. Например: читая сонет Сидни «Расставание» («Я понял, хоть не сразу и не вдруг, / Зачем о мертвых говорят: „Ушел“…»), мы замечаем, что здесь уже содержатся основные мотивы знаменитых валедикций Донна — в том числе, его «Прощания, запрещающего печаль».
Когда Уолтер Рэли, описывая отчаяние любви в поэме «Океан к Цинтии», пишет:
(«Аркадия», Книга II)
Никогда Природа так пышно не украшала землю, как украшают ее поэты; без них не было бы ни столь тихоструйных рек, ни столь пышно увешанных плодами деревьев, ни столь благоуханных цветов — словом, всего этого убранства, которое делает нашу милую землю еще любимей.Сидни указывает на первородство поэзии по сравнению с наукой и философией. Даже народы, у которых науки совершенно не развиты, тем не менее наделены поэтическим чувством. Поэзия неискоренима: самые жестокие завоеватели не могут ее уничтожить. Приводя пример Ирландии, на обитателей которой в ту пору англичане смотрели как на полудикарей, Сидни свидетельствует: «У соседей наших, ирландцев, ученость в отрепьях; поэтов же своих они чтут благоговейно». Отношение Сидни к поэзии можно ретроспективно назвать «романтическим» — недаром романтик Шелли в своей новой «Защите поэзии», написанной двести пятьдесят лет спустя, точно так же, как Сидни, возносил воображение над рассуждением, поэзию над наукой: «Поэзия есть действительно нечто божественное. Это одновременно центр и вся сфера познания; то, что объемлет все науки, и то, чем всякая наука должна поверяться». Романтизм востребовал многое в елизаветинской литературе, что целые века находилось в небрежении — в том числе, и сонет, огромные возможности которого впервые показал именно Сидни. Чарльз Лэм (1775–1834) в своем эссе «Некоторые сонеты Филипа Сидни», видно, отчаявшись объяснить их прелесть, просто цитирует подряд четырнадцать своих любимых сонетов. Джон Китс, продолжавший сонетную традицию, выводит ее не столько от Шекспира, сколько от «Астрофила и Стеллы». Его сонет, начинающийся словами: «How many bards guild the lapses of time» —
Филип Сидни

Из романа «Аркадия»
Из книги сонетов «Астрофил и Стелла»
* * *
* * *
* * *
Песня пятая
«Аромат» Джона Донна и нюх Лорда Берли
Гильгамеш возглашает: «Я словам твоим внемлю.Если, Знающий землю,В преисподнюю снидешь и потерю увидишь, —Вот мое наставленье:Свой наряд прочный, чистый, надевать не стремись ты:Порешат: „Чужестранец!“Ты елеем не вздумай, о мой брат, умащаться:Все на запах примчатся!»Поэма о Гильгамеше.Перевод С.Липкина
— Fee! Fie! Foo! Fum! I smell the blood of the Englishman.Четвертая элегия Джона Донна «Perfume» («Аромат»), в некоторых списках озаглавленная «Discovered by Perfume», может смутить нынешнего читателя своим открытым цинизмом, яростной враждой лирического героя к семейству его возлюбленной, особенно к ее отцу и матери. Проникнув в их дом, молодой человек оказывается опутан шпионской сетью. Со всех сторон его окружают враги, доносчики и соглядатаи. Это могло бы показаться авторской причудой или странной игрой воображения, — если не учитывать биографии Донна и той реальной охоты на людей, которая была характерной чертой английской жизни в эпоху королевы Елизаветы. Дичью в этой охоте были католики. Они оказались на положении отверженных в собственной стране, практически были объявлены вне закона. Непосещение службы в англиканской церкви наказывалось неподъемным штрафом, а отправление католической мессы, сверх того, могло трактоваться как укрывательство католического священника, что уже являлось уголовным преступлением. Дома католиков обыскивали, стены простукивали — искали тайные убежища. Повсюду рыскали доносчики-ищейки, выявляя дома, где служили мессы. Среди перепуганных людей распространялись слухи, что готовится английский вариант Варфоломеевской ночи. Семья Джона Донна оказалась втянута в эпицентр этих событий, и ему поневоле пришлось пристально следить за развитием кровавой драмы. Мать Джона Донна (кстати сказать, внучка знаменитого Томаса Мора) была истовой католичкой, и учителя, которых она нанимала для своего сына, все без исключения были католиками. Ее брат Джаспер Мор, священник-иезуит, был схвачен и казнен в 1584 году. Двенадцатилетний Джон Донн вместе с матерью ездил навещать своего дядю в Тауэр. А в 1593 году, когда Джон и его брат Генри были студентами в юридической школе Линкольнз-Инн, в комнате Генри арестовали молодого человека, обвиненного в том, что он являлся католическим священником. Генри под страхом пытки выдал его, и священника казнили со всей присущей тем временам свирепостью. Но и сам Генри не пережил его: умер от чумы в Ньюгейтской тюрьме. Подобная участь вполне могла ожидать и Джона. И хотя позже (примерно в 1597 году) Донн все-таки перешел в протестантизм, он так и не смог до конца избавиться от чувства «гражданской неполноценности», впитанного с малолетства, ощутить себя в полной безопасности. Помня об этом, взглянем на элегию Донна под новым углом зрения. Действительно ли перед нами любовная элегия? Если это и так, то любовная история, рассказанная в ней, весьма странная. Начинается она с допроса:Из английской сказки
— допрос с пристрастием, — надзор, — обыск, — подкуп, — подсадная утка, — заточение, — тайная слежка, — пытки, — предательство, — донос.
Причем главная роль в разоблачении заговора отводится нюху. Приятное благоухание, необычное для затхлой атмосферы дома, неминуемо должно было привлечь внимание грозного папаши.
 Обратим внимание: в вышеприведенных стихах влюбленный уподобляется единорогу. Единорог, как мы знаем, — символ влюбленного, а также символ Христа. В средние века на гобеленах любили изображать сюжет: единорог кладет голову на колени прекрасной даме, не замечая уже готовых наброситься на него охотников со сворой гончих псов. Эти псы возвращают нас к предыдущим строкам (даем буквальный перевод):
Обратим внимание: в вышеприведенных стихах влюбленный уподобляется единорогу. Единорог, как мы знаем, — символ влюбленного, а также символ Христа. В средние века на гобеленах любили изображать сюжет: единорог кладет голову на колени прекрасной даме, не замечая уже готовых наброситься на него охотников со сворой гончих псов. Эти псы возвращают нас к предыдущим строкам (даем буквальный перевод):
Джон Донн

Элегия IV (Аромат)
Песенка
Пища Любви
Амур-ростовщик
Сделка с Амуром
Пагуба
К восходящему солнцу
«Зеленый человечек» английской поэзии
A green delight the wounded mind endears… John Clare[18]
Я ловлю себя на том, что твержу про себя стихи Клэра, хотя никогда не пытался запомнить их наизусть. Однажды он сказал про совершенно незнакомого человека: «Я знаю Грея, хорошо его знаю», и это было принято как доказательство безумия. Рискну сказать с тем же убеждением: «Я знаю Клэра, хорошо знаю. Я часто плакал вместе с ним». Роберт Грейвз
I
Полузабытый крестьянский поэт романтической эпохи — но не «второй Роберт Бёрнс», а, наоборот, по характеру и темпераменту абсолютно противоположный знаменитому шотландскому барду, — Джон Клэр в последние десятилетия пережил нечто вроде ренессанса: публикуются новые биографии, письма, дневники, в сериях классики издаются его стихотворения. 13 июня 1989 года в «Уголке поэтов» Вестминстерского собора, этом Пантеоне английской литературы, в котором похоронены Чосер, Диккенс и многие другие, торжественно открыли памятник Джону Клэру. Одно из свидетельств возвращения поэта — цикл стихов нобелевского лауреата Дерека Уолкотта, посвященный памяти матери («Щедрость», 1996), в котором Клэр присутствует с начала до конца как важный контрапункт в сознании автора, переполненного щедростью жизни, щедростью природы его родных Карибских островов. На фоне моря, пальм и тропического рассвета является неожиданный и трогательный образ — или, можно сказать, призрак — Джона Клэра —II
История полна странными совпадениями. В начале 1820 года лондонские издатели Тейлор и Хесси почти одновременно выпустили две новые книги стихов: последний прижизненный сборник Джона Китса и первый сборник совершенно неизвестного публике Джона Клэра. Двадцатипятилетнему Китсу предстояло через год умереть от чахотки в Риме; Клэр, который был на два года старше, дожил до семидесяти лет, из которых почти тридцать провел в сумасшедшем доме; и поистине трудно решить, какая из двух жизней сложилась труднее и трагичнее. Джон Тейлор, издатель с репутацией и поэтическим вкусом, долго колебался, получив в руки стихи необразованного крестьянина; он вообще славился привычкой долго запрягать перед тем, как ехать. В конце концов книга все же была издана под названием: «Стихотворения, описывающие сельскую жизнь и природу. Сочинение Джона Клэра, крестьянина из Нортемптоншира». Стараясь заинтриговать читателя, Тейлор предпослал сборнику обширное издательское предисловие — по сути, подробный биографический очерк об авторе с анализом его стихов. Думаю, будет уместно, если я приведу здесь отрывки из этого предисловия.Нижеследующие стихотворения должны привлечь интерес благодаря своим внутренним достоинствам; но, помимо этого, они заслуживают внимания из-за обстоятельств, в которых были написаны. Перед нами подлинные произведения молодого крестьянина, поденного сельского работника, не получившего никакого образования сверх обычного для своего класса минимума; и хотя поэтам в этой стране вообще редко сопутствует счастье, это, по всей вероятности, самый обделенный из всех — обделенный судьбой, обделенный друзьями. Джон Клэр, автор этой книги, родился в Хелпстоне, вблизи Питерборо, в Нортемптоншире, 13 июля 1793 года; он единственный сын Паркера и Анны Клэр, урожденных жителей той же деревни, проживавших в крайней нужде и бедности; насколько известно, так же существовали и все их предки… Может показаться удивительным, что, живя в такой нищете, Клэр сумел найти средства, чтобы получить хоть какое-то образование. Он заработал их сам: брался за все, что предложат, батрачил с утра и дотемна. За восемь недель работы мальчик мог скопить ровно столько пенсов, сколько хватало на оплату месяца занятий в школе, и так, урывками, за три года он приобрел некоторые знания и научился свободно читать Библию…Однако склонность к поэзии проявилась в маленьком Джоне еще до того, как он овладел грамотой. Однажды отец прочитал ему стихотворение из книги какого-то нравоучительного поэта — такие книжки разносились коробейниками по деревням и порой попадали в самые бедные семьи. Впоследствии он не мог вспомнить ничего — ни сюжета, ни слова, ни фразы — лишь острое, ни с чем не сравнимое наслаждение от самого звука метрической речи, от музыки стихов… Неудивительно, что вскоре после того, как Клэр пристрастился к чтению, он начал писать, подражая «Временам года» Томсона и любым другим поэтическим образцам, которые могли попасться в руки сельскому школьнику.
Прошло тринадцать лет с тех пор, как Клэр сочинил свое первое стихотворение: все это время он втайне развивал свой вкус и поэтический талант, без единого слова поддержки или сочувствия, без даже отдаленной перспективы какой-либо награды. Какой же сильной и чистой изначально должна была быть эта страсть, не истребленная столькими годами нужды, труда и беспросветной нищеты… Публикация этих стихотворений стала результатом случая. В декабре 1818 года мистер Эдвард Друри, книгопродавец из Стамфорда, случайно прочел «Сонет к заходящему солнцу», записанный на листе бумаги, служившим оберткой для какого-то письма. Сонет был подписан двумя буквами «J. С.» Выяснив имя и местопребывание автора, Друри приехал в Хелпстон, где познакомился и с другими стихами Клэра, которые ему весьма понравились. По его просьбе Клэр подготовил сборник, который был послан в Лондон на рассмотрение издателей, отобравших часть предложенных стихотворений для настоящего тома… Автор и его произведения представлены ныне на суд читателей; от их решения зависит, в конечном счете, их судьба; но как бы ни рассудила публика, не подлежит сомнению, что ни один поэт в нашей стране не выказал бо́льших способностей в обстоятельствах, столь враждебных их развитию…
III
Умелый ход Тейлора, разрекламировавшего Клэра как крестьянского поэта-самородка, а также его старания обеспечить благоприятные отзывы в печати сделали свое дело: эдинбургский журнал «Квартальное обозрение», который еще недавно вместе с «Блэквудс Мэгэзин» разгромил сочинения Китса, доброжелательно отозвался о стихах Джона Клэра. Книга имела успех, в течение года было продано более трех тысяч экземпляров. Для сравнения: книга Китса «Ламия, Изабелла, Канун Св. Агнессы и другие стихи», изданная тиражом в пятьсот экземпляров, расходилась двадцать лет, поэма Вордсворта «Прогулка» при том же тираже — семь лет. Впрочем, были популярные поэты, например, Вальтер Скотт, Джордж Байрон или Томас Мур, да и ряд других, ныне забытых, тиражи которых доходили до десяти тысяч экземпляров и более. Вообще, в этот период Англия переживала настоящий поэтический бум, пик которого пришелся как раз на 1820 год; позже читательский интерес к стихам резко упал… Итак, на какой-то срок Клэр сделался литературной сенсацией, в газетах чуть не ежедневно печатали хвалебные отзывы, он получал письма от читателей, в Хелпстон стали заезжать любопытствующие, бесцеремонно отрывая Клэра от дел и смущая разными досужими расспросами. В общем и целом, Клэр наслаждался успехом — но не гонорарами: их издатель выплачивал скупо, с натугой; более того, приличные меценатские пожертвования, поступившие для автора от разных лиц, он поместил в какую-то компанию под проценты, которые должны были регулярно поступать Клэру, обеспечивая ему и его семье минимальный доход: в 1820 году Клэр женился и через шесть лет у него уже было шестеро детей. На практике эти деньги доходили до него не всегда регулярно, а в какой-то момент маленькая сумма уменьшилась еще вдвое. Но Клэр был не такой человек, чтобы чего-то требовать или выяснять. Он мог лишь иногда, ссылаясь на отчаянное положение, просить Тейлора заплатить хоть малость из того, что ему причиталось, и терпеливо, месяцами, ждать ответа. В марте 1820 года состоялась первая поездка Клэра в Лондон. Он впервые увидел Темзу, Вестминстерское аббатство, театры, музеи, познакомился с многими литераторами, включая Джона Рейнольдса, друга Китса. С самим Китсом, в то время болевшим, повидаться не удалось. Вдогонку Клэру ушло письмо Тейлора от 16 марта: «Позавчера Китс зашел ко мне на обед в первый раз после своей болезни — Он очень огорчился, что не успел познакомиться с Вами — Когда я прочитал ему „Одиночество“, он заметил, что Описание у автора слишком перевешивает Чувство — Но не огорчайтесь — Если это и недостаток, то хороший недостаток». Мнение Китса о Клэре можно сравнить с мнением самого Клэра о Китсе из сохранившегося черновика его письма. Клэр признает, что описания природы у Китса бывают весьма изящны, но все-таки это взгляд горожанина, основанный больше на фантазии, чем на непосредственном наблюдении. Кроме того, говоря о лесах и полянах, он не может обойтись без нимф, дриад, фавнов и прочих фигур из древнегреческой мифологии, «за каждым розовым кустом у него притаилась Венера, за каждым лавровым деревцем — Аполлон». К сожалению, с Китсом они разминулись навсегда. И лишь впоследствии их портреты работы художника Уильяма Хилтона (Клэр позировал для него в те же мартовские дни) много лет висели рядом в Национальной портретной галерее.IV
Поражает, насколько портрет Хилтона не соответствует нашему представлению о «поэте-пахаре». Высокий лоб, мечтательный, устремленный к невидимой цели взгляд, длинные «артистические» волосы…[19] Могут сказать, что художник увидел и намеренно показал в Клэре именно поэта, а не крестьянина. Но и по письменным свидетельствам рисуется отнюдь не «мужицкий» образ. Простые, сдержанные манеры Клэра и мягкость его обращения отмечались многими. В его собственных письмах и в дневниках обнаруживается острая впечатлительность и ранимость: все в мире было для него источником муки или наслаждения. Бродя по полям в своей бедной крестьянской одежде, он выглядел, по словам одной женщины, «как переодетый аристократ» (снова вспомним «бедного Тома» в лохмотьях!). Недаром Чарльз Лэм в шутку называл его princely Clare, а также Clarissimus (от латинского «clarus» — «светлый, ясный», а также «славный, знаменитый»), что можно, используя ту же игру, перевести как «ясновельможный Клэр, Клариссимус». Клэр приезжал в Лондон всего четыре раза в жизни. Эти поездки приходятся на двадцатые годы — время процветания «Лондонского журнала», редактируемого Тейлором. В числе авторов были знаменитый критик Уильям Хэзлитт, эссеист Чарльз Лэм, автор «Очерков Элии», Джон Рейнольдс, Томас Гуд, Барри Корнуолл (Брайан Проктер) и другие известные литераторы. Клэр подружился с многими из них; они вместе гуляли по Лондону, навещали знакомых, участвовали в шумных писательских обедах, на которых блистали сам Лэм и другие «великие остроумцы», как их называл Джон Клэр. Вот характерная сценка из такого обеда, описанная пером талантливого поэта и журналиста Томаса Гуда[20].По правую руку Редактора сидит улыбающийся Элия со своим зорким взглядом — Проктер однажды заметил, что «от него не укроется иголка на полу» — и с таким же острым умом: будьте уверены, говорил Хэзлитт, что именно с этих запинающихся губ слетит лучший каламбур и лучшая шутка за все время обеда. Рядом с Элией, выделяясь изумрудной зеленью на фоне похоронных писательских костюмов, как грядка брюквы среди вспаханного под пар поля, гляньте! да это наш Зеленый Человечек — Джон Клэр! В своем травяного цвета сюртуке и желтом жилете (с бледно-зелеными ростками панталон под столом) он выглядит как настоящая весенняя Примула… Неудивительно, что лакей в ливрее и бриджах попытался загородить дорогу странному гостю, который из скромности поднимался по лестнице самым последним; впрочем, впоследствии лакей искупил свой промах, за обедом прислуживая исключительно нашему Пахарю, совершенно уверенный в том, что перед ним некий эксцентричный магнат или вельможа, нарядившийся Селянином… Но вернемся к столу. Элия, будучи в душе более Ягненком, чем он хотел бы признать[21], и неосознанно влекомый пасторальной зеленью, раз за разом обращается к Нортемптонширскому поэту с громогласными тостами, именуя его Клариссимусом и Клэром Великолепным, заставляя того вновь и вновь опускать глаза в свою кружку. Всем своим блаженным видом Хелпстонский житель изображает простака-деревенщину в обществе сливок писательского общества: Элии, Барри[22], Герберта[23], мистера Table Talk[24], и прочих…Впрочем, Клэр был вовсе не так прост. Его собственные воспоминания о Лондоне и портретные зарисовки тех же Рейнольдса, Лэма, Хэзлитта и других остры и независимы. «Деревенщина»? Деревенским в нем были лишь непосредственность и простодушие. Недаром Томас Гуд в своем словесном портрете поэта отмечает «изящное сложение, тонкость черт и нежный цвет лица, напоминающий скорее о Саде, чем о Пашне». Но наиболее точно и кратко общее впечатление от Клэра в Лондоне сформулировал Тейлор в частном письме: «От нас только что уехал Клэр… Он был прекрасным Гостем, может быть, только чересчур воодушевлявшимся от Стаканчика Эля — Он встречался со всеми нашими Литературными Знакомцами и установил добрые отношения со всеми. Он не умеет каламбурить, но зато обнаружил такой запас Здравого Смысла и в разговоре делал такие проницательные Замечания — притом, что его Суждения о Книгах были глубоки и серьезны, — что, каков бы ни был Предмет Беседы, его всегда было интересно слушать».
V
Клэра, как поэта, выбившегося из необразованных низов, зачастую сравнивают с Бёрнсом. Такое сравнение в корне неверно. Бёрнс принадлежал к классу фермеров, а Клэр — к самому низшему классу наемных сельских рабочих: между этими классами проходила резкая граница. По сути, фермеры стояли ближе к сквайрам, чем к той деревенской голытьбе без кола, без двора, откуда вышел Клэр, и, как правило, относились к этой голытьбе, из которой они нанимали себе батраков, с бо́льшим высокомерием, чем даже сельские сквайры. «Поэт-пахарь» Роберт Бёрнс получил вполне приличное образование, он учился философии, истории, физике, французскому языку и латыни. Батрак Джон Клэр не выучился даже грамотно писать; двадцать пять первых, самых важных лет он прожил в такой полной изоляции от всякой культурной среды, как если бы он был пленником замка Иф. Тяжелая работа от зари до зари не располагает к изящному, наоборот, она убивает всякую любознательность, всякую любовь к книгам и учению. То, что Клэр сумел сохранить в душе детское очарование поэзией, — чудо. Сродни десятилетиями лелеемой мечте узника о побеге. Он батрачил за гроши; урывками, втайне от всех, писал стихи и засовывал их в щель между кирпичами, которая казалась ему надежным тайником; но мать, приметив это, нередко брала несколько листков на растопку печи: так погибло большинство его ранних стихотворений. Одна природа была его сочувственницей. Только в одиночестве среди полей, ручьев и лесов он ощущал себя счастливым. Его стихи доказывают, что он любил все эти травинки и деревья, букашек и улиток, оттенки неба и облаков, самозабвенно и бескорыстно. В детстве, он, правда, как и другие мальчишки, разорял гнезда, но, повзрослев, только удивлялся им и мог часами следить за жизнью какого-то птичьего семейства. Чем дальше, тем больше он отвращался от любого насилия и жестокости. Когда в своем удивительном стихотворении «Барсук» (1830-е годы) он восстает против варварской английской забавы — травли барсуков собаками, — степень его сочувствия достигает полного отождествления: автор сам становится барсуком, сам отбивается от кровожадных врагов, ненавидит их, сражается до последнего и гибнет в неравном бою. Вообще-то, любовь к природе — не крестьянская черта. Природой обычно восхищаются горожане, дорвавшиеся до зелени и тишины (как Китс, например) или обеспеченные сельские жители, у которых довольно досуга (как Вордсворт, рисовавший ее идеальный образ «вдали от суетного света»). Даже у Роберта Бёрнса природа, в основном, служит фоном для лирического или обличительного монолога («К срезанной плугом маргаритке», «О подбитом зайце, проковылявшем мимо меня»). Джон Клэр поражает и обескураживает читателя отсутствием всякой морали. Он не обменивает своей любви к природе на откровение, как, например, Вордсворт. В его восхищении всеми формами жизни есть нечто буддийское — как сказали бы сегодня, «экологическое». Он просто смотрит и делится с нами радостью от увиденного.
Вот, скажем, начало стихотворения:
Вообще-то, любовь к природе — не крестьянская черта. Природой обычно восхищаются горожане, дорвавшиеся до зелени и тишины (как Китс, например) или обеспеченные сельские жители, у которых довольно досуга (как Вордсворт, рисовавший ее идеальный образ «вдали от суетного света»). Даже у Роберта Бёрнса природа, в основном, служит фоном для лирического или обличительного монолога («К срезанной плугом маргаритке», «О подбитом зайце, проковылявшем мимо меня»). Джон Клэр поражает и обескураживает читателя отсутствием всякой морали. Он не обменивает своей любви к природе на откровение, как, например, Вордсворт. В его восхищении всеми формами жизни есть нечто буддийское — как сказали бы сегодня, «экологическое». Он просто смотрит и делится с нами радостью от увиденного.
Вот, скажем, начало стихотворения:
VI
Второй сборник Клэра «Деревенский менестрель и другие стихотворения» вышел в конце 1821 года; он состоял большей частью из стихотворений, написанных в то время, пока готовился первый сборник. Отчасти в нем сказалось намерение автора сделать шаг навстречу тем, кто упрекал его за чрезмерную описательность, советовал «поднять глаза от земли» и «говорить о явлениях природы более философично». В результате получалось нечто более привычное, похожее на других поэтов-романтиков, например, на Вордсворта, — но все-таки не перепев; главная тематическая триада Клэра «природа — одиночество — детство» звучала у него по-своему:Джеймсу Огастасу Хесси
(«Сонет о сонете»)
VII
«Деревенский менестрель» был, в общем, благосклонно принят критиками, но прежнего успеха не имел — новизна пропала. Между тем Джон Тейлор, занятый журнальными заботами, уже прохладней относился к делам Клэра: со следующим сборником «Пастуший календарь» (1827) он проканителил несколько лет. Изменилась и литературная ситуация: поэтический бум 1815–1825 годов закончился, начиналось время прозы. То же самое происходило и в России с небольшим временны́м отставанием. Не случайно даже Пушкин в 1830-е годы все больше переходил на прозу и журналистику. Публика гонялась за интригующими новинками, в моде было гротескное, страшное или смешное: Барон Брамбеус, Гоголь с «Вечерами на хуторе», Одоевский с «Русскими ночами». В поэзии после смерти Пушкина и Лермонтова вплоть до середины пятидесятых годов установилась прочная пауза. Ситуация в Англии была сходная. К 1825 году Байрон, Китс и Шелли уже ушли из жизни; Кольридж и Вордсворт еще писали, но их лучший творческий период был давно позади; интерес публики к поэзии упал, и редкие светлячки стихов в журналах оставались почти незамеченными, пока в середине 1840-х годов их всех не затмила восходящая звезда Альфреда Теннисона. Между тем жизнь Клэра в Хелпстоне становилась все труднее. Семья с каждым годом увеличивалась; жить в двух комнатах, которые они арендовали, становилось невозможно; летом, особенно в сезон уборки, Клэр, как прежде, нанимался поденным работником в поле. Критики, убеждавшие его не оставлять сельских трудов, исходили из благих соображений: они хотели, чтобы он оставался «поэтом-пахарем», и, поощряя его поэтические труды, не могли одобрить его попыток вырваться за пределы сословных перегородок. Отношение даже сочувствующих ему друзей и покровителей было половинчатым: ему помогали, но до известных пределов, так сказать, с разумной умеренностью. Такое двойственное положение со временем становилось все более нестерпимым. Хуже всего было то, что в деревне Клэр был начисто лишен интеллектуального общения. При всей его любви к природе и одиноким прогулкам, жажда поделиться мыслями с равным собеседником была насущной, и она оставалась неудовлетворенной. Он вел обширную переписку, много читал и продолжал упорно, не давая себе передышки, работать над новыми стихами. Но тяготы и переутомление в конце концов сказались. Первый звонок прозвенел в 1823 году; по-видимому, это было нервное истощение, сопровождаемое разнообразными телесными симптомами; мы лишь знаем, что в письме к миссис Эммерсон он жаловался на «омертвение мозгов», «провалы памяти», «ухудшение зрения», «блуждающие боли» и «приступы озноба». В конце апреля следующего года Клэр в последний раз приезжает в Лондон. Его цель посоветоваться с доктором Дарлингом — врачом, которого ему рекомендовал Джеймс Хесси и который до этого лечил Китса, Хэзлитта и других литераторов. В Лондоне ему стало лучше. Не думаю, что помогло лечение — скорее, смена обстановки, общение с друзьями, которые старались его развлечь. Он, как ребенок, радовался новым впечатлениям. Например, поединкам между боксерскими знаменитостями в большом лондонском зале; ухваткам модного френолога, определяющего характер человека по форме и «шишкам» его головы (ср. пьесу Козьмы Пруткова «Черепослов, сиречь Френолог»); визиту к знаменитому художнику Томасу Лоренсу, очаровавшему Клэра своейлюбезностью; театральным вечерам и так далее. Кроме старых знакомых, он обзавелся новыми; назовем, в частности, Джона Бауринга, составителя и переводчика двухтомной антологии русской поэзии (1821; 1824), а также Чарльза Элтона, ученого-античника, переводчика Гесиода и Проперция. Элтон посвятил Клэру интересное стихотворение, опубликованное в «Лондонском журнале»: «Послание от безделья Джону Клэру». Оно содержит немало любопытного; в частности, Элтон с первой строки отговаривает Клэра от мыслей задержаться в Лондоне: «So loth, friend John, to quit the town?» — «Так значит, тебе неохота, дружище Джон, уезжать из города?» И далее, продолжая эту тему: «Я бы не стал на твоем месте жертвовать привычками простодушного детства, толкаться среди толпы и изнурять свой ум на обедах и ужинах, чтобы от шумных увеселений в конце концов зачахнуть и сгинуть»[25]. Далее Элтон утверждает, что почитатели Клэра сбивают его с толку, склоняя к подражанию устарелым образцам: «Они хвалят худшее в тебе; твое лучшее до сих пор неизвестно». Он упрекает публику в ханжестве: «Многие из них обременены скорбью и подозрениями! Им хотелось бы знать, как ты молишься, Клэр. Ты не лицемеришь, потому-то они таращат глаза и нюхом чуют вольнодумца; они умоляют тебя страшиться дьявола и клянутся, что ты попадешь в ад». Обратим внимание, что крестьянин Клэр — как и горожанин Китс, между прочим, — скептически относился к религиозным догмам. Отсюда, кстати, его расхождения с Вордсвортом, которого он, в целом, очень ценил: «Честно говоря мне не очень-то нравится его показная набожность в некоторых длинных вещах она порой становится невыносима». Как и Китс, он не терпел поэзии, имеющей «слишком очевидные намерения» по отношению к читателю. Добавлю еще несколько слов, чтобы расставить все точки над «i». Клэр не был атеистом, но он не выносил лицемерия священников и стадных путей к спасению, не любил, чтобы его пасли. «Одиночество и Бог для меня едины». Послание Элтона заканчивается обращением к их общему другу, бристольскому художнику Эдварду Риппинджилю с призывом нарисовать портрет Клэра: «Его кисть, мазок за мазком, изобразит твои задумчивые глаза с их упорным блеском, виски шекспировских линий, спокойную улыбку, твой здравый смысл и ум — прямой, без подвоха».VIII
Во время своего третьего приезда в Лондон Клэр стал очевидцем события, оказавшего на него незабываемое впечатление: похорон Байрона 14 июля 1824 года. Разумеется, Клэр читал в газетах о смерти поэта, но с похоронным кортежем встретился неожиданно. Шел в гости к кому-то по Оксфорд-стрит, увидел толпу, запрудившую тротуар. Толковали о каких-то похоронах, и по выражению лиц Клэр понял, что людьми владеет не просто досужее любопытство. Стоящая рядом девушка вздохнула и негромко воскликнула: «Бедный лорд Байрон!» «Я взглянул в лицо этой девушки оно было так печально и прекрасно в этот момент я мог влюбиться в нее за один этот вздох которым она почтила поэта он стоил больше чем все надутые хвалы в журналах и газетные выражения скорби… простые люди страны лучшие свидетели и пророки будущего они те вены и артерии которые питают сердце истинной славы дыхание вечности и душа времени запечатлены в этом пророчестве», — записал он позже в своем дневнике[26]. В эссе «О популярности», в других заметках для себя Клэр дает высокую оценку Байрону, хотя и достаточно взвешенную: он пишет, например, о том, что его греческая эпопея — «скорее актерство, чем геройство»; и тем не менее считает все грехи и недостатки поэта «пятнами на солнце»: «он приобщен к бессмертным и сияет как алмаз на фоне современной литературы». Пройдет десять лет, и помещенный в лечебницу Клэр объявит себя Байроном и станет сочинять новые песни «Чайльд-Гарольда» и «Дон Жуана»… В Хелпстон Клэр вернулся ненамного здоровее, чем был до отъезда. Тем не менее он продолжал упорно работать. В его голове роилось множество планов. Он писал стихи, дневники, критическую и очерковую прозу, брался за «Естественную историю Хелпстона», собирал и записывал народные песни, вел наблюдения за птицами: он был орнитологом-самоучкой, любил приручать птиц, в том числе, ястребов и галок. Его стихи о птичьих гнездах образуют большой цикл, который он мечтал опубликовать отдельной книгой; среди этих стихотворений есть замечательные, например, «Гнездо соловья», «Гнездо ворона»… Впрочем, замечателен и сам замысел.Птичьи гнезда
IX
Здесь будет уместно рассказать об одной проделке Клэра, на которую биографы обращают мало внимания, но которая мне кажется очень важной. Еще до выхода своего первого сборника Клэр увлекся поэзией XVI–XVII веков, и этот интерес, несмотря на скудость имеющихся в его распоряжении книг, с годами лишь усиливался. В январе 1824 года он послал редактору газеты «Радуга» в Шеффилде стихи под названием «Тщеты жизни» в сопровождении письма, в котором сообщал:Я скопировал эти строки с рукописного текста, записанного на чистых страницах старинной книги, озаглавленной «Сокровище Мира, Сборник отменных Советов на все Случаи Жизни в стихах и в прозе, отпечатанный для А. Бетсворта под вывеской красного Льва в Патерностер-лейн год 1720» они кажутся навеянными чтением этой книги и написаны в манере той компании среди которой я их нашел мне думается они не хуже многих других старинных стихотворений сохраняемых с куда большим тщанием и под таким впечатлением я решился послать их вам надеясь что они смогут найти приютный уголок и спастись от забвения в вашем занимательном литературном издании но если я опрометчиво переоценил достоинства этих стихов прошу меня простить за потерянное время и труды…Разумеется, все это, включая название книги, было чистейшей мистификацией. Но мистер Монтгомери, редактор, заглотал крючок и напечатал стихотворения на страницах «Радуги», тщательно воспроизведя историю их открытия по Клэру. Вдохновленный этим опытом, Клэр в последующие два года сочинил, разослал (подписываясь разными именами) и опубликовал в английских газетах журналах и другие «счастливые находки», в том числе «О смерти» Эндрю Марвелла, «Отвергнутую любовь» сэра Джона Харингтона, «Мысли на кладбище» Генри Уоттона, «Цыганскую песню» Томаса Дейвиса и «Попрекай или дразни» Джона Саклинга. В мае 1826 года, когда Монгомери решил включить «Тщеты жизни» в сборник религиозной поэзии и попросил разрешения взглянуть на рукопись, Клэр чистосердечно во всем сознался и так объяснил мотив своего «преступления»:
Я давно питал любовь к поэзии елизаветинской эпохи, хотя у меня никогда не было возможности познакомиться с ней глубже, чем позволяли узкие рамки «Английских песен» Ритсона, «Образцов» Эллиса и уолтонского «Рыболова»[27]; позапрошлой зимой, несмотря на сильную болезнь, я написал ряд стихотворений в этой манере, постаравшись воспроизвести ее как можно лучше, и намереваясь напечатать свои стихи под именем старых поэтов, хотя произведения некоторых из них я и в глаза не видел…[28]Надо сказать, что Клэр ввел в заблуждение не только Монтгомери; его подделки попали и в другие антологии, и даже через десять лет после его смерти, в 1873 году, в печати еще шел спор, подлинные это стихи или нет. Невольно вспоминаются «Сцены из Ченстоновой трагикомедии The covetous Knight», из которой Пушкин якобы перевел своего «Скупого рыцаря», дискуссия о которой до сих пор не смолкла. Литературные проказы были в духе того времени. Впрочем, для Клэра это было не просто мистификацией, но проявлением искренней очарованности поэзией той эпохи, о чем лучше всего свидетельствует запись в его «Дневнике» от 8 сентября 1824 года, которую можно назвать: «Сон наяву после чтения „Рыболова“ Уолтона». Клэр представляет себя на берегу реки в компании поэтов — «которым я недостоин и шнурки развязать на туфлях» — и тем не менее обходящихся с ним весьма любезно и запросто. Среди них Исаак Уолтон, сэр Генри Уоттон, сэр Уолтер Рэли, доктор Донн, Чарльз Коттон и Джордж Герберт. Некоторые из них декламируют отрывки из своих стихов, группка цыган напевает «Цыганскую песню» Фрэнка Дейвисона, — как вдруг брызнувший дождик заставил их поспешно смотать удочки и укрыться под сенью огромного сикомора, где прекрасная пейзанка, только что с сенокоса, спела им «нежнейшую из мелодий, сочиненных Китом Марло», после чего вся компания отправилась в таверну и провела ночь, предаваясь веселью и воспоминаниям. «Нежнейшей из мелодий» Кристофера Марло (1564–1593) может быть только его знаменитое стихотворение (сразу положенное на музыку) «Влюбленный пастух — своей возлюбленной»:
X
После выхода в свет «Пастушьего календаря» (1827) Тейлор окончательно отказался быть издателем Клэра: дескать, поэзия сделалась убыточной, печатайтесь, мой друг, в альманахах. После десятилетних напоминаний ему прислали наконец-то «финансовый отчет» от издательства, по которому выходило, что а) за три вышедших книги ему практически ничего не следовало и б) что он остался в долгу перед издателями. Клэр не терпел денежных тяжб, все его недоумения и обиды остались в черновиках писем, которые он так и не решился отправить. Лишь и некоторых строках дневника да в стихах прорывается его горькое разочарование в Тейлоре и других лондонских друзьях, которые, как ему казалось, бросили его, оставив терпеть бедствие на Хелпстонской мели. К этому времени относится его «Песня старика», в которой есть такие строки (в дословном переводе):Я не знал, что счастью моему придет конец, — пока, казалось бы, самые сердечные друзья не охладели ко мне, как солнце, которое высокомерно уклоняется от одинокой ночи. Мне не верилось в измену, ибо они не выказывали прямой вражды, а пылкая память напоминала мне об их прежней доброте. И вот я оглянулся и увидел, что все меня покинули, кроме собственной тени.Между тем в семье Клэра было уже десять человек, включая беспомощных родителей, а основным его доходом являлись дивиденды от капитала, собранного почитателями после издания первой книги («деньги от Фонда»). Эту мизерную сумму высылал ему тот же Тейлор. Долги росли. Здоровье Клэра было подорвано. Его лечили, как было принято в то время, кровопусканием, пиявками, жестокой (на хлебе и воде) диетой и так далее. Если эти средства окончательно не доконали больного, благодарить следует лишь его врожденную крестьянскую живучесть, а не докторов. Но едва чуть-чуть отпускало, как он снова брался за стихи и прозу, и снова ему приходилось барахтаться в море разнообразных житейских забот. Глубокая меланхолия становилась фоном жизни поэта, созданного для радости, умеющего извлекать ее крупицы из самой невзрачной жизненной руды. Дважды подряд в своих письмах он цитирует горькую мудрость Соломона: «Сын мой, лучше умереть, чем быть бедным». После того как иллюзии литературных заработков испарились, единственной надеждой стало получение в аренду дома с небольшим участком, чтобы кормиться от земли крестьянским трудом. Спустя несколько лет обращений к местным землевладельцам, обещаний и проволочек его покровителям удалось найти подходящий дом в деревне Нортборо, неподалеку от Хелпстона. Местность вокруг была менее лесистой, проще говоря, вокруг простиралась болотистая равнина, но сама деревня была красивой и обсаженной деревьями. Дом под соломенной крышей делился на шесть комнат, включая три спальни, просторную кухню и кабинет Клэра, за домом был огород и сад, в котором Клэр высадил множество яблонь, груш, кустарников и цветов, к саду примыкал выгон для двух коров. По сравнению с хелпстонскими условиями это был просто дворец. И тем не менее переезд для Клэра сделался причиной глубокой депрессии, которую нетрудно объяснить. Его тоска по старому месту была, в сущности, тоской по прошлому. Ему не хватало знакомых деревьев, на которые он привешивал качели, вороньих гнезд на сосне. В стихотворении «Воспоминания» он перечисляет все милые названия детства, всю эту звучащую географию утраченной страны: Опушка Лэнгли, Футбольная Лужайка, Звенящий Ручей, Холодный Холм, Лягушачий Затон, Круглый Дуб… Нужно еще знать, какое значение Клэр придавал понятию «самости» («identity»). Утратив то, что его окружало, он испугался, что может потерять самого себя. Для поэта такой чуткости и ранимости всякая чужбина (пусть даже расположенная в нескольких милях от родного дома) есть инобытие, всякое переселение — репетиция смерти. Он запаниковал — так ничтожно мало еще сделано для бессмертия. И тогда ему снова начали сниться сны о Мэри Джойс.
XI
Голубоглазая девочка, «самая молчаливая и благонравная в школе», она была на четыре года его младше. Но разница, должно быть, не бросалась в глаза, потому что Клэр всегда был невысокого роста (как и Китс, который стеснялся танцевать, оттого что был коротышкой). Они гуляли и играли вместе и болтали о том, о чем болтают дети за игрой, но он вспоминает в автобиографических записках, как внезапно холодело и трепетало его сердце, когда он касался руки Мэри. Потом он перестал ходить в школу в Глинтон и не видел ее несколько лет. Они снова встретились в Мартынов день на деревенских посиделках. Играли в фанты. Она раз за разом выбирала его и, краснея, платила штраф поцелуем. Они стали часто встречаться. Ему было уже семнадцать, а ей в ту зиму только исполнилось тринадцать — по деревенским понятиям, девушка, почти невеста (да и по веронским — тоже). Но она была дочерью фермера, а он — нищим батраком без ясного будущего, а значит — ей не пара. Он все больше думал об этом, и ему казалось, что она думает о том же. Все его стихи к ней остались утаенными, романтические признания невысказанными. Их свидания, прогулки по весенним полям и дорогам постепенно сошли на нет. Ему нужно было что-то делать ради хлеба насущного, искать работу, постоянное место. После 1816 года, они, кажется, больше совсем не встречались. Но Мэри осталась в его стихах, в его воспоминаниях. Чтобы не обижать Пэтти, он старался не упоминать в стихах имени своей первой любви, скрывая его за тремя звездочками. Но утаенное чувство продолжало жить в нем. И настало время, когда оно его спасло. Погубило и спасло. Тогда, в Нортборо, он очутился на распутье. Можно было оставить «поэтическую блажь» и попытаться стать просто крестьянином. В сущности, у него не было другого выхода. Он устал жить на ничтожные подачки, которые никак не покрывали расходов семьи. Батрацкий сын, отравившийся в юности стихами, он жил как сомнамбула, стремящийся к одной недостижимой цели. Он сам понимал неуместность, раздвоенность своей жизни.Когда бы все люди чувствовали, как я, человечество не могло бы существовать — зелень полей лежала бы нераспаханной, деревья не рубили бы на дрова или на мебель и люди сохраняли бы мир таким, каким они нашли его в детстве, до самой своей смерти.Поразительно, но здесь почти дословное совпадение с Пушкиным (хотя и несколько другая мотивация): «Когда бы все так чувствовали силу / Гармонии! но нет: тогда б не мог / И мир существовать; никто б не стал / Заботиться о нуждах низкой жизни; / Все предались бы вольному искусству» («Моцарт и Сальери»). Клэр не мог предаться вольному искусству как «праздный счастливец»; но он не мог и предать триединый идеал, к которому тянулся с юности: красоты, бессмертия, поэзии. Мэри Джойс явилась к нему как воплощение этого идеала: призрачная опора, ангел-хранитель его снов и яви. Он вспоминает и записывает в дневник давний сон, приснившийся ему еще тогда, когда он не напечатал ни строчки стихов. Она предстала перед ним, улыбаясь своей завораживающей улыбкой, вызвала из дому и повела его на поле, называемое Хилли Сноу. Вокруг было множество народа, дамы в пышных платьях, какие-то солдаты верхами, упражнявшиеся в сабельных приемах, толпа кишела, как на ярмарке. Он поразился своей малости в этой толпе и смущенно спросил ее, зачем она позвала его в это огромное скопище людей, когда его единственное желание и радость — быть в одиночестве со своими мыслями. «Ты лишь один из этой толпы», — произнесла она и быстро повела его прочь. В следующий момент они оказались в городе, в книжной лавке, и там, на одной из полок он увидел три тома со своим именем на переплете. Он недоуменно оглянулся на нее — и проснулся. Другой сон, который он записал, был как бы видением Судного дня: много людей, спешащих по улице в сторону церкви, неестественный цвет неба и солнце, светящее каким-то лихорадочным, «лунным» блеском. В переполненном людьми храме она оказалась рядом — облаченная в белые одежды, как ангел-хранитель. Из угла часовни струился таинственный свет, оттуда должен был прозвучать окончательный приговор всему, что человек совершил на земле. Он услышал свое имя — и в этот миг «водительница моя улыбнулась озаренная радостью и губы ее прорекли что-то такое отчего мое сердце исполнилось спокойствием и счастьем…»
Я проснулся под звуки тихой музыки переполненный отрадой и печалью и продолжал говорить с ней наяву как будто она все еще склонялась надо мной — Эти грезы в которых она присутствовала как прекрасное женское божество подарили мне представление о возвышенной небесной красоте, и ее приходы ночь за ночью оставили такие яркие следы в моей памяти — божественные отпечатки снов — что я не мог больше сомневаться в ее существовании…
XII
Не следует преувеличивать наивности Клэра, его «литературного целомудрия». Разумеется, за этими снами стоят великие литературные прототипы, прежде всего Данте, автор «Новой жизни» и «Божественной комедии», певец Беатриче. Его венчанная жена Джемма ни разу не упоминается в его произведениях. Заметим, кстати, что Данте впервые увидел Беатриче, когда той было девять лет — почти как Мэри Джойс в год ее встречи с Клэром. Ангельское очарование детства несомненно отразилось на сакрализации образа возлюбленной у обоих поэтов: первое впечатление — самое сильное. Можно вспомнить и Петрарку, и — ближе — Китса с его пророческими снами. Так в «Оде Праздности» (1819) перед мысленным взором поэта проходят три символические фигуры: Любви, Честолюбия и Поэзии. В пароксизме тоски и безволия он гонит их из своей жизни и навеки прощается с этими тревожащими, демонскими образами:: «Прочь, тени, прочь из памяти моей / В край миражей, в обитель облаков!» Напрасно: Китс был не в силах изгнать из памяти эту триаду — любовь, поэзию и жажду славы. Он тоже нуждался в поддержке, в женственном воплощении своего идеала; но Фанни Брон была слишком живой, слишком земной женщиной для того, чтобы соответствовать этому тройному образу. Клэру было «проще»: Мэри Джойс уже давно перешла из плана реального в реальнейший, то есть идеальный. Став символом тоски и утраты, она утвердила свое место рядом с ним и в трудную минуту вдохнула в него силу сопротивления судьбе. Она стала его музой, ангелом-хранителем его дней и ночей; удивительно ли, что со временем он стал считать ее своей первой женой? В 1835 году вышел последний, изданный по подписке сборник Джона Клэра «Сельская муза». Это было навязанное ему название, оригинальная рукопись Клэра называлась The Midsummer Cushion — «Летний коврик»; был такой старинный крестьянский обычай — вносить в дом вырезанный на лугу кусок дерна с цветами и украшать им комнату как ковриком. Последовало несколько благожелательных рецензий, несколько добрых писем от старых и новых знакомых — и все. И глухая безнадежность опять сомкнулась над ним.Возьмите 3 унции растолченных дубильных орешков поместите в полторы пинты дождевой воды дайте постоять три дня добавьте полторы унции позеленевшей меди и кусочек медного купороса и встряхивайте каждый день перед употреблением.
Этими «ужасными» чернилами он писал стихи о бродягах и отверженных, о живущих в лесу «одиноких испуганных тварях» (выражение Шеймаса Хини): птахах, ежах, зайцах, барсуках… В этих стихах все больше напряжения и тревоги, все меньше проблесков безмятежной радости. Клэра опять донимает депрессия. Письмо доктору Дарлингу в Лондон поражает беспомощностью, почти отчаянием:
я очень болен не могу описать что я чувствую но попытаюсь как смог у — любые звуки сделались мне невыносимы разные мысли хорошие и плохие беспрестанно кружатся в моем мозгу я не могу спать по ночам лежу с открытыми глазами и чувствую холод пробегающий по телу и вижу какие-то кошмары наяву прошлая ночь не принесла мне никакого облегчения…Обратите внимание на фразу о невыносимости любых звуков. Она объясняет начало стихотворения, которое по-английски начинается словами «I hid ту love» — в частности, строку о «мушином звоне». Это стихотворение, наверное, одно из лучших в любовной лирике Клэра:
XIII
В ноябре 1836 года в Нортборо неожиданно заявился Джон Тейлор. Он привез с собой доктора для освидетельствования здоровья Клэра. По словам самого Тейлора, Клэр выглядел, как обычно, разумно отвечал на все вопросы, смеялся, вспоминая смешные происшествия в Лондоне. Лишь иногда что-то невнятно бормотал себе под нос. Если прислушаться, можно было расслышать нечто вроде: «боже спаси», «боже оборони докторов»… То ли «докторов», то ли «от докторов» — Тейлор не понял. Однако он сделал вывод, что разум Клэра пошатнулся. Приезжий врач был того же мнения и рекомендовал поместить Клэра в лечебницу. Тейлор сразу же нанес визит местному пастору Чарльзу Моссопу, который обещал переговорить с графом Уильямсом (чьим арендатором был Клэр) о больнице. Что-то в этой истории остается для меня не совсем ясным. Прежде всего, по чьей инициативе возник вопрос о медицинском освидетельствовании? Не мог ли в этом с самого начала участвовать преподобный пастор Моссоп или, может быть, сама Пэтти Клэр? Последнее представляется вполне вероятным. Ясно, что у Пэтти накопилось немало поводов для недовольства своим мужем. Работником он был никудышным, постоянно то болел, то хандрил, то чудил, то писал свои бесконечные вирши, от которых шло одно расстройство. Правда, он нежно любил детей (у них было три сына и четыре дочери), заботился об их образовании, выписывал и доставал для них самые лучшие и полезные книги. Согласно семейному преданию, он не мог видеть, как детей наказывали, и порой, когда Пэтти сгоряча пыталась вздуть кого-то из них, предлагал, чтобы взамен вздули его самого. И все-таки он, со всеми своими странностями и непонятными хворями, мог казаться обузой. Человек, занимающийся бесполезным и неприбыльным делом, в крестьянской среде всегда считался ненормальным. (Впрочем, не только в крестьянской и не только в те времена.) Пэтти никогда не понимала занятий мужа, зато она была сильной и энергичной женщиной. Она терпела его стихописание, пока оно не стало совсем гиблым делом. К тому же, в последнее время Клэр явно рехнулся, вообразив, что у него две жены: Мэри Джойс, которой он не видел уже двадцать лет, и она, Пэтти. Не всякая женщина такое выдержит. Говорили еще о пьянстве Клэра. Но это, по-видимому, было злостной сплетней. Он мог выпить и даже немного пошуметь — но пьяницей не был, тем более, буйным. Ни в молодости, ни в зрелые годы, ни в старости. Это мы знаем точно, ведь более двадцати пяти лет Клэр провел в больницах, под наблюдением врачей, внимательно следивших за его поведением. Итак, Тейлор условился с преподобным Моссоном, что тот обратится с графу Уильямсу по поводу Клэра. Пока граф думал (а в те времена лорды думали неспешно), миновало несколько месяцев, и тем временем в голову Тейлора пришла удачная мысль. Незадолго до этого он напечатал книгу известного врача-психиатра Мэтью Алена «Опыт классификации душевнобольных». При очередной встрече он переговорил с ним. Под покровом глубокой секретности были сделаны все нужные приготовления. Наконец, в июне 1837 года посланец доктора Алена появился в Нортборо. При нем была записка Клэру от Джона Тейлора, в которой говорилось: «Податель сего привезет Вас в Лондон. Положитесь на него полностью… Вам будет оказана полная медицинская помощь неподалеку от города, которая вас совершенно исцелит». Через несколько дней Клэр находился уже за восемьдесят миль от своего дома, в местечке Хай-Бич возле Эппинг-парка, к северу от Лондона, где располагалась частная психиатрическая лечебница доктора Алена.XIV
Здесь я хотел бы поделиться с читателями некоторыми собственными соображениями, может быть, и неверными — ведь я не специалист. Я думаю, что большая часть так называемых душевных расстройств имеет не физиологический, а социальный характер — и в смысле причин, и в смысле симптомов. Бедняка, окруженного голодной семьей и погруженного при этом в мечты стихотворства, безусловно сочтут сумасшедшим. Поместите этого же человека в барский дом, снабдите деньгами и штатом слуг — никому и в голову не придет объявить его больным, любые его эксцентричности будут трактоваться как милые чудачества. Да и откуда взяться депрессии при хорошей жизни? Другое дело, если человек посвящает себя неустанному поэтическому труду, одновременно преодолевая собственное невежество, борясь с отчаянной нуждой и сопротивлением косной, равнодушной среды. Такое давление прогнет любую душу. Но вспомним, как быстро проходили многие скорби и болезни Клэра, едва его пригревало солнце удачи, дружества и счастливого рассеянья от забот. В Хай-Бич, после неизбежного первого шока, он должен был почувствовать облегчение: лечебница доктора Алена дала ему передышку. Отметим, что это было одно из самых передовых заведений такого рода в Англии. В стране, где еще недавно понятие «сумасшедший» ассоциировалось с цепями и плетьми Бедлама, Алену удалось создать нечто вроде семейного пансиона для душевнобольных, где врач со своими подопечными жили в одном большом доме как добрые соседи, где устраивались игры, танцы и всевозможные совместные развлечения. Клэр получил полную возможность свободно гулять по окрестным полям и лесам («красивее природы я не видывал в жизни», — писал он домой), сочинять стихи, сколько вздумается, и не беспокоиться о хлебе насущном. Его физическое здоровье намного улучшилось, душевное настроение внешне успокоилось. Но именно здесь, в Хай-Бич, у Клэра развились некие странности, которые биографы называют «маниями». Здесь он стал писать «Чайльд-Гарольда» и «Дон Жуана» размером Байрона, причем в записных книжках сохранились наброски объявлений такого типа:В ближайшее время будет напечатано —Отметим, что если сатирические фрагменты «Дон Жуана» Клэра грубоваты и малоудачны, то «Чайльд-Гарольд», написанный спенсеровой строфой с многочисленными вставными стихотворениями и песнями, принадлежит к числу замечательных произведений Клэра. От Байрона в нем принцип построения и свободная манера лирического изложения, все же остальное — совершенно клэровское, оригинальное. Называть эти вещи доказательствами «мании» или «отождествления себя с Байроном», на мой взгляд, рискованно. Продолжения «Дон Жуана» писались многими (одно такое издание имелось в библиотеке Клэра), как писались продолжения и других знаменитых произведений мировой литературы. Как мы уже говорили, для романтической эпохи были весьма характерны всевозможные литературные «игры в прятки»; Клэр к тому времени уже испробовал свое перо на сочинении «неизвестных стихотворений» Эндрю Марвелла и других старинных поэтов. Разумеется, стилизация или подражание включает в себя элемент самоотождествления с иным автором, но говорить о «мании величия» здесь вряд ли стоит — иначе следует признать «маньяками», например, всех переводчиков. Не стоит забывать, что кроме понятия «мания» есть еще понятие «маски». Николай Гумилев писал, что искусство творить поэтические маски есть часть искусства творить стихи вообще. При этом «число и разнообразие масок указывает на значительность поэта…» Мне кажется, что дух игры, актерства был вообще развит в Клэре. Когда ему навязали определенную роль, он почувствовал искушение испытать ее, проверить, насколько далеко простираются привилегии безумца. Кроме того, попав в сумасшедший дом (а жизнь в таком месте не сахар, сколь бы передовым оно ни было), он использовал маску не только для игры, но и для защиты своего внутреннего «я». Заметим, что такая линия поведения имеет длинную и почтенную традицию в английской литературе, начиная с «Гамлета». Те две-три постоянных мании, о которых пишут биографы, были скорее сознательными масками или ролями Клэра. Роль Байрона укрепляла в нем чувство свободы и поэтической раскрепощенности. Роль Боксера (он вспомнил виденные им в Лондоне бои) давала возможность сбросить излишек обид, постепенно накапливавшихся в изоляции. Порой ему казалось, как затравленному барсуку, что на него накинулись все собаки мира. «Он вдвое меньше этих бестий злых / Но бьется насмерть, побеждая их!»[29] В одной из записных книжек мы находим запись, которую можно рассматривать как свидетельство навязчивого бреда, а можно — как патетический монолог, сыгранный на воображаемой сцене.
Новый том стихотворений лорда Байрона доныне не собранных включая новые главы Чайльд-Гарольда песни, фрагменты etc.
Вызов Джека Рэнделла Всему Миру
XV
Доктор Ален и сам полагал, что болезнь Клэра не носит органического характера и что если бы он мог вернуться к семье и дому, но без подтачивающих его здоровье ужасных условий прежних лет, полное выздоровление было бы почти гарантировано. В лондонских газетах был объявлен сбор благотворительных средств: если бы удалось собрать 500 фунтов, это подняло бы доход Клэра до 60 фунтов в год и избавило его семью от нищеты. Последовало несколько пожертвований, из которых самым щедрым было от королевы-матери (20 фунтов), но общая сумма оказалась слишком мала для обозначенной цели; по-видимому, она вся ушла на оплату пребывания Клэра в лечебнице. Тем временем Клэр все больше и больше тосковал по дому. Примечательны два письма 1841 года: к Пэтти Клэр и Мэри Джойс, первое — отправленное, второе — оставшееся в форме черновика, — две мольбы о помощи, путаных и противоречивых. «…Я Жму Руку Злосчастью И Обнимаюсь С Грозой Весна Улыбается И Я Должен Улыбаться Но Не прежде Чем Я Покину Это Место <…> Я предпочту Сносить Невзгоды В Одиночку Чем Обременять Ими Других Я Вернусь В Нортборо Как Только Меня Сменят С Караула Эссекс Прекрасное Графство Но „Дома Лучше“ Береги Детей И Пусть Они Водятся С Хорошими Товарищами Тогда Они Будут Не Только Здоровы Но И Счастливы Не Знаю Почему Меня Держат Здесь Я Вполне Здоров По Крайней Мере Уже Два Года Да И Никогда Не Был Слишком Болен Лишь Обременен Беспрестанными Заботами Но Меня Удерживают Здесь Год За Годом Должно Быть Я Обречен Такой Судьбе Лучше Бы Меня Бросили В Трюм Невольничьего Корабля И Отправили В Африку», — пишет он Пэтти[31]. А черновик письма Мэри Джойс начинается так:Моя дорогая Жена Мэри Я мог бы сказать моя первая жена и первая любовь и первое всё — но я никогда не забуду мою вторую жену и вторую любовь ибо когда-то я любил ее так же сильно как тебя — и до сих пор почти так же люблю — поэтому я решил вовек не покидать вас обеих — когда я пишу тебе я пишу и ей в то же самое время и в том же самом письме…А заканчивается обещанием скорого свидания с обеими женами:
…поцелуй своих милых детей и передай им привет от пропавшего отца а также детей Пэтти и скажи Пэтти что ее муж остался таким же, каким был в день свадьбы двадцать лет назад сердцем и душой — Благослови Бог вас обеих со всеми семействами будьте здоровы и счастливы потому что я скоро с помощью божьей снова буду дома со всеми вами — моя любовь к тебе милая Мэри не изменилась а лишь возросла в разлуке…Тем же летом 1841 года Клэр бежал из Хай-Бича.
XVI
Сперва он рассчитывал на цыган, которые обещали спрятать его в своем лагере и показать дорогу на север, в Нортгемптоншир, но цыгане неожиданно исчезли. Промаявшись ожиданием два дня, он решился обойтись без их помощи и выступил в путь самостоятельно. При нем не было ни гроша, ни еды в дорогу, лишь трубка, табак в кисете и надежда дойти. Он ночует, где придется — на чужом сеновале, на голой земле, в канаве, мерзнет и дрогнет, четыре дня и три ночи обходится без куска хлеба, ест траву, жует табак, когда кончаются спички, сбивает ноги, выбивается из последних сил, но добирается до цели. По пути он ведет краткие записи, по которым в первые дни своего возвращения составляет подробный отчет о побеге и о восьмидесятимильном походе через четыре графства. Он и здесь играет в мальчишечьи игры: то руководит сам собой как полководец, то, как капитан, фиксирует в бортовом журнале новые острова и их обитателей.20 июля Сегодня разведал дорогу указанную мне Цыганом и нашел ее пригодной для передвижения своей армии из одного человека вооружился мужеством и двинулся в поход мои верные войска последовали за мной однако из-за небрежно проложенного маршрута я пропустил дорогу ведущую в Энфилд и маршировал по большаку пока не поравнялся с трактиром «Пустые хлопоты» здесь мне повстречался только что вышедший из трактира знакомый подсказавший верное направление <…> 21 июля Когда я проснулся было уже светло и боясь как бы мой гарнизон не был взят внезапным штурмом и захвачен в плен я оставил свое пристанище возблагодарив Бога предоставившего его мне (ибо в голодный год что-то лучше чем ничего и любое место дающее отдых усталому путнику благо) и отправился по дороге на север искусно лавируя между полей и деревушек…
На четвертый день пути он наконец добрался до Питерборо, где встретил знакомых крестьян из Хелпстона, возвращающихся домой. Они дали ему несколько пенсов, на которые он перекусил в ближайшем трактире. Они же, по-видимому, сообщили Пэтти новость — она встретила его за четыре мили от Нортборо на телеге с лошадью. Сначала он ее не узнал и даже отказывался сесть в телегу. По этому поводу биограф Клэра глубокомысленно замечает, что «отношения с самыми близкими родственниками бывают труднее всего для душевнобольных». А может быть, дело обстоит проще и перед нами всего лишь была поэтическая драматизация момента возвращения, сымпровизированная Клэром? Прошло столько лет, что Пенелопа не узнаёт Одиссея (или Одиссей Пенелопу).
XVII
И вот после восьмидесятимильного голодного похода Клэр снова дома, так сказать, в кругу семьи. Три дня он пишет свои дорожные записки, ставит дату — 27 июля 1841 года — и в той же тетради начинает письмо к Мэри Джойс:Моя дорогая Жена, Я сочинил отчет о своем путешествии или точнее сказать бегстве из Эссекса ради того чтобы ты могла развлечься на досуге — Мне следовало раньше сообщить тебе что я еще в пятницу вечером вернулся в Нортборо но не видя тебя и ничего о тебе не слыша я скоро почувствовал себя бездомным в своем доме и безнадежно несчастным — хотя и не таким одиноким как в Эссексе потому что отсюда я все-таки вижу шпиль Глинтонской церкви и чувствую что моя Мэри близко… и хотя мой дом мне больше не дом но есть еще надежда пока память о Мэри живет рядом со мной…Сохранился и черновик его письма к доктору Алену, в котором он объясняет свой побег: «…я могу сносно жить в любом положении и в любом месте хотя бы и в вашем доме возле леса если бы друзья порой вспоминали обо мне и навещали меня — но самое нестерпимое в таких местах как ваше это тупые служители и санитары которые порою так помыкали мною как будто я был их узником я смирялся с этим по своей нелюбви к ссорам но в конце концов слишком устал от всего и услышав голос свободы повиновался ему…»
 Кончилось лето и настала осень 1841 года — последняя осень Клэра на свободе. Наши сведения об этих месяцах довольно скудны. Мы знаем только, что Клэр работал над окончанием «Чайльд-Гарольда» и, по-видимому, был весь углублен в стихи и чтение — в то время, как за его спиной шли переговоры о его дальнейшей судьбе. Тейлор писал доктору Алену, что, по мнению доктора Дарлинга, Клэр мог бы оставаться дома. В ответном письме Ален сообщает, что Пэтти находит состояние мужа намного лучше и согласна оставить его на испытательный срок. Ален был готов, если Клэру станет хуже, снова принять его у себя в Хай-Биче.
Далее все неожиданно и необъяснимо катится под горку. В декабре 1841 года — неизвестно, по чьему вызову — в Нортборо прибывают двое местных врачей, Фенвик Скримшир из городской больницы Питерборо и Уильям Пейдж. Они составляют свидетельство о душевной болезни Клэра. В нем утверждалось, в частности, что болезнь носит наследственный характер(никаких подтверждений тому не найдено до сих пор!), что последнее «обострение» случилось четыре года назад, и особо подчеркивался факт его бегства из лечебницы доктора Алена. В то же время признавалось, что никаких агрессивностей по отношению к окружающим или к себе Клэр не проявлял, что поведение его не обнаруживало «слабоумия, озлобления или неопрятности». На обязательный для таких свидетельств вопрос, «какие жестокие потрясения или длительные умственные напряжения» могли привести к умопомешательству, врачи ни словом не упомянули бедность, одиночество, обманутые надежды, острую душевную ранимость. Причиной болезни медики назвали «многолетнее пристрастие к стихописанию».
С таким веселым диагнозом Клэр был отправлен в Нортгемптонскую общую лечебницу для душевнобольных. 29 декабря 1841 года за Клэром приехали санитары. На этот раз его волокли насильно, он громко протестовал и вырывался.
За пребывание в больнице (около десяти шиллингов в неделю — такса для неимущих) согласился платить местный землевладелец лорд Фицвильямс.
Кончилось лето и настала осень 1841 года — последняя осень Клэра на свободе. Наши сведения об этих месяцах довольно скудны. Мы знаем только, что Клэр работал над окончанием «Чайльд-Гарольда» и, по-видимому, был весь углублен в стихи и чтение — в то время, как за его спиной шли переговоры о его дальнейшей судьбе. Тейлор писал доктору Алену, что, по мнению доктора Дарлинга, Клэр мог бы оставаться дома. В ответном письме Ален сообщает, что Пэтти находит состояние мужа намного лучше и согласна оставить его на испытательный срок. Ален был готов, если Клэру станет хуже, снова принять его у себя в Хай-Биче.
Далее все неожиданно и необъяснимо катится под горку. В декабре 1841 года — неизвестно, по чьему вызову — в Нортборо прибывают двое местных врачей, Фенвик Скримшир из городской больницы Питерборо и Уильям Пейдж. Они составляют свидетельство о душевной болезни Клэра. В нем утверждалось, в частности, что болезнь носит наследственный характер(никаких подтверждений тому не найдено до сих пор!), что последнее «обострение» случилось четыре года назад, и особо подчеркивался факт его бегства из лечебницы доктора Алена. В то же время признавалось, что никаких агрессивностей по отношению к окружающим или к себе Клэр не проявлял, что поведение его не обнаруживало «слабоумия, озлобления или неопрятности». На обязательный для таких свидетельств вопрос, «какие жестокие потрясения или длительные умственные напряжения» могли привести к умопомешательству, врачи ни словом не упомянули бедность, одиночество, обманутые надежды, острую душевную ранимость. Причиной болезни медики назвали «многолетнее пристрастие к стихописанию».
С таким веселым диагнозом Клэр был отправлен в Нортгемптонскую общую лечебницу для душевнобольных. 29 декабря 1841 года за Клэром приехали санитары. На этот раз его волокли насильно, он громко протестовал и вырывался.
За пребывание в больнице (около десяти шиллингов в неделю — такса для неимущих) согласился платить местный землевладелец лорд Фицвильямс.
XVIII
Директором Нортгемптонской лечебницы в 1841–1854 годах был Томас Причард, человек по своему передовых взглядов в психиатрии. Как и доктор Ален, он не применял примитивно жестоких методов, чтобы укрощать своих больных. У него были свои подходы. Сей, по мнению некоторых современников, полубезумный эскулап настолько верил в превосходство своей воли над волей пациентов, что предпочитал воздействовать на них месмерически, даже на расстоянии. Те больные, которых он классифицировал как «неопасных», получали значительную свободу: они могли бродить без опеки в окрестностях больницы, а также ходить в Нортгемптон, до которого была всего миля пути. Клэр сразу попал в «безвредные» и, несмотря на числящийся за ним «побег», получил разрешение свободно гулять и ходить в город когда вздумается. Там, под каменным портиком церкви Всех Святых он, бывало, проводил целые часы. Горожане любили его и нередко подносили стаканчик пива или пару унций табака. За это он мог расплатиться стихами, которые на ходу сочинял. По городу ходило множество его шутейных, питейных, галантных и сатирических экспромтов; все они со временем затерялись и пропали. Доктор Причард полагал, что, несмотря на укрепившееся физическое здоровье, в умственном плане Клэр постепенно деградирует и его безусловно ждет полное слабоумие. Доктор Причард ошибался. Редкие посетители, видевшие Клэра в 1840-х и 1850-х годах, отмечают его здравые разговоры о литературе, удивительную память и живое воображение: он умел рассказать о казни Карла I, о Битве у пирамид или о смерти Нельсона так, как будто он сам был очевидцем этих событий. При этом он мог в разговоре с тем же посетителем процитировать стихи Байрона или Шекспира (или любого другого поэта) как свои, а на недоуменный вопрос собеседника ответить: «Да-да, я именно он и есть; просто меня порой называют Шекспиром, порой Байроном, порой Клэром». Ваша воля принимать эти слова буквально; на мой взгляд они не более безумны, чем многое другое, что говорят поэты или (например) во что верят последователи Будды. Казалось бы, привычка писать легкие стихи для милосердных самаритян, угощавших его в трактире, а также для самаритянок, с которыми он входил в какие-то загадочные отношения (женские лица всегда волновали его, и Мэри Джойс, его «небесная» любовь, была не помехой для мадригалов земным красоткам), казалось бы, эта профанация своего поэтического дара должна была привести к его вырождению и угасанию. И однако именно тогда, в сумасшедшем доме, ему удалось выйти на новый уровень письма и создать несколько удивительных по своей пронзительности стихотворений. Так иногда бывает у поэтов, потерявших друзей, потерявших читателей (вспомним хотя бы Петра Вяземского в старости), и, вне зависимости от обстоятельств, каждый раз — это пример верности музам и крепкой веры в поэтическое бессмертие. Клэру было суждено провести в Нортгемптонской больнице целых двадцать три года. Я думаю, с годами ему становилось все страшнее и тяжелее, но он не позволял себе показывать это, чтобы окончательно не сойти с ума. Время от времени он писал детям и в ответ получал короткие ничего не значащие записки с приветами от родных и знакомых. Почти в каждом из его писем, ровных и спокойных, найдется одна неловко торчащая, ни к селу ни к городу вставленная фраза: «в гостях хорошо, а дома лучше». Лишь иногда в письмах к Пэтти слышится безнадежное: возьми меня из этого ада, из этой земли Содомской.— это английская Бастилия правительственная тюрьма где невинные люди томятся и мучатся пока не умрут — Английское жречество и английское рабство более свирепо чем рабство Египетское и Африканское когда сын страны в свои мужественные годы заперт и лживым обманом разлучен с лучшими мыслями своего детства — не смея обнаружить свою память о доме и любовь к близким — пребывая в мире как в темнице в отлучении от всех своих друзей —Я хочу, чтобы читатель на этом месте сделал вдох, чтобы читать дальше:
— и все-таки Правда лучший товарищ ибо она сносит все перегородки лжи и притворства — Правда входит ли она на Ринг или в Палаты Правосудия выдвигает простого Человека которого не испугать призраками громких слов полных ярости но ничего не значащих… — честный человек разоблачает мерзких жрецов этих лжецов и подлых трусов позорящих Христианство — я ненавижу и презираю этих трусов — В Откровениях они припечатаны заглавными буквами как «Блудница Вавилонская и матерь Блудниц» не значит ли это Жречество я думаю что именно так — это вздорное ханжество должно исчезнуть — как и всякое другое — Я начал письмо а кончил проповедью — да и бумага кончается тоже…Это не настоящее письмо, а лишь сохранившийся черновик; можно предположить, что гневные строки против английского Жречества не были отправлены Пэтти — в черновиках Клэр всегда давал волю тем чувствам, которые он предпочитал сдерживать на людях; и все-таки сила его негодования поражает — вспоминается Блейк с его ненавистью к Английской церкви, вспоминается saeva Indignatio из эпитафии Свифта[32]. В своей собственной эпитафии, написанной за десять лет до смерти, он просил написать лишь несколько полных смирения слов. Вот эта запись из Нортгемптонского дневника:
Я бы хотел лежать там, где Утреннее и Вечернее солнце могло бы подольше светить на мою Могилу. Пусть моим надгробьем будет грубый неотесанный камень, вроде жернова, чтобы шаловливые мальчишки ненароком его не сломали, и пусть на нем будут только эти слова: «Здесь покоятся надежды и прах Джона Клэра». Не нужно никаких дат, ибо я хочу жить или умереть вместе со своими стихами и прочими писаниями, которые, если потомство найдет их достойными, заслужат сохранения, а если нет, то не заслужат.
Джон Клэр

Поэт-крестьянин
Вечерняя звезда
Сидел на иве ворон
Школьники после уроков
* * *
Я под ивой лежал
Видение
Приглашение в вечность
Я есмь
«Брат Хопкинс»
Я есмь — конечно, есть и ты! Г. Державин. «Бог»
I
В 1864 году, когда отмечался трехсотлетний юбилей Шекспира, двадцатилетний Хопкинс начал набрасывать сонет; до нас дошли лишь первые восемь строк:Шекспир
 Бриджес и опубликовал первый сборник стихотворений Хопкинса. Правда, он сделал это почти через тридцать лет после смерти своего друга, в 1918 году. Не знаю, был ли тут сознательный расчет, но эта оттяжка сыграла на руку стихам. В начале 1920-х в моду стали входить поэты-метафизики: в этом контексте стихи Хопкинса «прозвучали» (в конце XIX века их бы просто никто не понял). Потребовалось еще двадцать или тридцать лет, чтобы Хопкинс был оценен по достоинству и введен в поэтический канон.
Напомним, что посмертно были изданы и стихи преподобного Джона Донна, и его верного последователя поэта-священника Джорджа Герберта, который на смертном одре предоставил другу решать, публиковать ли его стихи или предать огню — в зависимости от того, «смогут ли они быть полезны хоть одной христианской душе или нет». Друг решил, что смогут, и книга стихотворений Герберта «Храм» была издана.
Хопкинс поступил еще радикальнее: он вручил судьбу своих стихов непосредственно Богу; 8 сентября 1883 года он записал в дневник: «Во время сегодняшней медитации я горячо просил Господа нашего приглядеть за моими сочинениями… и распорядиться ими по своему усмотрению, как они того заслуживают».
Бриджес и опубликовал первый сборник стихотворений Хопкинса. Правда, он сделал это почти через тридцать лет после смерти своего друга, в 1918 году. Не знаю, был ли тут сознательный расчет, но эта оттяжка сыграла на руку стихам. В начале 1920-х в моду стали входить поэты-метафизики: в этом контексте стихи Хопкинса «прозвучали» (в конце XIX века их бы просто никто не понял). Потребовалось еще двадцать или тридцать лет, чтобы Хопкинс был оценен по достоинству и введен в поэтический канон.
Напомним, что посмертно были изданы и стихи преподобного Джона Донна, и его верного последователя поэта-священника Джорджа Герберта, который на смертном одре предоставил другу решать, публиковать ли его стихи или предать огню — в зависимости от того, «смогут ли они быть полезны хоть одной христианской душе или нет». Друг решил, что смогут, и книга стихотворений Герберта «Храм» была издана.
Хопкинс поступил еще радикальнее: он вручил судьбу своих стихов непосредственно Богу; 8 сентября 1883 года он записал в дневник: «Во время сегодняшней медитации я горячо просил Господа нашего приглядеть за моими сочинениями… и распорядиться ими по своему усмотрению, как они того заслуживают».
II
Из прожитых Хопкинсом сорока четырех лет первую половину он принадлежал англиканской церкви, вторую половину — католической. В 1868 году он вступил в Общество Иисуса, и вся его дальнейшая жизнь прошла под диктовку ордена, который двигал им как пешкой — вернее, как шахматным конем по доске: из Лондона в Стоунхерст, из Оксфорда в Уэльс, из Ливерпуля в Глазго — то учить теологию в иезуитской академии, то преподавать самому, то служить приходским священником… Перед каждым новым сроком послушничества он проходил очередные испытания, «дабы обновить рвение, которое могло остыть в занятиях и общении с миром». Испытания эти проходили в строгой изоляции: даже выйти погулять в сад Хопкинс мог, лишь испросив на то особое разрешение. Испытуемых могли поднять с постелей в полночь и отправить слушать внеочередную мессу. По средам их строили парами, как детей, и отправляли на прогулку во главе с «братом наставником», по пятницам и воскресеньям им разрешалось выбирать себе пару самому. Все это казалось странным его друзьям-поэтам, с которыми он состоял в переписке: Роберту Бриджесу и канонику Р. У. Диксону, которые порой деликатно намекали на чрезмерную тяжесть возложенных им на себя вериг. Однако Хопкинсу для чего-то были нужны эти вериги. Вступив в Общество, он сжег свои стихи и не писал восемь лет; хотя в этом было его призвание и наслаждение. Тонкий наблюдатель природы, умевший видеть вещи ярко и подробно, как сквозь увеличительное стекло, он многие месяцы ходил с глазами, опущенными долу, ибо любование материальным миром представлялось ему греховным. Невероятным облегчением для Хопкинса стало знакомство с трудами средневекового схоласта Дунса Скотта, теоретически обосновавшего совместимость любви к природе с любовью к Богу; наконец-то он мог поднять глаза и без угрызений совести смотреть на мир. Многое в характере и в судьбе Хопкинса было, очевидно, заложено в детстве. Его отец, по профессии морской страховой агент и человек широких интересов, писал стихи, рецензии и очерки для газет; мать увлекалась музыкой и поэзией. Джерард унаследовал от отца свое «среднее» имя Мэнли — «мужественный», которое ему мало подходило: с детства он рос нервным и тихим ребенком. Как вспоминают родные, бесстрашие его проявлялось только в лазанье по деревьям: он мог часами просидеть на каком-нибудь высоком вязе, наслаждаясь перспективой, которую он позже воспоет в своем знаменитом стихотворении «Пестрая красота»: «луг, рябой от цветов; поле черно-зеленое, сшитое из лоскутов…» Учился Джерард в школе-интернате в пригороде Лондона Хайгейте. Учился он хорошо, вдобавок обладал талантом художника и порой забавлял товарищей смешными картинками и стихами; но друзей у него не было, мешали странности: внезапно нападавшая задумчивость, стремление уединиться с книгой в руках. В старших классах ему должны были претить сквернословие и подростковые пороки, процветавшие в те годы во всех английских школах-интернатах. Здесь, может быть, одна из главных причин взятых им впоследствии обетов. Увиденное в детстве зрелище зарезанной курицы оставит равнодушным тысячу мальчиков, а одного, тысячного, сделает вегетарианцем. Так и зрелище школьного разврата способно — хотя, конечно, не каждого — заразить на всю жизнь стыдом и отвращением; а в том, что Хопкинс был повышенно впечатлителен, можно не сомневаться. Спустя годы, когда он служил священником в трущобах Ливерпуля, его сострадание к беднякам и стремление им помочь было самым искренним, но он признавался, что виденное им ложилось на душу почти невыносимым бременем. Да и что такое свобода? Предоставив другим определять внешние условия своего существования, отказавшись от денег и амбиций, он фактически раскрепостил свою волю для главного: созерцания мира и Бога.III
С 1868 по 1875 год Хопкинс не писал стихов, от этого времени сохранились лишь часть его писем и дневников. Вот в этих-то дневниках, абсолютно лишенных «самокопания», куда он записывал лишь то, что привлекло его интерес в окружающем мире, будь то закат, ручей, эволюция распускающегося цветка или форма градинок, появились и начали мелькать изобретенные Хопкинсом слова «инскейп» (inscape) и «инстресс» (instress). Условно их можно перевести как «внутренний пейзаж» и «внутренний посыл» объекта наблюдения. Критики сходятся на том, что однозначного определения этим понятиям дать нельзя, и у самого Хопкинса они употребляются в разных местах по-разному. В целом, «инскейп» подразумевает особое видение, проникновение в суть явления, «инстресс» — то, что данный объект «стремится сообщить» наблюдателю, его художественная доминанта. Во многих случаях, «инскейпы» дневников Хопкинса представляют как бы заготовки стихов, они полны точных деталей и оригинальных метафор. Но встречаются в его дневниках и записи совершенно простодушные, которые не отнес ешь ни к какому жанру.«Дек. 17–18 ночью. Спас котенка с подоконника полукруглого окна возле раковины над газовой горелкой. Он залез туда, а спрыгнуть вниз не решался. Долго слушал его жалобное мяуканье, потом не выдержал и снял его оттуда. Записываю это из-за его удивительной благодарности: все время, пока я вел его вниз по ступенькам на кухню, он не только доверчиво следовал за мной, но на поворотах лестницы отбегал назад, просовывал голову сквозь стойки перил и пробовал лизнуть меня с верхнего пролета».Долгий поэтический «пост» Хопкинса был прерван трагическим событием, о котором сообщали газеты. В декабре 1875 году возле устья Темзы во время сильной бури наткнулся на мель немецкий пароход «Deutschland». Из-за непогоды сигналы о помощи не были замечены; к утру прилив накрыл гибнущее судно чуть не до верхушек мачт. В конце концов помощь подоспела, но за ночь погибло около четверти пассажиров, в том числе пять изгнанных из Германии доминиканских монахинь. Хопкинса поразил этот случай и он обмолвился об этом ректору академии, который ответил: мол, вот тема для стихотворения. Этого намека было достаточно. Хопкинс немедленно приступил к делу и сочинил самое длинное из своих стихотворных произведений «Крушение „Германии“»; оно содержало 35 гремучих, торжественных строф:
IV
Именно сонет вскоре стал главной и любимой формой Хопкинса. В некоторых сонетах он использует обычную силлаботонику, в других — тонику, а еще в иных — смесь того и другого. Для тонического («скачущего») стиха основное значение, по Хопкинсу, имеют паузы (rests), а также «висячие слоги» или «выезды» (hangers or outrides). Речь идет не о лишних слогах, удлиняющих строку, а о лишних слогах внутри строки, которые как бы не считаются при скандировании стиха. Хопкинсу пришлось разработать целую систему подстрочных и надстрочных знаков вроде нотных, чтобы доводить до читателя свой замысел! В обычных изданиях Хопкинса эти знаки не воспроизводятся, так что каждый читает его стихи так, как ему подсказывает интуиция. Можно вообразить, какие невероятные трудности представляют такие стихи для переводчика. Буквальное копирование ритма в данном случае будет медвежьей услугой и автору, и читателю. Сошлюсь на авторитетное мнение Бориса Пастернака:Снятие копий возможно только с фигур, прочно сидящих в своей графической сетке. Переводу с языка на язык поддаются лишь правильные размеры и тексты с обычным словоупотреблением… Чужой художественный беспорядок трудно изобразить без того, чтобы в беспорядочности не заподозрили самого изображения. За редкими исключениями вольные размеры в переводе производят впечатление хромоты и ритмической неряшливости[34].Случай с Хопкинсом — совсем исключительный. Даже если бы можно было в точности повторить чередование безударных и ударных гласных в его стихах, мы бы все равно не достигли эффекта, предусмотренного автором, который, вводя свои музыкальные знаки, требовал, по существу, чтобы каждая строка репетировалась отдельно, как этюд Гедике: здесь легато, здесь стаккато, а там триоль. Но ведь и английские читатели не делают этого! Таким образом, остается единственная возможность добиться похожего впечатления, имея в виду цели Хопкинса: отход от монотонной плавности, музыкальные «спецэффекты», передающие взволнованность речи — паузы, синкопы, акценты и тому подобное. Но все это — в умеренной, щадящей степени, с учетом русской просодии, чтобы не допустить впечатления хаоса звуков, чтобы «в беспорядочности не заподозрили самого изображения». Тут все зависит от мастерства и вкуса переводчика. Дело осложняется тем, что не только ритм, но и смысл представляет проблему для читателей Хопкинса: его необычный словарь, полный неологизмов и составных слов, его сложный синтаксис, игнорирующий стандартный порядок слов, и общая темнота текста, часто нарочитая. Интересно и уникально что первоначальные варианты многих строк Хопкинса были значительно яснее и проще; он сознательно менял их на более трудные. По его собственному признанию, он «не ставил себе цели, чтобы смысл целого был слишком ясен, безошибочно ясен» (I was not overdesirous that the meaning of all should be quite clear, at least unmistakable)[35]. Даже его ближайший друг Роберт Бриджес встал в тупик перед «Крушением „Германии“». Хопкинс просил его перечитать стихотворение еще раз, чтобы лучше в нем разобраться. «Ни за какие деньги!» — отвечал Бриджес. В их переписке нередки случаи, когда Хопкинсу приходится пересказывать свои стихотворения прозой, чтобы объяснить их смысл. А сонет о своем любимом композиторе Генри Пёрселле он объясняет дважды: сперва в письме от 31 мая 1879 года, а потом — 5 января 1883 года. Видно, за четыре года Бриджес забыл, в чем там суть, и опять запросил помощи! Что же делать переводчику? Передавать темноту, неоднозначность — труднее всего. Но темнота Хопкинса, по счастью, не сущностная. Это скорее темнота выражения. То, что хочет сказать поэт, чутким читателем улавливается почти сразу: ведь Хопкинс, по сути своей, «смысловик»: он заранее знает, о чем собирается писать. Поняв это, нужно лишь постараться так же, как Хопкинс, упаковать смысл в несколько заверток, чтобы читатель не ленился их разворачивать. То есть, в некотором роде, делать обратное тому, что требовал Петр I в своем наставлении переводчикам: поняв смысл, «на своем языке уже так писать, как внятнее может быть…»
V
Джерард Хопкинс, пожалуй, самый радикальный реформатор стиха в английской поэзии XIX века. В американской поэзии таковым считается Уолт Уитмен. Трудно, наверное, найти двух более полярных поэтов. Один — неукротимый оратор и зазывала, не стеснявшийся сам на себя писать восторженные рецензии; другой — смиренный иезуит, беспокоящийся, не осудит ли его Господь за празноделание, за «оглядывания назад с рукой на плуге», за растрату сил на сочинение стихов и тщеславные мысли, порождаемые этим занятием. «Безвестная участь лучше известности, лишь в ней мир и святость», — писал он другу[36]. Тем интереснее, что когда Роберт Бриджес обратил внимание на сходные черты их поэзии и заподозрил влияние Уитмена на Хопкинса, последний (уточнив, что читал всего лишь несколько стихотворений Уитмена да еще критическую статью о нем в журнале «Атенеум») неожиданно признается:Я всегда в глубине сердца знал, что ум Уолта Уитмена походит на мой более всех других современных умов. Поскольку он — большой негодяй, это не очень-то приятное признание. Оно также утверждает меня в желании прочесть больше его стихов и ни в коем случае не стать на него похожим.Однако сходство стилей, по мнению Хопкинса, в данном случае, чисто внешнее. Конечно, и тут, и там бросаются в глаза длинные строки, нерегулярный стих. Но на этом общие черты кончаются. Стихи Уитмена, по существу, ритмическая проза, в то время как у него самого они основаны на древней традиции стиха, идущей, по крайней мере, от Пиндара. «Вышеприведенные соображения не ставят целью принизить Уитмена, — заключает Хопкинс. — Его „дикарский“ стиль имеет свои достоинства; он выбрал этот стиль и стоит на нем. Но нельзя и съесть пирог и сохранить его[37]: он съедает свой пирог сразу, я же сохраняю его. В этом вся разница»[38]. Много чего можно было бы сказать по поводу этого загадочного «сходства умов» (которое Хопкинс не объясняет), а также «большого негодяя» и «не съеденного пирога». У меня есть некоторые версии, на которых, впрочем, я не настаиваю. Сходство, на мой взгляд, заключается в центробежном темпераменте обоих поэтов, в восприятии мира как захватывающего разнообразия, в их поэтической жадности и всеядности — в случае Уитмена, ничем не ограниченных, в случае Хопкинса, сознательно введенных в определенные рамки (чему служит и форма сонета). «Негодяйство» Уитмена состоит, по-видимому, в отсутствии каких-либо сдерживающих начал, в аморальности и язычестве; в рецензии Джорджа Сентсбери на «Листья травы», которую Хопкинс прочел, есть также намеки на сексуальную распущенность в греческом, «сократовском» стиле — намеки, по условиям викторианского времени, очень завуалированные, но все же прочитываемые[39]. Что касается «пирога», то речь, как я понимаю, идет о поэтической тайне, о не сказанном — той подводной части айсберга, которая удерживает на плаву истинно великую поэзию. У Уолта Уитмена нет тайны, он все выбалтывает сразу, съедает свой пирог на ходу; воображению читателя не остается ни крошки.
VI
Вспоминается эпизод, рассказанный Ковентри Патмором, поэтом, близким к прерафаэлитам, с которым Хопкинс познакомился в 1883 году и с тех пор состоял в переписке. В 1885 году по приглашению Патмора он провел у него в гостях несколько дней, и хозяин показал ему рукопись своей прозаической книги «Sponsa Dei» («Невеста Божья») — о связи божественной и плотской любви. Хопкинс просмотрел книгу и сказал серьезно и неодобрительно: «Она разбалтывает тайны». Моральный авторитет гостя был так силен, что автор тут же приговорил свою рукопись к сожжению[40]. Суждения Хопкинса о современной поэзии бескомпромиссны и во многом, как кажется, предвосхищают вкусы символистов. Еще в молодые годы он понял и записал в дневник:В поэзии нет царской дороги. Миру следовало бы знать, что единственный способ достичь Парнаса — это взлететь к нему. Тем не менее люди вновь и вновь стараются вскарабкаться на эту гору и либо гибнут в пропасти, размахивая флагами, на которых начертано «Excelsior!» — либо спускаются вниз с толстыми томами и изнуренными лицами. Старое заблуждение неколебимо[41].Здесь, конечно, камень в огород Генри Лонгфелло. О другом кумире тех лет, Роберте Браунинге, Хопкинс писал: и автор, и его персонажи похожи на трактирных типов, вскакивающих из-за стола и орущих с набитыми ртами, что они этого не потерпят. В другом письме Бриджесу Хопкинс признавал, что в стихах Браунинга попадаются замечательные частности, но в целом они производят на него оскорбительное и отвратительное впечатление[42]. Что касается Альфреда Теннисона, то его портрет висел в студенческой комнате Хопкинса в Оксфорде рядом с портретами Шекспира и Китса. Хопкинс с благодарностью вспоминал, как в юности его околдовала и покорила «Волшебница Шэллот» и многие другие стихотворения Теннисона. Но затем произошло ужасное: он начал «сомневаться» в любимом поэте. В зрелые годы он писал о нем Роберту Бриджесу: «Я иногда поражаюсь этому парадоксу в Теннисоне: его талант выражения — чистейшее золото, но вчитайтесь и вы обнаружите, что мысли, которые он выражает, банальны и им не хватает благородства (звучит жестоко, но вы, я надеюсь, понимаете, что я имею в виду)». Нечто близкое говорили впоследствии Элиот и Оден, но слова «благородство» они не употребляли. Другие замечания Хопкинса позволяют думать, что речь идет о романтическом эгоизме в духе Байрона: «У Теннисона встречаются раздражающие байроновские нотки в „Леди Кларе Вир де Вир“, „Локсли-холле“ — и не только» (письмо Р. Диксону 1 декабря 1881 года).
VII
Литературная канонизация Хопкинса проходила отнюдь не гладко и не единодушно. Влиятельный кембриджский критик Фрэнк Ливис в 1932 году[43] назвал его «лучшим поэтом викторианской эпохи, далеко превосходящим всех других в силе и утонченности». Но было немало других голосов, указывавших на искусственность стиля Хопкинса, узость его тем, скудость наследия. Кто прав? Если говорить о Хопкинсе как о новаторе стиха, оказавшем важное влияние на поэзию XX века, я бы не стал преувеличивать значение этих заслуг. В конце концов, реформа произошла бы так или иначе — она назревала. Усталость от ямбов, стремление расковать английскую просодию привели бы к тем же результатам, даже если бы все стихи Хопкинса сгорели в дублинском камине. Скажу, для примера, еще одну вещь (которая иным покажется ересью): если бы Казимир Малевич не нарисовал свой черный квадрат в 1915 году, его нарисовал бы кто-то другой, и очень скоро. Я в этом уверен. Потому что квадрат этот буквально носился в воздухе. Ценность поэзии Хопкинса определяется не формой, а ее внутренним напряжением и «красотой». Я заключил это слово в кавычки как одно из ключевых понятий самого автора. Хопкинс считал, что в человеке всё — душа; красота души может проявляться в красоте тела — или в красоте ума — или в красоте сердца. Последнее свойство иногда называют благородством. Хопкинс писал сонеты, но эти сонеты по своему тону близки к оде — то есть возвышенной, хвалебной песне. Мы знаем оды Пиндара, оды Ломоносова и Державина, оды Китса. Пафос требует простора. Вмещая его в жесткие рамки, сдавливая, словно поршнем, в четырнадцать строк, поэт поступает так же, как природа, спрессовывающая уголь в алмаз. Необычные, яркие метафоры Хопкинса напоминают о Донне и Герберте. Но с барочными чертами смешаны в нем традиции вордсвортианской школы. Чувствилища его поэзии оголенней, уязвимей, чем у поэтов-метафизиков. Присутствие Божье для Хопкинса — почти нестерпимый жар и свет, разлитые в природе. «Земля заряжена величьем Божьим; встряхни — и полыхнет, как лист фольги…» Эти разряды страсти происходят непрестанно. «Щеглы искрят, стрекозы мечут пламя…» Восторг поэта — язык того же пламени:Джерард Мэнли Хопкинс

Пестрая красота
Сокол
Господу моему Иисусу Христу
Щеглы искрят, стрекозы мечут пламя
Фонарь на дороге
Свеча в окне
Море и жаворонок
Проснусь, и вижу ту же темноту
Падаль
«Парень из Шропшира» и его тихие песни
Старался студент, но зачета не сдал,Искусств бакалавром, увы, он не стал.Аой!Служил регистратор в патентном бюро,Служил, но порою чесалось перо.Аой!Сидел в кабинете ученый сухарь,Он душу отдал за латинский словарь.Аой!«Песнь о моем герое»
I
В этих эпических строках — главные вехи творческой карьеры Альфреда Эдварда Хаусмана (1859–1936). Честолюбивый и способный студент, он, действительно, умудрился провалиться на заключительном экзамене и должен был пойти на службу. Но по вечерам после своих патентных трудов Хаусман отправлялся в Британский музей и упорно работал над латинскими текстами и комментариями. Его публикации вызывали такое уважение в ученом мире, что в 1891 году он был, несмотря на отсутствие степеней и званий, выбран заведующим латинской кафедры Лондонского университета, а еще через десять лет, в 1901 году, приглашен возглавить кафедру в Кембридже. Ровно посередине между этими событиями, в 1896 году, вышел первый сборник стихов Хаусмана «Парень из Шропшира». Лирический герой этих стихов — абсолютная противоположность тому ученому латинисту — джентльмену в цилиндре, сюртуке, полосатых брюках и с зонтиком, которого мы знаем из описаний современников. Это — простой деревенский парень, который гуляет с друзьями, сидит в таверне за кружкой эля, горюет об улетающих годах и сетует на суровые законы жизни, печально умиляясь ее недолговечной прелести. Иногда, для разнообразия, его вешают или забирают в солдаты.
Одну из первых рецензий на книгу Хаусмана опубликовала Эдит Несбит — та самая знаменитая сказочница, чьими книгами до сих пор зачитываются дети в Англии (впрочем, тогда они еще не были написаны). Несбит горячо приветствовала явление нового, необычного таланта.
Ровно посередине между этими событиями, в 1896 году, вышел первый сборник стихов Хаусмана «Парень из Шропшира». Лирический герой этих стихов — абсолютная противоположность тому ученому латинисту — джентльмену в цилиндре, сюртуке, полосатых брюках и с зонтиком, которого мы знаем из описаний современников. Это — простой деревенский парень, который гуляет с друзьями, сидит в таверне за кружкой эля, горюет об улетающих годах и сетует на суровые законы жизни, печально умиляясь ее недолговечной прелести. Иногда, для разнообразия, его вешают или забирают в солдаты.
Одну из первых рецензий на книгу Хаусмана опубликовала Эдит Несбит — та самая знаменитая сказочница, чьими книгами до сих пор зачитываются дети в Англии (впрочем, тогда они еще не были написаны). Несбит горячо приветствовала явление нового, необычного таланта.
Он умеет производить максимальный эффект минимальными средствами — черта великой поэзии… Лучшие его строки поражают точностью, «неизбежностью» выражения. Это не та поэзия, которая берет сердца читателей приступом, как поэзия Суинберна, вряд ли ее станут цитировать политики или возникнут общества толкователей Хаусмана. Рассчитывать на мгновенное и бурное признание этим стихам не стоит. Но они пробьются — медленно и верно.Проницательные слова, сбывшиеся почти полностью, за исключением пророчества об обществах Хаусмана. Такие общества все-таки возникли — и в Англии, и в Америке.
II
Хочется вспомнить еще одну рецензию. Опубликованная анонимно в еженедельнике «Новое время», она подчеркивала самобытное направление автора — поперек эпигонским тенденциям времени.Этот голос, может быть, не слишком вдохновляет. Он не увлекает нас в будущее, не будит славу минувшего и не воспевает настоящее. Но он говорит с такой искренней, задушевной силой, какая встречается из современных поэтов, может быть, у одного только Гейне[45].Видимая простота и близость к народным песенным формам (в данном случае, к английской балладе), действительно сближает Хаусмана с Гейне. Роднит их также неожиданный простодушный юмор и скептическое отношение к небесным авторитетам. Так в стихотворении о холодной весне герой Хаусмана возмущается: «Что за негодяй / Нам вместо жизни подложил свинью?»
III
Вот еще одна хромающая нога сравнения. Анненский был переводчиком Еврипида, а Хаусман — лишь текстологом. О самом Манилии, авторе длинной дидактической поэмы «Астрономия», он однажды обмолвился, что тот пишет об астрономии и астрологии, не понимая ни того, ни другого. Но как увлекателен может быть Хаусман, говоря о таком, кажется, сухом предмете, как текстология! Конечно, это говорит поэт: «Текстолог — не Ньютон, исследующий движение планет, он скорее — собака, ищущая блох. Если бы собака искала блох согласно математическим принципам, основываясь на статистических данных о территориях и населении, она никогда не поймала бы ни одной блохи, разве что по случайности. Блохи требуют к себе индивидуального подхода; каждая проблема, возникающая перед текстологом, должна рассматриваться как единственная в своем роде. Таким образом, текстология не имеет отношения ни к мистике, ни к математике; ее нельзя выучить, как катехизис или таблицу умножения. Эта наука — или это искусство — требуют от изучающего больше, чем одной способности к учению. Точнее сказать, им вовсе нельзя научиться: criticus nascitur, non fit»[46]. Тут, разумеется, переделано известное латинское изречение о поэте. Текстологами тоже «не становятся, а рождаются». Как мы видим, Хаусман был человеком острого и парадоксального ума. Почему же он отвергал метафизическую поэзию, когда в 1920-х годах она, с легкой руки T. С. Элиота, вошла в моду? Да потому и отвергал, что метафизический метод, как показали бесчисленные подражатели Донна в XVII и в XX веке, легко кодируется и, как следствие, имитируется. Это опять способ, как «выучиться на поэта». Но поэтами не становятся — poetae nascuntur. Кто бы подумал, что стихи Хаусмана окажутся и в антологиях английского нонсенса! Например, такое:Глубокие мысли на берегу моря
IV
В своей знаменитой лекции «Об имени и природе поэзии» Хаусман проводит резкое разделение между риторикой и поэзией. Все, что нарочито и обдуманно, логично и изящно, он оставляет за скобками своего ощущения поэзии. Так, в XVIII веке, на его взгляд, были лишь четыре истинных поэта: Уильям Коллинз, Кристофер Смарт, Уильям Каупер и Блейк — все четверо, как он подчеркивает, «не в своем уме» (mad). И подкрепляет свой вывод авторитетом Платона: напрасно тот, в чьей душе нет «мусикийского безумия», кто рассчитывает лишь на умение, будет стучаться в дверь поэзии. Хаусман говорит: для меня это вещь скорее физическая, чем интеллектуальная; я не более способен дать определение поэзии, чем терьер — определение крысы, но покажите терьеру крысу — и, будьте уверены, он не ошибется. Так и я узнаю поэзию по своим особым признакам. Один из них описан в Книге Иова: «И дух прошел надо мною; дыбом стали волосы на мне». «Опыт научил меня, — продолжает Хаусман, — когда я бреюсь по утрам, не отвлекаться и, пуще всего, не вспоминать никаких стихов, ибо, стоит какой-нибудь поэтической строке прозвучать в моей памяти, как волосы у меня на лице встают твердой щетиной и бритва перестает их брать». Другие признаки, упоминаемые Хаусманом, — озноб, пробегающий по спине, комок в горле, слезы, навертывающиеся на глаза, и прочее. Почти так, как описан аффект любви у Сафо: жар, холод, мрак, застилающий зренье:Альфред Эдвард Хаусман


Последние комментарии
1 день 8 часов назад
1 день 12 часов назад
1 день 15 часов назад
1 день 16 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 22 часов назад