Мальчишки в сорок первом [Виктор Борисович Дубровин] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]




Санкт-Петербург — Москва 2016

ДАЧНИКИ
Вечером мы провожали папу до станции. Ему надо на работу ехать в Ленинград. А мы — мамка, Галка, я и наш нёс Пират — дачники, и всё лето должны отдыхать. — Ну, договорились по-мужски. — Папка подмигнул мне и стал смотреть, не идёт ли поезд. Поезда не было. Остатки солнца блестели на макушках сосен. На осине дрожали листья. Лес подходил вплотную к железнодорожной насыпи. Папа достал часы. На блестящей крышке, прямо на металле написано: «Дорогому сыну в день его совершеннолетия. Отец». Это — подарок дедушки. Дедушка умер давно. Я ещё в школу не ходил. А стрелки всё бегут. Хорошие у папки часы! Когда я вырастут он мне тоже подарит часы. Вдалеке послышался гудок паровоза. — Точно идёт, — сказал папа и спрятал часы в маленький брючный карман. — Когда поедешь, — заторопилась мамка, прихвати килограммов пять сахару для варенья и потом... «У-у-у!» — снова загудел паровоз. Папка поцеловал на прощанье мамку, Галку и меня. Ловко вскочил на подножку. В тамбуре задержался. Машет соломенной шляпой и улыбается. Зубы у него белые-белые. И рубашка белая. И брюки. И даже ботинки. А лицо загорелое, хотя в отпуске он ещё и не был. — Через шесть дней ждите! — крикнул папка, когда поезд дёрнулся и побежал по рельсам. — Вместе, Вова, будем раков ловить. Целый месяц! — кричит папа под стук колёс и смеётся. ...Прошло пять дней. Скоро отец должен приехать к нам в отпуск, а я так и не был в ночном, не подобрал хорошего места. Но ничего. Сегодня всё сделаю. Сегодня дед Антон пойдёт раков ловить и меня с собой возьмёт. Я уже совсем собрался к деду Антону, когда пришёл Борька со своей мамашей, и она сказала, что Борька тоже пойдёт в ночное и чтобы я следил за ним. — С дедом Антоном уже договорились, — сказала Борькина мать. Я пробовал возражать, мол, Борька ещё маленький, да где там!.. Тётя Варя упрямая, а Борька — отрава, лезет к большим, как смола. И выдумал же папка тётю Варю в Осиповку привезти. Если она папкина сестра, так это совсем не значит, что должна в одном месте с нами отдыхать. Но говорить об этом я не стал — боялся, что мамка рассердится и меня самого никуда не отпустит. — Ладно, — сказал я с огорчением. — Буду смотреть. Вооружившись сетками, вместе с Борькой и дедом я иду к реке. Пол-луны висит в вышине. Облака ползут. Над рекою туман лежит. Он похож на взбитые сливки. За ним и воды не видать с косогора, а как спустишься вниз — плещется река. И луна в ней отражается — только мутная от тумана. Дед Антон отцепляет лодку: — Вы свои сетки на берегу ставьте у кустов, говорит он. — А я свои — с лодки. И чтобы осторожно мне. Чуть скрипят уключины. Вот и стихли совсем. Уехал от нас дед Антон. Сеток у меня мало — всего пять. Я уверен, что самое лучшее место — у Светляка, так зовут гору, которая круто валится к воде, при повороте реки. У неё светлый песчаный бок. А наверху высоченные сосны растут. Отовсюду солнце уйдёт, а на макушках этих деревьев ещё золотятся последние лучи. Наверное, оттого гору и прозвали Светляком. Борька скулит, просит, чтобы хоть одну сетку поставили в заводи у ивняка. — Ты сиди у костра и жди, — строго говорю я. — Не хочу у костра, — ноет Борька. — Ты же обещал за мной всё время смотреть... Хуже нет этих обещаний, связывают по рукам и по ногам. Мамка чуть что — слово дай. Пообещаешь, а потом выполнять надо. Приходится брать с собой Борьку. Мы ставим две сетки в заводи и три у Светляка. Возвращаемся к костру. Ветра нет, а белёсые тучи бегут вовсю. Э-эх, скорей бы школу кончить и в военно-морское училище... Я мечтаю о том дне, когда стану моряком и мне дадут настоящую тельняшку и бескозырку с ленточками, и вообще всё, что полагается краснофлотцу, и в настоящее море пошлют... Чуть потрескивает костёр. Борька сидит тихо — доволен, что сетки в заводи поставлены, и не мешает мне мечтать. В ночном быстро время летит. Вот уже и уключины стучат. Это возвращается дед Антон. Он, наверное, несколько раз успел собрать улов. Я опрометью бросаюсь к своим сеткам. За мной бежит Борька. Только б раки не съели всё мясо, пока мы были у костра. При луне хорошо видны палки, к которым привязаны сетки. Я вытягиваю одну — пусто. Так и есть, раки сожрали мясо и ушли. То же самое со второй сеткой, с третьей. Подбираюсь к четвертой. Она стоит в самых кустах. Только кусочек палки лежит на лозе, а так вся верёвка в воде и, значит, сама сетка заброшена далеко. Доставая её, я скатываюсь по скользкой глине в воду. Противно хлюпает в ботинках вода. Ну, раз-два... Я резко дёргаю сетку вверх — если рак сидит на палочке и гложет мясо, при рывке он должен упасть как раз в сетку... Только бы он был там. Я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать от радости, — в сетке целых три рака. Один как краб. Я складываю улов в кепку и иду к последней сетке. И снова удача — два рака. И не мелочь какая-нибудь. Когда папка приедет в отпуск, я обязательно приведу его на эти места. Было уже поздно, когда дед Антон сказал: — Побаловались, и будет. Домой вам пора... — Он помедлил немного и задумчиво добавил: - А ежели хотите — можно в стогу переспать. Утром пробужу вас. — Ага, мы в стогу... — обрадовался я и на всякий, случай дёрнул за руку Борьку, чтобы не капризничал. Мы зарылись в стог сена, который был неподалёку от роки, и вскоре я крепко заснул. Проснулся от голоса деда Антона. — Сони, вставайте, — бурчал он, — а то раки ваши разбежались, никак не найду их... Я как ошпаренный вскочил на ноги. Дед Антон на корточках сидел у большой плетёной корзины и завязывал её сверху тряпкой. Ясное дело, про раков он нарочно сказал. Уже припекало солнце. Слабый ветерок то стихал, то принимался покачивать гибкий ветви ивняка. Пахло сиренью. Небо синее-синее, но мне было не до этого. Я плохо выспался, а Борька — тот даже шатался и всё щурился на солнце. Для бодрости я иногда поглядывал в ведёрко. Там копошились раки. Целых двадцать пять. — Дядь Антон, — сказал я, когда мы уже подходили к деревне, — а сколько вы всего поймали сегодня? Мне надо знать, потому что скоро у папки отпуск, и мы вместе будем ловить. — Сто семьдесят пять, — ответил он. Неожиданно забил колокол. От домов отрывались ласточки и с криком проносились над нами. — Никак пожар! — Дед Антон остановился и даже покраснел весь, а потом подобрал полы своего зипуна и побежал совсем как молодой. Ясное дело, я припустил так, что только пятки засверкали. Пожарная каланча находилась в самом центре деревни, на горе. Там была комната для лошади, потом комната для пожарного насоса. И ещё вышка с колоколом. Народу у каланчи — полно. Колокол надрывается, а пожарной машины не видать. Даже ворота в её комнату закрыты. Что же это такое? Никто не понимает. Вдруг колокол стих. Председатель колхоза — высоченный такой дядька забрался на телегу и громко сказал: — Граждане! Соблюдайте спокойствие! Сегодня в четыре часа ночи фашисты без объявления войны напали на нас. Началась война... По радио передали... Корзина выпала из рук деда Антона. Раки стали расползаться. — Дядь Антон, раки-то, — сказал я и стал собирать уползавших усачей. — Ра-а-ки, — повторил он безразлично. — Война, а он — раки...
КРАСНОФЛОТЦЫ
Мамка нервничала — все дачники уехали из Осиновки, а мой папка всё не приезжал за нами. Я тоже нервничал — в Ленинграде двух шпионов поймали. Счастливчики, кто сейчас в городе. Женька, наверное, уже давно шпионов ловит. И военные учения смотрит... — Бог с ними, с вещами, — сказала мама. — Если завтра машина не приедет, будем добираться на поезде. Назавтра машина пришла — драная полуторка. — Павел Сергеевич закружился совсем, — сказал шофёр. — В Москву чего-то вызвало руководство. И сейчас такая свистопляска! — Он закурил и добавил: — Ну, да теперь не до разговоров... Когда уже садились в машину, из-за леса донёсся отдалённый грохот. — Только грозы и не хватало, — сказала мама. - А пускай Вовка помокнет, а мы будем в кабине, — закривлялась Галка. — Помокну! Жди! — сказал я и посмотрел в сторону леса. Лес стоял тихий-тихий. Ни одна ветка не шелохнётся. И солнце блестит на зелени. Я посмотрел на небо — ни тучки. Я сразу понял, какая это гроза. Но виду подавать не стал. Мама усадила Галку и сама стала забираться в кабину машины. Прежде чем захлопнуть дверцу, она сказала мне: — Если дождь пойдёт, укройся клеёнкой. Она наверху лежит... Навстречу машине то и дело попадались колонны пехотинцев. Красноармейцы в обмотках, со скатками за спиною, с винтовками за плечом всё шли и шли. Я махал им рукой, и они отвечали мне. Они шли в бой против фашистов. У них были настоящие винтовки. «Ничего, — думал я, — я тоже попаду на фронт». В голове у меня зрели планы побега... Но колонны проходили, и наша машина снова бежала по булыжной дороге. Навстречу ей неслись ели, берёзы, телеграфные столбы. Чем ближе подъезжали мы к Ленинграду, гем чаще встречались КПП — контрольно-пропускные пункты. Красноармеец с винтовкой в руке сказал: — Проверка документов. Я выпрыгнул из кузова. У шлагбаума стояли грузовики, легковушки. Из-за дома послышался цокот копыт. На дороге появилась упряжка в четыре лошади. В повозке сидели два бойца. За повозкой тянулась пушка, и возле неё шли ещё два красноармейца. Пушка весело катилась по булыжникам. Чуть подрагивал её длинный ствол с брезентовым чехлом на конце. — Противотанковая, — сказал я, когда пушка поравнялась с нами. — Гаубица, — поправил шофёр. Я не стал спорить. Шофёр был старый. Он, наверное, в армии служил. Из-за домов выползали всё новые орудия. Но прошло немного времени, и артиллерийская часть скрылась в клубах пыли. Не успела пыль осесть, как на дороге появились коровы, овцы, козы. Они двигались с той стороны, куда ехали пушки. Бородатый сирый козёл подошёл к нашей машине и остановился. Галка спряталась за мамку. — Пшёл вон! — крикнул шофёр и закрыл капот мотора. От стука железа козёл вздрогнул и жалобно заблеял. — Мамочка, — сказала Галка, — а откуда тут столько коров и овечек? Мама вздохнула: — Война — вот и... — Это там бои идут, — пояснил я. - Понимать надо! — Граждане! Кто умеет коров доить и хочет свежего молочка, — предлагал у КПП старик пастух, — пущай пожалует за нами. Наши коровушки целые трое суток недоенные. Но никто не пошёл доить коров. КПП поочерёдно пропускал машины. Их было не меньше двадцати.
Наша машина была уже у самого шлагбаума, когда на дороге вырос отряд краснофлотцев. В белых форменках, с развевающимися синими ленточками, с карабинами за плечом, они шли как па параде. И песню пели.
Когда отряд подошёл к нам совсем близко и на бескозырках я увидел слова «Краснознамённый Балт. флот», сердце у меня заколотилось. «Вот с ними бы на фронт! На линкор или на торпедный катер»- Все давние мои мечты разом нахлынули на меня. Флот... Война... Стремительный корабль гордо рассекает волну... «Огонь!» Из жерл орудий вырываются языки пламени...
Прежние мои сны наяву стремительно, за какую-нибудь минуту пронеслись в голове, и я уже не мог ни размышлять, ни сомневаться.
Отряд быстро удалялся.
«Мамке напишу потом, с фронта», — решил я и выпрыгнул из кузова машины. Мой пёс Пират догадался обо всём. Хотел тоже спрыгнуть на землю. «Сиди тихо! На месте сиди!» — сказал я Пирату. Он лизнул меня в щёку — значит, понял и попрощался, а потом заскулил.
Я шёл в пыли за моряками. Сначала никто не замечал меня Потом вдруг я почувствовал чью-то руку на плече Обернулся пацан идёт со мною рядом. Длинный. Худой. В форменке матросской.
— Ты, давай отваливай, — тихонько говорит он мне. — В этом взводе я числюсь...
— А я?
На нас оглянулся краснофлотец. Потом другой...
— Товарищ комвзвода! Опять пацаны! — крикнул кто-то.
— Задержать! — откликнулся командир.
Пацан как сиганёт в лес, а меня схватили сразу несколько рук.
— Ты что же это? Мать там, наверно, с ума сходит, а он... — Загорелый командир в кителе, с фуражкой на голове укоризненно посмотрел на меня.
Я ещё в машине решил: скажу, что бесхозный. Ни мамки, ни папки. А тут растерялся.
— Придётся довести его до КПП. Да и того поймать надо. Тоже сдать... — сказал командир.
И тут вдруг услышал я собачий лай. Оглянулся и сразу узнал — Пират. Следом за ним неслась Галка.
— Мама! Вовка тут! — орала она. Из-за поворота дороги появилась мама. Она полная, а бежит ничего себе... Волосы растрепались. Лицо — будто пожар вокруг.
Перепало мне здорово. Больше я не выскакивал из кузова. Один только раз, когда в небе загудели самолёты, наша машина остановилась, и мы побежали в лес.
Сквозь ветви проглядывало небо. Синее-синее. В высоте шли самолёты. Они проплыли над нами и скрылись за чащей. Минут через десять донёсся грохот.
— Бомбят, сволочи! — сказал шофёр и закурил папиросу.
В Ленинград въезжали поздним вечером. Было светло — в июле ночи в Ленинграде белые. Меня удивили дома. Даже не сами дома, а окна... Почти все они были испещрены большими белыми крестами. «Что же это такое?» — думал я. Спросить было не у кого.
От Елагина острова отделилась серебристая огромная колбаса и поползла в небо. Я посмотрел вверх. В небе висело множество таких же колбас. Тогда я ещё не знал что это аэростаты заграждения от вражеских самолётов.
У нашего дома, на заборе, были приклеены плакаты.
Под одним из них было написано: «Что ты сделал для фронта?» Красноармеец указывал пальцем прямо на меня. У меня было такое чувство, что вот сейчас он сойдёт с плаката и сам повторит эти слова.
Ночью я до мелочей продумал всё. Перво-наперво надо встать в шесть утра, а потом...
КПП поочерёдно пропускал машины. Их было не меньше двадцати.
Наша машина была уже у самого шлагбаума, когда на дороге вырос отряд краснофлотцев. В белых форменках, с развевающимися синими ленточками, с карабинами за плечом, они шли как па параде. И песню пели.
Когда отряд подошёл к нам совсем близко и на бескозырках я увидел слова «Краснознамённый Балт. флот», сердце у меня заколотилось. «Вот с ними бы на фронт! На линкор или на торпедный катер»- Все давние мои мечты разом нахлынули на меня. Флот... Война... Стремительный корабль гордо рассекает волну... «Огонь!» Из жерл орудий вырываются языки пламени...
Прежние мои сны наяву стремительно, за какую-нибудь минуту пронеслись в голове, и я уже не мог ни размышлять, ни сомневаться.
Отряд быстро удалялся.
«Мамке напишу потом, с фронта», — решил я и выпрыгнул из кузова машины. Мой пёс Пират догадался обо всём. Хотел тоже спрыгнуть на землю. «Сиди тихо! На месте сиди!» — сказал я Пирату. Он лизнул меня в щёку — значит, понял и попрощался, а потом заскулил.
Я шёл в пыли за моряками. Сначала никто не замечал меня Потом вдруг я почувствовал чью-то руку на плече Обернулся пацан идёт со мною рядом. Длинный. Худой. В форменке матросской.
— Ты, давай отваливай, — тихонько говорит он мне. — В этом взводе я числюсь...
— А я?
На нас оглянулся краснофлотец. Потом другой...
— Товарищ комвзвода! Опять пацаны! — крикнул кто-то.
— Задержать! — откликнулся командир.
Пацан как сиганёт в лес, а меня схватили сразу несколько рук.
— Ты что же это? Мать там, наверно, с ума сходит, а он... — Загорелый командир в кителе, с фуражкой на голове укоризненно посмотрел на меня.
Я ещё в машине решил: скажу, что бесхозный. Ни мамки, ни папки. А тут растерялся.
— Придётся довести его до КПП. Да и того поймать надо. Тоже сдать... — сказал командир.
И тут вдруг услышал я собачий лай. Оглянулся и сразу узнал — Пират. Следом за ним неслась Галка.
— Мама! Вовка тут! — орала она. Из-за поворота дороги появилась мама. Она полная, а бежит ничего себе... Волосы растрепались. Лицо — будто пожар вокруг.
Перепало мне здорово. Больше я не выскакивал из кузова. Один только раз, когда в небе загудели самолёты, наша машина остановилась, и мы побежали в лес.
Сквозь ветви проглядывало небо. Синее-синее. В высоте шли самолёты. Они проплыли над нами и скрылись за чащей. Минут через десять донёсся грохот.
— Бомбят, сволочи! — сказал шофёр и закурил папиросу.
В Ленинград въезжали поздним вечером. Было светло — в июле ночи в Ленинграде белые. Меня удивили дома. Даже не сами дома, а окна... Почти все они были испещрены большими белыми крестами. «Что же это такое?» — думал я. Спросить было не у кого.
От Елагина острова отделилась серебристая огромная колбаса и поползла в небо. Я посмотрел вверх. В небе висело множество таких же колбас. Тогда я ещё не знал что это аэростаты заграждения от вражеских самолётов.
У нашего дома, на заборе, были приклеены плакаты.
Под одним из них было написано: «Что ты сделал для фронта?» Красноармеец указывал пальцем прямо на меня. У меня было такое чувство, что вот сейчас он сойдёт с плаката и сам повторит эти слова.
Ночью я до мелочей продумал всё. Перво-наперво надо встать в шесть утра, а потом...

ШПИОНЫ И СЕКРЕТНАЯ ПУШКА
В ушах раздавался звон. Я открыл глаза и сразу увидел будильник. Наш старый голубой будильник с выбитым стеклом. Он стоял на табуретке у самой кровати. Стрелки показывали десять часов и пять минут. Пират зубами стаскивал с меня одеяло. Я вскочил как ужаленный. Снова послышался звон. Только теперь я понял, что это не будильник, а звонок у двери бренчит. Я открыл дверь. На пороге стоял мой приятель Женька. Поверх бархатной куртки у него был ремень — наискосок от плеча до штанов. Как у командира. — Приехал? — спросил Женька и быстро прошёл в квартиру. — Тут у нас такие дела! — закричал он, размахивая руками. — Фашисты к Гатчине подошли. Наши делают укрепления вокруг города. Мощные рвы, доты и дзоты. Понял? У меня горели уши. Я не знал, что такое доты и дзоты, но спрашивать не стал — было стыдно за своё невежество. Женька осмотрелся по сторонам и прошипел: — В квартире никого нет? — Никого, — ответил я в волнении. — Надо проверить! Хотя я знал, что мы одни, — всё же недоверчиво оглядел комнату. Даже буфет открыл, будто там мог кто-нибудь спрятаться. В буфете на двух полках стояла посуда, а внизу разные пакеты лежали — сахар, крупа, консервы — наш дачный запас. На дачу мамка всегда брала уйму продуктов — на всё лето. — А за столом? — покосился Женька. Огромный письменный стол стоял в нише. Вместо стены окно — три стеклянных полосы. Здесь — папкин кабинет. За столом никого не было. Мы прошли в мою и Галкину комнату. Посмотрели под кроватями. Женька даже в камин заглянул, в чёрную пасть для дыма. Потом мы проверили кухню, коридор. - Надо окно закрыть, — сказал Женька. Я хотел возразить, но Женька так посмотрел на меня, что я сразу язык прикусил. Когда окна были закрыты, Женька вытащил из-за пазухи серую бумажку. Бумажка оказалась листовкой. В то время фашистские самолёты сбрасывали листовки, в которых хвастали, что они непобедимы и сопротивление бесполезно. Я с любопытством прочитал листовку, а потом зло меня взяло — зачем Женька притащил эту брехню, да ещё окно закрывать заставил. И фасонит чего-то. — Подумаешь, — сказал я, — такими бумажками только печки топить. А ты за пазухой носишь... Женька сначала только глазами моргал, а потом возьми да и скажи: — Это, думаешь, обыкновенная? Это лично у главного шпиона отобрали. Понял? — И тебе дали? — не поверил я. — Тебе-тебе... — протянул Женька. — Бате моему дали. Он в специальном авиаотряде... Мне доверили на один день... Женькин отец — военный лётчик. У него в петлицах по две шпалы[1]. Я поверил Женьке — мало ли для чего нужна нашему командованию эта листовка. Может, на ней есть тайные надписи, каких не видно простым глазом. — Ты давай квартиру укрепи, — сказал Женька. Я не знал, что это значит. Но Женька сам объяснил. — Видел — на всех окнах бумажные кресты? — Ага. — Это на случай бомбёжки. Бомба упадёт, и все стёкла разобьются, а клееные — ничего. Их бумага удержит. Клей делают из муки, — продолжал Женька. — А на кресты газета подойдёт. — Он помолчал и спросил: — Мука-то у вас есть? Если нет — ко мне зайди, а то в магазинах очередь. Я килограмма два дам — хватит. Пока мы сидели на даче, Женька здорово освоил военное дело. Пакет с мукой я отыскал в коридоре под вешалкой. Как варят клей, я знал — видел, когда квартиру ремонтировали. Я налил в таз воды, вскипятил её, а потом высыпал пять больших чашек муки. Пока я нарезал газету полосами, пока искал кисть, пришли мамка с Галкой. — Ты чего это? — удивилась мама, увидев на столе таз с клеем и целую кучу бумажных полос. — Все уже давно к бомбёжке готовы, а мы даже окна не оклеили, — сказал я сердито. — Ты видела — на всех окнах кресты. Это на случай бомбёжки. Они здорово помогают. Мама ничего не ответила, только вздохнула и вытащила из сумочки какие-то голубенькие листочки. На одних листочках было написано «хлеб», на других «крупа и сахар», на третьих «мясо, рыба, жиры». Это были карточки. Галка без умолку болтала — всё радовалась, что теперь продукты будут по карточкам. Меня это не занимало. Есть дела и поважнее, чем какие-то продукты и карточки. Вечером мама опять ходила в жилищную контору — ЖАКТ. — Ну вот, — сказала она, — нам советуют эвакуироваться, а пока не решили, как быть, я буду ездить на оборонные работы. — Эвакуироваться — это дудки, — сказал я, — а на оборонные работы ты меня возьми. — И меня, мамочка, — заскулила Галка. — Нет, нет, — сказала мама, — этого делать нельзя. А вам тоже придумаем дело, здесь. По утрам мамка стала уезжать па окопы. Из нашего дома многие ездят окопы рыть, а нас не берут. Но мы с Женькой без дела не сидим. Я теперь читаю все газеты. Газеты теперь жутко интересные. Я развернул «Ленинградскую правду» и стал сводку Совинформбюро читать: «...Наши войска вели упорные бои на Мурманском, Кексгольмском, Минском направлениях. На Кексгольмском направлении противник в нескольких местах перешёл в наступление и пытался углубиться в нашу оборону... Атаки противника были отбиты с большими для него потерями». — Ясно? — спросил я у Пирата. Пират встал и хотел лизнуть меня. Я стал читать сводку дальше. «...Осуществляя планомерный отход, согласно приказу, наши войска оставили Львов...» Львов... Над папкиным сколом, сбоку, висела карта. По вечерам, после работы, отец читал газеты и втыкал в карту булавки с красными шляпками. Булавки означали места, где шли бои. Они всё больше углублялись на нашу территорию. — Гады! — сказал я и сунул в карман бутерброд. Времени на завтрак не было. Часы показывали без пятнадцати девять. За окном раздался свист. На улице стоял Женька. На голове у него был настоящий лётчицкий шлем. — Пошли! — крикнул Женька и потрогал на голове шлем. — Погоди маленько... Только Галку отыщу... — Некогда! — Женька снял, снова надел шлем и пошёл. Я бросился к чердачной лестнице. Галка оказалась на чердаке и своим писклявым голоском напевала:
ПРОВОДЫ
День был такой, что асфальт плавился. Ступишь на него, а от ботинка следы остаются. И от машин тоже. Листья на деревьях, как тряпочки, обмякли. Всё наше семейство — папа, мама, Галка, я и даже Пират — сидели в кузове грузовика. Грузовик вёз нас на Московский вокзал. Мы провожали Галку. Она уезжала на Урал. С одной старой маминой приятельницей. Машина взобралась на Строганов мост и побежала по блестящим доскам[3]. За перилами серебрилась Нева, Большая Невка. Клубя дымом, к мосту подходил буксир. Вот он свистнул. Труба у него надломилась и легла у капитанского мостика — это чтобы мост не задеть. За буксиром тянулись плоты. Я заглянул в окошко кабины. В кабине рядом с шофёром сидела мамина приятельница со своим маленьким сыном. Они уезжали на Урал, к своим родственникам. Наша машина обогнула телегу, которую везла большая коричневая лошадь, и побежала по Каменноостровскому проспекту[4]. Я посмотрел налево — ничего интересного. Просто большие каменные дома. А справа — парк. Там, за деревьями и кустами, наверняка пушки должны быть. Пушки всегда надо спрятать получше, чтобы враг не увидел. Солнце ложилось за кроны тополей, золотило верхушки могучих дубов. Аллеи убегали в глубину Каменного острова, терялись среди пышных зелёных кустов. Пушек не было видно. Когда мы подъехали к Каменноостровскому мосту, на дороге, которая вела вдоль Малой Невки, показался отряд красноармейцев. Машина взбежала на мост. И тут я услышал грохот. Повернул голову — к мосту ползли танки. С красными звёздами на башнях. Сами зелёные. Сердце у меня так и застучало. Я прямо вцепился руками в борт машины. Но тут наш грузовик свернул с проспекта. — Видишь, войска, — услышал у самого уха голос отца. — Весь гражданский транспорт сворачивает. Автомобили и телеги сворачивали вправо вдоль Невки, а потом налево на ухабистую дорогу. В последний раз увидел я шедшие по мосту танки. Вот мелькнула машина с пушкой на прицепе, и всё исчезло за деревьями, за неуклюжим серым домом. На центральную улицу Петроградской стороны — на Кировский проспект мы выехали не скоро, уже у парка Ленина. Ни танков, ни других войск не было и в помине. Слева и справа тянулись тополя. Вот из-за деревьев вынырнул нарядный трёхэтажный дом. Над улицей повис небольшой балкон. Я не раз бывал в этом красивом доме. В нём — музей Кирова. Через дорогу от музея вытянулся тёмный, со сплошными лентами окон и длинными балконами Дом политкаторжан. В нём я тоже бывал. Внизу есть отличный зал. Мы всей школой гуда ходили. Там показывали кукольный спектакль «Золотой ключик». Я только во втором классе тогда учился. А наверху, как учительница рассказывала, живут семьи политических заключённых. Тех, кого царь сажал в тюрьму, кто революцию делал. У Дома политкаторжан сквер горбился не то блиндажами, не то дзотами. А у Петропавловской крепости — она как раз напротив — шпиль совсем даже не блестел, хотя вовсю светило солнце. Я сразу догадался, что это, наверно, для маскировки позолоту краской сверху покрыли, чтобы не блестела. Машина миновала Кировский мост[5]. Впереди — деревья стоят. Вдалеке, в центре сквера, тёмные гранитные плиты братских могил. Там похороне ны герои революции. Вокруг цветники, сирень, черёмуха... Раньше всегда трава на Марсовом поле была зелёная-зелёная, а теперь... У улицы Халту- рина[6] образовалась пробка. Я отлично видел, как изменилось за последние дни Марсово поле. Из-под свежевскопанной земли во многих местах торчали брёвна красноармейских блиндажей. Укрытые маскировочными сетками, притаились зенитке... Их стволы смотрят в небо. Но явится фашистский стервятник — несдобровать ему. Эти пушечки будь здоров какие!
По аллее шёл отряд.
— Кру-гом! — приказал командир. Красноармейцы, как один, повернулись и пошли в другую сторону. Над ними поблёскивали штыки. «Счастливчики!» — подумал я.
Угол Невского и Малой Садовой. Мне очень нравился этот огромный красивый дом. Со скульптурами. С большущими витринами Елисеевского магазина. На витринах раньше было полно разных больших корзин с фруктами, всяких вкусных вещей, а теперь витрины закрыты щитами из досок. Щиты высокие, с двухэтажный дом, они стояли немного наклонно к стене, будто горки крутые. Это, ясное дело витрины засыпали песком, а потом досками обшили — на случай бомбёжки. Чтобы осколки не попали...
Тракторы-тягачи везли на прицепах глыбы из камня. Глыбы похожи на пирамиды, только меньше. Даже ниже человека.
— Какие красивые! — сказала о них Галка.
— Противотанковые надолбы, — объяснил я.
— Видишь, Надя, — сказал папка, — положение назревает серьёзное. Вам тоже следует поспешить...
Мама не ответила.
...На вокзале — толчея страшная, будто весь город уезжать собрался. И узлы везде. И целые кучи чемоданов. Протиснулся сквозь толпу отряд красноармейцев. Где-то в стороне от нашей платформы ухает оркестр. Наверно, на фронт эшелон отправляют, но его не видать — поезд загородил. Поезд стоит не под стеклянным навесом вокзала, а на отшибе, у крайней платформы, возле длинного кирпичного здания. Поезд идёт на Восток. На нём и поедет Галка с маминой приятельницей. У вагонов — не протиснуться. Очереди, будто в продуктовые магазины. И жарища — дышать нечем.
— Следующий! — командует проводница в синей форме и рассматривает билеты. — Так. Место пятнадцатое и шестнадцатое, — говорит она и кладёт билеты в специальную сумку.
Галка хнычет, говорит, что хочет быть вместе с нами.
— Тебе папа поручил самое важное, самое трудное, — успокаивает мама, — всё подготовить к нашему приезду.
— Без разведки я, при всём желании, не могу отпустить сразу всех, — поддакивает папа. — Ты, Галенька, будешь хорошим разведчиком?
«Ничего, — думаю я. — Это дудки, я на фронт поеду., а не в тыл. Только бы Жекин отец не обманул... Жека сказал, что отец точно возьмёт нас в свой специальный авиационный разведывательный отряд. Вместе с Пиратом... Сегодня к Жеке должен прийти связной от дяди Димы... Может, даже уже пришёл...»
Из раздумий меня вывел голос Галки.
— Я буду разведку делать, — сказала Галка и заплакала. — Только ты, мамочка, скорее ко мне приезжай...
Галка кладёт голову па спину Пирату и гладит его. Собака высунула язык и прерывисто, будто после бега, дышит. Уши у неё слегка вздрагивают. Пират по очереди смотрит то на Галку, то на меня. Смотрит грустно. Будто спросить что-то хочет.
— Ты за Пиратом следи хорошо, — сказал я неожиданно для самого себя. — И мне пиши о нём... И о себе. Ладно?
Сначала проводница никак не хотела пускать в вагон собаку, а потом оказалось, что у неё с мамой какие-то общие знакомые есть.
— Ладно. Собака поедет в служебном купе... -сказала проводница. Я чуть не заплакал, когда за Пиратом закрылась дверь.
— Провожающие, выходите! — потребовала проводница.
Люди толкались. Кричали.
Мамка обняла Галку, и обе они заплакали.
— Не беспокойся, Надюша, — сказала маме её приятельница. — Всё будет хорошо. А вы тоже быстрее приезжайте...
— Как только Павел уйдёт... в армию, — сказала мама и снова заплакала.
Когда отошёл Галкин поезд, вокзальные часы показывали два. На встречу с Женькой я опоздал. «Всё, теперь ничего не выйдет с разведывательным отрядом, придётся тоже эвакуироваться, — со страхом подумай я. — Связной пришёл, а меня нет. Ясное цедр, ждать не станут... И Пирата нет...»
Тротуар пузырился от дождя. Дорога плыла, будто река. Раскаты грома грохотали так, что всё кругом дрожало. Женьки нигде не было. Я подумал, что он уже на фронт ушёл, и совсем перестал обращать внимание на дождь.
рина[6] образовалась пробка. Я отлично видел, как изменилось за последние дни Марсово поле. Из-под свежевскопанной земли во многих местах торчали брёвна красноармейских блиндажей. Укрытые маскировочными сетками, притаились зенитке... Их стволы смотрят в небо. Но явится фашистский стервятник — несдобровать ему. Эти пушечки будь здоров какие!
По аллее шёл отряд.
— Кру-гом! — приказал командир. Красноармейцы, как один, повернулись и пошли в другую сторону. Над ними поблёскивали штыки. «Счастливчики!» — подумал я.
Угол Невского и Малой Садовой. Мне очень нравился этот огромный красивый дом. Со скульптурами. С большущими витринами Елисеевского магазина. На витринах раньше было полно разных больших корзин с фруктами, всяких вкусных вещей, а теперь витрины закрыты щитами из досок. Щиты высокие, с двухэтажный дом, они стояли немного наклонно к стене, будто горки крутые. Это, ясное дело витрины засыпали песком, а потом досками обшили — на случай бомбёжки. Чтобы осколки не попали...
Тракторы-тягачи везли на прицепах глыбы из камня. Глыбы похожи на пирамиды, только меньше. Даже ниже человека.
— Какие красивые! — сказала о них Галка.
— Противотанковые надолбы, — объяснил я.
— Видишь, Надя, — сказал папка, — положение назревает серьёзное. Вам тоже следует поспешить...
Мама не ответила.
...На вокзале — толчея страшная, будто весь город уезжать собрался. И узлы везде. И целые кучи чемоданов. Протиснулся сквозь толпу отряд красноармейцев. Где-то в стороне от нашей платформы ухает оркестр. Наверно, на фронт эшелон отправляют, но его не видать — поезд загородил. Поезд стоит не под стеклянным навесом вокзала, а на отшибе, у крайней платформы, возле длинного кирпичного здания. Поезд идёт на Восток. На нём и поедет Галка с маминой приятельницей. У вагонов — не протиснуться. Очереди, будто в продуктовые магазины. И жарища — дышать нечем.
— Следующий! — командует проводница в синей форме и рассматривает билеты. — Так. Место пятнадцатое и шестнадцатое, — говорит она и кладёт билеты в специальную сумку.
Галка хнычет, говорит, что хочет быть вместе с нами.
— Тебе папа поручил самое важное, самое трудное, — успокаивает мама, — всё подготовить к нашему приезду.
— Без разведки я, при всём желании, не могу отпустить сразу всех, — поддакивает папа. — Ты, Галенька, будешь хорошим разведчиком?
«Ничего, — думаю я. — Это дудки, я на фронт поеду., а не в тыл. Только бы Жекин отец не обманул... Жека сказал, что отец точно возьмёт нас в свой специальный авиационный разведывательный отряд. Вместе с Пиратом... Сегодня к Жеке должен прийти связной от дяди Димы... Может, даже уже пришёл...»
Из раздумий меня вывел голос Галки.
— Я буду разведку делать, — сказала Галка и заплакала. — Только ты, мамочка, скорее ко мне приезжай...
Галка кладёт голову па спину Пирату и гладит его. Собака высунула язык и прерывисто, будто после бега, дышит. Уши у неё слегка вздрагивают. Пират по очереди смотрит то на Галку, то на меня. Смотрит грустно. Будто спросить что-то хочет.
— Ты за Пиратом следи хорошо, — сказал я неожиданно для самого себя. — И мне пиши о нём... И о себе. Ладно?
Сначала проводница никак не хотела пускать в вагон собаку, а потом оказалось, что у неё с мамой какие-то общие знакомые есть.
— Ладно. Собака поедет в служебном купе... -сказала проводница. Я чуть не заплакал, когда за Пиратом закрылась дверь.
— Провожающие, выходите! — потребовала проводница.
Люди толкались. Кричали.
Мамка обняла Галку, и обе они заплакали.
— Не беспокойся, Надюша, — сказала маме её приятельница. — Всё будет хорошо. А вы тоже быстрее приезжайте...
— Как только Павел уйдёт... в армию, — сказала мама и снова заплакала.
Когда отошёл Галкин поезд, вокзальные часы показывали два. На встречу с Женькой я опоздал. «Всё, теперь ничего не выйдет с разведывательным отрядом, придётся тоже эвакуироваться, — со страхом подумай я. — Связной пришёл, а меня нет. Ясное цедр, ждать не станут... И Пирата нет...»
Тротуар пузырился от дождя. Дорога плыла, будто река. Раскаты грома грохотали так, что всё кругом дрожало. Женьки нигде не было. Я подумал, что он уже на фронт ушёл, и совсем перестал обращать внимание на дождь.

ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮДЯМ!
На следующее утро я сразу побежал к Женьке. К великой моей радости, он оказался дома. — Пирата никуда не пускай, — сказал Женька, водружая на голову свой лётный шлем. — Я к отцу еду... — Пират... — начал я и запнулся — Пират с Галкой... уехал... на Урал... — Тогда и ты поезжай на Урал. Понял?.. Женька злой стал ужасно. Называл меня дураком и растяпой. Я терпел эти оскорбления, потому что чувствовал (себя очень виноватым. Не знаю, что бы ещё наговорил. Женька, если бы в комнату не вошла его мать. Она поздоровалась со мной, а Женьке велела быстрее собираться в дорогу. - Вы на Урал хотите эвакуироваться? — спросила Женькина мама. - Никуда мы не хотим, — ответил я с обидой, а у самого на душе стало темно-темно. Женькина мать не стала больше расспрашивать. — А мы думаем дядю Диму повидать. Он в полдень сегодня должен быть в одной части. Вот и едем... Грустный возвращался я домой. Когда вошёл в наш двор, то сразу увидел красноармейца, который спускался с Люськиного крыльца. На красноармейце была зелёная форма, а на ногах ботинки и чёрные обмотки. «Кто же это такой?» — подумал я. Выбежала Люська-выдра и закричала на всю улицу: — Миша, пироги уже готовые! Ты недолго... Красноармеец оглянулся. Это был Михаил, средний Люськин брат. Раньше он с нами даже в лапту играл. «Везёт же людям, — подумал я, — у Люськи отец на фронте, старший брат и даже Михаила берут...» Я когда-то помогал Михаилу дрова колоть. Он здоровущий и запросто разбивал толстые чурки. Мы с Люськой складывали их в поленницу. В Новой Деревне в жилых домах парового отопления тогда не было, да и вообще раньше в Ленинграде отапливались больше всё с помощью печей. — Михаил, — спросил я, — а тебя на фронт пошлют? Михаил и рта открыть не успел, как затараторила Люська: — У нас все мужчины — добровольцы. И Миша на самую передовую пойдёт... Люська фасонила до невозможности. Когда Михаил вошёл в сарай и стал там дрова колоть, Люська встала возле сарая и, если по двору шёл кто знакомый, кричала: — Миша сегодня уезжает на фронт, а сейчас он на побывке дома. Вскоре у сарая народу собралось больше, чем надо. И взрослые, и ребята. Чуть не весь дом. Я надеялся узнать у Михаила военные новости, по он посмотрел на часы и сказал: -- Пора собираться. Увольнение дали до шестнадцати часов, — и пошёл вместе с Люськой к своему крыльцу. На другой день весь дом провожал в армию ещё одного нашего соседа. А мне оставалось только ждать и молчать. Надоедать Женьке я боялся — он и так злился на меня за собаку. Нашей семье не везло. Даже отца не берут в армию. Целые дни он на заводе. А ведь тоже на фронт хочет. Раз почти даже наладилось всё. Папа пришёл тогда в ватнике. На голове — фуражка со звёздочкой. И ремни новенькие, скрипучие. Даже с колечком для револьвера. — Иду в ополчение, — сказал он, — а вы должны как можно скорее эвакуироваться в тыл. Через несколько дней папка принёс билет на самолёт. Но мы никуда не полетели, потому что эвакуацию, на моё счастье, приостановили. Отца в армию не взяли. И в народное ополчение не взяли. — Ты же, пап, военный командир, — сказал я. — У тебя в Гражданскую войну отряд свой был. Почему они тебя не берут? Это же нечестно. Папа вздохнул. Его завод выполнял заказы для фронта. Папа был там начальником самого главного цеха. Он даже в Москву писал, но оттуда ответили: — Вы нужны на заводе. Уход с завода будет рассматриваться как дезертирство.
СЛОВО ВОЕНКОМА
В нашем доме, на окрашенной в серый цвет стене, появился большой белый лист бумаги. Верхний правый угол чуть подрагивал от ветра. На листе — обращение. Возле пего стоит старик с тростью и губами шевелит. У старика белая борода, а спина изогнута. Наверное, он редко выходит на улицу и обращение после всех читает. Я давно, ещё рано утром читал обращение. Но разве можно просто так пройти мимо? Мы подходим с Женькой и читаем снова. «...Встанем, как один, на защиту своего города, своих семей, своей чести и свободы! Выполним наш священный долг советских патриотов!» — Понял? — спросил Женька, кивая на обращение. Не сговариваясь, мы тронулись в военкомат, потому что оттуда начиналась армия. Мы уже бывали в нашем райвоенкомате — провожали Люськиного старшего брата. С отцом я тоже ездил в военкомат — правда, наверх не поднимался. Ждал у входа. Теперь обязательно надо попасть к самому военкому. На трамвае мы доехали до площади Льва Толстого. По Большому проспекту красноармейцы несли огромную сигару-аэростат. Они держали его за верёвки, а он всё рвался вверх, и солнце поблёскивало на его упругих серебристых боках. — На ночь вы его поднимете в воздух? — спросил Женька красноармейца. — Угу, поднимем, — ответил красноармеец и потрепал Женьку по плечу. Когда мы уже подходили к военкомату, я спросил у Женьки: — А что мы идём в военкомат, это не помешает разведотряду? — Не, — ответил Женька. — Ничего. Если мы попадём в другой отряд — отец потом всё равно заберёт нас к себе. Несколько минут мы шли молча. Потом Женька мечтательно сказал: — Самое главное — скорее на фронт попасть... ...Шамшева улица. Большой серый дом военкомата. Рядом рынок. Дерябкинский. Деревянные павильоны с тёмными крышами. Под ними идёт торговля. Впрочем, и на улице народу полно. Женщина склонилась над ведром и набирает в стакан семечки. Обтрёпанный, хромой мужчина тычет людям в лицо сапоги и нахваливает: «Хромовые, отличные обутки...» Только кому теперь одежда нужна?.. Картошка или фрукты — другое дело. У дверей военкомата кого только нет! И все хотят на фронт. Все пришли просить оружие. С трудом протиснулись мы на лестницу. — Это ещё что? — остановил нас высоченный, с очень жёсткими руками мужчина в военном кителе. На рукаве у него была красная повязка. — Мы к начальнику, — сказал Женька. — Небось воевать хотите? - спросил мужчина. — Воевать, — признались мы. Нас выпроводили на улицу. У парадной Женька заметил дощечку со списком жильцов. В квартире номер три жил какой-то Кузнецов. — Мы Кузнецовы — понял?.. — сказал Женька. — Какие Кузнецовы? — спросил я. _ Которые в этом доме живут, — ответил Женька, — у самого военкомата. Мы снова протиснулись на лестницу. Нас опять хотели прогнать, но мы сказали, что живём в этом доме и фамилия наша Кузнецовы. Проверять никто не стал, а Женька, не моргнув глазом, соврал: — Начальник военкомата — это вон его дядя родной, — и показал на меня. Нас прямёхонько к самой комнате военкома протиснули. — Ты, хлопчик, если что, замолви военкому словечко, — сказал усатый старик. — Я как раз на очереди... У самой двери с надписью «Районный военный комиссар» мне стало не по себе. Я хотел улизнуть, но старик взял меня за плечо и подтолкнул вперёд. Мы вошли в кабинет военкома. Командир с двумя шпалами сидел за столом и что-то читал. На столе лежали целые пачки бумаги и много папок. — Садитесь, товарищ! — сказал военком, не поднимая головы, а когда поднял, то только лоб потёр. — Ничего не понимаю, — сказал военком и снова потёр лоб. Потом он стал разглядывать нас, будто мы не ребята, а слоны из зоопарка. Я гак растерялся, что ноги у меня стали подрагивать, и я совсем даже забыл, зачем пришёл. — Здравствуйте, товарищ военком! Бойцы Евгений Дмитриевич Орлов и Вовка Павлов прибыли за оружием! — вдруг прокричал Женька так, что не только я, но даже командир вздрогнул. — Пошлите нас на фронт, товарищ военком, пожалуйста, — выдохнул я разом. Военком рассмеялся, а потом похвалил Женьку, что он громко, как настоящий военный, отрапортовал. — Я строевой устав учил и стрелять умею, — похвастал Женька и сразу вроде даже больше стал. — Стрелять умеешь? — спросил военком у Женьки. — Умею, — ответил Женька. Военком открыл шкаф и достал оттуда винтовку. — Посмотрим, хлопцы, можно вас на передовую послать или нет. Военком лязгнул затвором и протянул мне винтовку. — Держи! Я взял винтовку двумя руками. Она была тяжёлая и большая. Так и тянула к полу. Но я и виду не подал, как тяжело, — красноармеец должен быть сильным. — А теперь покажи, как стреляют из положения стоя, сказал военком и на часы посмотрел. Я расставил ноги и стал винтовку поднимать. В кино я тысячу раз видел, как это делают. Р-раз! И приклад у плеча. Потом затвором — р-раз! — и заряжена. Стреляй. Не промахнись только. И на школьных манёврах я сам всё делал. Пионервожатая даже хвалила. А тут... Я даже вспотел, пока выровнял винтовку. Только стал целиться, а дуло вниз уже ползёт. Сил никаких нет удержать его. — Что это? -- нахмурился военком. — Ты во! Во-во! Понял? — прыгал вокруг меня Женька и надувал щёки. — Крепче держи, шляпа... Двумя руками... — Двумя руками... Будто я одной... Я и так правую руку у затвора держу, а левой ствол удерживаю. — Ясно, — сказал военком. — Теперь давай сам, товарищ... — Орлов, — напомнил Женька. — Отец у меня лётчик, и у него тоже две шпалы. — Смотри-ка, — рассмеялся военком. Взглянул на часы и насупился. — Давай быстренько, потомственный военный. Женька надул щёки и разом рванул винтовку вверх. — Осторожнее! Она хоть учебная, да винтовка, — одёрнул военком. Красный как рак Женька кряхтел и дергался — всё старался выровнять винтовку, чтобы цель на мушку взять.
 — Да... — протянул военком, — силёнок не лишку.
Я не совался с советами — стыдно было за себя и жутко обидно, что такая возможность про падает. Военкому, ясное дело, нужны настоящие бойцы, чтобы стреляли хорошо и врукопашную могли. А я...
— Я по-лётчицки, — сказал Женька. Выгнулся, как циркач, приспособил винтовку на стол, и стал водить ею, чтобы цель на мушку взять. И как только я не догадался об этом? Вот ведь болван.
— Во, товарищ военком! — спадал Женька. — Патрон дадите— под самое яблочко попаду...
- Находчив ты, приятель, — сказал военком. — Только на фронте столов тебе никто не поставит. Стрелять надо из любого понижения — и стоя, и на бегу, и с колена. А для этого силёнок надо набраться. Спортом нужно заниматься как следует, тренироваться. Без этого ничего не получится.
Военком снова посмотрел на часы и сказал:
— А теперь идите домой и готовьтесь. Учитесь хорошо и родителей слушайтесь.
— Мы сильные будем. Вот увидите, — уныло сказал Женька. Я кивнул головой. Конечно, мы будем тренироваться и сможем стрелять из любого положения И вообще настоящими спортсменами станем. Если бы мы раньше знали про войну, то теперь бы тоже не краснели. У нас в школе такой физкультурный зал и кружки разные...
— А когда мы подготовимся, то можно — снова придём? — спросил Женька.
— Обязательно! — ответил военком и попрощался с нами за руку.
Когда мы вышли на улицу, Женька буркнул:
— Можно было на фронт попасть, а ты...
— Чего? спросил я.
— Расчевокался, — огрызнулся Женька. — Из-за тебя провалились. Ты сразу и меня засыпал... Понял?
Несколько минут мы шли молча. Потом я сказал:
— Ты не злись. У тебя пушка. Винтовка ни к чему, а вот я...
Женька кисло улыбнулся и ничего не ответил.
Когда мы вышли на Геслеровский проспект[7], неожиданно взвыли сирены, женщина с противогазом на плече потащила нас в укрытие. Пока мы бежали до щели, в небе послышался прерывистый гул. Казалось, где-то вдалеке гудит пчелиный рой.
Только с перерывами. Гулко застучали зенитки. Я замедлил бег и посмотрел вверх. В небе вспыхивали белые облачка разрывов. Они быстро расцвечивали синеву неба. Выше разрывов я увидел сразу три самолёта — один впереди и два по бокам и чуть позади.
— Быстрее, ребята! — прокричала женщина, подталкивая нас ко входу в щель. Когда за нами захлопнулась дверь, я услышал прерывистый свист.
— Бомбят! Ложись! — Срывающийся голос прорезал полутьму убежища. Кто-то толкнул меня, и я упал на мокрый пол. Чудовищный грохот оглушил меня. Мне показались, что на нашу щель, прямо на меня падает что-то огромное. Я хотел вскочить на ноги, но чья-то сильная рука снова прижала меня к полу.
Грохот постепенно затихал, с потолка щели сыпалась земля. Где-то в другом конце убежища послышался плач ребёнка. Я боимся пошевелиться. Мне казалось, что за эти минуты у меня, наверное, оторвало или руку, или ногу...
Кто-то зажёг потухшую во время бомбёжки свечу. В её сером свете я увидел присыпанные землёй доски пола.
— Дальше полетели, — скалив мужчина в кожаной тужурке. Я вгляделся в него и узнал Василия Васильевича — папиного сослуживца и отца Петьки Ершова, который со мной и Женькой в одном классе.
Василий Васильевич стряхнул землю с тужурки и брюк, сел на скамейку, которая тянулась вдоль всей щели. Поднялся с пола и Женька, и все остальные вставали.
Где-то вдалеке-слышались разрывы бомб. Удалялись и хлопки зениток.
Какая-то женщина прошла мимо нас к выходу из щели.
— Я должна выйти... Моя мать дежурит у дома... Я должна... Может быть, наш дом...
Дежурный не выпустил женщину из убежища. Она села возле Василия Васильевича и всё время спрашивала:
— Вы уверены, что что не в наш дом бомба попала?.. Уверены?..
Василий Васильевич хмурился и говорил, что уверен. Открылись дверь щели, и кто-то прокричал:
— Граждане! Можете выходить. Отбой воздушной тревоги.
Женщина, что сидела около Василия Васильевича, рванулась к выходу и быстро исчезла.
Когда началась тревога, напротив щели, в которой мы спрятались на другой стороне улицы был красивый каменный дом. У арки сидела старушка с противогазом на коленях — дежурная. Теперь не было ни дома, ни старушки. Только стены да груды дымящихся кирпичей. В воздухе повисли лестничные марши.
Сандружинницы укладывали на носилки рядом с женщиной маленькую девочку с окровавленным лицом.
Подъехали два грузовика. С них соскакивали девушки в сапогах и гимнастёрках, с лопатами и ломами — дружинницы местной противовоздушной обороны. Они будут раскапывать развалины, потому что под обломками есть люди...
Домой мы возвращались молча. Перед глазами у меня всё стояла то женщина, которая рвалась из щели, то девочка с окровавленным лицом. Женька, наверно, тоже о них думал.
Уже возле дома Женька сказал как-то растерянно:
— Надо что-то придумать... Надо скорее на фронт...
В то время я не придал его словам особого значения.
А именно тогда в Женькиной голове зародился план, который потом принёс мне много неприятностей.
— Да... — протянул военком, — силёнок не лишку.
Я не совался с советами — стыдно было за себя и жутко обидно, что такая возможность про падает. Военкому, ясное дело, нужны настоящие бойцы, чтобы стреляли хорошо и врукопашную могли. А я...
— Я по-лётчицки, — сказал Женька. Выгнулся, как циркач, приспособил винтовку на стол, и стал водить ею, чтобы цель на мушку взять. И как только я не догадался об этом? Вот ведь болван.
— Во, товарищ военком! — спадал Женька. — Патрон дадите— под самое яблочко попаду...
- Находчив ты, приятель, — сказал военком. — Только на фронте столов тебе никто не поставит. Стрелять надо из любого понижения — и стоя, и на бегу, и с колена. А для этого силёнок надо набраться. Спортом нужно заниматься как следует, тренироваться. Без этого ничего не получится.
Военком снова посмотрел на часы и сказал:
— А теперь идите домой и готовьтесь. Учитесь хорошо и родителей слушайтесь.
— Мы сильные будем. Вот увидите, — уныло сказал Женька. Я кивнул головой. Конечно, мы будем тренироваться и сможем стрелять из любого положения И вообще настоящими спортсменами станем. Если бы мы раньше знали про войну, то теперь бы тоже не краснели. У нас в школе такой физкультурный зал и кружки разные...
— А когда мы подготовимся, то можно — снова придём? — спросил Женька.
— Обязательно! — ответил военком и попрощался с нами за руку.
Когда мы вышли на улицу, Женька буркнул:
— Можно было на фронт попасть, а ты...
— Чего? спросил я.
— Расчевокался, — огрызнулся Женька. — Из-за тебя провалились. Ты сразу и меня засыпал... Понял?
Несколько минут мы шли молча. Потом я сказал:
— Ты не злись. У тебя пушка. Винтовка ни к чему, а вот я...
Женька кисло улыбнулся и ничего не ответил.
Когда мы вышли на Геслеровский проспект[7], неожиданно взвыли сирены, женщина с противогазом на плече потащила нас в укрытие. Пока мы бежали до щели, в небе послышался прерывистый гул. Казалось, где-то вдалеке гудит пчелиный рой.
Только с перерывами. Гулко застучали зенитки. Я замедлил бег и посмотрел вверх. В небе вспыхивали белые облачка разрывов. Они быстро расцвечивали синеву неба. Выше разрывов я увидел сразу три самолёта — один впереди и два по бокам и чуть позади.
— Быстрее, ребята! — прокричала женщина, подталкивая нас ко входу в щель. Когда за нами захлопнулась дверь, я услышал прерывистый свист.
— Бомбят! Ложись! — Срывающийся голос прорезал полутьму убежища. Кто-то толкнул меня, и я упал на мокрый пол. Чудовищный грохот оглушил меня. Мне показались, что на нашу щель, прямо на меня падает что-то огромное. Я хотел вскочить на ноги, но чья-то сильная рука снова прижала меня к полу.
Грохот постепенно затихал, с потолка щели сыпалась земля. Где-то в другом конце убежища послышался плач ребёнка. Я боимся пошевелиться. Мне казалось, что за эти минуты у меня, наверное, оторвало или руку, или ногу...
Кто-то зажёг потухшую во время бомбёжки свечу. В её сером свете я увидел присыпанные землёй доски пола.
— Дальше полетели, — скалив мужчина в кожаной тужурке. Я вгляделся в него и узнал Василия Васильевича — папиного сослуживца и отца Петьки Ершова, который со мной и Женькой в одном классе.
Василий Васильевич стряхнул землю с тужурки и брюк, сел на скамейку, которая тянулась вдоль всей щели. Поднялся с пола и Женька, и все остальные вставали.
Где-то вдалеке-слышались разрывы бомб. Удалялись и хлопки зениток.
Какая-то женщина прошла мимо нас к выходу из щели.
— Я должна выйти... Моя мать дежурит у дома... Я должна... Может быть, наш дом...
Дежурный не выпустил женщину из убежища. Она села возле Василия Васильевича и всё время спрашивала:
— Вы уверены, что что не в наш дом бомба попала?.. Уверены?..
Василий Васильевич хмурился и говорил, что уверен. Открылись дверь щели, и кто-то прокричал:
— Граждане! Можете выходить. Отбой воздушной тревоги.
Женщина, что сидела около Василия Васильевича, рванулась к выходу и быстро исчезла.
Когда началась тревога, напротив щели, в которой мы спрятались на другой стороне улицы был красивый каменный дом. У арки сидела старушка с противогазом на коленях — дежурная. Теперь не было ни дома, ни старушки. Только стены да груды дымящихся кирпичей. В воздухе повисли лестничные марши.
Сандружинницы укладывали на носилки рядом с женщиной маленькую девочку с окровавленным лицом.
Подъехали два грузовика. С них соскакивали девушки в сапогах и гимнастёрках, с лопатами и ломами — дружинницы местной противовоздушной обороны. Они будут раскапывать развалины, потому что под обломками есть люди...
Домой мы возвращались молча. Перед глазами у меня всё стояла то женщина, которая рвалась из щели, то девочка с окровавленным лицом. Женька, наверно, тоже о них думал.
Уже возле дома Женька сказал как-то растерянно:
— Надо что-то придумать... Надо скорее на фронт...
В то время я не придал его словам особого значения.
А именно тогда в Женькиной голове зародился план, который потом принёс мне много неприятностей.

«БОКСЁРСКАЯ» МАЗЬ
— До первой крови! — объявил Женька и стал руки натирать какой-то вонючей мазью. — А это чего у тебя? — спросил я. — Боксёрская мазь, — ответил Женька и спрятал баночку в карман. — А мне дашь боксёрской мази? — Ушлый какой! — ухмыльнулся Женька. — Чтобы меня же нокаутировал, да? — Это как? — не понял я. — Марала! — сказа я Женька снисходительно. — Даже слов боксёрских не знает. Мне стало очень стыдно. Я попросил Женьку объяснить эти слова. — За каждое слово, — сказал Женька, — буду выдирать у тебя по две волосины. Понял? — Ладно, — согласился я. — Давай. Выдирай. Мы стояли друг против друга между двумя сараями. Один проход был завален дровами, а другой почти упирался в дом. Над головой сияло небо. Место было самое подходящее для всяких секретных дел. — Нокаутировать, — говорил Женька, — это когда я тебя шмякну так, что и не встанешь. Понял? Я мотнул головой, хотя мне совсем не нравилось, что Женька так про меня говорит. — Башку подставляй! — потребовал Женька. Я наклонился и глаза зажмурил. «Ничего, — думал я. — Две волосины — это ерунда. У меня их много, и велю тренировать надо». Женька не спеша рылся у меня в волосах, а потом как дёрнет. В тяглах у меня будто молния блеснула, и больно стало так, что я не стерпел и закричал: — Я вот тебе дам! — Трус! — сказал Женька, — Из-за двух волосин барахлит, как испорченный мотор. — Если бы ты две взял, а то... — стал я оправдываться. — В боксе, — загадочно сказал Женька, — главное дело — правила выучить. Вот если знаешь их, никто тебя не победит. Потому что самые сильные люди придумали это. - А ты знаешь? — недоверчиво спросил я. — Спрашиваешь ещё!.. Да я эти правила во сне вижу. Мне отец, когда этот... — Женька осмотрелся по сторонам и закончил шёпотом: — Когда пистолет свой дал, то и правилам научил. Без них нельзя. Понял? — Отец тебе пушку дал... — поправил я и задумался — не травит ли Женька. — Пистолет... — протянул Женька и вдруг заговорил быстро-быстро: — Это и есть пушка. Только она, знаешь, на пистолет смахивает. А курок красненький. Когда зарядишь, лампочка зажигается. Синяя. Это для светомаскировки, чтобы фрицы не увидели. А стреляет — будь здоров... И грохочет как гром... А можно и бесшумно. Там кнопочка есть секретная. Маленькая В увеличительное стекло смотреть надо. С этой пушкой наши самого Гитлера кокнут. Понял?.. В голове у меня от этих слов такой винегрет получился — ужас. — А к военкому ты пойдёшь? — спросил я Женьку. Женька почесал ухо и ответил важно: — Надо обсудить этот вопрос... — А с кем обсудить? — сгорая от любопытства, спросил я. — Так все секреты тебе и выдай, да? Я понял, что Женька будет советоваться со связным своего отца. А может, даже с отцом. — Ладно. Рассказывай правила, — сказал я. Женька авансом выдрал у меня ещё клок волос, а потом и говорит; — Первое правило — это... цейтнот. Цейтнот — это... Женька сморщился, как от зубной боли, и повторил: — Это значит.,. — Цейтнот — это в шахматной игре бывает, когда времени шахматисту не хватает, — услышал я голос сверху. На крыше стоял Сенька Шульберт — музыкант. В коротеньких штанишках. Сам коротенький, толстый. Руки в кармашки положил и на нас смотрит. — Женька всё врёт тебе, а ты в веришь... Женька сначала растерялся, а потом показал Шульберту кулак и как закричит: — Провокатор! Лови провокатора! Женькин крик подхлестнул меня, и я вслед за Женькой стал карабкаться по поленнице на крышу. Всё произошло так быстро, что я толком я не сообразил ничего. Пока мы лезли вверх, Шульберт соскочил на землю и удрал. ...Цейтнот... Вот дурак! Сам сколько раз с отцом в шахматы играл. И папка часто говорил это слово. Особенно если мама на стол подаст, а мы ещё не доиграли партию. Мне стало не до себе. Теперь я был почти уверен, что Женька врал мне не только про бокс, но и про специальный разведотряд и про пушку... — Если ты травил, — сказал я Женьке, — вот увидишь, все волосья у тебя повытаскаю. Женька ничего не ответил и убежал. Когда бежал, из кармана у него выпала баночка с «боксёрской» мазью. Я поднял её и прочитал на баночке: «Мазь. Применяется против вшей и других насекомых».
Женька ничего не ответил и убежал. Когда бежал, из кармана у него выпала баночка с «боксёрской» мазью. Я поднял её и прочитал на баночке: «Мазь. Применяется против вшей и других насекомых».

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ
Женька как сквозь землю провалился. Нисколько раз я пытался подкараулить его, но безуспешно. На берегу Невы каждый день проходили занятия ополченцев и бойцов местной противовоздушной обороны. Ребята пропадали там целые дни. Когда копали ямы для блиндажей, помогали. Всех наших видел я там, а Женьку — нет. «Может, Женька только про бокс и про пушку врал? — забеспокоился я — А в отряд дядя Дима и правда взял его...» Ребята про Женьку ничего не знали. Квартира Орловых вечно закрыта была. Пошли слухи о том, что фашисты окружили Ленинград и готовятся к штурму города. По нашей Набережной улице[8] в сторону Финляндии шли колонны бойцов. Если бывая у них привал, я выносил бойцам то печенье из дачного запаса, то папиросы из папиного «НЗ» — и угощал. И всё время думал, как бы это побольше помочь фронту. Когда бывали воздушные тревоги, мамка сразу заставляла в убежище бежать — в щель, что была в саду возле нашего дома. По дороге я не раз видел, как в небо взлетали ракеты. То где-то далеко, то совсем близко. Говорили, что это диверсанты запускают их — для ориентировки фашистским лётчикам. Я мечтал поймать диверсанта-ракетчика. Как-то раз, когда взвыли сирены воздушной тревоги, я находился на крыше нашего дома. Здесь никого не было, и я решил никуда отсюда не уходить, в надежде, что повезёт и я выслежу диверсанта. Фашистские самолёты шли не над нашим районом. Хлопки зениток доносились откуда-то издалека. В перерывы между хлопками на крыше устанавливалась насторожённая тишина. Ни огонька нигде не видать. Ни голоса не слышно. И вдруг чьи-то шаги. Осторожные. Крадущиеся. Я так и обмер. Прижался к печной трубе. Жду и прикидываю, как выследить шпиона, а самому остаться незамеченным. И вдруг... Я чуть не поперхнулся. По крыше к чердачному балкону крался Женька. При луне был виден его шлем и бархатная курточка. Только я хотел пугнуть Женьку — послышались разрывы бомб. Сразу много разрывов... За Невой, где-то в другом конце города, выросло красное зарево. Я побежал к чердачному балкону — с балкона-то дальше видно, чем просто с крыши. — Паразиты! — выругался Женька и сплюнул. Я тоже забыл о нашей ссоре. «Только бы в Эрмитаж не попали», — с тревогой думал я, вглядываясь в кровавое зарево, которое разливалось за Невой. Мне почему-то стало вдруг страшно, что фашисты подожгли именно Эрмитаж. Ещё в прошлом году весь наш класс купил абонементы. По ним можно было ходить в музей хоть каждый день. Я очень любил Эрмитаж. Мы не заметили, как на крыше появился дядя Гриша. Я даже вздрогнул, услышав его бас: — Эт-то что такое?! Сейчас же марш в укрытие! — Дядя Гриша схватил нас и отвёл через весь чердак к лестнице, которая вела на улицу. Мы и возразить не успели, как за нами захлопнулась чердачная дверь. Утром зарево стало тёмно-багровым. Из-за Невы летела копоть. Кругом говорили о том, что горят Бадаевские склады, а там продовольствие на весь город. И ещё говорили, что фашисты готовятся к штурму Ленинграда и даже сборище своё запланировали в гостинице «Астория», что возле Исаакиевского собора. ...Вскоре после пожара на Бадаевских складах хлебные нормы снизили. Рабочим с 800 до 500 граммов, а иждивенцам и детям стали давать всего по 300 граммов в день. Из магазинов исчезли сливочное масло, крупы. Длиннущие очереди стоят за маисовой мукой и крахмалом — их дают вместо крупы, за селёдкой — она идёт вместо мяса. Ну да продукты не главное. Главное — как на фронте. Когда немцы не бомбили и не обстреливали город, ветер доносил еле слышную артиллерийскую канонаду. Где-то в пригородах шли бои. Немцы рвались в Ленинград. Потому и занятия у нас не начались 1 сентября. В конце сентября мы узнали, что штурм Ленинграда провалился. Вот тогда всех наших ребят и позвали в школу. — Женя Орлов никуда не уехал, а на занятия не пришёл, — сказала наша классная воспитательница, — обязательно надо навестить его... Кажется, вы большие друзья... — Александра Афанасьевна посмотрела на меня. Мне всё нравится в Александре Афанасьевне, и обычно я стараюсь не очень сердить её. — С Орловым мы совсем и не друзья. Просто так... — ответил я. После всей Женькиной брехни другом он мне больше не мог быть. Разве такого человека кто-нибудь назовёт хотя бы просто приятелем? Как некрасиво, Володя. — Александра Афанасьевна осуждающе покачала головой. — Всё время вместе были, а тут чего-то не поделили и сразу — чуть не враги. А ведь у Жени папа на фронте... Уши у меня после этих слов стали горячие-горячие. Если бы Александра Афанасьевна знала всё про Женьку, то не стала бы так говорить. После уроков в класс вошла наша пионервожатая. — Ребята, — сказала она, — на фронт уходят наши отцы и старшие братья. У многих из них дома остались старушки, маленькие дети. Мы создадим фронтовой пионерский взвод и будем помогать семьям фронтовиков. Название отряда — фронтовой взвод — очень понравилось всем. Все хотели записаться во фронтовой взвод. — Мы примем в наши ряды только тех, — сказала пионервожатая, — кто хорошо себя ведёт и учится как полагается. Командиром взвода стала пионервожатая, а командиров отделений мы избирали сами, из ребят. Нужно было три командира, потому что в классе у нас было три ряда парт. Пионервожатая ушла и сказала, чтобы мы сами подумали над кандидатурами. Спорили долго. Мне очень хотелось стать фронтовым командиром. Но как это сделать? Не самому же напрашиваться? — Коля, — спросил я Кольку Богданова, — а ты тоже хочешь, чтобы тебя сделали командиром? — Меня не изберут, — ответил Колька. — У меня по русскому «плохо» не исправлено. Мы помолчали. Я обдумывал: достоин или нет стать командиром. Перебрал всё и решил, что достоин. А если дисциплину когда нарушал, так ведь исправлюсь. Даже слово дам. Но обо мне забыли. Я зря прислушивался — не назовут ли моё имя. — Меня тоже не изберут, — сказал я с грустью. Колька посмотрел на меня и как закричит: — Вовку Павлова. Павлова запишите! За столом сидел президиум — председатель совета отряда Петя Ершов и отличница Люба Масолова. Петя звонил в колокольчик и кричал: — Ребята, тихо! Садитесь! Но никто его не слушал. Все шумели и толпились у стола. А на крик Коли обернулись, потому что голос у него — будь здоров. И вообще парень он мощный — на голову выше всех в классе и бицепсы у него, когда кулаки сожмёт, как железные. В нашем классе Коля недавно. Раньше он в лесу жил. Отец у него на железнодорожном разъезде работал. В школу Коля ходил в деревню за пять километров. Так что тренировка у него основательная. Подошла Люба-отличница и так это важно спросила у Коли: — Чего ты кричишь? — А я за него, — сказал Коля и показал на меня. — У него с поведением плохо, — сказала Люба. — А тебе чего? — разозлился я. — Подумаешь, отличница какая... А ты из винтовки стрелять умеешь? Ты поднимешь её? Подлетела Люська-выдра и сказала, что я в прошлом году котёнка на урок приносил и потом контрольную списал по арифметике. Девчонки — хитрая публика. Раньше у нас в классе их как раз половина была, а теперь больше половины. Воина идёт, Ленинград в опасности, пацанов почему-то поувозили, эвакуировали, а девчонки остались. Даже обидно от такой несправедливости. Когда вернулась пионервожатая и стали голосовать, девчонки такое устроили, что хоть всех их колоти. Командирами они хотели сделать Любу-отличницу и Люську-выдру, а ребятам всего одно место дать — Петьке Ершову. Ну, тут ребята шум подняли. Даже Петя. — Это нечестно, — сказал он. — В настоящей армии все мужчины, а у нас... — И Петя ни с того ни с сего в свой председательский колокольчик зазвонил. Раньше я не любил Петю — больно примерный. Когда ни вызовут отвечать всё знает. Одни пятерки получал. И ещё он задавала, и с ним никто не дружил, но теперь Петя вёл себя как полагается. После долгих споров меня избрали командиром третьего отделения. Командиром второго стала Люба-отличница, а первого — Пета Ершов. Нашему отделению пионервожатая приказ дала — даже на бумаге написала красивыми буквами — взять шефство над семьями фронтовиков, которые живут рядом с нашими ребятами. — Тебе, Володя, — сказала пионервожатая, — устанавливается испытательный срок. Через месяц посмотрим: можно оставить тебя командиром или нет. — И дала мне красную повязку с надписью «Командир отделения».
ЖЕНЬКИНА ТАЙНА
Пять человек из отделения я послал по домам пусть на месте изучат обстановку, узнают, кому нужна помощь. Коля и Люська-выдра направились со мной к Женьке — выяснить, что с ним. Мы подошли к Женькиному дому, поднялись по лестнице. Я позвонил. За дверью послышался шорох. — Женька! — крикнул я. Никто не ответил. — Может, он в больнице или эвакуировался, — сказал Коля. По лестнице поднималась женщина. Она остановилась у соседней двери и стала отпирать её. — Скажите, пожалуйста, — обратилась к ней Люська — Женя Орлов не в больнице? Вы не знаете? — Опять что-нибудь случилось? — забеспокоилась женщина. — Он в школе не был. Мы проведать пришли, как семью фронтовика, — сказал я. — Тогда звоните, — сказала женщина. — Вчера мать его говорила, будто живот у Жени разболелся. За каплями прибегала. Мы долго звонили и стучали. Наконец за дверью послышался Женькин голос. — Меня заперли. Никак не открыть. Поняли? — А мы у соседей ключ попросим! — прокричала в замочную скважину Люська. — Не подходит, — загнусавил Женька. — Я пробовал. И потом, мне доктор приказал не разговаривать и стоять у двери не велел. Коля Богданов достав на кармана связку ключей. Побренчал ими. — Погоди, я попробую своими. — Нельзя! — закричал Женька. — Я очень заразный. Все заболеете. Доктор даже расписку взял... — Ладно, — сказали ребятам. — Давайте пойдём составлять план фронтового отделения. Мне совсем даже не хотелось видеть в этот день Женьку. Я не верил в его болезнь. Только стали мы спускаться по лестнице, вдруг слышим Женькин голос: — Ребята, погодите! Куда вы? Обернулись - Женька на площадке стоит. В пижаме, а рожа вся замотана в полотенце. — Я у матери ключ взял, — объяснил Женька и захлопал белёсыми ресницами. — Не трави, — сказал я, — никто и не проходил по лестнице. — У матери в шинели ключ был. Выпал. Понял? — затараторил Женька и покосился на мою красную повязку командира отделения. — Вы заходите. Чего тут стоять? — Мы к заразному не пойдём, — сказала Люська, — а то в другие квартиры заразу занесём. — Я вот тебе дам! — цыкнул Женька. — Ты сама, наверно, заразная. — А ты же говорил, — вмешался Коля и посмотрел на меня. Я понял: командир фронтового отделения должен принять справедливое решение. «Сначала надо самому с ним потолковать, решил я. — Батя у него командир и вообще...» Если бы я был просто боец, тогда ясное дело, как с Женькой говорить. А вот командиру... Командир пример должен всем показывать и нг драться... — Ребята, — сказал я, — вы давайте обстановку у себя проверьте. Список фронтовиков сделайте, а я с Орловым беседу проведу. — Есть, командир! — сказал Кода и честь отдал. Ему нравилось честь отдавать. И мне тоже нравилось. А вот Люська прямо дугу из руки делала — один позор. Пока мы договаривались о работе, Женька смылся. «Ясно, — подумал я, — теперь его никакими силами пе вытянешь». Для очистки совести я всё же дёрнул дверь. Она открылась. Что это Женька задумал? Я с опаской вошёл в коридор. Нет, ничего на меня не падало. Я открыл дверь комнаты. — Женька! Ни звука в стает. Я прошёл в другую комнату, в гостиную. На полу, весь скрючившись, лежал Женька и дергался. — Женька! — позвал я. — У-у, — застонал Женька. — Ты чего? — Припадок у меня, понял? — пробормотал Женька и затрясся весь. Я даже напугался. — Погоди немного. Я врача вызову. Только по звоню. Телефон стоял совсем рядом, на письменном столе. Я схватил трубку и стал набирать «03> — «Скорую помощь». Никто не отвечал, и гудков не было домашние телефоны к тому времени поотключали и приёмники у всех отобрали. — Я мигом, до телефона-автомата, — стал я успокаивать Женьку. — У-ух, — сказал Женька и встал на колени. — Сейчас, капельку ещё потерпи. Я мигом. — Не надо, — сказал Женька. — Уже прошло. — У тебя паралич? — спросил я. — У-ух, — вздохнул Женька. — Наверно, паралич. — Да, — сказал я, — в отряд фронтовой тебя никак нельзя. Женька как подскочит с полу. — Можно! — заорал он, как здоровый. — У меня рецепт есть. Понял? И он принёс бумажку со штампом. Там его фамилия была написана и ещё что-то не по-русски. — Понял? — обрадовался Женька. — Меня первого на фронт надо. Уже всё готово. Тут я сразу догадался, что Женька опять хитрит. Вспомнил, как он волосы у меня дёргал, и зло такое во мне поднялось, что кулаки сами сжались. — Опять травишь?! — закричал я и двинулся на Женьку. А он — раз на пол — лежит и ещё кричит: — Лежачего не бьют. Понял? — Трус, — сказал я. — Никто и не собирается руки о тебя марать. Я перевоспитывать тебя буду. Ясно? — Валяй, — согласился Женька — Только без бокса. И в отряд зачисли. Я стиснул зубы — до чего ж нахал! А что поделаешь — командир, перевоспитывать должен. Во всех книжках командиры воспитывают бойцов.Школьные занятия то и дело прерывались воем сирен. - Быстренько в бомбоубежище! — говорила учительница, и мы бежали в подвал. В подвале стояли парты и подвешенные к потолку большие белые лампы. Здесь мы занимались до тех пор, пока по радио не сообщали: «Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!» С Женькой творилось что-то непонятное. — Орлов, — сказала однажды Александра Афанасьевна, — объясни, какие глаголы относятся к первому спряжению, и приведи примеры их написания. Женька встал, замахал руками и стал мычать, как немой. Все напугались, даже Александра Афанасьевна. Тут Женька как ни в чём не бывало сказал: — Всё. Уже прошло. — И стал задание отвечать . На уроках он всё чаще закатывал глаза, а когда я спрашивал, что с ним, он только головой мотал. Александра Афанасьевна ходила к Женьке домой, беседовала с его матерью. Я тоже пришёл поговорить с ней. — Даже не знаю, что с ним такое творится. — Женькина мама достала из гимнастерки маленький белый платочек и стала вытирать им слёзы. — К врачу ходила — ничего не обнаружил. Говорит — само пройдёт... А ведь все замечают .. Женькина мама - телеграфистка... Раньше она на обычной почте работала, а теперь в штабе МИВО. Женька счастливчик — у него даже мать почти красноармеец. А вот сам Женька... Уж не рехнулся ли? Я стал незаметно следить за Женькой. На людях он был как ненормальный, а останется один -всё в порядке. Никаких заскоков. По утрам Женька забирался на высоченную иву и с самой макушки спускался вниз по ветвям прогнётся одна ветка, он ухватится руками за ту, которая ниже, потом ещё ниже... и так до самой земли. Потом, озираясь, Женька шёл к поленнице, что между двумя сараями, и доставал из тайника что-то. Читал какие-то бумаги и делал разные упражнения — бросил камни в цель, то правой рукой, то левой. Я выследил Женькин тайник и обобрал его. Я бы, может, и не сделал так, но как вспомнил, что именно здесь, у этой поленницы, Женька выдирал у меня волосы в обмен на выдуманные им секреты, тут уж не удержался... Из тайника я забрал всё, что там было: книжку по борьбе джиу-джитсу, повесть «Записки разведчика», тетрадь с какими-то иероглифами, три бутылки из-под вина, двухкилограммовую гирю, две пачки галет и выточенный из напильника финский нож. Я провёл кончиком ногтя по лезвию. Ого! Ноготь срезало, как бритвой. В бутылки на нитках были опущены маленькие тряпочные мешочки. «Ясно, — подумал я. — Бомбы сооружает». Ещё до войны мы делали такие бомбы из негашёной извести. Нальёшь в бутылку воды немного. Закроешь пробкой, а потом взболтнёшь бутылку и бросишь что есть силы. Взорвётся, как настоящая граната. Женькины припасы я завернул в куртку и отнёс к себе. На следующее утро встал рано-рано, забрался на балкон и сел наблюдать за Женькиным двором. В половине восьмого ушла на работу Женькина мать, а скоро появился и он сам. Приложив руки к груди, Женька быстро добежал до сараев. Вот остановился, осмотрелся. Во дворе было пусто. Женька исчез между сараями. От волнения я закусил губу. Так... Женька выскочил как ошпаренный и стал озираться но сторонам. В руке он держал бумажку. Я-то хорошо знал, что написано на ней печатными буквами всего одно слово «дурак». В тот дань Женька ходил, как туча, и больным не притворялся. — Тайник твой... — сказал я, когда мы подошли к Неве посмотреть, не появились ли военные корабли. Договорить Женька не дал. Он так ударил меня в поддыхало, что искры из глаз посыпались и дышать нечем стало. — Отдашь? - заорал Женька. Я привалился к иве, которая склонилась почти до самой воды. — Вот увидите — в школе всё расскажу, — послышался из-за деревьев голос Шульберта. — М-мы... тренируемся, — с трудом выдавил я. Мне было больно и очень обидно. Я никак не ожидал, что Женька без предупреждения так стукнет. У нас был неписаный закон: если драться, то по-честному, с объявлением войны, с договором, до каких пор и как сражаться — на кулаках, борьба или бой на саблях, a тут... Я немного пришёл в себя и сказал: — Теперь давай стыкаться. До конца. И плевать я хотел на твои боксёрские правила. Ты их сам не знаешь. Я совсем не был уверен., что Женька этих правил не знает, но всё равно готов был драться до последнего. Женька поднял рубаху. Тощее пузо вздрагивало. — На, ударь меня в смачное сплетение. Со всей силы, — сказал он. — А хочешь — по скуле. Куда хочешь. — И он отвернулся. Разве мог я после этого стукнуть? Нет, конечно. Мы помирились. — Думаешь, я просто так дурил? — сказал Женька. — Я тренировался... — Врать? — спросил я. — Я в тыл хочу к фашистам, — сказал Женька. — Психом там прикинуться. А потом набрехать им всё про наших. Чтобы Гитлер и самолёты, и танки не туда послал...
 — А пушка? — спросил я.
Женька вздохнул и ничего не ответил.
Мы шли по улице, по черным доскам тротуара. На перекрёстке дорогу перекрывала баррикада из насыпи песка и камня. В узкий проход поочерёдно ныряли машины. По другую сторону баррикады стояли противотанковые «ежи». С забора на нас смотрел красноармеец. «Что ты сделал для фронта?» — было написано под рисунком. Рядом шли слова: «Ленинградец! Грудью защити колыбель Великого Октября! Умрём, но не пустим врага на священные улицы Ленинграда!»
— За пушку, — сказал Женька, — стукни меня. Со всей силы.
Я не стал бить Женьку. Шла война. Женька если и врал, то думал хорошее дело сделать. Хотя ложь — она всегда только вред приносит. Друзьям врать никогда нельзя.
— Ну, пожалуйста, стукни! — снова сказал Женька. Бывают случаи, когда лучше, если побьют, чем жалеть будут или станут осуждать.
На какую-то минуту дорога очистилась от машин. Стало тихо. Издалека чуть доносился гул. Так бывает, когда где-то за бескрайним лесом, далеко-далеко гроза начнётся. Только это был не гром, а артиллерийская дуэль. Где-то на подступах к городу шёл бой.
Все наши ссоры в ту минуту показались мне вдруг маленькими. Такими, что о них и вспоминать не стоит.
— А пушка? — спросил я.
Женька вздохнул и ничего не ответил.
Мы шли по улице, по черным доскам тротуара. На перекрёстке дорогу перекрывала баррикада из насыпи песка и камня. В узкий проход поочерёдно ныряли машины. По другую сторону баррикады стояли противотанковые «ежи». С забора на нас смотрел красноармеец. «Что ты сделал для фронта?» — было написано под рисунком. Рядом шли слова: «Ленинградец! Грудью защити колыбель Великого Октября! Умрём, но не пустим врага на священные улицы Ленинграда!»
— За пушку, — сказал Женька, — стукни меня. Со всей силы.
Я не стал бить Женьку. Шла война. Женька если и врал, то думал хорошее дело сделать. Хотя ложь — она всегда только вред приносит. Друзьям врать никогда нельзя.
— Ну, пожалуйста, стукни! — снова сказал Женька. Бывают случаи, когда лучше, если побьют, чем жалеть будут или станут осуждать.
На какую-то минуту дорога очистилась от машин. Стало тихо. Издалека чуть доносился гул. Так бывает, когда где-то за бескрайним лесом, далеко-далеко гроза начнётся. Только это был не гром, а артиллерийская дуэль. Где-то на подступах к городу шёл бой.
Все наши ссоры в ту минуту показались мне вдруг маленькими. Такими, что о них и вспоминать не стоит.

МЫ - ШЕФЫ
Учебный год начался в конце сентября и очень скоро закончился. Как-то в полдень, когда после очередной бомбёжки вышли мы из укрытия, нам сказали, что временно занятия прекращаются. Во двор стали въезжать машины. В машинах сидели люди с узлами, сундуками и чемоданами. Приехавшие были в очень мятой, а иногда и рваной одежде. Они неуклюже слезали с машин, разминались, охали. Плакали малыши. Причитали старухи. Мы сразу поняли, что это беженцы. Они прибыли в Ленинград из захваченных фашистами районов. Им негде было жить, и поэтому их пока поселили в нашей школе. Выйдя за ограду школьного сада, я остановился и стал смотреть на красно-серое здание школы. В тот день я почему-то даже огорчился из-за отмены уроков. На следующий день, это уже в третий раз, сократили нормы на хлеб. Объявили выдачу крупы и мяса на декаду — так очереди такие, что обалдеть можно. Вообще с питанием всё туже — хорошо ещё, что у нас летние запасы сохранились: консервы мясные, конфеты и другие вкусные вещи, а то в магазине теперь что дают, то и бери. А разве интересно сидеть на одном хлебе и каше? Я бы сам для себя, наверное, и не стал бы в очередях мучиться — больно надо! — а вот приходится. Это потому, что мы шефы — шефствуем над семьями фронтовиков, а им трудно отоваривать карточки. Да и мама просит помочь по хозяйству — она теперь работает портнихой, шьёт обмундирование для бойцов. Папа и совсем редко бывает дома — даже ночует больше на заводе. В очереди мы с Женькой стоили с вечера. За ночь перемёрзли совсем, но ничего. Скоро придёт Люська-выдра с Сенькой Шульбертом. У нас договор: ночь и до открытия магазина я с Женькой дежурю, а потом до самого конца, пока не получат продукты, — Люська с Сенькой. До открытия магазина было больше часа, когда взвыли сирены. Очередь подалась под арку дома, в укрытие, а мы с Женькой — на чердак соседнего дома. Выбрались на крышу. Из-за туч слышен прерывистый гул самолётов. Это — фашисты. У наших моторы не так гудят. Женька стоит, прислонившись к печной трубе, голову задрал. Я тоже до боли в глазах смотрю вверх. Со стороны аэродрома доносится стремительный рёв. Будто кто-то опустил туго заведённую пружину — и она стремительно распрямляется. — Наши вылетают, — говорит Женька и смотрит в сторону аэродрома. Но аэродрома не видать — только крыши домов и вытянувшиеся одна за другой неширокие улицы Новой Деревни. Над головой пронёсся самолёт с красными звёздами на крыльях. Потом второй, третий. Небольшие, зелёного цвета, они круто набирают высоту и вскоре исчезают за пологом туч. Какие-то минуты в воздухе ещё слышен их гул, но вот он стих и наступает тишина. — Наверно, отец мой полетел, — сказал Женька и потрогал на голове свой шлем. Из громкоговорителя донеслась музыка и мужской голос несколько раз повторил: «Отбой воздушной тревоги». — Пошли, а то не пустят, — говорю я Женьке и смотрю с крыши вниз, на очередь. После тревоги она снова вытянулась на пол-остановки. Женька достаёт из кармана два маленьких картонных квадратика. Это — номерки. Их выдали в шесть утра, когда шла отметка стоящих в очереди Теперь это делается всегда. Если есть номерок и фамилия твоя записана в специальную тетрадь — её ведёт тройка, которую выбирает очередь, — то можно ненадолго отлучиться. — Пошли, а то и с номерками не пустят, — говорю я. Мы бежим по лестнице вниз. Очередь шумит, толкается, спорит. Пришла наконец Люська. — А Шульберт где? — спросил я. — Ты, Володя,— ответила она,— пожалуйста, не дразни Сеню Шульбертом. У него есть фамилия — Берг. — А кто же он, если не Шульберт? — ехидно спрашивает Женька. — А откуда это вы взяли Шульберта? — не унимается Люська. — Музыку один такой тоже выдумывал. Поняла? — отвечает Женька. — Э-эх ты, Шульберт, — презрительно говорит Люська. — Фамилия композитора не Шульберт, а Шуберт. Не знаете? Стыдно даже... — Ладно, — одёргиваю я, — ты не больно. А Сенька всё равно Шульберт. И что не пришёл — за это он ещё получит... — Граждане! Встаньте по одному! — кричит милиционер. Очередь вздрагивает и ползёт вдоль улицы. В магазине — давка. Окна забиты, а электрические лампы чуть светят. Видны красные волоски. Свет от них идёт бледный, слабый. У нас дома они и совсем не горят — электроэнергии не хватает теперь на всех. Иногда в магазин врываются отдаленные удары. Будто кто-то бьёт в барабан. Редко и увесисто. Это идёт артобстрел нашего района. Очередь притихает. Люди прислушиваются — куда бьёт фашист. По звуку можно приблизительно угадать, где разорвался снаряд. — Маисовой муки мало. Всем не хватит, — говорит продавщица. Очередь заволновались. — В одни руки давать не больше чем на три карточки! — закричали те, что стояли далеко от прилавка. Нам хватило маисовой муки. И яичного порошку — за мясо. Но карточки отоварили не полностью — у нас их было слишком много. — Что же теперь будем делать? — спросила Люська, когда мы выбрались на улицу. — Шульберту физиономию разукрасим, — сказал Женька и нахмурился. После полутьмы глаза резало от солнца. У магазина не расходилась толпа. — Повезло же вам, — сказала очень полная женщина и с завистью посмотрела на наши пакеты. По рельсам простучал трамвай. На дубах, которые росли вдоль Невы, покачивались одинокие, почему-то ещё не опавшие красноватые листья. А на берёзах и тополях ни одного листика. До зимы ещё далеко, но её приближение чувствуется во всём. По утрам нет-нет да и увидишь ледяную корочку на луже. И ещё близость зимы особенно замечаешь, потому что с дровами плохо. Приходится экономить. Мы медленно шли по набережной. Женька шмыгнул носом и со всей силы ударил по камешку, который валялся над ногами. Куль выпал у него из рук и развернулся Порыв ветра ударил по маленькой белой горке и ополовинил её. Лёгкая, как пыльца, маисовая мука взметнулась белым облачком. Женька шлёпнулся до землю и закрыл оставшуюся муку. — Ой-ё-ой, — выдохнула Люська. — Я буду страховать, а вы собирайте, — сказал Женька и перевернулся на бок. Когда мы уже всё подобрали, на другой стороне улицы появился Шульберт. Он катился, как колобок, и скрипку держал под мышкой. — Сеня! — закричала Люська.
Тот или не услышал, или сделал вид, что не слышит.
— Карауль продовольствие! — скомандовал Женька Люське и подтолкнул меня. Мы побежали. Когда стали пересекать дорогу, Шульберт оглянулся. Увидел нас и побежал прочь.
— Стой! — закричал Женька, но Шульберт жал на все педали. Только разве уйдёт он от нас? Женька — лучший бегун во всём классе. И я ничего себе... А Шульберт, разве он умеет бегать?
Мы настигли его у Земского переулка[9].
— Ну, чего пристали? Чего? — загнусавил Шульберт.
Не знаешь? — ехидно спросил Женька и сплюнул фонтанчиком. — Напомнить? — Женька подмигнул мне. Я напялил Шульберту кепку на самые глаза.
Ну, чего пристали? Я не мог прийти. Честное слово. — Шульберт чуть не ревел. Ясное дело, боялся нас. Даже кепку не стал поправлять.
— За такое дело, — сказал я, — морду бьют... Из-за тебя мы карточки семьям фронтовиков не отоварили и муку рассыпали.
— А я что? Я не виноват — мне срочно велели в госпиталь прийти. Мы концерт для раненых бойцов давали... Честное слово.
Мы не поверили Сеньке. «Больно надо бойцам “симфонию” какую-то слушать!» — подумал я.
Женька уловил момент и выхватил у Шульберта скрипку.
— Пусти! — заорал Шульберт и стал вырываться. Женька моментом раскрыл футляр и вытащил скрипку.
Приладил смычок к струне и натянул как лук.
— Огонь!
Смычок не полетел, потому что струна лопнула. Шульберт аж взревел и так толкнул меня, что я не удержался на ногах и шлёпнулся на землю. Шульберт бросился к Женьке и стал молотить его, будто это и не Женька, а так, мешок с опилками.
Когда я встал, Женька стоял у забора и только лицо руками закрывал. Вдвоём мы одолели Шульберта и руки ему за спину завернули.
— Морду набить или?.. — спросил Женька, с трудом переводя дыхание и кивая в сторону Сенькиного инструмента.
— Скрипку не тронь! — закричал Шульберт и стал вырываться. — Вдвоём на одного, да? — сказал он сквозь слёзы.
— Ты неожиданно, — сказал я. — А так хоть Женька, хоть я на бокс и на борьбу запросто из тебя котлету сделаем.
Из-за угла вышла Люська с пакетами.
— Вы чего к Сене пристали? — взвизгнула она. — Не стыдно?
— Не твоё дело! Поняла? — огрызнулся Женька.
— Я вон дяденьку позову, — сказала Люська и показала на мужчину, который шёл по другой стороне улицы.
Положение было не из приятных. Двоим драться против одного — это нечестно. Особенно если противник — твой одноклассник. И вообще отнимать у человека самую дорогую для него вещь очень некрасиво. Да и Шульберт, вдруг он правда для раненых бойцов на скрипке играл? Но отступать было поздно. Мне казалось, что если я проявлю нерешительность, то потеряю весь авторитет командира фронтового отделения.
— Надо один на один, — сказал я после раздумья и посмотрел на Женьку.
Женька отвернулся и стал насвистывать. Мы стояли на тротуаре. Вдоль тротуара росли липы. Листья с них опали, и было видно, как по серым сучкам прыгают воробьи.
— Соловьи,, — сказал Женька.
— Ты чего? — спросил я.
— He стыдно? — сказала Люська. — А ещё командир фронтового отделения...
Подошла женщина.
— Вы что это безобразничаете? — Она подозрительно посмотрела на нас.
— Они дерутся, — сказала Люська. — Двое против одного.
— Как не стыдно? — Женщина покачала головой и добавила: — Такое время, а они хулиганят ещё...
Я перестал держать Шульберта. Женька тоже. Шульберт только этого и ждал — как прыгнет к своей скрипке, а потом наутёк. Я обрадовался этому, потому что сам не знал, как поступить дальше. Женька побежал за Шульбертом не по-настоящему, а просто так, для виду, и вскоре совсем отстал от него.
Унылые возвращались мы с Женькой домой. Больше молчали. Зато Люська тараторила, как сорока. Всё про Сеню, как он на скрипочке хорошо играет. От её слов у меня аж голова вспухла.
— А на барабане Сенька умеет? — спросил Женька.
— Он всё умеет, — сказала Люська. — Только какая же это музыка на барабане? А Сеня, как артист, — на скрипке играет...
— Ничего ты не знаешь сама, — сказал я. — Влопалась в Сеньку, так и молчи.
Люська надулась — назвала меня дураком и ещё обещала матери моей пожаловаться.
Мать у меня ужасно любит непонятную музыку. Раз по радио концерт передавали симфонический, папка с мамкой у приёмника пристроились. Галка тоже сидит и слушает, как большая. Я уроки сделал и решил песню спеть — про моряков. Начал совсем как Утёсов: «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далёко...» Дальше шли очень сильные слова — «Подальше от грешной земли...» Но спеть их как полагается мне не дали.
— Ты мешаешь! — с раздражением сказала мама. Если не хочешь слушать — иди в детскую и сиди тихо.
Я громкость убавил, но петь продолжал. Не мог же я сразу замолчать из-за какой-то симфонии.
— Володя! — строго сказал отец.
Я кончил петь и стал насвистывать «Трёх танкистов».
— Ну что за ребёнок?! — воскликнула мамка.
— Сейчас же прекрати этот дурацкий свист! — Папин голос не предвещал ничего доброго.
Я угроз не люблю. Другой раз знаю, что попадёт, а сдержать себя не могу: как начнут пугать, обязательно сделаю наперекор. «Немножко постучу и уйду», — решил я. Взял молоток и всего два раза ударил им по полу. Папка как вскочит с кресла. И ко мне...
С тех пор я не переваривал симфоническую музыку. Как заиграет по радио скрипка, мне сразу неловко делается...
— ... Продукты мы разделим на всех — по пол-нормы на каждую карточку. Ладно? — сказал я, когда мы подошли к дому. — А завтра получим остальное.
Ни завтра, ни послезавтра мы ничего не получили. Десятидневка кончилась. Просроченные талоны магазин не отоваривал. Говорили, что в Ленинграде продовольственные запасы совсем на исходе, а подвоза нет.
— Сеня! — закричала Люська.
Тот или не услышал, или сделал вид, что не слышит.
— Карауль продовольствие! — скомандовал Женька Люське и подтолкнул меня. Мы побежали. Когда стали пересекать дорогу, Шульберт оглянулся. Увидел нас и побежал прочь.
— Стой! — закричал Женька, но Шульберт жал на все педали. Только разве уйдёт он от нас? Женька — лучший бегун во всём классе. И я ничего себе... А Шульберт, разве он умеет бегать?
Мы настигли его у Земского переулка[9].
— Ну, чего пристали? Чего? — загнусавил Шульберт.
Не знаешь? — ехидно спросил Женька и сплюнул фонтанчиком. — Напомнить? — Женька подмигнул мне. Я напялил Шульберту кепку на самые глаза.
Ну, чего пристали? Я не мог прийти. Честное слово. — Шульберт чуть не ревел. Ясное дело, боялся нас. Даже кепку не стал поправлять.
— За такое дело, — сказал я, — морду бьют... Из-за тебя мы карточки семьям фронтовиков не отоварили и муку рассыпали.
— А я что? Я не виноват — мне срочно велели в госпиталь прийти. Мы концерт для раненых бойцов давали... Честное слово.
Мы не поверили Сеньке. «Больно надо бойцам “симфонию” какую-то слушать!» — подумал я.
Женька уловил момент и выхватил у Шульберта скрипку.
— Пусти! — заорал Шульберт и стал вырываться. Женька моментом раскрыл футляр и вытащил скрипку.
Приладил смычок к струне и натянул как лук.
— Огонь!
Смычок не полетел, потому что струна лопнула. Шульберт аж взревел и так толкнул меня, что я не удержался на ногах и шлёпнулся на землю. Шульберт бросился к Женьке и стал молотить его, будто это и не Женька, а так, мешок с опилками.
Когда я встал, Женька стоял у забора и только лицо руками закрывал. Вдвоём мы одолели Шульберта и руки ему за спину завернули.
— Морду набить или?.. — спросил Женька, с трудом переводя дыхание и кивая в сторону Сенькиного инструмента.
— Скрипку не тронь! — закричал Шульберт и стал вырываться. — Вдвоём на одного, да? — сказал он сквозь слёзы.
— Ты неожиданно, — сказал я. — А так хоть Женька, хоть я на бокс и на борьбу запросто из тебя котлету сделаем.
Из-за угла вышла Люська с пакетами.
— Вы чего к Сене пристали? — взвизгнула она. — Не стыдно?
— Не твоё дело! Поняла? — огрызнулся Женька.
— Я вон дяденьку позову, — сказала Люська и показала на мужчину, который шёл по другой стороне улицы.
Положение было не из приятных. Двоим драться против одного — это нечестно. Особенно если противник — твой одноклассник. И вообще отнимать у человека самую дорогую для него вещь очень некрасиво. Да и Шульберт, вдруг он правда для раненых бойцов на скрипке играл? Но отступать было поздно. Мне казалось, что если я проявлю нерешительность, то потеряю весь авторитет командира фронтового отделения.
— Надо один на один, — сказал я после раздумья и посмотрел на Женьку.
Женька отвернулся и стал насвистывать. Мы стояли на тротуаре. Вдоль тротуара росли липы. Листья с них опали, и было видно, как по серым сучкам прыгают воробьи.
— Соловьи,, — сказал Женька.
— Ты чего? — спросил я.
— He стыдно? — сказала Люська. — А ещё командир фронтового отделения...
Подошла женщина.
— Вы что это безобразничаете? — Она подозрительно посмотрела на нас.
— Они дерутся, — сказала Люська. — Двое против одного.
— Как не стыдно? — Женщина покачала головой и добавила: — Такое время, а они хулиганят ещё...
Я перестал держать Шульберта. Женька тоже. Шульберт только этого и ждал — как прыгнет к своей скрипке, а потом наутёк. Я обрадовался этому, потому что сам не знал, как поступить дальше. Женька побежал за Шульбертом не по-настоящему, а просто так, для виду, и вскоре совсем отстал от него.
Унылые возвращались мы с Женькой домой. Больше молчали. Зато Люська тараторила, как сорока. Всё про Сеню, как он на скрипочке хорошо играет. От её слов у меня аж голова вспухла.
— А на барабане Сенька умеет? — спросил Женька.
— Он всё умеет, — сказала Люська. — Только какая же это музыка на барабане? А Сеня, как артист, — на скрипке играет...
— Ничего ты не знаешь сама, — сказал я. — Влопалась в Сеньку, так и молчи.
Люська надулась — назвала меня дураком и ещё обещала матери моей пожаловаться.
Мать у меня ужасно любит непонятную музыку. Раз по радио концерт передавали симфонический, папка с мамкой у приёмника пристроились. Галка тоже сидит и слушает, как большая. Я уроки сделал и решил песню спеть — про моряков. Начал совсем как Утёсов: «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далёко...» Дальше шли очень сильные слова — «Подальше от грешной земли...» Но спеть их как полагается мне не дали.
— Ты мешаешь! — с раздражением сказала мама. Если не хочешь слушать — иди в детскую и сиди тихо.
Я громкость убавил, но петь продолжал. Не мог же я сразу замолчать из-за какой-то симфонии.
— Володя! — строго сказал отец.
Я кончил петь и стал насвистывать «Трёх танкистов».
— Ну что за ребёнок?! — воскликнула мамка.
— Сейчас же прекрати этот дурацкий свист! — Папин голос не предвещал ничего доброго.
Я угроз не люблю. Другой раз знаю, что попадёт, а сдержать себя не могу: как начнут пугать, обязательно сделаю наперекор. «Немножко постучу и уйду», — решил я. Взял молоток и всего два раза ударил им по полу. Папка как вскочит с кресла. И ко мне...
С тех пор я не переваривал симфоническую музыку. Как заиграет по радио скрипка, мне сразу неловко делается...
— ... Продукты мы разделим на всех — по пол-нормы на каждую карточку. Ладно? — сказал я, когда мы подошли к дому. — А завтра получим остальное.
Ни завтра, ни послезавтра мы ничего не получили. Десятидневка кончилась. Просроченные талоны магазин не отоваривал. Говорили, что в Ленинграде продовольственные запасы совсем на исходе, а подвоза нет.

ЖИВОЙ ФАШИСТ
— У меня сегодня норма — картошки противогаз и кочерыжек вот сюда. — Женька достал из кармана большую нитяную «авоську». — Пуд целый наложу. Понял? Это Женька просто хвастает — теперь и овощи на вес золота. В магазинах их дают по карточкам — за крупу. Говорят, что картошку и овощи в город завезти не успели, — немцы окружили пас, и подвоз идёт только из пригородных районов. А разве они прокормят такой город, как Ленинград? Ясное дело, нет. Ну да наши, конечно, скоро погонят фашиста. Теперь в Ленинграде на каждом заводе или пушки, или танки, или снаряды, или другое вооружение делают. Мы идём по булыжной кладбищенской дороге. Справа, не доходя до церкви, на большой поляне видны маскировочные сети. Сверху, говорят, совсем не разберёшь, что под ними. А когда по земле идёшь — отлично видно. Пушки зенитные стоят. Стволы смотрят вверх. Сейчас пушки молчат. Тишина. Бойцы, наверно, в землянке сидят у себя. Набежал ветерок. Шелестят голые ветви деревьев. Шуршат венки на могилах. — Зайдём, да? — спрашивает Женька. За большим каменным памятником — ангел там изображён с крестом — у нас тайник. Туда, за ограду, раньше мы прятали овощи. Это когда класть их было некуда. Потому что ещё совсем недавно овощей было много — и кочерыжек, и капустного листа, даже картошки в земле полно. Только не ленись... Жаль, мы поздно спохватились, когда уже все бросились перекапывать совхозные поля, да лист собирать, да кочерыжки рубить. Но и то сначала дало шло отлично. Женька знакомство завёл со сторожихой, и она даже кочны целые давала нам — тогда они прямо в поле, в больших кучах лежали. Кочны мы прятали в тайник, а сами снова шли на поиск. Сейчас в тайнике осталась только винтовка. С нею мы тренируемся — цель брать на мушку и винтовку держать ровно, как товарищ военком велел. Мы уже три раза ходили к нему после той первой встречи, но дежурный по военкомату никак не пускает нас к своему командиру: то говорит, что его нет, то просто выгоняет, много, мол, таких. Винтовка у нас почти как настоящая — даже с «мушкой»... И потом, у нас есть железный лом, тяжелющий. Сначала я выжимал его всего три раза, а теперь пять, по всем правилам, на полные вытянутыеруки. Женька выжимает лом столько же. Только он жульничает — не на вытянутые руки. А когда с винтовкой занимаемся — держим цель на мушке в положении «стоя». то мне Женька считает медленно-медленно, а себе как из пулемёта сыплет: раз, два, четыре, пять... Обсчитывает, а потом кричит, что он победил. Вот если бы часы были, тогда бы сразу ясно, кто дольше держал винтовку как надо. А вообще для силы питаться надо как следует. Надо кочерыжками запастись... И взрослым это сгодится... Позади остались спрятавшиеся в кустах чёрные ноздри ходов сообщения. Дальше они идут под землёй, скрытно. Впереди высятся дзоты. Они как настоящие горы, как заваленные землёй дома. Только вместо окон у них амбразуры для ведения огня, а стены толстущие, их, наверно, и снаряд не пробьёт. За дзотами — противотанковый ров. Говорят, он весь Ленинград опоясал. За ров никого не пускают. Там часовые стоят... Вот и свиноферма. С крутыми серыми крышами. Деревянные трубы топорщатся на них, как пни. — Поросятники бы сейчас! — говорит Женька и вытягивает шею. Свинина, конечно, очень вкусная, но что о ней говорить зря? Мы направились дальше — перекапывать картофельное поле. Картошка почти не попадалась. Видать, уже всё обобрали . — Давай лучше кочерыжки собирать, — предложил Женька. Мы пошли на капустный участок. То и дело встречались женщины и ребята. Но только раз один увидели мы почти полный рюкзак каких-то овощей. Килограммов восемь. Возле рюкзака сидела женщина и косу укладывала ни голове. — Здорово насобирали, — сказал Женька, местечко нетронутое нашли? У противотанкового рва, да? Женщина улыбнулась. — Нет, просто семь человек... С утра работали... Солнце медленно падало на купола дзотов. На капустном поле кочерыжек не было — только ямочки там, где раньше были кочерыжки. По полю ходили люди с кошёлками и мешками. Изредка они наклонялись и поднимали то завядший капустный лист, то кочерыжку. Поле было исчерчено следами от гусениц. Видать, не так давно здесь прошли танки или тягачи. Они примяли и вдавили в землю кочерыжки. — Пошли! — предложил Женька и двинулся по следу. Неожиданно совсем близко ударила зенитка, другая... От кладбища с криком летели вороны. Их обогнула стая голубей. Развернулась и понеслась обратно. На редкость чистое, синее небо расцвечивалось белыми облачками. Они вспыхивали всё чаще. Сначала малюсенькие, облачка эти быстро ширились, расплывались, сливались с небом. Вместо них появлялись новые. Их становилось всё больше. Слева, справа, позади и даже где-то за дзотами ухали зенитные батареи. Неожиданно они смолкли. В ушах звенела тишина. Но вот в ней послышался тихий, прерывистый гул моторов. — Смотри! — крикнул Женька и рукой показал на небо. В высоте шли самолёты. Три... ещё три... Ещё... — Ложись! — донёсся до нас чей-то голос. Люди попадали на землю. Один самолёт, видать фашистский истребитель, отделился от остальных и стал быстро снижаться. Мы с Женькой плюхнулись на пашню Самолёт стремительно пронёсся над нашими головами. «Тата-та-та....» — послышалось сквозь вон мотора. Будто лопнувшими струнами засвистел воздух. Я не сразу понял, что это стреляет пулемёт, что фашистский лётчик бьёт по нам. — Чего же наши-то? — прохрипел Женька, когда самолёт удалился. Мм поднялись на ноги. Шагах в двухстах от нас вдруг пронзительно закричала женщина. Она стояла на коленях, а на земле около неё лежала девочка. — Подойдём... — тихо сказал Женька. — Надо «Скорую помощь» вызвать, — ответив я и собрался бежать к кладбищу — там телефон и можно позвонить в «Скорую помощь». Врач не понадобился... Над кладбищем, над дорогой, которая вела к озеру, кружились самолёты. Шёл воздушный бой. Машины то исчезали за деревьями, то с рёвом проносились над нашими головами. Где-то вдали они набирали высоту и снова «падали» друг на друга. Трещали пулемёты, пушки. Порой земля содрогалась от разрывов. Это фашисты освобождались от бомб. Сбрасывали их куда попало. С бомбами им было тяжело вести бой, потому и избавлялись от них. В начале войны нередко доводилось нам видеть, как один краснозвёздный истребитель смело бросался наперерез целому звену «юнкерсов», как звено маленьких юрких машин принимало бой против вдвое и втрое превосходящих сил противника. Так было и в тот октябрьский день. — Ух и дают! Пять против пятнадцати... — выдохнул Женька, не отрывая глаз от неба, — наверное, мои батя командует пятёркой... Наш «ястребок» падал с высоты прямо на тропку фашистов. Я закусил губу. «Только бы не подбили...» — фашистские самолёты струсили и помчались в разные стороны. От одного из них вдруг пошёл дым. Чёрный. Густой. Он быстро приближался к нам. Вдруг от чёрного облака оторвалась какая-то полоска. Белым зонтиком вспыхнул парашют. Это фашистский лётчик не выдержал и выпрыгнул из горящего самолёта. Мы помчались к дзотам — туда, где он мог приземлиться. На бегу я вытащил из рюкзака большой столовый нож. Если что... Из-за дзотов донёсся взрыв и повалили клубы дыма. «Фашистский самолёт взорвался», — подумал я, не спуская глаз с парашютиста. Длинная чёрная фигура с куполом зонтика над ней приближалась к земле. Вот спрятались за дзот ноги, туловище. Какие-то секунды только белый зонтик упруго висел в воздухе, но вот скрылся и он. Вздымая тучи пыли, мимо нас пронёсся вездеход. Фашист приземлился неподалёку от противотанкового рва. Когда мы добежали до места, там уже было много народу. Даже ополченцы с винтовками в руках. Неподалёку стоял окрашенный в зелёное вездеход. Тот, что обогнал нас. Фриц был длинный и худой. Он трусливо хлопал глазами и руку кусал. Наверно, от страху, что его прямо тут прихлопнут. Но трогать фашиста не давали ополченцы. Даже близко не подпустили. — Пленных бить нельзя! — сказал командир. — А детей убивать можно? Жилые дома бомбить можно? — Женщина с седой головой трясла кулаками и рвалась к фашисту. — Успокойтесь, — сказала седой женщине девушка с косой на голове. — Преступников будут судить по закону. За все преступления... — Пленного отвести на вездеход! — приказал командир. Ополченцы стали расталкивать толпу, очищая проход к боевой машине. — Фольген зи ауф ден геландеваген! Шнель! — по-немецки сказал командир, заглядывая в какую-то книжку. Фашист потрусил к вездеходу, не поднимая головы. Толпа посылала ему вслед проклятья. Шумела, толкалась. Вездеход рванулся вперёд. Шлейф пыли повис в воздухе, указывая путь, по которому везли фашиста. — Наверно, этот фашист и девочку убил, — сказал Женька, отирая пот с лица. В наступившей тишине снова послышался гул самолётов. Фашистские стервятники удирали к себе. Их было уже не пятнадцать, а только десять. Над ними кружили наши «ястребки». Их было три. Люди собирали пожитки и потихоньку расходились. Солнце ложилось за купола дзотов. По Торфяной дороге шла пехота. На фронт. Он был совсем близко. Говорят, где-то за озером. До войны мы ходили туда по выходным. Купаться и загорать.
КРЕНДЕЛИ
Зима началась рано, с небывалыми холодами. Каждый день морозную тишину разрывали свист и грохот снарядов. Это била по городу фашистская дальнобойная артиллерия. Ещё задолго до очередной воздушной тревоги мы знали, когда будет очередная бомбёжка, — фашисты заранее сбрасывали листовки, в которых сообщали об этом. В назначенное время воздух наполнялся гулом «юнкерсов» и «мессершмиттов». Они идут на большой высоте, и нашим зениткам трудно достать до них, а авиации у нас, наверное, мало. Фашисты специально заранее сбрасывают свои предупреждения — это чтобы мы видели, какие они сильные... Но если бы они могли, разве бы не захватили они Ленинград ещё в сентябре? «Значит, только в воздухе, — думаю я, — могут они так хозяйничать. Да и то скоро положение изменится...» Радио теперь работает редко, но когда его включают, то много рассказывают о том, как крепнет наша оборона. Да и папа, когда приходит, о том же говорит. Папа мой теперь и ночует на заводе. Он делает технику для фронта. Мы с мамой переселились на кухню, потому что её легче натопить. В кухне папа оборудовав маленькую железную печурку. Её называют почему-то буржуйкой. Теперь у всех есть буржуйки. Мы с Женькой по-прежнему мечтаем на фронт попасть. Вот только силёнок мало — лом даже не выжать. А нормы на продукты всё убывают... С 20 ноября рабочим дают по двести пятьдесят граммов, а детям всего по сто двадцать пять граммов хлеба на день. Уже давно нет мяса, овощей... Круглые сутки стоят очереди у булочных. Молча, чуть раскачиваясь на морозе. Мороз лютый — под 40 градусов. — Голод, да ещё стужа — они сговорились заморить нас, — говорит укутанный в одеяло человек. — Зато и немцам плохо, — возражает ему сосед. Когда он говорит, дымок пара вырывается в морозный воздух и быстро тает. — Немцы хуже нас холодов боятся... Очередь молчит. Мороз страшен ленинградцам, но, может быть, он помогает нашим бойцам. Тогда пускай будет холодно... Только бы победить фашистов... В булочной полно народу. Очередь изгибается в ней кругами. Круги выпрямляются у прилавка, за которым стоит продавщица. Клювики весов вздрагивают и выравниваются. — Следующий! Керосиновая лампа с закопчённым разбитым стеклом подвешена к потолку. От неё идёт жёлтый свет и копоть. Другая лампа стоит возле весов. Стеклянные витрины наполовину разбиты и пусты. Окна забиты досками. Полки, на которых лежит хлеб, завешены простынями. Хоть бы их открыли! Хоть бы посмотреть на целые хлебные буханки! Тогда бы, наверное, стало легче. До войны в этой булочной чего только не было! Крендели с маком, политые сахаром, с ванилью, разные пироги, сайки, булки французские, польские... батоны... пряники... бублики... сушки... сухари... Хлеб формовой, хлеб круглый... Бери что хочешь. Сколько хочешь. А покупатели — чудаки — да и я, когда мамка за хлебом посылала, спрашивали: «А товар у вас свежий?» «Свежий, — отвечал продавец, — только вот хлеб ночного привоза». И тут какая-нибудь женщина пожмёт плечами: «Придётся идти в другую булочную». И уйдёт. Потому что ей нравится только тёплый хлеб, прямо из пекарни.
Теперь всё иначе. Чем черствее, тем лучше. Потому что чёрствый хлеб легче — из него пар вышел. Правда, теперешний хлеб всегда очень тяжёлый. Он, как тесто, плотный и вязкий. Пятьдесят граммов хлеба — меньше спичечного коробка. Потому что хлеб делают не из чистой муки, а со всякими примесями.
Очередь медленно ползёт вдоль прилавка. Люди неотрывно следят за весами, а когда хлеб взвешен, требуют, чтобы продавщица и самую маленькую крошку, оставшуюся на чашке весов, вернула, тянутся руками к ней — боятся: если булочница станет сметать волосяной щёткой, крошки могут упасть, затеряться.
Я был уже у выхода, когда кто-то радостно прокричал:
— Немцев под Москвой разбили!
И сразу булочная зашумела, задвигалась. Все заговорили о Москве. Откуда-то взялись и подробности — как сражались под Москвой панфиловцы, как танки в атаку шли...
В булочной всегда хорошо, а когда про такую победу рассказывают, совсем трудно уйти из неё. Я бы долго стоял и слушал, да разве можно?
Старик, что караулил у дверей, прохрипел:
— Граждане! На улице очередь мёрзнет.
Вместе с другими, кто уже получил хлеб, я вышел на улицу.
Возле булочной, за углом дома, стояла девчонка. В руках у неё был хлеб — целых полбуханки и ещё довесок. Девчонка ножом отрезала от полбуханки кусочек хлеба. «Ворует, — догадался я, а довесок не трогает, чтобы дома не заподозрили...»
— Ты чего? — сказал я, подходя к девчонке. А она — раз за пазуху хлеб и руку с ножом подняла. Глаза у неё как у сумасшедшей.
— Не подходи! — прошептала она, прижимаясь к стене.
— Ты хлеб воруешь. А сегодня... — Я захлебнулся от морозного воздуха. Не нашёл сразу главных слов, чтобы она поняла. — Нельзя нечестными быть, особенно теперь...
Пока я собирался с мыслями, девчонка рванулась от меня, хотела бежать, но упала. «Думала, что я хлеб отнять хочу», — догадался я. Есть такие люди, что от голоду и убить могут. Это страшные люди. До войны никто не знал, что они такие. Когда людям очень плохо, они все на виду, не маскируются.
Возле Цыганского переулка[10] посреди улицы лежал человек Когда я шёл в булочную, его не было. Теперь это случается: идёт-идёт человек и упадёт от слабости. Полежит немного и замёрзнет совсем, насмерть.
Я окликнул лежащего. Он молчал.
— Наши немцев разбили под Москвой! Наши наступают! — закричав я, глотая мороз.
Человек не ответил, не шевельнулся. «Уже помер, — понял я. — Если бы хоть чуть жив был, то сразу бы отозвался».
И тут какая-нибудь женщина пожмёт плечами: «Придётся идти в другую булочную». И уйдёт. Потому что ей нравится только тёплый хлеб, прямо из пекарни.
Теперь всё иначе. Чем черствее, тем лучше. Потому что чёрствый хлеб легче — из него пар вышел. Правда, теперешний хлеб всегда очень тяжёлый. Он, как тесто, плотный и вязкий. Пятьдесят граммов хлеба — меньше спичечного коробка. Потому что хлеб делают не из чистой муки, а со всякими примесями.
Очередь медленно ползёт вдоль прилавка. Люди неотрывно следят за весами, а когда хлеб взвешен, требуют, чтобы продавщица и самую маленькую крошку, оставшуюся на чашке весов, вернула, тянутся руками к ней — боятся: если булочница станет сметать волосяной щёткой, крошки могут упасть, затеряться.
Я был уже у выхода, когда кто-то радостно прокричал:
— Немцев под Москвой разбили!
И сразу булочная зашумела, задвигалась. Все заговорили о Москве. Откуда-то взялись и подробности — как сражались под Москвой панфиловцы, как танки в атаку шли...
В булочной всегда хорошо, а когда про такую победу рассказывают, совсем трудно уйти из неё. Я бы долго стоял и слушал, да разве можно?
Старик, что караулил у дверей, прохрипел:
— Граждане! На улице очередь мёрзнет.
Вместе с другими, кто уже получил хлеб, я вышел на улицу.
Возле булочной, за углом дома, стояла девчонка. В руках у неё был хлеб — целых полбуханки и ещё довесок. Девчонка ножом отрезала от полбуханки кусочек хлеба. «Ворует, — догадался я, а довесок не трогает, чтобы дома не заподозрили...»
— Ты чего? — сказал я, подходя к девчонке. А она — раз за пазуху хлеб и руку с ножом подняла. Глаза у неё как у сумасшедшей.
— Не подходи! — прошептала она, прижимаясь к стене.
— Ты хлеб воруешь. А сегодня... — Я захлебнулся от морозного воздуха. Не нашёл сразу главных слов, чтобы она поняла. — Нельзя нечестными быть, особенно теперь...
Пока я собирался с мыслями, девчонка рванулась от меня, хотела бежать, но упала. «Думала, что я хлеб отнять хочу», — догадался я. Есть такие люди, что от голоду и убить могут. Это страшные люди. До войны никто не знал, что они такие. Когда людям очень плохо, они все на виду, не маскируются.
Возле Цыганского переулка[10] посреди улицы лежал человек Когда я шёл в булочную, его не было. Теперь это случается: идёт-идёт человек и упадёт от слабости. Полежит немного и замёрзнет совсем, насмерть.
Я окликнул лежащего. Он молчал.
— Наши немцев разбили под Москвой! Наши наступают! — закричав я, глотая мороз.
Человек не ответил, не шевельнулся. «Уже помер, — понял я. — Если бы хоть чуть жив был, то сразу бы отозвался».

ПЕРЕЕЗД
Мы очень экономили дрова. Буржуйку топили только когда еду готовили или когда было нестерпимо холодно, но всё равно печурка быстро «съела» чуть не все наши стулья, кухонный стол, старый диван... — Надо нам перебраться, — сказал как-то, вернувшись с завода, папа, — а то нашу квартиру не натопишь. В тот же вечер за папой с завода пришла машина. Грузовик, потому что все легковые на фронт взяли. — Директор просил вас теперь же прибыть, — сказал папе шофёр. Папа собрался ехать на завод. Он теперь там и ночует, и паёк получает. — Совсем не видим тебя, — огорчилась мама. — Стукнет бомба — и не встретимся больше. — Не стукнет, — отозвался папа и остановился у двери. — А может, воспользоваться машиной и отвезти вас к Варваре? Срочно собрали мы самое необходимое и, даже не попрощавшись ни с кем, отправились в путь. Дом тёти Вари был всего в двух остановках от нашего. Машина быстро довезла нас до места. — Здесь и перезимуем, — сказал папа и снял шапку. Комната была малюсенькая, с одним окном. Тётя Варя, папина сестра, с которой летом мы жили на даче, принесла охапку дров и стала растапливать буржуйку. Она била кремнями друг о друга, но искры хорошей не было и шнур не загорался. Папа достал зажигалку и протянул тёте Варе. Со спичками туго, и зажигалки — дороже золота. — Дарю. А себе сделаю новую, — сказал папа. В печке потрескивали дрова. Мама выкладывала из чемоданов бельё. За окном густел вечер. Я зажёг коптилку. Жёлтый мотылёк забился на столе. В комнате стало уютнее. — Освоитесь немного — заходите к нам, — сказала тётя Варя и вышла, прикрыв за собой дверь, которая вела в другую комнату. В той комнате никто не жил и в следующей — тоже. Они были большие, и в них стоял мороз. Тётя Варя с Борькой перебрались в крайнюю, такую же, как наша, маленькую комнату. Муж тёти Вари до войны работал геологом. Куда он только не ездил! В Сибирь, на Диксон, на Кавказ... Искал там полезные ископаемые. Теперь он на фронте. От него давно нет писем. Может, он уже и погиб... Мама развернула одеяло. В одеяле — эмалированное ведро. В нём главное наше богатство — капуста, солёный капустный лист. Тот, что я собирал в поле. Была почти целая бочка. Осталось полведра. Зелёные полоски окаймлены белым льдом. Надолго ли их хватит?.. Больше никаких запасов у нас нет.
ОДНАЖДЫ УТРОМ
В углу комнаты что-то захрипело. Стоп! Да это же радио! Я поспешно высвободил голову из-под одеяла. Радио теперь работало только в особо важных случаях. Что-то сообщат? Может быть, наши в наступление перешли? Или нормы прибавили? На другой кровати лежала мама. Она тоже прислушивалась к звукам, доносившимся из чёрного рупора с надписью «Рекорд». Лицо у мамы маленькое, будто у девочки. Волосы на висках побелели и, будто из соломы, топорщатся. Волосы как барометр: если человек хорошо себя чувствует, то они сами красивыми делаются. Я повернулся. Заскрипели пружины. — Тихо, Вовик! — прошептала мама. — Говорит Ленинград! — донёсся из репродуктора радостный голос. Наступила пауза. Я соскользнул с кровати и босиком подбежал к репродуктору. Стал крутить железный кружочек громкости. Бесполезно. — Наверное, отключили, — вздохнула мама, но тут радио снова заговорило. Пол был холодный как лёд. Я вставал то на одну, то на другую ногу и слушал, не сходя с места. «...Отдел торговли Ленгорисполкома, — послышался голос из репродуктора, — принял решение с двадцать пятого декабря увеличить нормы выдачи хлеба...» Диктор снова повторил сообщение. Я дрожал от радости и от холода. — Вова, не стой на полу! — спохватилась мама и стала одеваться. Я юркнул под одеяло. От холода, а может, больше от волнения меня всего трясло. Поверх серого шерстяного платья, в котором мама спала, она надела большой мохнатый халат, потом пушистую длинную кофту, на неё — ватник. И стала полной, как до войны. «Теперь мы обязательно выживем, — подумал я. — Раз уже стали прибавлять нормы — значит, самое грудное позади. Ведь было всего по сто двадцать пять граммов, а теперь...» — Значит, папа будет получать триста пятьдесят, а мы по двести. В общей сложности на троих семьсот пятьдесят граммов хлеба, — сказала мама и улыбнулась. От улыбки лицо её стадо незнакомым и странным. Мама уже давно не улыбалась. Мне очень хотелось есть. Немного отогревшись, я вылез из-под одеял и сунул ноги в валенки. — Мам, — сказал я, — давай пойдём в булочную. Может, на завтра дадут... - Не надо, — ответила мама и стала гласить меня по голове. — Завтра повышенные нормы будут в действии. Тогда и пойдём... Я молчал. Мне очень хотелось есть. — Давай чаю с солью попьём, — сказал я. — Нельзя, — ответила мама, — ты и так уже опух от воды. Попей лучше экстракта. Мама налила из графина зеленоватой воды. В ней плавали льдинки и сосновые иголки. От неё пахло лесом. Вода была настояна на сосновых ветках. Говорят, в сосне много витаминов. Они помогают от цинги. Я много пью экстракта, а толку... Зуб коснулся зуба, и оба шатаются. Я попил немного экстракта и хотел снова под одеяло лезть. Чтобы калории зря не тратить. Но тут в дверь постучали. — Здравствуйте! — Пожилая женщина с маленьким личиком вошла в комнату. Оперлась на спинку стула и, переведя дыхание, сказала: — Вы слышали? По радио только что сообщили о хлебной прибавке... По голосу я узнал в худенькой женщине свою учительницу — Александру Афанасьевну. До чего же она изменилась! Шея тонюсенькая, а ноги очень толстые. Это от голода, от воды опухли они. А лицо почему-то не опухло. Учительница села на стул и радостно стала рассказывать мне и маме: - Скоро приварок в школе будут давать. На карточки. Каждый день по тарелке горячего супа. И каша — на второе. Так что жизнь, товарищи,, идёт в гору. Надо только продержаться ещё немного. Александра Афанасьевна говорила быстро и всё время губы облизывала — от холода-то они у неё потрескались. Весть о приварке очень обрадовала меня. Беспокоило только одно — можно ли будет в школе получать и для мамы. — И маме будешь брать, — сказала Александра Афанасьевна. - А пока получи билет, — и дала мне пригласительный билет на новогоднюю ёлку. Красивый. Из толстой гладкой бумаги. — Обязательно сходи, — сказала Александра Афанасьевна, — там гостинцы будут.
НА ЁЛКУ
Колючий ветер щипал лицо. Снег сверкал так, что смотреть на него было больно. И солнце сверкало. А холодина была такая, что дома от мороза трещали. Я натянул шарф до самою носа и осмотрелся. Вокруг было пусто и тихо. Двухэтажные деревянные дома глядели на улицу редкими стёклами, похожими на ледяшки, внутри которых угадывались бумажные кресты. Но чаще окна заколочены досками, фанерой или листами железа. Заборы давно сожжены в буржуйках. На их месте — снежные буруны. Я оглянулся. Тёти-Варин дом напоминал сколет какого-то чудища. Стеклянная веранда, поднимавшаяся до самого чердака и образовывавшая как бы лицо дома, была теперь вся разбита. Стёкла вылетели от взрывной волны, а оконные переплёты пошли на дрова. У покосившегося крыльца виднелся большой ледяной ком. Это замёрзла вода и помои. Водопровод не работал, и жильцы выливали помои прямо у дома. Идти далеко не хватало сил. Я тихонько шёл по направлению к Серебрякову переулку. Шёл посередине улицы. Здесь меньше сугробов. На рельсах стоял трамвай. Весь в снегу. Огромные сосульки, как борода, свисали с крыши. У колёс намело кучи снегу. Их даже не видать. И рельс не видать. Трамвай стоит без движения с ноября. С того времени, когда не стало электроэнергии. Я остановился у трамвая. Напротив был дом Петьки Ершова. Махонький такой. В доме всего три комнаты. Две в первом этаже и одна во втором. И все их занимала Петькина семья. Народу у них было много. По вечерам они выходили в свой сад и песни пели под гитару. Играл старший Петькин брат. Петькин отец, Василий Васильевич, раньше работал на одном заводе с моим отцом. Они делали электрические машины. А сейчас Василий Васильевич, наверное, воюет — на собрании в классе Петька руку поднял, что его батя тоже на фронте. В квартире я был только один раз — фантики ходил менять. Раньше я не любил Петьку, а после собрания в школе, когда он сказал, что командирами фронтовых отделений ребята должны быть, а не девчонки, я стал уважать его. Только подружиться мы не успели. Кончились уроки, каждый занялся своим делом... Голод. А расстояние от нашей настоящей квартиры до Петькиного дома больше двух остановок. Может, зайти? Может, Петька тоже на ёлку пойдёт... На стук никто не откликнулся. Я хотел уходить, но тут заметил, что дверь не заперта. Войти? Я вошёл в коридор. Снегу здесь было больше, чем на улице. Сразу после коридора находилась большая комната. Из трёх окон два заколочены железом, в одном уцелел кусок стекла. В комнате никого не было. Одиноко стоял большой обеденный стол. На тахте лежало одеяло. — Петь! — позвал я. Никто не ответил. Мне стало не по себе. «А может, Петька один. Без сил... Разве можно бросить его одного умирать!» Ноги одеревенели. «Если кто есть, то живёт в следующей, в маленькой комнате», — догадался я и с опаской подошёл к голубой двери. Открыл её, но ноги не сдвинулись с места. Почти вплотную друг к другу стоили две железные кровати. На кроватях — одеяла. Посредине они вздымались, и под ними вроде кто-то лежал. «Мёртвые», — подумал я, и внутри у меня похолодело. — Петь! — крикнул я, собравшись с духом. Никто не ответил. В уцелевшее стекло заглянул солнечный луч. Заблестел лёд на полу. Мне очень захотелось поскорее уйти из этого дома. «А если он ещё живой? — подумал я. — Разве так можно?» Я заставил себя войти в комнату. Несколько минут постоял. Потом набрался смелости и приоткрыл одеяло. На кровати никого не было. Я осмелел. Вторая кровать тоже была пуста. ...Когда я свернул с Мигуновской улицы[11] и по переулку зашёл на Набережную, был уже полдень. «Надо спешить»,— подумал я. Чтобы быстрее идти, я стал мечтать о новогоднем подарке. Это было легко и очень приятно. Ноги сами шли. Только один раз остановился, когда подошёл к нашему старому дому. Он был такой же, как до войны. Красивый. Стройный. На шесте, над чердачным балконом, как всегда, сидел железный петух. На стенах белели обрывки плакатов и обращений. «Интересно, — подумал я, — кто остался в доме?» Но я не пошёл в наш дом — времени было в обрез, да и силы беречь надо, иначе до места не дойдешь... А к Женьке зашёл — Жека это не просто сосед. Тут и сил не жалко. Вот и нужная мне дверь. Чёрный, глазок звонка. Синий железный ящик с чёрной надписью «Для писем и газет». Я долго колотил ногами в массивную дверь, но никто мне не охватил. «Жив ли Жека?» Возле двери на снегу виднелись следы. Совсем свежий след вёл на улицу. «Может, это Жека на ёлку за подарками пошёл»», — подумал я и пожалел, что нет у меня с собой ни бумаги, ни карандаша, — надо бы письмо оставить и новый свой адрес дать, а то он и не знает, где мы теперь живём. Но что тут поделаешь? Надо спешить. Я перешёл через дорогу и оказался у большого красного дома. Он тоже не изменился — только стёкол почти не уцелело да боковая стена, как оспой, иссечена осколками то ли от бомб, то ли от снарядов — рядом-то дом совсем снесло. Там, где раньше была детская площадка, за железным забором угадывались окрашенные в белое стволы зениток. Над ними висели маскировочные сети с белыми, под снег, разводами. С винтовкой в руке прохаживался часовой. Остальные зенитчики были, наверное, в блиндаже. Он находился где-то под снегом, в земле. — На ёлку? — услышал я вдруг возле себя голос. «Никак Жека?» — обернулся — девчонка идёт в меховом пальто, а голова вся обмотана платком шерстяным и похожа на большой серый ком. Лица тоже не видать — только щёлки для глаз, а в них запорошённые снегом ресницы моргают. — Вовка? — спрашивает вдруг девчонка Женькиным голосом. Я сначала даже удивился этому, но потом догадался, что передо мной сам Женька. Он тоже не сразу узнал меня, потому что для тепла я надел поверх своего пальто ещё и ватник отцовский, а лицо шарф закрывал. Да и похудел я, наверное, здорово с тех пор, как не виделись мы. — Ты и не похож совсем, — сказал я после неловкого молчания. — Я... — замялся Женька... — Я нарочно как женщина вырядился... чтобы это... — Женька по старой привычке хотел соврать что-нибудь, но не смог. Время было не то, что прежде. — Ты на ёлку? — спросил я, хотя и сам знал, что да. Иначе зачем бы он в такой морозище к Неве пошёл'?' — Наверно, в школе нам набрехали всё, — сказал Женька, — кто без карточек накормит? — А может, наши трофеев целый обоз захватали, — сказал я. Жека не ответил. Он, наверное, как и я, мечтал о хлебе, о новогоднем подарке. И, как я, обрадовался этой встрече — ведь не виделись больше месяца. Но теперь было не до разговоров — холодно, а главное, мы боялись опоздать на ёлку.
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Нева была белая-белая. Ветер гнал по ней стаи малюсеньких белых мух. Колючих и злых. — Ещё эта позёмка метёт, — сказал Женька и сплюнул — на снег упала ледяшка. У проруби старушка черпала воду ковшиком и сливала в ведро. Вот села и не шевелится. — Подойдём, да? — спросил Женька. «Ведь опоздаем. Все подарки раздадут», — с тревогой подумал я и молча пошёл за Женькой к бабушке — нельзя же бросить человека в такую минуту. — Бабушка, садиться нельзя, — сказал я, когда мы подошли к ней. — А то замёрзнете. Бабушка молчала. — Бабуся, проснитесь! — крикну Женька. Бабушка молчала. Большой серый платок, которым она была укутана до самых глаз, блестел от инея. И на бровях, и на ресницах тоже блестел иней. Я стал тормошить бабушку — не умерла же она так, сразу. Бабушка пошевелила рукой. — Глаза откройте, — сказал Женька, постукивая валенками друг о друга. — Смёрзлись, — застонала бабушка. — Я отдохну немножко и домой пойду. Я посмотрел на берег. Никого. Дома застыли, как неживые. И сугробы — что белые могильные холмы. — Надо помочь, а то замёрзнет, понял? — сказал Женька и снял варежку. Устали мы ужасно, пока довезли санки с водой. Бабушка была такая слабая, что по дороге два раза падала, и мы с трудом помогали ей встать. Наконец добрались до места. Втащили ведро на второй этаж. Бабушка открыла дверь. Мы миновали две большие комнаты. В них была очень красивая мебель и рояль стоял. Чёрный, полированный. Только весь в пыли. На рояле — таз и кофейная мельница. Ею пользовались, видать, давно, потому что она тоже вся в пыли. На стене висела картина — молодая красавица склонилась над розой и улыбается чему-то. «Наверно, какая-нибудь старинная, — подумал я. - А нарисовал её большой художник». — Вот сюда, пожалуйста, в кладовку, - сказала бабушка. — Я живу в чулане — он самый тёплый. В чулане стояли кровать, маленький столик и буржуйка. Возле буржуйки лежала охапка щепок. Мы затопили. Бабушка немного отошла. Сняла с себя шаль, потом кожаное мужское пальто, потом ватник, и оказалось, что это совсем и не бабушка, а молодая женщина. Её звали Екатериной Ивановной. Она была худенькая и, как все дистрофики, некрасивая Лицо тёмное, наверное, от копоти буржуйки. Они дымят, и люди ходят как загорелые, потому что мыться много не будешь — мыла нет, да и холодно. Своих дочек Екатерина Ивановна отправила в эвакуацию и осталась совсем одна. За водой она пошла, потому что мужа ждёт — фронтовик он, письмо прислал и обещал в этот день быть в городе, домой забежать. — Надо взять шефство над тётей Катей, понял? — сказал Жека, когда мы вышли на улицу, и свернул направо, в сторону от Невы. — А ты куда? — спросил я и остановился. — Домой, — пробурчал Женька. — Ноги отказывают. — А ёлка? — Да ну её! — отмахнулся Женька. — А там хлеб будет. У меня чувство есть такое, — сказал я. Женька пожал плечами. Воротник пальто, будто ослиные уши, приподнялся и снова опустился. — Брешешь ты всё, — сказал Женька, но повернулся, и мы снова пошли к реке. Отказаться хоть от самой малой возможности получить еду мы не могли. Где-то за Невой, на Каменном острове, была дача № 5 и наша ёлка. Совсем замёрзли мы, пока искали нужный дом. А нашли и не поверили своим глазам. И не потому, что дом был красивый, как дворец, — в Ленинграде много таких. А вот чтобы из настоящих каменных труб вовсю дым шёл, да ещё музыка играла, — это показалось нам очень даже подозрительным. Я достал из-за пазухи билет. — Ага, всё точно. Дача номер пять. — Смотри. — Женька головой показал на крыльцо, которое виднелось за сугробом. На крыльцо вышел боец. В полушубке и валенках. Достал кисет с табаком и стал цигарку делать. — Ну и морозец! — сказал боец и подышал на руки. Нас он не видел, потому что спиной стоял к нам. — Наверно, в билете ошибка, — сказал я. — Тут — госпиталь. Потому что только в госпиталях для героев концерты делают и печи настоящие топят. — Ну и пускай, попросимся в коридор, погреться, — сказал Женька, — а то я совсем уже... Женька шмыгнул носом и, покачиваясь, как утёнок, пошёл к крыльцу. Я — за ним. Красноармеец нас не остановил. Только спросил: — Замёрзли небось? — Ага, замёрзли, — обрадовался я и почувствовал, что зубы прямо прыгают от дрожи. Женька тем временем уже в дверь шмыгнул. «Его теперь, наверное, не выгонят», — подумал я, с опаской поглядывая на бойца. Вдруг дверь открылась, и сияющий Жека прохрипел: — Иди скорее, шляпа! И вот мы уже в раздевалке. Здесь даже нянечки у вешалки и, когда разденешься, номерки дают. И тепло, как до войны. И музыка. Даже не верилось — в блокадном Ленинграде, и так здорово. Я потёр глаза кулаком — не во сне ли это? Не! Во сне не наступают на ноги. Навстречу нам по коридору шли две девчонки, и одна наступила мне на ногу, на самые пальцы. А пальцы у меня застыли на улице — ужас. — Дура! — сказал я и стал валенок снимать. Девчонка повернулась. Я узнал Любу-отличницу.
— Будут хлеб давать без карточек, — сказала она.
— Не брешешь? — заволновался Женька.
— Кто же про хлеб выдумывать будет? — Люба поджала губы и отвернулась. Когда виден только её затылок — это прежняя Люба. Даже лучше — не вредная, но вот она повернулась — и опять какая-то незнакомая, даже не поймёшь, сколько лет ей.
— Пошли, — торопит Женька.
Мы идём по коридору и останавливаемся у входа в зал. Что за чудеса? Огромная ёлка. А на ней целая уйма игрушек всяких и лампочки цветные горят. Под ёлкой красноармеец сидит с баяном. Левая рука у него в бинтах, на тесёмочке, продетой через шею. Когда он разводит мехи, то глаза зажмуривает. Ему, наверное, руку больно. Женщина в Снегуркином костюме зовёт:
— Вставайте в круг. Все в круг!
Но никто не идёт. Вдоль стены стоят ребята. Много. И все молчат. Сразу-то мы их и не заметили, потому что они у той стены, которая из коридора не видна.
— В круг вставайте! Ну, кто из вас самый смелый?
Ребята молчат. Никто до. отвечает на приглашение. Не до танцев — силенок мало, ноги как чужие... И вдруг очередь дрогнула, рассыпалась Ребята — откуда только и силы взялись — побежали к ёлке. Мы с Женькой тоже — ведь ребята теперь зря не побегут. И точно: говорят, что есть дадут только тем, кто в игре участвовал. Но это был просто слух. Игра не получилась. Женщина в белом халате — наверное, сама заведующая столовой — вошла в зал и сказала:
— Приглашаем дорогих гостей на праздничный обед.
Что тут было!
...Мы сидим за длинным столом. Стал покрыт белой скатертью, и против каждого по вилке, по ложке и по ножу. Ребята сидят и ждут. Чуть послышатся шаги, все оборачиваются — не обед ли несут?
Минуты тянутся, будто они из резины сделаны. Что будет похлёбка — это ясное дело, а вот хлеб дадут ли? Хлебушек — главное в жизни. Опустишь его в чай — тюря получится отличная. Высохнет — сухари такие, что язык проглотить можно. Правда, теперь сухарей не бывает — кто же сушит хлеб? Все, наоборот, стараются, чтобы побольше еды было, в воду опускают его. Воды-то в Неве много.
Раньше дураками мы были. Из хлеба шарики катали и кидались ими. Чёрствые корочки выбрасывали. «Э-эх, — думаю я, — если выживу, никогда ни крошки не брошу. Всё буду сушить. Целый мешок. Десять мешков насушу. Сложу их вместе в шкаф и буду есть когда захочу... И картошку посажу... И друзей угощать стану...»
Пока я мечтал, принесли первое — целую большую тарелку. Сверху жирные звёздочки плавают, а на дне пять мощнейших макаронин и даже кусочек мяса лежит. Вкуснотища такая, что возьмёшься за дело, не подумав, — и не заметишь, как проглотил всю порцию. Пахнет от супа — аж голова у меня закружилась!
Когда на дне остались одни макаронины и тонюсенькая, не толще промокашки, пластинка мяса, я задумался — съесть или с собой унести гущу. Посмотрел на Женьку — вот ведь паразитина: свой суп уже слопал и глазеет то на мою тарелку, то на дверь.
— А второе будет? — спрашивает Женька и отворачивается.
— Хорошо бы! — отвечаю я и чувствую, как во рту языку от слюней тесно делается. Да, нам бы ещё чего-нибудь, поплотнее. Пускай и не такого вкусного, как суп макаронный. Да побольше. Это главное.
У меня в глазах зарябило, когда официантка дала целое блюдце каши пшённой, с настоящей котлетиной, с мясной. Пшёнку я съел, а котлетину и весь хлеб — граммов семьдесят, не меньше, — завернул в платок и заначил в карман. Потом стал вылизывать языком блюдце. Приятное это, скажу, дело! Конечно, лучше бы ещё немножко дали каши, но и так здорово. Даже щекам горячо.
— Теперь бы на третье чего... — сказал Женька и потянулся.
— Больно жирно, — ответил я.
— Смотри! — толкнул меня Женька.
Женщина в белом халате раскладывала по столу пакеты из блестящей зелёной бумаги. «Неужели там тоже съедобное?» Я сразу раскрыл свой пакет. Вот это да! Вот это Новый год! В пакете два пряника, три конфеты и два настоящих... мандарина. Таких подарков я за всю жизнь не видывал!
Я достал жёлтый шарик. Он как маленькое солнце и такой ароматный! А шкурка у него шёлковая. Я прикладываю мандарин к щеке. Нюхаю. Потом осторожно откусываю, чуть-чуть. До чего же здорово — мандариновая корка и сок! Я зажмуриваюсь. И жую. Ух, сколько бы я съел сейчас этих мандаринов!
Я мечтаю. Я думаю о прекрасном юге, где они растут и где я никогда ещё не бывал. Тихая, красивая-красивая возникает откуда-то музыка. Это, наверное, мне кажется только.
Я открыл глаза. В конце зала, возле белоснежного камина с лепными укращениями, мальчик играл на скрипке. Откуда он взялся, не знаю.
Музыкант стоял боком к столу, и мне нe было видно его лица. Тонкий смычок скользил по струнам, и скрипка пела что-то очень хорошее. Такое, что у меня на душе стало как-то тепло.
Зал молчал. Раненый красноармеец — тот, что раньше играл на баяне, пыльной стороной здоровой руки потёр сначала одни глаз, потом другой. А скрипка всё пела и пела. Но вот она смолкла. Музыкант повернулся. Я увидел его лицо, большие карие глаза и родинку на щеке.
— Сеня! — закричал я на весь зал. Соседи оборачивались ко мне.
— Это не Сеня, — услышал я тихий голос Жеки. — Сеня умер...
Музыкант смущённо раскланивался. Он до боли был похож на нашего Шульберта. Только худенький. Сеня тоже, наверно, был бы худеньким. Но Сени больше нет, и я никогда не смогу попросить у него прощания... Мне было очень больно за прошлое. Изменить его теперь никто не мог.
..Жека в одной руке держит надкушенный пряник, а другой заворачивает в шарф подарочный пакет. Мне хочется самому съесть свои пряники, конфеты, мандарины — всё-всё, но Жека прав: так нельзя, надо и домой отнести. Я кладу мандарины обратно в пакет и всё это богатство прячу в карман.
— Больше ничего давать не будут. Я спрашивал, понял? — говорит Женька, когда мы снова входим в зад, где стоит ёлка. Женька, почти как до войны, идёт вприпрыжку. Ещё бы - такая похлёбка, да ещё каша с котлетой!
— Я котлету не съел, — говорю я Женьке.
На Женькином лице гримаса — это он теперь так улыбается. Кожа-то обвисла — вот и получается не улыбка, а пугало.
— А я и мясо из супа приберёг и макарошки, — гордо отвечает Жека и достаёт из-под отцовского пиджака кожаный лётный шлем. Его он и на вешалку не сдавал — боялся: вдруг потеряется.
Мы возвращаемся домой. В животе у меня урчит. Приятно-приятно. А ногам тяжело — устали. Так и хочется лечь в сугроб иди хоть посидеть немного, но мы не заикаемся об отдыхе. Мы несём подарки новогодние.
Было уже темно, когда я пришёл домой. Зимой рано темнеет. В комнате пахло горьким дымом. Это всегда так, когда мама жарит что-нибудь на олифе. Олифу, если её пережарить с корицей или чем другим душистым — ничего, есть можно. Правда, всё равно воняет, но зато полезно — жиры... Говорят, что от олифы ослепнуть можно. Да это, наверно, брехня. И опять же, главное — чем-нибудь наесться. А глаза, может, и ничего...
Дверца у буржуйки была открыта. Светлое пятно от неё дрожало на стене, на ножках стола. Я стал приглядываться к темноте.
Вот здорово — папа дома: целую неделю он был на заводе. Там и ночевал. Сейчас он лежит на кровати. Наверное, спит.
Мама вышла в коридор.
Я достал из кармана шелковистый пакетик. Разложил на столе свои богатства.
Стукнула дверь. Это мама возвращалась. Я спрятал мандарины в карман.
— Мам, давай зажжём коптилку, — сказал я.
— Сготовлю и зажжём, — ответила мама.
— Нет, сейчас. У меня что-то есть... Очень-очень... — Я даже слов не нашёл, чтобы мама сразу поняла, какой необыкновенный этот новогодний вечер. А когда коптилку зажгли и она увидела всё, то только глазами захлопала, а сказать ничего не может. Ясное дело: такая большая радость...
— Это нам на ёлке дали, — сказал я. — Без карточек. Просто так... И суп был, и каша. Только я съел. Вот если бы была банка... Я бы, ясное дело, всё принёс...
— Дура! — сказал я и стал валенок снимать. Девчонка повернулась. Я узнал Любу-отличницу.
— Будут хлеб давать без карточек, — сказала она.
— Не брешешь? — заволновался Женька.
— Кто же про хлеб выдумывать будет? — Люба поджала губы и отвернулась. Когда виден только её затылок — это прежняя Люба. Даже лучше — не вредная, но вот она повернулась — и опять какая-то незнакомая, даже не поймёшь, сколько лет ей.
— Пошли, — торопит Женька.
Мы идём по коридору и останавливаемся у входа в зал. Что за чудеса? Огромная ёлка. А на ней целая уйма игрушек всяких и лампочки цветные горят. Под ёлкой красноармеец сидит с баяном. Левая рука у него в бинтах, на тесёмочке, продетой через шею. Когда он разводит мехи, то глаза зажмуривает. Ему, наверное, руку больно. Женщина в Снегуркином костюме зовёт:
— Вставайте в круг. Все в круг!
Но никто не идёт. Вдоль стены стоят ребята. Много. И все молчат. Сразу-то мы их и не заметили, потому что они у той стены, которая из коридора не видна.
— В круг вставайте! Ну, кто из вас самый смелый?
Ребята молчат. Никто до. отвечает на приглашение. Не до танцев — силенок мало, ноги как чужие... И вдруг очередь дрогнула, рассыпалась Ребята — откуда только и силы взялись — побежали к ёлке. Мы с Женькой тоже — ведь ребята теперь зря не побегут. И точно: говорят, что есть дадут только тем, кто в игре участвовал. Но это был просто слух. Игра не получилась. Женщина в белом халате — наверное, сама заведующая столовой — вошла в зал и сказала:
— Приглашаем дорогих гостей на праздничный обед.
Что тут было!
...Мы сидим за длинным столом. Стал покрыт белой скатертью, и против каждого по вилке, по ложке и по ножу. Ребята сидят и ждут. Чуть послышатся шаги, все оборачиваются — не обед ли несут?
Минуты тянутся, будто они из резины сделаны. Что будет похлёбка — это ясное дело, а вот хлеб дадут ли? Хлебушек — главное в жизни. Опустишь его в чай — тюря получится отличная. Высохнет — сухари такие, что язык проглотить можно. Правда, теперь сухарей не бывает — кто же сушит хлеб? Все, наоборот, стараются, чтобы побольше еды было, в воду опускают его. Воды-то в Неве много.
Раньше дураками мы были. Из хлеба шарики катали и кидались ими. Чёрствые корочки выбрасывали. «Э-эх, — думаю я, — если выживу, никогда ни крошки не брошу. Всё буду сушить. Целый мешок. Десять мешков насушу. Сложу их вместе в шкаф и буду есть когда захочу... И картошку посажу... И друзей угощать стану...»
Пока я мечтал, принесли первое — целую большую тарелку. Сверху жирные звёздочки плавают, а на дне пять мощнейших макаронин и даже кусочек мяса лежит. Вкуснотища такая, что возьмёшься за дело, не подумав, — и не заметишь, как проглотил всю порцию. Пахнет от супа — аж голова у меня закружилась!
Когда на дне остались одни макаронины и тонюсенькая, не толще промокашки, пластинка мяса, я задумался — съесть или с собой унести гущу. Посмотрел на Женьку — вот ведь паразитина: свой суп уже слопал и глазеет то на мою тарелку, то на дверь.
— А второе будет? — спрашивает Женька и отворачивается.
— Хорошо бы! — отвечаю я и чувствую, как во рту языку от слюней тесно делается. Да, нам бы ещё чего-нибудь, поплотнее. Пускай и не такого вкусного, как суп макаронный. Да побольше. Это главное.
У меня в глазах зарябило, когда официантка дала целое блюдце каши пшённой, с настоящей котлетиной, с мясной. Пшёнку я съел, а котлетину и весь хлеб — граммов семьдесят, не меньше, — завернул в платок и заначил в карман. Потом стал вылизывать языком блюдце. Приятное это, скажу, дело! Конечно, лучше бы ещё немножко дали каши, но и так здорово. Даже щекам горячо.
— Теперь бы на третье чего... — сказал Женька и потянулся.
— Больно жирно, — ответил я.
— Смотри! — толкнул меня Женька.
Женщина в белом халате раскладывала по столу пакеты из блестящей зелёной бумаги. «Неужели там тоже съедобное?» Я сразу раскрыл свой пакет. Вот это да! Вот это Новый год! В пакете два пряника, три конфеты и два настоящих... мандарина. Таких подарков я за всю жизнь не видывал!
Я достал жёлтый шарик. Он как маленькое солнце и такой ароматный! А шкурка у него шёлковая. Я прикладываю мандарин к щеке. Нюхаю. Потом осторожно откусываю, чуть-чуть. До чего же здорово — мандариновая корка и сок! Я зажмуриваюсь. И жую. Ух, сколько бы я съел сейчас этих мандаринов!
Я мечтаю. Я думаю о прекрасном юге, где они растут и где я никогда ещё не бывал. Тихая, красивая-красивая возникает откуда-то музыка. Это, наверное, мне кажется только.
Я открыл глаза. В конце зала, возле белоснежного камина с лепными укращениями, мальчик играл на скрипке. Откуда он взялся, не знаю.
Музыкант стоял боком к столу, и мне нe было видно его лица. Тонкий смычок скользил по струнам, и скрипка пела что-то очень хорошее. Такое, что у меня на душе стало как-то тепло.
Зал молчал. Раненый красноармеец — тот, что раньше играл на баяне, пыльной стороной здоровой руки потёр сначала одни глаз, потом другой. А скрипка всё пела и пела. Но вот она смолкла. Музыкант повернулся. Я увидел его лицо, большие карие глаза и родинку на щеке.
— Сеня! — закричал я на весь зал. Соседи оборачивались ко мне.
— Это не Сеня, — услышал я тихий голос Жеки. — Сеня умер...
Музыкант смущённо раскланивался. Он до боли был похож на нашего Шульберта. Только худенький. Сеня тоже, наверно, был бы худеньким. Но Сени больше нет, и я никогда не смогу попросить у него прощания... Мне было очень больно за прошлое. Изменить его теперь никто не мог.
..Жека в одной руке держит надкушенный пряник, а другой заворачивает в шарф подарочный пакет. Мне хочется самому съесть свои пряники, конфеты, мандарины — всё-всё, но Жека прав: так нельзя, надо и домой отнести. Я кладу мандарины обратно в пакет и всё это богатство прячу в карман.
— Больше ничего давать не будут. Я спрашивал, понял? — говорит Женька, когда мы снова входим в зад, где стоит ёлка. Женька, почти как до войны, идёт вприпрыжку. Ещё бы - такая похлёбка, да ещё каша с котлетой!
— Я котлету не съел, — говорю я Женьке.
На Женькином лице гримаса — это он теперь так улыбается. Кожа-то обвисла — вот и получается не улыбка, а пугало.
— А я и мясо из супа приберёг и макарошки, — гордо отвечает Жека и достаёт из-под отцовского пиджака кожаный лётный шлем. Его он и на вешалку не сдавал — боялся: вдруг потеряется.
Мы возвращаемся домой. В животе у меня урчит. Приятно-приятно. А ногам тяжело — устали. Так и хочется лечь в сугроб иди хоть посидеть немного, но мы не заикаемся об отдыхе. Мы несём подарки новогодние.
Было уже темно, когда я пришёл домой. Зимой рано темнеет. В комнате пахло горьким дымом. Это всегда так, когда мама жарит что-нибудь на олифе. Олифу, если её пережарить с корицей или чем другим душистым — ничего, есть можно. Правда, всё равно воняет, но зато полезно — жиры... Говорят, что от олифы ослепнуть можно. Да это, наверно, брехня. И опять же, главное — чем-нибудь наесться. А глаза, может, и ничего...
Дверца у буржуйки была открыта. Светлое пятно от неё дрожало на стене, на ножках стола. Я стал приглядываться к темноте.
Вот здорово — папа дома: целую неделю он был на заводе. Там и ночевал. Сейчас он лежит на кровати. Наверное, спит.
Мама вышла в коридор.
Я достал из кармана шелковистый пакетик. Разложил на столе свои богатства.
Стукнула дверь. Это мама возвращалась. Я спрятал мандарины в карман.
— Мам, давай зажжём коптилку, — сказал я.
— Сготовлю и зажжём, — ответила мама.
— Нет, сейчас. У меня что-то есть... Очень-очень... — Я даже слов не нашёл, чтобы мама сразу поняла, какой необыкновенный этот новогодний вечер. А когда коптилку зажгли и она увидела всё, то только глазами захлопала, а сказать ничего не может. Ясное дело: такая большая радость...
— Это нам на ёлке дали, — сказал я. — Без карточек. Просто так... И суп был, и каша. Только я съел. Вот если бы была банка... Я бы, ясное дело, всё принёс...
 — Павел! Паша! — крикнула мама и плюхнулась на стул.
Проснулся отец.
— Папоч, пап... у нас есть конфеты, котлета... — начал я.
Отец встал и молча остановился у стола.
— Это вам подарки новогодние. От Деда Мороза, — сказал я. — И вот два мандарина — с самого юга... Вы ешьте. А нас досыта накормили.
Отец подошёл ко мне и обнял. Потом тихонечко оттолкнул. Взял со стола мандарин, оторвал от него кусочек корки. Понюхал и ничего не сказал. Только в глаза мне посмотрел. Долгим долгим взглядом.
Голова у папки совсем белая. Морщины на лбу глубоченные, и ещё они от носа к уголкам губ пролегли. Молчаливый теперь мой папка, но такого я ещё больше люблю.
Скоро папа собрался на завод идти. На прощанье он сказал: «Всё будет хорошо». И снова понюхал мандариновую корку.
Стукнула дверь за отцом.
«Только бы с папкой ничего не случилось», подумал я с тревогой.
— Павел! Паша! — крикнула мама и плюхнулась на стул.
Проснулся отец.
— Папоч, пап... у нас есть конфеты, котлета... — начал я.
Отец встал и молча остановился у стола.
— Это вам подарки новогодние. От Деда Мороза, — сказал я. — И вот два мандарина — с самого юга... Вы ешьте. А нас досыта накормили.
Отец подошёл ко мне и обнял. Потом тихонечко оттолкнул. Взял со стола мандарин, оторвал от него кусочек корки. Понюхал и ничего не сказал. Только в глаза мне посмотрел. Долгим долгим взглядом.
Голова у папки совсем белая. Морщины на лбу глубоченные, и ещё они от носа к уголкам губ пролегли. Молчаливый теперь мой папка, но такого я ещё больше люблю.
Скоро папа собрался на завод идти. На прощанье он сказал: «Всё будет хорошо». И снова понюхал мандариновую корку.
Стукнула дверь за отцом.
«Только бы с папкой ничего не случилось», подумал я с тревогой.

ТИК-ТАК
Дни становились всё длиннее, и хотя по-прежнему держались лютые морозы, чувствовалось, что скоро придёт весна. Доживём ли мы до неё — этого никто не знал. Продуктовые нормы прибавились после Нового года, но зато у кого какие запасы были — кончились. Да и ослабли люди до невозможности. Умирают прямо один за другим... Солнце расцветило замёрзшее окно, и ледяшки на нём сверкали, как живые. Я сидел у тёти Вари, на Борькиной кровати и штопал носки. Все штопали носки — и тётя Варя, и Борик. Стыли руки. Я отогрел их под одеялом и снова взялся за иглу. Сначала обшил дырку вокруг, чтобы она дальше не ползла. Потом натянул ровными рядами нитки вдоль дырки и стал перекрывать эти ряды поперечными стежками. — Сегодня, — сказала тётя Варя, — надо сделать двадцать пар. Я обещала. Носки — и шерстяные, и простые — мы чинили для раненых бойцов, для госпиталя. Дело это не только нужное для фронта, но и очень полезное: время идёт незаметнее, легче удержаться — не съесть сразу всю хлебную пайку, дотянуть до обеда и до ужина. Вчера мама выменяла на отрез материала плитку клея столярного. Из него мы будем варить студень Если есть экономно, то на обед и на ужин хватит и нам с малой, и всей тёти Вариной семье. Когда мама уходит на фабрику — она там в охране работает, — я иду к тёте Варе. На столе появиться чугунок. Тётя Варя стала разливать суп. Я старался не смотреть, как она это делает, а глаза сами так и косились к столу. Кому сверху нальют — навару всегда больше, это уж точно. Сверху даже звёздочки жировые плавают. Тётя Варя разливала по очереди, по одной поварёшке в каждую тарелку. Потом снова по поварёшке. — И маме налейте, — сказал я. — Она ещё нё скоро придёт, — возразила тётя Варя. — А пускай и ей будет с наваром, — сказал я. — Потом подогреем. Ладно? Тётя Варя из каждой тарелки отлила маме в кастрюльку. Потом снова долила всем из чугунка. Суп совсем немножко пах мясом. В нём, кроме костей и соли, ничего не было. Но всё равно это не простая вода, а питательная. - Студень сделаем к вечеру, — сказала тётя Варя, когда мы сели за стол. Я достал свою пайку — граммов сто чёрного, липкого хлеба — и разрезал пополам. Одну часть можно съесть сейчас, остальное надо сберечь на вечер. Мы ещё за столом сидели, когда в комнату вошла мама. — От Галчонка письмо, — сказала она, улыбаясь, и села на кровать. «Дорогая мамочка, папочка и Володенька! — писала Галка. — Я очень беспокойная за вас. У нас все, даже колхозный завсклада, все-все беспокоятся за вас и говорят про Ленинград. К нам относятся очень хорошо. Говорят, что вы герои, что вам очень трудно, а вы не сдаётесь и фашистов не пустите в Ленинград. Я тоже хочу к вам. Только доехать к вам теперь никак нельзя. Зима на Урале очень холодная. В школу я хожу за два километра. У нас тут сахару нет и с мануфактурой плохо... А картошки много, и хлеб пекут все сами в русских печках. Я тоже сама испекла для вас круглый хлеб и шанежки — это пирожки такие с картошкой и яйцом помазаны. Всё получилось. Даже наша хозяйкапохвалила. А вот на почте не взяли. Говорят, что в Ленинград посылки не принимают. Вот. А Пирата я отдала военным — как Вова велел. Пират на фронте, и мне письма о нём пишут, говорят, что очень хороший пёс. А ещё все велят вам кланяться и победу желают. В колхозе я заработав 100 рублей и сдала их на танк. И все много дали на танк денег и продуктов разных. Председатель говорит, что надо сборы делать для Ленинграда. И все согласны с ним. Я буду копить для Ленинграда. Вы уж не беспокойтесь. Мамочка! Напиши мне отчет. Я целый месяц без писем. Я очень беспокойная. И про папочку напиши. Я совсем не знаю, где он...» В письмо был вложен малюсенький пакетик с каким-то порошком и записка к нему: «Это, мамочка, краска. Её делают из лука и красят в красный цвет. Если надо, я ещё пришлю». — Хорошо, что Пират воюет, — сказал я, — а то бы здесь... — Я не стал договаривать. В Ленинграде уже не было ни кошек, ни собак... Всех перебили... — А Галка, — сказал я, — чем луковую краску, лучше бы немножко муки посыпала в конверт. Раз цензор пропустил краску, — значит, и муку бы не тронул. — Муку цензор съест, — важно сказал Борик. Он послюнявил палец и ухватил на него чуть не половину луковой краски. — Стой! — возмутился я. — Лук пойдёт в суп, на всех. Мама ещё раз перечитала письмо и тяжело вздохнула: — Что же с нашим батькой? Чуть не месяц... Мама потёрла виски и задумалась. Почти месяц мы не видели моего папу и даже не знали, что с ним. — Нас переводят на казарменное положение, — сказал он тогда. — Домой буду приходить раз в десять дней. Прошло уже больше трёх недель. До завода километров пять, если не больше. Трамвай не работает, а пешком идти не решались — мама еле ходила, да и работу ей нельзя оставить. Меня одного она не отпускала — боялась, что по дороге замёрзну. — Ясное дело, — сказал я. — Они круглые сутки танки ремонтируют. — Да-да, конечно, волноваться не следует, — сказала мама и стала есть свой суп. Она делала вид, будто и сама верит сказанному, но я знал, что это не так. И ещё у меня было такое чувство, что обязательно надо к отцу пойти. Я решил завтра же тронуться в путь. Маме я ничего об этом не сказал. Утром, едва мама ушла на работу, я отыскал карандаш и бумагу. «Мамоч! — написал я. — К нам заходили танкисты. Они едут к папе на завод и отвезут меня на своём танке. Ты не бойся, потому что я буду ночевать у папы на заводе. Вовка». Я положил на стол записку, отыскал свою палочку — теперь многие ходят с ними. Сил-то нет, а с тросточкой легче на ногах держаться. Раньше только старые люди ходили с тростями, а теперь — даже ребята. Опираясь на палочку, я вышел на улицу. Дул колючий, холодный ветер. Стаи снежинок бежали по дороге, сталкивались, лохматили гребни сугробов. Сначала я двигался ничего. Когда разошёлся, то даже на тросточку мало опирался. Изредка в позёмке возникали и таяли прохожие. Как-то раз, уже у Строгановского моста, я увидел грузовик. Он буксовал на снегу. Я хотел попросить шофёра, чтобы подвёз немного, но грузовик перед самым моим носом тронулся. Силы мои быстро убывали. На Кировском проспекте, у большого серого дома, возле амбразуры для пулемёта и дальше, стояла очередь. «Булочная», — догадался я и отвернулся — карточка осталась у мамы, а запастись хоть малюсеньким кусочком хлеба на дорогу я не сумел. Я всё шёл и шёл по тропинке, которая вилась по заснеженному проспекту. Огромные дома напоминали слепцов. Лишь изредка виднелись стёкла, большинство же окон смотрело на улицу белыми листами фанеры, голубоватым железом или просто тёмной пустотой. Зимой 1942 года в Ленинграде мало осталось стёкол. Много было ничейных, заброшенных квартир. Я поравнялся с большим тёмно-серым зданием. Оно начиналась невысоким полукруглым крылом, за которым высилась четырёхугольная башня. Верх башни был обломан, с полукруга свисали листы железа, часть стены была разрушена — видать, сюда угодила бомба. Раньше в полукруге был кинотеатр. В нём показывали «Чапаева», «Мы из Кронштадта» и другие очень интересные фильмы. Под навесом, который вёл в фойе кинотеатра, всегда было много разных картинок. Я любил их рассматривать, когда папа в выходной день брал меня с собой в центр города. Сейчас на месте афиш белели лоскутки бумаги. «Нужны дрова. Оплатить могу тёплыми вещами. Есть хорошее драповое мужское пальто», было написано на одном. «За хлеб продаётся старинный фарфоровый сервиз и золотые обручальные кольца. Если нет хлеба, можно любые другие продукты». Полукружье кинотеатра переходило по направлению к площади Льва Толстого в высокое прямо угольное Здание. В нём был огромный театральный зал и ещё разные комнаты и коридоры. Всё вместе называлось Домом культуры промкооперации, или просто «Прóмкой». У широкого подъезда «Промки» раньше всегда народ толпился. По вечерам стеклянная стена над подъездом сверкала огнями. Теперь она зияла пустотой и сугробами. Я с трудом переставлял непослушные ноги. Уже у самой площади Льва Толстого, где от Кировского проспекта отходит сразу три улицы и где мне надо было свернуть налево, я натолкнулся на сугроб и упал. Я знал, что надо встать, но не встал. По всему телу разливалась теплота. Не ныли больше ноги, и даже под ложечкой не сосало от голода. Я забыл, где нахожусь и что со мной... Я замерзал... — Ну, открой глаза. Ну... — донёсся откуда-то издалека хриплый голос. — Может, он уже... — сказал кто-то другой. — Живой... Дай-ка флягу... Голоса звучали как во сне. Потом кто-то ударил меня по щеке. Я хотел открыть глаза, но не смог. Во рту у меня стало вдруг горячо-горячо. Я глотнул. Внутри тоже стало горячо. Я совсем очнулся... Надо мной стоял человек в белом полушубке и держал в руке красноармейскую фляжку. — Ну, вот и отошёл, — сказал человек в полушубке. — Теперь надо доставить его до дому. И спросил у меня: — Живёшь-то далеко? — Товарищ лейтенант, — сказал другой голос. Уже два часа... Я оглянулся и увидел красноармейца с винтовкой за плечом. — Живёшь-то ты где? — снова спросил лейтенант. Я рассказал. Командир покусал губу и протянул мне фляжку. — Спирт. По ложке на чашку чаю вливать. Полезно. Лучше хлеба. — Потом лейтенант достал из полевой сумки рыбину. Сушёную воблу. И тоже отдал мне. Тут у меня сразу столько сил стало — хоть докуда дойду. — Парнишку надо проводить, — сказал командир бойцу. — Спасибо — сам дойду, — сказал я и засунул рыбину под пальто. — А ты, случаем, опять не уснёшь по дороге? — Не, — ответил я и похлопал пальто в том месте, где были спрятаны вобла и фляга. — Теперь ни за что не замёрзну. Я сам дошёл до завода и отыскал папин цех. Стеклянная крыша во многих местах была продырявлена, и снежинки кружились здесь, будто на улице. И сугробы были как на улице. Гудели станки. На огромном крюке по цеху ползла целая пушка. Крюк тащил её всё дальше. Я посмотрел наверх. Женщина, укутанная в одеяло, сидела в кабине, похожей на большую люльку. Вот она нажала какой-то рычаг, пушка остановилась. Крановщица снова что-то сделала. Пушка начала опускаться и скоро встала колёсами на снег. Подошли двое мужчин. Оба в валенках, лица укутаны шарфами до самых глаз. Стали рассматривать пушку. — Павлов Павел Сергеевич... Вы не знаете, где он? — спросил я. — А ты кто такой будешь? — спросил тот, что опирался на палочку. — Я Вовка. Сын его... — Тогда иди на сварочный участок. Видишь, где свет вспыхивает... В другом конце цеха что-то трещало и как молнии полыхали. — Иди. Отец будет рад, — сказал второй. Я шёл по тропинке мимо запорошённых снегом танков и пушек. Возле них возились какие-то люди. Я не разглядывал их. Я спешил к отцу, и хотя уже знал, что он жив и находится здесь, в цехе, — всё равно беспокойство не покидало меня. Отец стоял, прислонившись к большому железному ящику, и что-то записывал в блокнот. Вот закрыл его и, опираясь на палку, подошёл к женщине. Женщина была в брезентовой куртке. Лицо у неё закрывала маска с тёмными стёклами. Папа что-то сказал ей. Она кивнула в ответ. Я хотел незаметно подойти к отцу, но тут в глаза ударил такой яркий свет, что я даже вскрикнул от неожиданности. ...Вместе с отцом я подходил к станкам. Они гудели, и какие-то круги вертелись быстро-быстро. Специальные ножи резали металл, будто это и не металл, а что-то совсем мягкое. — Ты уж, Игнатьич, продержись ещё немного. Скоро усиленное питание организуем, — сказал папа человеку с белой бородой. Человек был привязан ремнём к большущему станку. Огромная труба медленно вращалась, и с неё вилась стружка. — Всё сделаю, Сергеич, — глухо ответил человек и стал поворачивать какое-то колесо. Труба завертелась быстрее, а стружка стала тоньше. — Всё сделаю, — повторил он снова, — одна у меня теперь забота... — Человек неторопливо потеребил бороду. На его груди, поверх полушубка, я увидел крест. Это был военный Георгиевский крест. Точно такой я видел в музее. Прежде, до революции, такие кресты давали лучшим воинам за смелость. Неожиданно гул в цехе смолк. Остановилась труба. Застыла в воздухе эмея-стружка. — Ток выключили, — сказал папа. — Пойдём, Вова. Папа крутил ручку телефона С кем-то спорил. Требовал электроэнергии. — Ток будет только завтра, — сказал он тихо, и голова его упала на стол. — Пап! Ты чего? — вскрикнул я. — Я сейчас... Только немного отдохну, — ответил отец, не поднимая головы. — Не бойся, сынок, — сказал пожилой человек в ватнике, — батя отойдёт. У него сердце немножко... В комнате было много народу, и все молчали. Все ждали, когда придёт в себя мой пала. Ночевать я остался в профилактории — так назывался дом, в котором жил папа и его товарищи. Вечером сюда принесли каждому по тарелке похлёбки и по куску хлеба. Мне тоже налили целую тарелку. Похлёбка была отличная — с мукою, даже с комочками и с двумя кусочками сладкой мороженой картошки. Папа отдал мне половину своего хлеба. Я глотал горячую похлёбку, и внутри у меня делалось хорошо-хорошо. А папа есть не стал. — Пап, ты чего? — спросил я. — Что-то устал, — сказал он и лёг на кровати. — Ты ешь мой суп. — Пап, — сказал я. — Ты спирту выпей с чаем. Он полезнее хлеба. Мне бойцы дали. Папа выпил чашку чая с ложкой спирта и соседям по комнате предложил по ложке спирта. Они не взяли. Бородатый мужчина сказал: — У нас всё же приварок лучше. Пускай домой отнесёт. Папа спорить не стал и есть тоже стал. — В портфеле у меня, — сказал он, — хлеб есть. Отнесёшь домой вместе со спиртом. Я раскрыл портфель. В нём было двадцать два кусочка хлеба — ровно столько дней папа не был дома. Это он каждый день по полпайки своей откладывал нам. — Папоч, — сказал я, - почему ты нам всё оставил? — Я больше получал и отрезал половину, - ответил папа. В комнате было пять кроватей. Незнакомый парень ложился спать. В буржуйке потрескивали дрова. Бородатый человек поманил меня пальцем. — Ты, Володя, с батькой поласковей будь, — сказал он тихо, когда я подошёл к его кровати. И как-то тяжело посмотрел мне в глаза. Он помолчал немного и спросил: — Ты Василия Васильевича, Пети Ершова батю знал? — Ага, — ответил я. — А меня не знаешь? — снова спросил бородатый. — Не-а, — ответил я и отвернулся. — А ведь я и есть Петин отец... Война. Фашисты проклятые, — сказал он задумчиво себе самому. Петин отец... Василий Васильевич Ершов. Я вспомнил, как в день новогодней ёлки заходил в его дом... На кроватях груды одеял, будто спит кто-то... И никого... Ничего... — А ты, случаем, не был у меня, не знаешь, как они там? — спросил вдруг Василий Васильевич. «Значит, он ничего не знает. Не знает, что все померли, что дом пустой...» Я так растерялся, что Василий Васильевич сразу это заметил и впился в меня глазами. — Ты ничего не знаешь про моих? — спросил он недоверчиво и глухо. Я не сразу ответил. Я думал, нужно ли сказать ему обо всём. «Если скажу, — прикидывал я, — горе может совсем свалить его. Он и так уже... А помочь он всё равно не может. Да и вдобавок, вдруг они живы...» — Ты что-то скрываешь... — тяжело сказал Василий Васильевич. — Не. Ничего не знаю, — сказал я так, будто это правда была. Бывает, что и правду не следует говорить. У меня голова кружится, — добавил я и почувствовал, что перед глазами и действительно круги поползли. Я уже лежал в постели, когда ко мне снова подошёл Василий Васильевич. — Твой отец — настоящий коммунист, — сказал он тихо. — Только бы мотор не подвёл... — Какой мотор? — спросил я. — Сердце, — ответил он. — Батя сутками работал. Под бомбами. Истощение, а сердце у него, понимаешь ли, неважное. Так что ты хорошее что-нибудь ему скажи про вашу жизнь. Это вместо лекарства будет. Василий Васильевич задул керосиновую лампу. — Спи спокойно! — Спокойной ночи! — ответил я. ...Светало. На соседней кровати лежал отец. Лицо у него казалось восковым и необычайно длинным. Глаза были открыты. Папа стал такой худенький, такой непохожий на себя, что, если бы кто другой так изменился, — я бы ни за что не узнал. А это же мой папка... — Пап, будем вставать? — спросил я. Отец молчал. — Пап, ты чего? — спросил я с испугом. Отец молчал. Я дёрнулся из кровати. Зацепился за что то и упал. Когда встал, Василий Васильевич был уже у папиной кровати. Ноги мои приросли к полу. Мне стало страшно. Василий Васильевич смотрел вниз. — Володя, — сказал он тихо. — Ты смелый... Ты ленинградец... — Па-апаа! — закричал я. Рванулся к отцу и упал ему на грудь. — Папочка... Сквозь одеяло я услышал стук: «Тик-так, тик-так...» — Живой. Пап, ты живой, — шептал я. Володя! — Рука Василия Васильевича легла мне на плечо и стала тянуть от кровати. — Уйдите! — закричал я. Не помню, как я отыскал флягу и стал лить в рот отцу спирт. Спирт стекал по белым как снег щекам на подушку. Капал на пол. Глаза неподвижно смотрели вверх. — Сердце, слышите... а вы! — закричал я на Василия Васильевича, когда он снова хотел оттащить меня от отца. Василий Васильевич наклонился и вытащил из-под одеяла папины круглые карманные часы и кусочек высохшей мандариновой корки. Той самой, что отец взял с собой в новогодний вечер... Бежала длинная секундная стрелка. В тишине слышалось: «тик-так, тик-так». Домой я возвращался с Василием Васильевичем. На санках мы везли фанерный гроб. В нём лежал... мой папка. Я не чувствовал ни холода, ни голода - ничего.
В НАШЕМ СТАРОМ ДОМЕ
К концу зимы я совсем ослаб. Целые дни лежал в постели и мечтал о еде. Когда мечтают, по ничего не делают — очень плохо. От этого только силы убывают. Запасы у нас все кончились. Менять на продукты тоже нечего — всё ценное уже сменяли. А мебель... Кто же за неё хлеба даст? Я стал такой бессильный, что мама даже горшок у моей кровати ставила — боялась, что встану ночью, пойду и замёрзну где-нибудь по дороге. В тот день мама чинила бельё для госпиталя, а я лежал и думал... С улицы слышно было, как где-то вдалеке шлёпаются снаряды. Шлёпаются и гремят. От разрывов дверца у буржуйки раскрылась и качается. «Хоть бы сразу... Прямо в дом... в комнату попало... — думаю я. — Тогда бы не надо никакой еды». Я завидую тем, кто умер ещё до войны. Кто давно лежит в могилах. У меня нет больше сил ждать и терпеть. Я уже ничего не жду. И в такой вот беспросветный день, как раз в середине марта, к нам зашла тётя Варя и сказала, волнуясь: — В школе по карточкам суп и кашу каждый день теперь будут давать. Александра Афанасьевна велела приходить. Две недели мама носила обеды из школы — на меня и на себя. Скоро я встал на ноги и с помощью тросточки начал ходить. Сперва по комнате, а потом и на улицу вышел. Когда стало пригревать солнце, мама сказала, что пора возвращаться домой. И что дома всё будет хорошо. Это она так просто сказала, для успокоения, потому что папы всё равно уже нет и вообще... Наш старый дом стоял целёхонек, а вот Жекин... У меня всё так и похолодело внутри, когда на месте его я увидел груду развалин. — Пойдём, сказала мама и потянула меня за руку. — А Жека? — спросил я растерянно. — Может быть, Женя и не погиб, — ответила мама. — Наверное, они тоже куда-нибудь переехали... — Мама покусала свои бледные губы и добавила: — В жилконторе завтра узнаем... Я не мог ждать до завтра. Жилконтора помещалась под аркой красного дома. В небольшой продолговатой комнате горела коптилка. В раскалённой докрасна буржуйке потрескивали дрова. За столом сидел грузный пожилой мужчина в очках и щёлкал на счётах. — Дом восемьдесят один? Орловы? Женя — твой друг?.. -- переспросил он и достал толстую книгу в сером переплёте. Я боялся даже дышать. В книге ведётся учёт всех, кто живёт в нашей жилконторе. Сейчас управхоз скажет, что с Жекой... Палец с загнутым ногтем неторопливо полз по строчкам, переворачивал страницы. Управхоз, казалось, совсем забыл обо мне и читал для себя — кто и когда умер, на кого пришла похоронная с фронта. - Вот. Орлов Евгений Дмитриевич, одна тысяча девятьсот Двадцать восьмого года рождения, — проскрипел голос. Я зажмурился, будто перед прыжком с трамплина. — Здесь родился и жил с матерью... Отец — военнослужащий... Управхоз тяжело вздохнул и захлопнул книгу. Я со страхом ждал, когда он снова заговорит, когда скажет, что Жеки давно уже нет в живых. — Сведений о судьбе Орловых, — сказал управхоз, — не имеется. — Он помолчал, потёр рукой обросшие щёки и добавил неторопливо: — Дом их, после попадания снаряда, разобран был на дрова. Помнится мне, будто Орловых под обломками не находили. А точно не скажу, я тогда на другой работе был. В нашей квартире — в большой комнате, в спальне — везде было очень зябко. Чернели закопчённые потолки. Стол, мраморная плита буфета — всё покрылось толстым слоем пыли. И откуда она только взялась — непонятно. Всю зиму тут никого не было. Мама присела на кончик дивана и спросила: — Ты рад, что мы дома? Мне было всё равно. Вот если бы хлеба прибавили — другое дело. Я подошёл к зеркалу и стад смотреть на старикана, который стоял в зеркальной раме. Лицо сморчком, тёмное, маленькое, а волосы как из соломы. Я даже не сразу понял, что это моё отражение. — Вова! — позвала мама. Я обернулся и рукавом задел за маленький столик. Со столика упала какая-то баночка и покатилась по полу. Я поднял её. «Мазь. Применяется против вшей и других насекомых» — было написано на ней. Мазь мы истратили ещё в начале зимы — тогда всякие паразиты пошли. Говорят, это оттого, что люди истощённые... Баночка... Мне вспомнился тот августовский день, когда мы с Жекой устроили бокс, и Женька эту самую мазь назвал боксерской, и ещё за показ приёмов, которых и сам не знал, волосы у меня выдёргивал. Тогда я зол был на него, а теперь пускай бы все волосы повыдёргивал у меня, только бы сам жив остался. Мама сидела на корточках у этажерки и перебирала книги. — Надо как-то стену сломать, — сказала она.— А то совсем замёрзнем. Всё, что было можно, мы сожгли ещё зимой — табуретки, старый диван, даже книги. Только именные папины да с автографами остались. — Их надо сохранить, — сказала мама. Мы спрятали эти книги в платяной шкаф и не трогали. Если б у меня прежние силы были, я бы, конечно, нашёл дров, потому что есть ничейные, разбитые дома. Только для этого надо далеко идти и потом с бревном мне не справиться. А вот если бы стену... Стена отделяла гостиную от детской комнаты. Она была временная — из досок и даже не до самого потолка. Целый день я мучился со стеной. Её доски — хуже железа, крепкие-крепкие. И как на пружинах. Только мелких щепок и наколотил я. Пришлось ломать кресло из чёрного дерева. Его нам хватило на целых два дня. Из головы у меня никак не выходил Жека. Лягу спать, закрою глаза и вижу, как мы с ним в школу идём, как Жека надевает свой лётный шлем. Ну всё-всё, как было, и притом только хорошее. Раньше я даже не думал, что буду так скучать по нему, а тут... Я надеялся, что кто-нибудь из жильцов знает, куда подевался Жека и живой он или нет. В квартире под нами вообще никто не жил. Это я сразу понял, потому что у входа был сугроб и никаких даже следов. В квартире дяди Феди дворника — я застал только его жену. — Все наши в Сибири, - сказала она. — Давно уехали. А дядя Федя не хотел ехать... — Она тяжело вздохнула. — И помер, царство ему небесное... — Дяди-Федина жена перекрестилась и сказала, что о Жеке ничего не знает. От Люськи я узнал только о гибели старшего её брата и что её отец и брат Михаил воюют под Ленинградом. Осталась квартира Сени-скрипача. Сенина мама раньше дружила с матерью Жеки. Я очень надеялся узнать от неё хоть что-нибудь. Сенина квартира помещалась в самом конце дома. С тяжёлым чувством поднялся я на каменные ступеньки крыльца. Впрочем, крыльца самого не было. Остались только железные стойки, на которых раньше держалась крыша. Крыльцо было деревянное, и его, ясное дело, на дрова пустили. Дверь оказалась запертой. Я постучал, и вскоре услышал бодрый голос: — Дёргайте сильнее... Ах, оказия, щас отопру... Голос показался мне знакомым. «Никак дед Антон?» — подумал я и даже плечами пожал. Ведь дед Антон остался в Осиповке. Дверь распахнулась, и на пороге я увидел хозяина нашей дачи. Он торопливо подпоясывал верёвкой свои широченные заплатанные штаны. Дед Антон мало изменился. Разве только ещё больше согнулась его спина да лицо стало чуть похудее. Меня дед Антон не узнал. Я растерялся от неожиданной встречи и молчал. — Проходи, парень, в дом, — сказал он приветливо. — Сказывай, по какому делу пришёл. — Мне надо видеть маму Сени Берга, — выдавил я из себя. — Вы не знаете, дядя Антон? Дед отступил от меня на шаг. Провёл рукой по своей белёсой окладистой бороде. Пристально посмотрел мне в глаза и удивлённо воскликнул: — Никак Володя, сын Павла Сергеевича? Я стоял в просторной светлой комнате, сплошь уставленной ящиками с землёй. Ящики были на полу, на широких полках, что стояли вдоль стен. И везде из них тянулись зелёные побеги. Я узнал острые стрелки лука, узорчатую ботву моркови. — ...Что же мы стоим-то?.. — спохватился дед Антон. — Проходи к столу. — И он подвинул мне единственный в комнате свободный стул. От деда Антона я узнал, что из Осиновки все жители ушли вскоре после нашего отъезда. Сам старик сначала по лесу плутал — вокруг немцы были. Потом добрался до Ленинграда, разыскал сына с внуком и поселился у них. — А хозяева этой квартиры, — проговорил дед Антон, теребя бороду, — нету их. — И старик кивнул на стену, где в большой коричневой раме висела фотография всей семьи Бергов — Сени, его отца, матери и сестрёнки. — Из всех, — сказал он со вздохом, — одна девчушка осталась... — Дед Антон задумался. На его глаза будто туман набежал, и стали они какие-то мутные. Тихо продолжал он свой рассказ: — Зимой, в самые морозы, идём мы, значит, по дрова с внучком. И вдруг Колюха, внучок мой, говорит: «Деда, вон девочка упала». Смотрю — и вправду лежит у крыльца девочка и не шевелится, а мороз лютый... Ну, подошли, значит, подняли девочку. Она, как отошла, рассказала, что мать её померла и одна она теперича осталась, и что за хлебом надо в булочную... Ну, тут я и решил удочерить её — не помирать же ей... Квартира ейная лучше нашей — вот мы и переселились. А как война кончится, вернётся её папаша с фронту — уедем отсюдова. В деревню. В Осиновку. Он улыбнулся. Достал из кармана маленький кожаный мешочек. Насыпал в пригоршню мятых сухих листьев, свернул из обрывка газеты цигарку и закурил. Колечко дыма задрожало над морщинистым тёмным лицом. Скрипнула дверь, из другой комнаты выглянула девочка в коротеньком сером платье. — Деда! — позвала она. — Можно я за снегом схожу на улицу? Рассаду поливать пора. Я догадался, что это и есть сестра Сени, которую на время удочерил дед Антон. Пока они были в сенях, я успел рассмотреть всю комнату. Вещей в ней почти не было — несколько стульев да укрытое полотняным чехлом пианино. На пианино стояла в деревянной рамке фотография — Коля Богданов, тот, что меня в командиры фронтового отделения выдвигал, рядом с широкоплечим мужчиной. Мужчина сидит, положив на колени огромные, как кувалды, руки. — A эту фотографию вы тоже нашли? — спросил я у деда, когда он вернулся в комнату. — То сын мой и внучок Коля, — ответил он. — Сын ноне на Ладоге, а внучок тётку проведать пошёл. Она на Выборгской стороне живёт. — Дед Антон последний раз затянулся самодельной сигаретой и добавил: — Колюха поживёт там малость и вернётся. Ты заходи к нам. Он малец ничего себе... Мне было очень хорошо у деда Антона. В комнате тепло. Пахнет травами. Дед Антон — такой, как и раньше. И голос у него как до войны. Перед глазами у меня снова всплыла Осиновка, неторопливая речушка, у которой и имени своего нет, раки... «Если бы сейчас хоть одного поймать!» — подумал я и спросил у деда Антона: — А когда кончится война, можно мы снова к вам приедем? — А то как? Обязательно! — улыбнулся старик. — Вот построим тамочка новый дом, огород разобьём. Распрекрасно будет... На прощанье дед Антон нарвал мне целый букетик луковых стрелок. От них вкусно пахло. Они были нежно-зелёного цвета, шелковистые. И очень вкусные, очень полезные.
ДЯДЯ ДИМА
Вечерело. Мама опустила на окнах маскировочные шторы. Зажгла коптилку и позвала меня к столу. — У меня есть пятьдесят граммов хлеба, — сказала она. — Иди, ужимать будем. Я сел за стол и старался не смотреть, как мама режет пополам кусочек, оставшийся от её хлебной пайки. Мне было стыдно брать у мамы хлеб. Я знал, что она тоже голодная, но, по правде сказать, не удержался. Мы налили чай в большие чашки-пиалы и опустили в него хлеб. Конечно, не сразу весь, а только чуть-чуть, чтобы кипяток подушился хлебом Получилась хорошая тюря. Только я глотнул её, вдруг слышу — вроде стучат к нам. Мама тоже насторожилась. — Кто там? — крикнул я, подойдя к двери. — Свои. Открой, Вова, — ответил кто-то. Голое был глухой и незнакомый. Я открыл дверь, и человек молча прошёл следом за мной по тёмному коридору. Уже в комнате я увидел, что на человеке командирский полушубок и кожаный лётный шлем с длинными ушами. Точь-в-точь как у Жеки. «Дядя Дима? Не. Не похож. Больно старый, и голос не тот. У дяди Димы — громкий, командирский». Человек был бородатый, большой и совсем чужой. — Не узнали? — спросил он, сбрасывая с плеча солдатский вещмешок. — Дмитрии Терентьевич? — удивлённо выдохнула мама и поднялась из-за стола. — Дмитрий... Меня обдало жаром, потом холодом... Дядя Дима? Живой? А Жеки уже нет... Чувство было такое, будто это я во всём виноват... В комнате установилась тяжёлая тишина. Было слышно, как в буржуйке догорают щепки, как ветер тихонько урчит в трубе. Монотонно постукивали капли, падавшие с оттаявших в тот вечер окон. — Всех обошёл, — тихо сказал дядя Дима, — и ничего .. — Может, они переехали к кому-нибудь из новых знакомых, — неуверенно заговорила мама. — Теперь всё перемешалось...
— Не надо... — Дядя Дима до хруста сжал руки. Широкий, в больших меховых унтах, с тёмным обветренным лицом, он казался огромным и неживым. Дрожащий свет коптилки лизал его небритые щёки и прятался в густой и такой непривычной мне бороде. Дядя Дима чем-то напоминал отца в то февральское утро...
Но вот дядя Дима встал. Прошёлся по комнате и сказал:
— Надо держаться. Надо выдержать.
Голос был негромкий, но сильный. Он как-то сразу снял ту невероятную тяжесть, которой, казалось, наполнено было всё вокруг.
О смерти моего отца дядя Дима уже знал и при мне ни о чём расспрашивать не стал. Наверно, и слова о том, что «надо держатся, надо выдержать», он сказал для меня. И о том, что мы молодцом выглядим и что его жена и Жека, наверное, всё-таки живы, дядя Дима опять-таки, наверное, сказал для моего успокоения.
Дядя Дима водрузил на стол свой вещмешок и принялся выкладывать из него какие-то свёртки.
У меня аж дух захватило: целая буханка хлеба, банка с поросёнком на картинке и пять кусков сахара. Белого-белого. А у буханки нижняя корка немного отстала, и видно вкусное-вкусное тесто. «Неужели такое счастье — мы будем есть эту буханку и этот сахар?» Я зажмурился, но и с закрытыми глазами отлично видел всё.
— Если не возражаете, - сказал дядя Дима, — я у вас заночую, а утром уеду на аэродром. Новый самолёт получу — и к себе, в часть...
В другое время я бы обязательно спросил дядю Диму, почему он получает новый самолёт, сколько «юнкерсов» и «мессершмиттов» сбил обо всём, обо всём. Но в тот вечер я об этом и не заикнулся.
Дядя Дима кончил раскладывать продукты и сказал:
— Давайте ка ужинать!..
Мы ели настоящую тушёнку и пили чай с сахаром. Хлеба мне дали граммов сто. Я, понятное дело, не съел всё сразу — и сахару кусочек, и хлеб почти весь спрятал на потом. Но всё равно ужин был такой, что его всю жизнь надо помнить. Ели мы долго, потому что иначе часть продуктов пропасть может зазря. Пролетят калории вхолостую. А медленно — полезнее. Сначала мы съели консервы — их в банке было немного, совсем на донышке, но зато вкусные — жутко. Я, ясное дело, свою порцию не просто проглотил, а с тремя чашками кипятку с хлебом. Тюря получилась небывалая. Мама тоже в чай свои консервы опустила, а дядя Дима, чудак, всухомятку, будто это и не тушёнка, так просто съел, без воды. А разве так наешься когда-нибудь? Я сказал ему об этом, а он вздохнул и даже есть перестал. Меня обожгла догадка: ведь все эти продукты дядя Дима нёс для своего сына, для Жеки... Ночью не спалось. Я думал о своём погибшем друге, о папе. Из-за перегородки, отделявшей столовую от детской комнаты, доносились приглушённые голоса. Иногда мне удавалось разобрать целые фразы. Дядя Дима больше спрашивал, а мама отвечала. Я тихонько поднялся с кровати. Спали мы обычно не раздеваясь: сначала боялись бомбёжек, а потом просто из-за холода.
В дверной проём — дверь мы давно уже сожгли — падал жёлтый свет от коптилки. Мама и дядя Дима сидели у обеденного стола. Мама опустила голову на руки и покусывала палец — она теперь часто это делает, если задумается или сильно переживает что-нибудь. Дядя Дима сидел не шевелясь, крепко сцепив руки на голове, под шапкой густых седеющие волос.
— Да, пожалуй, надежды нет, — глухо сказал дядя Дима и так сжал пальцы, что они захрустели. Долго длилось молчание. Наконец мама неуверенно сказала:
— Но ведь никто не видел... Я вот слышала случай, когда...
Мама, наверное, хотела успокоить дядю Диму, вселить в него надежду, но она никогда не умела врать, а сказать ничего утешительного не могла.
— Ладно. Отдыхать пора, — перебил её дядя Дима. — С утра на аэродром...
Он сложил в вещмешок хлеб и сахар. Завязал брезентовым ремнём и оставил всё на столе, сказав: «Это вам пригодится».
Дядю Диму мама уложила в столовой на диване, а сама пришла в спальню.
— Мам, — сказал я, — а ведь Жека живой? Верно?
Мама ничего не отвергла.
В столовой что-то зашелестело. Может, это мне только показалось, а может, дядя Дима ворочался на диване, но мне стало даже страшно: вдруг крысы к вещмешку крадутся. Они хитрые — прячутся и жрут бумагу... А сейчас, может, уже к самому хлебу подобрались.
Я встал с постели и направился в столовую.
— Ты чего? — спросил дядя Дима.
— Крысы хлеб и сахар сожрут, — сказал я. — Они как пить дать придут...
Дядя Дима встал, зажёг коптилку. Потом взял вещмешок и подвесил его к крюку на потолке.
— А ваши живы, — сказал я. — У меня чувство такое есть.
Дядя Дима ничего не ответил.
— Правда, — сказал я. — И управхоз так думает, и вообще...
— Я везде был, — ответил дядя Дима. — Я не решился ни о чём расспрашивать.
— Мам, — сказал я, подойдя к её кровати, — ведь Жека живой... Ведь если бы они погибли, то их нашли бы. Дом ведь на дрова весь разобрали, а их...
— Спи, Вовик, — со вздохом сказала мама.
За окном скрежетала старая липа. Она всегда скрежетала, когда дул ветер. Я уснул под утро.
Когда я проснулся, дом слегка вздрагивал от разрывов. Это фашисты по какой-нибудь улице из орудий били. На ремне покачивался вещмешок, в котором лежала буханка хлеба и четыре куска сахара. У буржуйки возилась мама. Она готовила кипяток для тюри. Дяди Димы не было.
— Уекал на аэродром, — сказала мама.
Я расстроился, что не попрощался.
— Он обещал вернуться, — успокоила мама.
К вечеру дядя Дима пришёл снова, и даже не один, а со своим товарищем. Тоже лётчиком и, как он сказал, настоящим воздушным асом. Он был большой и в таком же полушубке, как у дяди Димы. У него была трофейная губная гармошка. Он то и дело играл на ней. Я давно отвык от музыки, и теперь даже как-то не по себе делалось от неё.
— С песней и с музыкой даже умирать легко, — шутил он.
Лётчик был очень весёлый. Я сначала даже не поверил, что он тоже герой.
Когда начало темнеть, за окном загудела машина.
— За нами, — сказал дядя Дима.
— А как у вас с дровами? — спросил лётчик. Мама сказала, и оба лётчика тут же решили, что не уедут, пока стену не сломают. Сразу-то ни к чему им было, потому что в тот день мы натопили в комнате здорово. Даже лёд на окнах — на железных листах, на уцелевших стёклах — стал плавиться, а на подоконниках появились лужицы, с которых вода капала на пол.
Работали лётчики отлично — один топором подденет доску, а другой тянет её руками или ногой выбивает. Ух и наготовили они дров! На целый месяц. А когда уходили, дядя Дима сказал, что прокатит меня на машине. Он старший был и что ни скажет — остальные соглашаются. А я подумал и не согласился: зачем зря бензин жечь. Его ведь тоже с Большой земли везут. Шофёр засмеялся, а дядя Дима вздохнул и что-то сказал товарищу. Тот полез в свой вещмешок и достал банку.
— Держи! — сказал дядя Дима. — Будь героем, как отец. Матери помогай. — И потрепал меня по голове.
Мы проводили летчиков до машины Горький комок защекотал в горле, когда за окрашенной в белое «эмкой»[12] взвилось снежное облачко.
Мы сели за стол. Открыли банку, которую дал дядя Дима. В ней было... настоящее сгущенное молоко. Густое, с матовой плёнкой сверху. Мама налила в чашку чай и положила в него по целых две ложки сгущённого молока. Я добавил хлеба. Вкуснотища получалась такая, что и ложку проглотить можно.
— Какой он хороший, добрый, — сказала мама, наливая в свою чашку кипяток. — И такое... — Мама не договорила.
Чай так и обжёг меня всего: «Ведь эти продукты должен был бы есть Жека, а не я...» Я ничего не сказал об этом. Я решил, что обязательно осуществлю Жекину мечту — когда вырасту, то стану настоящим лётчиком, как его отец, и дядю Диму никогда не брошу.
— Может, они переехали к кому-нибудь из новых знакомых, — неуверенно заговорила мама. — Теперь всё перемешалось...
— Не надо... — Дядя Дима до хруста сжал руки. Широкий, в больших меховых унтах, с тёмным обветренным лицом, он казался огромным и неживым. Дрожащий свет коптилки лизал его небритые щёки и прятался в густой и такой непривычной мне бороде. Дядя Дима чем-то напоминал отца в то февральское утро...
Но вот дядя Дима встал. Прошёлся по комнате и сказал:
— Надо держаться. Надо выдержать.
Голос был негромкий, но сильный. Он как-то сразу снял ту невероятную тяжесть, которой, казалось, наполнено было всё вокруг.
О смерти моего отца дядя Дима уже знал и при мне ни о чём расспрашивать не стал. Наверно, и слова о том, что «надо держатся, надо выдержать», он сказал для меня. И о том, что мы молодцом выглядим и что его жена и Жека, наверное, всё-таки живы, дядя Дима опять-таки, наверное, сказал для моего успокоения.
Дядя Дима водрузил на стол свой вещмешок и принялся выкладывать из него какие-то свёртки.
У меня аж дух захватило: целая буханка хлеба, банка с поросёнком на картинке и пять кусков сахара. Белого-белого. А у буханки нижняя корка немного отстала, и видно вкусное-вкусное тесто. «Неужели такое счастье — мы будем есть эту буханку и этот сахар?» Я зажмурился, но и с закрытыми глазами отлично видел всё.
— Если не возражаете, - сказал дядя Дима, — я у вас заночую, а утром уеду на аэродром. Новый самолёт получу — и к себе, в часть...
В другое время я бы обязательно спросил дядю Диму, почему он получает новый самолёт, сколько «юнкерсов» и «мессершмиттов» сбил обо всём, обо всём. Но в тот вечер я об этом и не заикнулся.
Дядя Дима кончил раскладывать продукты и сказал:
— Давайте ка ужинать!..
Мы ели настоящую тушёнку и пили чай с сахаром. Хлеба мне дали граммов сто. Я, понятное дело, не съел всё сразу — и сахару кусочек, и хлеб почти весь спрятал на потом. Но всё равно ужин был такой, что его всю жизнь надо помнить. Ели мы долго, потому что иначе часть продуктов пропасть может зазря. Пролетят калории вхолостую. А медленно — полезнее. Сначала мы съели консервы — их в банке было немного, совсем на донышке, но зато вкусные — жутко. Я, ясное дело, свою порцию не просто проглотил, а с тремя чашками кипятку с хлебом. Тюря получилась небывалая. Мама тоже в чай свои консервы опустила, а дядя Дима, чудак, всухомятку, будто это и не тушёнка, так просто съел, без воды. А разве так наешься когда-нибудь? Я сказал ему об этом, а он вздохнул и даже есть перестал. Меня обожгла догадка: ведь все эти продукты дядя Дима нёс для своего сына, для Жеки... Ночью не спалось. Я думал о своём погибшем друге, о папе. Из-за перегородки, отделявшей столовую от детской комнаты, доносились приглушённые голоса. Иногда мне удавалось разобрать целые фразы. Дядя Дима больше спрашивал, а мама отвечала. Я тихонько поднялся с кровати. Спали мы обычно не раздеваясь: сначала боялись бомбёжек, а потом просто из-за холода.
В дверной проём — дверь мы давно уже сожгли — падал жёлтый свет от коптилки. Мама и дядя Дима сидели у обеденного стола. Мама опустила голову на руки и покусывала палец — она теперь часто это делает, если задумается или сильно переживает что-нибудь. Дядя Дима сидел не шевелясь, крепко сцепив руки на голове, под шапкой густых седеющие волос.
— Да, пожалуй, надежды нет, — глухо сказал дядя Дима и так сжал пальцы, что они захрустели. Долго длилось молчание. Наконец мама неуверенно сказала:
— Но ведь никто не видел... Я вот слышала случай, когда...
Мама, наверное, хотела успокоить дядю Диму, вселить в него надежду, но она никогда не умела врать, а сказать ничего утешительного не могла.
— Ладно. Отдыхать пора, — перебил её дядя Дима. — С утра на аэродром...
Он сложил в вещмешок хлеб и сахар. Завязал брезентовым ремнём и оставил всё на столе, сказав: «Это вам пригодится».
Дядю Диму мама уложила в столовой на диване, а сама пришла в спальню.
— Мам, — сказал я, — а ведь Жека живой? Верно?
Мама ничего не отвергла.
В столовой что-то зашелестело. Может, это мне только показалось, а может, дядя Дима ворочался на диване, но мне стало даже страшно: вдруг крысы к вещмешку крадутся. Они хитрые — прячутся и жрут бумагу... А сейчас, может, уже к самому хлебу подобрались.
Я встал с постели и направился в столовую.
— Ты чего? — спросил дядя Дима.
— Крысы хлеб и сахар сожрут, — сказал я. — Они как пить дать придут...
Дядя Дима встал, зажёг коптилку. Потом взял вещмешок и подвесил его к крюку на потолке.
— А ваши живы, — сказал я. — У меня чувство такое есть.
Дядя Дима ничего не ответил.
— Правда, — сказал я. — И управхоз так думает, и вообще...
— Я везде был, — ответил дядя Дима. — Я не решился ни о чём расспрашивать.
— Мам, — сказал я, подойдя к её кровати, — ведь Жека живой... Ведь если бы они погибли, то их нашли бы. Дом ведь на дрова весь разобрали, а их...
— Спи, Вовик, — со вздохом сказала мама.
За окном скрежетала старая липа. Она всегда скрежетала, когда дул ветер. Я уснул под утро.
Когда я проснулся, дом слегка вздрагивал от разрывов. Это фашисты по какой-нибудь улице из орудий били. На ремне покачивался вещмешок, в котором лежала буханка хлеба и четыре куска сахара. У буржуйки возилась мама. Она готовила кипяток для тюри. Дяди Димы не было.
— Уекал на аэродром, — сказала мама.
Я расстроился, что не попрощался.
— Он обещал вернуться, — успокоила мама.
К вечеру дядя Дима пришёл снова, и даже не один, а со своим товарищем. Тоже лётчиком и, как он сказал, настоящим воздушным асом. Он был большой и в таком же полушубке, как у дяди Димы. У него была трофейная губная гармошка. Он то и дело играл на ней. Я давно отвык от музыки, и теперь даже как-то не по себе делалось от неё.
— С песней и с музыкой даже умирать легко, — шутил он.
Лётчик был очень весёлый. Я сначала даже не поверил, что он тоже герой.
Когда начало темнеть, за окном загудела машина.
— За нами, — сказал дядя Дима.
— А как у вас с дровами? — спросил лётчик. Мама сказала, и оба лётчика тут же решили, что не уедут, пока стену не сломают. Сразу-то ни к чему им было, потому что в тот день мы натопили в комнате здорово. Даже лёд на окнах — на железных листах, на уцелевших стёклах — стал плавиться, а на подоконниках появились лужицы, с которых вода капала на пол.
Работали лётчики отлично — один топором подденет доску, а другой тянет её руками или ногой выбивает. Ух и наготовили они дров! На целый месяц. А когда уходили, дядя Дима сказал, что прокатит меня на машине. Он старший был и что ни скажет — остальные соглашаются. А я подумал и не согласился: зачем зря бензин жечь. Его ведь тоже с Большой земли везут. Шофёр засмеялся, а дядя Дима вздохнул и что-то сказал товарищу. Тот полез в свой вещмешок и достал банку.
— Держи! — сказал дядя Дима. — Будь героем, как отец. Матери помогай. — И потрепал меня по голове.
Мы проводили летчиков до машины Горький комок защекотал в горле, когда за окрашенной в белое «эмкой»[12] взвилось снежное облачко.
Мы сели за стол. Открыли банку, которую дал дядя Дима. В ней было... настоящее сгущенное молоко. Густое, с матовой плёнкой сверху. Мама налила в чашку чай и положила в него по целых две ложки сгущённого молока. Я добавил хлеба. Вкуснотища получалась такая, что и ложку проглотить можно.
— Какой он хороший, добрый, — сказала мама, наливая в свою чашку кипяток. — И такое... — Мама не договорила.
Чай так и обжёг меня всего: «Ведь эти продукты должен был бы есть Жека, а не я...» Я ничего не сказал об этом. Я решил, что обязательно осуществлю Жекину мечту — когда вырасту, то стану настоящим лётчиком, как его отец, и дядю Диму никогда не брошу.

ДЕДОВА ТРАВА
Пришла весна. Стаял снег. На обочинах дорог, на огородах и во дворах появилась трава. Зелёная и мягкая. Движение на улицах было слабое: машинам не хватало горючего, а пешеходы... Мало осталось людей на нашей улице. И вот зелёные побеги потянулись между булыжниками мостовой, на месте бывших деревянных тротуаров — их тоже давно сожгли. И стали наши улицы совсем как в настоящей деревне. Если не было артобстрела или бомбёжки — тишина. Только утром да поздно вечером можно увидеть сразу несколько человек — это на работу идут или с работы. И их немного: кто работать может — они больше всё на казарменном положении, у себя на заводах живут. Так удобнее — силы не тратятся на дорогу. Самое оживлённое время на наших улицах — рано утром. Особенно если дождь прошёл. После дождя зелень в рост идёт. И «благородная» тоже — крапива, лебеда, дикий щавель. А кто же не хочет крапивных щей или лепешек из лебеды? Это очень хорошая пища. За съедобными травами охотиться надо умеючи, знать «места». Лучше всего лебеда растёт на насыпях щелей, где земля рыхлая. Крапива любит дикие места — развалины домов, воронки от снарядов. Это она теперь такая капризная стада, а раньше её везде полно было. И никто её не ценил. Все мы думали, что она только кусается. На «охоту» я выхожу ещё до восхода солнца — хорошо, ночи белые. Я ищу крапиву, щавель, лебеду. Их ищут многие. А моя мама не ищет. Она только по комнате ходить может. Я должен поставить её на ноги. А для этого нужно хорошее питание. Долго искал я в тот день благородные травы, но почти ничего не нашёл. Пришлось вырывать подорожник. С ним и вернулся я домой. Корни у подорожника длинные и на вид похожие на макароны. Они очень крепкие и жутко горькие. — Давай порежу, — сказала мама, вытаскивая из корзинки грязные «макаронины». Голос у неё расстроенный. Ясное деле»: мечтала о крапиве и лебеде. Я растопил буржуйку, и скоро мы начали варить корни. Когда вода стала бурей, её слили и налили новой. Так продолжалось много раз, пока не выкипела вся горечь. Потом мы положили в кастрюлю с корнями кусок кожи от дивана. — Будет мясной навар, — сказал я. Мама сидела у буржуйки и не то дремала, не то думала. Она теперь часто сидит вот так молча, не шевелясь. Иногда мне делается страшно — не умерла ли, и я кричу: «Мама!» Мама вздрагивает и спрашивает, что случилось. Потом она устало проводит рукой по лицу и молчит. Лицо у неё маленькое-маленькое, а глаза сидят глубоко-глубоко. Это от истощения. Мама очень много думает, только не говорит о чём. А я всё равно знаю: думает обо мне и о моём будущем. Мама заболела сразу после первомайской выдачи продуктов. У неё всё время живот болит... К празднику-то нам дали четыре больших, необыкновенно вкусных селёдки, масла сливочного и ещё немножко шоколаду кускового. Его к 1 Мая на самолетах в Ленинград привезли. На радостях мы съели целую большую селёдку. Вот мама и слегла. Пришла тетя Варя. Она теперь работает в военном госпитале и ходит в военном форме. Тётя Варя немного поправилась за время, что мы не виделись, и снова стала похожа на моего папу — она ведь родная его сестра. Тётя Варя долго разговаривала с мамой — вспоминала моего папу, какой он был в молодости. Потом она говорила о войне, о том, что надо выжить, что мама должна побороть болезнь. — Маму надо госпитализировать. У неё дизентерия, — сказала тётя Варя. — Я всё устрою. А ты, Вова, поживёшь у меня, вместе с Бориком. — Мам, я никуда тебя не пущу, ты никуда не поедешь. — Язык у меня заплетался. Мне было очень страшно: я боялся навсегда потерять маму. Я знал, что в больницу теперь трудно попасть, а кто туда попадает, тот редко возвращается домой. Потому что в больницу тогда брали только очень ослабших, почти безнадёжных. Тётя Варя дала маме какого-то лекарства, и мама заснула. — Надо положить её в больницу, — сказала тётя Варя. — И по возможности быстрее. Я так и дёрнулся весь. — Мама дома поправится. Не трогайте её, никуда не отправляйте! Тётя Варя вздохнула и, пообещав на днях зайти снова, ушла. Я ходил как потерянный — в поликлинику или ещё куда за помощью идти боялся: вдруг маму заберут — дизентерия-то заразная болезнь... На моё счастье, вечером к нам пришёл Коля Богданов. Дед Антон послал с ним пучок зелёного лука. Я рассказал Коле о своём горе, а он в ответ: — Дизентерия — это ничего. У деда лекарство от неё есть. Ты сразу сходи к нему, а я... — Коля показал на окно. За окном стояла аккуратно одетая девочка лет десяти с рюкзаком через плечо. Я догадался, что это сестрёнка Сени-скрипача. — Понимаешь, — объяснял Коля, — нашёлся её батя — он ранен был, а сейчас в Сибири. Просит переправить через Ладогу. Ну, мой батя и обещался. Ты извини — только мне спешить надо. — И Коля двинулся к двери. Со спины он был совсем как настоящий мужчина, большой, плечистый. Я даже не спросил Колю, вернётся ли он сам или вместе с девочкой уедет в Сибирь. Дед Антон встретил меня приветливо. — Дизентерия, али понос, — сказал он после того, как выслушал весь мой рассказ, — штука опасная, особенно когда голодуха и лекарств нужных нету. Ну, да ты распрекрасно сделал, что ко мне пришёл. На подоконнике в большом фанерном ящике росла незнакомая мне травка с тонкими нежными лепестками. Дед Антон нарвал этой травки и сказал: — Заваришь кипятком, тремя стаканами. И давай матери в день три раза по столовой ложке. Должно помочь... Травка подняла маму на ноги. «Теперь её подпитать бы немного, — мечтаю я. — Крысу бы поймать... Или крапивы найти побольше... Это бы такая добавка к пайку!..» Я стою у раскрытого окна. Небо лохматится тёмными тучами. Края одной из них золотятся, будто их покрасили специально. За тучей спряталось солнце. Пусть ползут тучи и будет дождь! После дождя хорошо растёт крапива. Я не буду спать ночью и, как только кончится дождь, пойду к Женькиному дому, к нашей щели. — Мам, — говорю я, — скоро дед Антон даст нам для посадки семена всякие. И ещё он доктора пришлёт... А завтра у нас будет крапива. Вот увидишь... Мама открывает глаза. На лице у неё едва заметная усталая, но всё же улыбка. Это хорошо, когда люди улыбаются. Мама обязательно выживет, теперь умирать обидно: уже тепло, кругом говорят о наступлении и о новой продуктовой прибавке.
ПРИВИДЕНИЕ
...Уже целую неделю я хожу в столовую усиленного питания. И мама тоже, только её к другой столовой прикрепили. Я всё время боюсь опоздать и потому отправляюсь в путь на час, а то и на два раньше, чем надо. Прихожу и встаю на солнышко у красной кирпичной стены. Очень хорошо стоять у кухонного окна. Из него воздух идёт вкусный — пахнет хлебом и мясом. Особенно когда котлы закипят и их откроют. «Вот бы сделать машину, которая бы собирала этот пар, — мечтаю я. — Пар бы остыл, и из него суп получился. Настоящий. Сытный». Только я не знаю, как построить такую машину. И никто не знает.
Я дежурю у окна, и когда от супа или от каши идёт пар — со всей силы вдыхаю его. Я и Люську-выдру научил этому. Даже мама у своей столовой ходит дышать питательным паром.
В тот день я тоже стоял у кухонного окна и ждал, когда закипят котлы. Люська со своей мамашей сидела па траве и ждала, когда я позову её.
Главный повар снял крышку с большой белой кастрюли. Взял ложку и стал пробовать что-то страшно вкусное.
— Маша! — крикнул он поварихе. — Сольцы добавь в подливу.
Я облизнулся. Главный повар повернулся к окну и погрозил мне пальцем. Он, наверное, думает, что я воришка какой. Я не обижаюсь — ситуация сложная и дело на кухне делают очень важное.
— Маша, — снова позвал главный. — Ты смотри, чтобы суп не побежал, а я дровец подброшу. А то вон пацаны совсем заждались. — И он кивнул головой на меня и ещё на кого-то. Я обернулся, чтобы Люську позвать, и тут... Я даже попятился от неожиданности. Передо мной стоял Женька в своей бархатной куртке и губами шевелил. Женька...Я и слова сказать не могу и глазам не верю. И Женька тоже молчит. «Наверно, с ума спятил, — подумал я. — От голоду и такое бывает с людьми. Иные самые трудные дни пережили, а к весне не выдержали — рехнулись. Может, и я...» Эти мысли как-то сами собой пронеслись у меня в голове быстро-быстро, может, за одну секунду и спрятались куда-то. А потом я как закричу: «Женька!» И снова пусто уже в голове у меня, и какая-то прямо дрожащая радость колотится во всём. И не думаю я совсем — Женька это или привидение, может ли вообще Женька быть живым. Ну, в общем, поверил и бросился, как очумелый, к другу. Он — ко мне. Ох и встреча была!
Из очереди на нас стали оглядываться. Какая-то старушка даже подошла. И Люська со своей мамашей тоже пришли.
— Давай отойдём, — сказал я, и мы направились к развалинам какого-то дома.
— Я тебя везде искал, — сказал я, когда мы присели на мятый железный ящик. — Даже кирпичи разгребал...
Жека тряхнул головой и даже засмеялся. До чего же хороший Женька; даже веснушки на носу у него какие-то тёплые.
— Думал, меня того, да? — Жека потеребил ухо и сказал: — Мы после Нового года к мамкиной приятельнице перебазировались. Там и жили.
— А теперь? — спросил я.
— В красном доме, — ответил Жека. — Уже и ордер дали.
Я слушал Жекин рассказ как самую хорошую музыку, и всё во мне так и пело от радости, и дома хотелось обнять, и улицу. Когда Жека заговорил про своего отца, про повестку, мол, дядя Дима убит, пал смертью храбрых, — голос его стал тихим и очень грустным.
— Двадцать первого февраля повестка пришла, — сказал Жека и вздохнул. От ноздрей к упадкам губ протянулись тёмные полоски морщин.
«Двадцать первого февраля пришла повестка, — прикидывал я в голове. — Мой папа умер двадцать пятого. А дядя Дима был у нас позже. И потом, письмо от дяди Димы мама получила чуть не 1 Мая. Хотя письмо, конечно, могло плутать — почта теперь работает плохо, почтальонов мало, и им трудно ходить по этажам. Но ведь дядя Дима был у нас позже, чем пришла повестка. Значит... дядя Дима жив...» Мне очень хотелось сразу сказать об этом, даже не сказать, а закричать, но я медлил, потому что боялся: вдруг сам что-нибудь перепутал, а такими словами бросаться нельзя.
...Женька несколько раз прочитал письмо своего отца. Потом, замечая ни меня, ни мою маму, подошёл к окну и долго смотрел в синеву майского неба.
— Жека, — сказал я и положил ему руку на плечо. — Ты извини, что я тушёнку твою съел и хлеб... И сгущённое молоко...
Жека обернулся, но ничего не ответил. Он, казалось, никого не видел и ничего не слышал.
— Твой отец продукты для тебя нёс, — продолжал я, волнуясь, — а отдал нам. Он думал, что вы все погибли.
— Побегу, — сказал Жека, будто я ничего и не говорил ему. — К мамке побегу. — И он торопливо засеменил по комнате, постукивая палкой, заменявшей трость.
Пока Жека добрался до двери, в намяли у меня возник тот мартовский вечер. Зелёный вещмешок. Буханка белого хлеба. Нижняя корка у неё отстала, и видно вкусное-вкусное тесто... Дядя Дима сидит за столом. Руки крепко сцепил на го лове, под шапкой седеющих волос...
Хлопнула дверь. Я очнулся.
— Какое счастье! — тихо сказала мама. — Как это хорошо! — И она надолго задумалась. Она думала о моём папе. Отец никогда уже не вернётся к нам.
Скоро от сестры своего отца Жека получил совсем свежие письма. Дядя Дима был жив и воевал. Я радовался вместе с Женькой, и вообще нам казалось, что трудности все позади. Мы вместе ходили в столовую усиленного питания, собирали в бутылки берёзовый сок и с удовольствием пили эту сладковатую водичку.
Артиллерийские обстрелы, которые продолжались по-прежнему, волновали нас меньше всего, и мы считали, что жизнь стала совсем даже неплохая — вот только бы фашистов побить скорее. Ни о чём другом в те дни мы и не мечтали.
По утрам я ощупывал свои бицепсы. Они делались всё крепче, и весь я сил набирался, потому что в столовой усиленного питания кормили нас по особым нормам. Скоро я даже трость свою спрятал за зеркало — ни к чему она стала, я мог ходить и без неё, как до войны.
У мамы здоровье тоже выправлялось. Скоро она пошла работать сторожем в мастерскую, где в шли одежду для бойцов.
Я всё время боюсь опоздать и потому отправляюсь в путь на час, а то и на два раньше, чем надо. Прихожу и встаю на солнышко у красной кирпичной стены. Очень хорошо стоять у кухонного окна. Из него воздух идёт вкусный — пахнет хлебом и мясом. Особенно когда котлы закипят и их откроют. «Вот бы сделать машину, которая бы собирала этот пар, — мечтаю я. — Пар бы остыл, и из него суп получился. Настоящий. Сытный». Только я не знаю, как построить такую машину. И никто не знает.
Я дежурю у окна, и когда от супа или от каши идёт пар — со всей силы вдыхаю его. Я и Люську-выдру научил этому. Даже мама у своей столовой ходит дышать питательным паром.
В тот день я тоже стоял у кухонного окна и ждал, когда закипят котлы. Люська со своей мамашей сидела па траве и ждала, когда я позову её.
Главный повар снял крышку с большой белой кастрюли. Взял ложку и стал пробовать что-то страшно вкусное.
— Маша! — крикнул он поварихе. — Сольцы добавь в подливу.
Я облизнулся. Главный повар повернулся к окну и погрозил мне пальцем. Он, наверное, думает, что я воришка какой. Я не обижаюсь — ситуация сложная и дело на кухне делают очень важное.
— Маша, — снова позвал главный. — Ты смотри, чтобы суп не побежал, а я дровец подброшу. А то вон пацаны совсем заждались. — И он кивнул головой на меня и ещё на кого-то. Я обернулся, чтобы Люську позвать, и тут... Я даже попятился от неожиданности. Передо мной стоял Женька в своей бархатной куртке и губами шевелил. Женька...Я и слова сказать не могу и глазам не верю. И Женька тоже молчит. «Наверно, с ума спятил, — подумал я. — От голоду и такое бывает с людьми. Иные самые трудные дни пережили, а к весне не выдержали — рехнулись. Может, и я...» Эти мысли как-то сами собой пронеслись у меня в голове быстро-быстро, может, за одну секунду и спрятались куда-то. А потом я как закричу: «Женька!» И снова пусто уже в голове у меня, и какая-то прямо дрожащая радость колотится во всём. И не думаю я совсем — Женька это или привидение, может ли вообще Женька быть живым. Ну, в общем, поверил и бросился, как очумелый, к другу. Он — ко мне. Ох и встреча была!
Из очереди на нас стали оглядываться. Какая-то старушка даже подошла. И Люська со своей мамашей тоже пришли.
— Давай отойдём, — сказал я, и мы направились к развалинам какого-то дома.
— Я тебя везде искал, — сказал я, когда мы присели на мятый железный ящик. — Даже кирпичи разгребал...
Жека тряхнул головой и даже засмеялся. До чего же хороший Женька; даже веснушки на носу у него какие-то тёплые.
— Думал, меня того, да? — Жека потеребил ухо и сказал: — Мы после Нового года к мамкиной приятельнице перебазировались. Там и жили.
— А теперь? — спросил я.
— В красном доме, — ответил Жека. — Уже и ордер дали.
Я слушал Жекин рассказ как самую хорошую музыку, и всё во мне так и пело от радости, и дома хотелось обнять, и улицу. Когда Жека заговорил про своего отца, про повестку, мол, дядя Дима убит, пал смертью храбрых, — голос его стал тихим и очень грустным.
— Двадцать первого февраля повестка пришла, — сказал Жека и вздохнул. От ноздрей к упадкам губ протянулись тёмные полоски морщин.
«Двадцать первого февраля пришла повестка, — прикидывал я в голове. — Мой папа умер двадцать пятого. А дядя Дима был у нас позже. И потом, письмо от дяди Димы мама получила чуть не 1 Мая. Хотя письмо, конечно, могло плутать — почта теперь работает плохо, почтальонов мало, и им трудно ходить по этажам. Но ведь дядя Дима был у нас позже, чем пришла повестка. Значит... дядя Дима жив...» Мне очень хотелось сразу сказать об этом, даже не сказать, а закричать, но я медлил, потому что боялся: вдруг сам что-нибудь перепутал, а такими словами бросаться нельзя.
...Женька несколько раз прочитал письмо своего отца. Потом, замечая ни меня, ни мою маму, подошёл к окну и долго смотрел в синеву майского неба.
— Жека, — сказал я и положил ему руку на плечо. — Ты извини, что я тушёнку твою съел и хлеб... И сгущённое молоко...
Жека обернулся, но ничего не ответил. Он, казалось, никого не видел и ничего не слышал.
— Твой отец продукты для тебя нёс, — продолжал я, волнуясь, — а отдал нам. Он думал, что вы все погибли.
— Побегу, — сказал Жека, будто я ничего и не говорил ему. — К мамке побегу. — И он торопливо засеменил по комнате, постукивая палкой, заменявшей трость.
Пока Жека добрался до двери, в намяли у меня возник тот мартовский вечер. Зелёный вещмешок. Буханка белого хлеба. Нижняя корка у неё отстала, и видно вкусное-вкусное тесто... Дядя Дима сидит за столом. Руки крепко сцепил на го лове, под шапкой седеющих волос...
Хлопнула дверь. Я очнулся.
— Какое счастье! — тихо сказала мама. — Как это хорошо! — И она надолго задумалась. Она думала о моём папе. Отец никогда уже не вернётся к нам.
Скоро от сестры своего отца Жека получил совсем свежие письма. Дядя Дима был жив и воевал. Я радовался вместе с Женькой, и вообще нам казалось, что трудности все позади. Мы вместе ходили в столовую усиленного питания, собирали в бутылки берёзовый сок и с удовольствием пили эту сладковатую водичку.
Артиллерийские обстрелы, которые продолжались по-прежнему, волновали нас меньше всего, и мы считали, что жизнь стала совсем даже неплохая — вот только бы фашистов побить скорее. Ни о чём другом в те дни мы и не мечтали.
По утрам я ощупывал свои бицепсы. Они делались всё крепче, и весь я сил набирался, потому что в столовой усиленного питания кормили нас по особым нормам. Скоро я даже трость свою спрятал за зеркало — ни к чему она стала, я мог ходить и без неё, как до войны.
У мамы здоровье тоже выправлялось. Скоро она пошла работать сторожем в мастерскую, где в шли одежду для бойцов.

ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ
— Нам Екатерину Ивановну! — сказал я. — У неё муж на фронте,- добавил Женька. — Мы к ней по делу. Женщина улыбнулась. В больших голубых глазах как огоньки блеснули. «Где-то я видел её», — мелькнула мысль. — Проходите, ребята, - сказала женщина, захлопывая входную дверь. Женщина привела нас в комнату, в которой стоял рояль и висел портрет какой-то красавицы. Я посмотрел на портрет, потом на незнакомку и догадался: это она. Только теперь одета по-другому и похудее стала. Но где же Екатерина Ивановна? Мы по делу пришли, к семье фронтовика. — Володя, Женя, садитесь, — говорит вдруг женщина и спрашивает: — Вы меня совсем не узнаёте? — А сама смеётся. Мы с Женькой пялим на неё глаза п никак не узнаём. Совсем сбила она нас с толку — даже имена паши знает. — Вы вон на портрете, — нашёлся Женька, — мы вас видели зимой, когда здесь были... Вы двоюродная сестра Екатерины Ивановны... Женщина залилась смехом. Меня даже зло взяло — война кругом, мы пришли помочь фронтовой семье, а она... — Мы по делу, — сказал я, меряя терпение. — Я и есть Екатерина Ивановна, — сказала она серьёзно. Я даже рот раскрыл от удивления. - В тот день, когда вы меня спасли, — рассказывала Екатерина Ивановна, — я встретила мужа. Он командует полком артиллерийским под Ленинградом. Муж взял меня с собой и прямо в штаб армии. Там меня зачислили в красноармейский ансамбль — я ведь до войны в филармонии работала. В ансамбле пришла в себя. Теперь вернулась в город. Работаю в концертной бригаде. У меня даже дух захватило — мамка усиленное питание получает, уже работает. И я ничего, даже без тросточки хожу. Теперь в самый раз на фронт... Я только хотел об этом сказать, но Женька опередил. — Мы тоже хотим в артиллерийский полк, — сказал он.— Вы помогите нам воспитанниками поступить. Екатерина Ивановна с сомнением покачала головой. — Думаю, что это невозможно, — сказала она. Но в конце концов пообещала разузнать всё, а нам велела сначала договориться с матерями. Потом мы пили чай с сахарином и ели настоящие красноармейские галеты. Екатерина Ивановна дала нам по две штуки. Галеты похожи на печенье, только не сладкие. Они очень вкусные, и чай с сахарином отличный, как с сахаром. Сахарину в чашку положишь несколько крупинок — и сладко. От чая пахло смородиной — наверное, заварен он был смородинным листом, В блокадном Ленинграде любители чая делали заварку из листьев и даже из коры разных кустов и деревьев. Напоследок Екатерина Ивановна села за рояль. Тонкие длинные пальцы скользили по клавишам. Сначала я только и следил за этими пальцами да за отражением Екатерины Ивановны на полированной, блестящей, как зеркало, крышке рояля. Я узнал музыку — «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро». Сначала мне даже обидно стало тратить время на такое дело. Помню: до войны мама хотела купить билеты на этот балет и меня с собой взять. Я уговорил её лучше ещё раз пустить меня на кинофильм «Чапаев». Не прекращая игры, Екатерина Ивановна сказала: — Я исполняю отрывок из балета Чайковского «Лебединое озеро». Постепенно меня захватывала музыка, и я уже не следил за пианисткой — только слушал. Женька тоже притих, чуть вздрагивали его белёсые ресницы. Звуки музыки то весело резвились, то плыли куда-то — лёгкие, чистые, изящные. Мне вспомнилась наша дача, косогор у реки. Чуть плещется вода возле кустов ивняка, и когда она набежит на камень, то пойдут, искрясь и постепенно растворяясь, гибкие, мягкие круги... А вода всё бежит и бежит. Белые облака плывут в синей вышине. Лес машет им зелёными ветвями. Птицы поют. Вот они вспорхнули и летят, дружно взмахивая крыльями. Они спешат к горе, по прозванию Светляк. Там, на макушках высоченных сосен, больше всего бывает солнца. Неожиданно музыка резко изменилась. В ней слышались теперь тревога и боль. Порою возникали иные — радостные звуки, но они скоро снова угасали Казалось, на них давит непомерная тяжесть. И как-то сам собой возник в памяти вокзал, заплаканная Галка и жмущаяся к моим ногам, присмиревшая, понимающая все собака... В музыке нарастали леденящие, надрывные звуки... Передо мной снова был отец с застывшими навсегда, обращёнными в потомок глазами; снег, хрустящий под полозьями санок, на которых я с отцом Пети Ершова везу гроб, везу в последний путь своего папку... На какой-то момент пальцы застыли на клавишах рояля, а когда они снова двинулись, в музыке появилось что-то новое. Будто оживало всё. И чувство у меня появилось такое, как в тот день, когда нам с мамкой карточки дали на усиленное питание. Музыка оборвалась, но ещё звучал её последний аккорд. Я сидел как во сне. Я даже не сразу вспомнил, где нахожусь. Легонько стукнула крышка рояля. Я очнулся. Женька сидел, упёршись руками в колени, и смотрел так, будто сквозь стену видит. Екатерина Ивановна поднялась со стула и зашагала по комнате. Женька очнулся и, волнуясь, спросил: — А это из какого балета? Его будут показывать? Екатерина Ивановна улыбнулась. — Это отрывки из Седьмой симфонии нашего ленинградского композитора Шостаковича. Симфония посвящена нашему городу, блокаде и написана здесь, в Ленинграде. — А композитор Шуберт, — тихо спросил Жека, — тоже хорошую музыку делал? — Очень хорошую, — ответила Екатерина Ивановна. Когда мы вышли на улицу, Жека задумчиво сказал: — Сеня, наверно, тоже здорово играл бы... Как Екатерина Ивановна и тот скрипач, что у нас на новогодней ёлке был... Помнишь?.. Я ничего не ответил.
В ШКОЛЕ
Мы направились в школу — может быть, там кто-нибудь есть и нам помогут разыскать всех ребят. Тогда наш фронтовой взвод сможет работать по-настоящему. Ещё издалека мы увидели в школьном дворе крытую зелёную машину с красным крестом. На скамейке, под согнувшейся чуть не до земли ивой сидела женщина в белом халате. «Значит, в школе всё ещё госпиталь», — догадался я. — Наверное, наших там никого нет, - сказал Женька. Но оказалось, что госпиталь занимает только два нижних этажа, а на третьем — школа. По чёрной лестнице — парадная относится к госпиталю — мы поднялись наверх. У двери, которая вела в длинный школьный коридор, стояла девушка с противогазом через плечо и красной повязкой на рукаве. — Вы к кому, ребята? — спросила она. — Мы здесь учимся, — сказал Женька. — Здесь занимаются только старшие классы, — ответила девушка. Мы объяснили, что ищем нашу классную воспитательницу Александру Афанасьевну. — Она где-то в школе, — сказала девушка и пропустила нас в коридор. Мы заглянули в одну, потом в другую замочную скважину. Хотя время близилось к вечеру, в классах шли уроки. «Старшеклассники нагоняют программу», — подумал я. Мне тоже очень хотелось снова учиться в школе. Александру Афанасьевну мы нашли в нашем старом классе. — Входи, Володя, — сказала она тихо и поставила на парту банку с водой, а сама села за парту. — И Женя пришёл! Вот молодцы-то! — обрадовалась Александра Афанасьевна. — Здравствуйте, ребята. Садитесь же. В классе, будто и нет никакой войны, ровными рядами стояли парты. Мы с Женькой даже удивились, что они уцелели, — ведь парты запросто могли сжечь зимой. Они сухие, лучше всяких дров. Учительница смотрела на нас и улыбалась. Я совсем даже забыл, что теперь не урок. Ну всё как до войны. В классе чисто. Окна открыты. И сразу так хорошо стало, будто вся блокада — только плохой сон. — Вчера заходила Тамара Беляева, а до неё Люба Масолова, и другие уже побывали у меня, — говорила учительница и по очереди рассматривала нас с Женькой. — А вы выглядите просто героями, — сказала она. — Мы в столовую усиленного питания ходим, — похвастал Женька. — У-у, — протянула Александра Афанасьевна. — Это очень хорошее дело! — А вы тоже? — спросил я. — Нет, — ответила учительница. — Пока мне не полагается. — Почему не полагается? — удивился Женька. — Моя очередь ещё не подошла, — сказала Александра Афанасьевна. — Есть более истощенные. А вот недельки через две и мне дадут направление... Каждому — в своё время, — добавила она, поправляя седые волосы. «Наверно, она сама уступила очередь, — подумал я, глядя на учительницу. — Она ведь у нас такая...»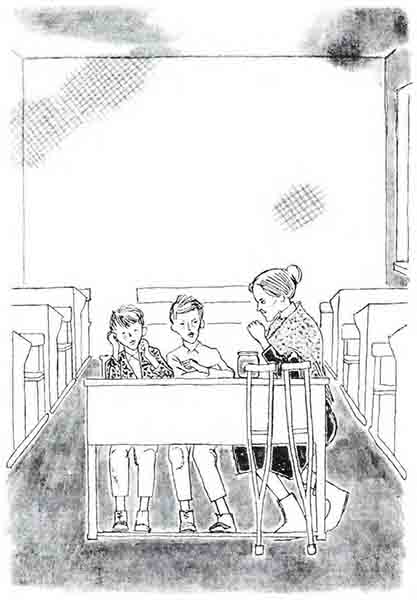 Александра Афанасьевна за зиму совсем стала старушкой и настолько худенькой, что на улице я бы ни за что не узнал её.
— Я хотела обойти всех вас, — снова заговорила Александра Афанасьевна, — да вот. — И она, как прежде, когда осуждала кого-нибудь из нас, покачала головой. — Осечка произошла.
Александра Афанасьевна нагнулась, и в руке у неё я увидел жёлтый костыль. Жека тоже с тревогой наблюдал за учительницей. Она встала, оперлась на костыль и попыталась улыбнуться. Улыбка получилась совсем невесёлая.
— Это не страшно, — сказала она, — но пока не привыкла — ходить трудно, осваивать новое всегда, дети, трудно.
Когда мы рассказали Александре Афанасьевне про наши планы, она так обрадовалась, так хвалила нас, что мы совсем растерялись. А потом учительница дала список всех ребят и велела заходить к ней почаще.
— Я теперь здесь живу, в школе, — сказала учительница, — днём консультирую старшеклассников, а сплю вот. — И она показала на кровать-раскладушку, стоявшую в углу класса. — Так что в любое время заходите. И о работе отряда обязательно рассказывайте. Вы задумали очень хорошее дело... Я горжусь, что вы — мои ученики... — Александра Афанасьевна задумалась и добавила мечтательно: — Скоро вы тоже начнёте заниматься.
— Понял? — сказал Женька, когда мы вышли на улицу.
— Чего? — спросил я.
— У неё, наверно, все погибли, — мрачно сказал Жека и задумался.
— Мы изберём Александру Афанасьевну командиром, — сказал я.
— Угу, — согласился Женька и предложил из сегодняшнего пайка отложить для Александры Афанасьевны по пятьдесят граммов хлеба.
Александра Афанасьевна за зиму совсем стала старушкой и настолько худенькой, что на улице я бы ни за что не узнал её.
— Я хотела обойти всех вас, — снова заговорила Александра Афанасьевна, — да вот. — И она, как прежде, когда осуждала кого-нибудь из нас, покачала головой. — Осечка произошла.
Александра Афанасьевна нагнулась, и в руке у неё я увидел жёлтый костыль. Жека тоже с тревогой наблюдал за учительницей. Она встала, оперлась на костыль и попыталась улыбнуться. Улыбка получилась совсем невесёлая.
— Это не страшно, — сказала она, — но пока не привыкла — ходить трудно, осваивать новое всегда, дети, трудно.
Когда мы рассказали Александре Афанасьевне про наши планы, она так обрадовалась, так хвалила нас, что мы совсем растерялись. А потом учительница дала список всех ребят и велела заходить к ней почаще.
— Я теперь здесь живу, в школе, — сказала учительница, — днём консультирую старшеклассников, а сплю вот. — И она показала на кровать-раскладушку, стоявшую в углу класса. — Так что в любое время заходите. И о работе отряда обязательно рассказывайте. Вы задумали очень хорошее дело... Я горжусь, что вы — мои ученики... — Александра Афанасьевна задумалась и добавила мечтательно: — Скоро вы тоже начнёте заниматься.
— Понял? — сказал Женька, когда мы вышли на улицу.
— Чего? — спросил я.
— У неё, наверно, все погибли, — мрачно сказал Жека и задумался.
— Мы изберём Александру Афанасьевну командиром, — сказал я.
— Угу, — согласился Женька и предложил из сегодняшнего пайка отложить для Александры Афанасьевны по пятьдесят граммов хлеба.

ПРОПАЖА
До обеда было ещё далеко. Женька отправился на почту — узнать, нет ли от отца писем. Я тихонько шёл по Шишмарёвской к дому. Вдоль канавы желтели одуванчики, розовели кружки клевера. Я нарвал букетик и решил отнести его домой — мамка так любит цветы. До войны у нас даже пальма была. За зиму все цветы погибли от мороза. «Мама образуется этому подарку, — подумал я. — А хорошее настроение — это как прибавка к пайку». Я поставил цветы в большую хрустальную вазу и отнёс её на наш обеденный стол. В комнате сразу как-то красивее стадо. Я подошёл к зеркалу и посмотрел на своё отражение. Ничего. Худоват ещё, но совсем не то, что было, когда мы только вернулись в свою квартиру. Пол в комнате был грязный, и мне пришла мысль помыть его. Мама придёт — а у нас цветы и чистота. От этого она ещё скорее будет поправляться и станет как до войны. Я сходил на Неву за водой. Налил её в таз и стал пол мыть. Ох и трудное это дело! Курточку и брюки я положил на стул и в одних трусиках ползал по полу — намочу тряпку и вожу ею по полу. Потом отожму грязную воду в худое ведро и снова намочу тряпку. Снова вожу ею. Пол в нашей квартире крашеный. Мамка раньше говорила, что мыть его — одно удовольствие. Я устал от этого «удовольствия» до смерти, а пол только чуть почище стал. И всего в половине комнаты — у письменного стола, где папин «кабинет» был, да посередине. Больше сил у меня не хватило. Я сел к папиному столу отдохнуть. Все мои косточки ныли. И спина как чужая стала. Сидеть было очень хорошо, но сколько же времени? Есть хочется. Я быстренько оделся и заспешил в столовую — времени было уже много, обед близился к концу. — Вы что это опаздываете, молодой человек? — пробурчат мой сосед по столику Степан Витальевич. Степан Витальевич умеет интересно говорить про науку, про разные превращения, будто можно будет продукты из воды и воздуха делать. Это он, ясное дело, выдумывает. Другие мои соседи по столу уже пообедали и ушли. Подошла официантка и головой качает. — Быстренько талончик давай! — говорит она. Я полез за пазуху. Отколол булавку, которой закрыт потайной карман. Карандаш. Список ребят. Часы... Всё. Больше ничего в кармане нет. Я так и обмер весь... «Карточка! Куда девалась карточка?» — Ты успокойся, Володя, — сказал Степан Витальевич. — Сними курточку. Может быть, не рассчитал и мимо кармана положил... — Володя, — донёсся Женькин голос. Я осмотрелся. На столе стояли пустые, вылизанные тарелки. Женька испуганно смотрел на меня. Степан Витальевич положил на стол мою курточку, вывернул потайной карман. Взял стакан с водой и стал уговаривать попить. Я хотел сделать глоток. Зубы стучали о стакан, а вода полилась на стол. «Карточка. Тринадцать дней усиленного питания! Всё. Без карточки не проживёшь даже дня. Запасов у нас никаких. Капустный лист, олифу — всё съели». И вдруг чей-то голос: — Если карточку не найдёшь, вечером всё равно приходи, накормим как-нибудь. Шеф-повар в высоком белом колпаке стоял возле меня, кивал головой и губы покусывал. Долго искали мы в тот день мою карточку. Всё обыскали: канаву, где я собирал цветы, пол, который я мыл в тот день. Даже на помойке рылись в надежде, что, может быть, карточка попала в ведро и я выплеснул её вместе с грязной водой. Карточки нигде не было. ...Степан Витальевич медленно переставлял свои длинные ноги и изредка покашливал в кулак. Я чувствовал, что предстоит очень важный разговор. Мы шли по трамвайным путям. Изредка навстречу попадались прохожие. Многие с тросточками, потому что ещё не все получали усиленное питание и окрепли. Со столба свешивался уличный громкоговоритель. Когда мы поравнялись с ним, из него донёсся голос: — Граждане! Начинается артиллерийский обстрел района... Мы перешли на другую сторону улицы. Фашисты обстреливали Ленинград всегда с одной стороны. У улиц тоже одна сторона была более опасна, другая — меньше. Хотя, по правде говоря, дома в Новой Деревне были не такие, как в центре города, а маленькие, одно- и двухэтажные. Больше всё деревянные. Защита от них небольшая. Да и их чуть не половина сгорела уже. Но всё равно люди по привычке шли обычно по той стороне, которая считалась менее опасной. Где-то вдалеке ухали разрывы снарядов. — Ты, Володя, должен взять себя в руки, — говорил Степан Витальевич. — Ты пионер, да ещё ленинградец, а значит, ни при каких обстоятельствах не имеешь права терять присутствие духа. Я молчал. Я и без него знал, что такое пионер. Только как теперь жить-то мы будем? Сначала я думал, Степан Витальевич что-нибудь очень важ ное скажет, а он... — Ты слышишь, что я сказал? — спросил Степан Витальевич и посмотрел мне в глаза. — Ага, слышу, — ответил я. Мимо нас прогромыхал грузовик. За ним вился тощий шлейф пыли. — Твою карточку, — неожиданно сказал Степан Витальевич, — наверное, нашёл очень нуждающийся человек. Она поможет ему на ноги встать... Меня будто насквозь прокололи иголкой. «Это он украл!» — прыгнуло откуда-то и притаилось подозрение. Я так и впился глазами в Степана Витальевича. Меня колотило всего, как при ознобе. Я вспоминал этот страшный день. Вот Степан Витальевич осматривает мою курточку. Выворачивает карман. Потом одну руку прячет за пазуху... В те минуты я как с ума сошёл. — Вы... Вы... отдайте мою карточку! — заорал я вдруг на Степана Витальевича. Степан Витальевич побледнел. Он зачем-то протянул ко мне руку, но я шарахнулся от неё, как от змеи. Степан Витальевич ссутулился и медленно по шёл прочь. Он шёл тяжело, пошатываясь. Ему, наверное, было очень больно. Честному человеку всегда больно, если его заподозрят в обмане. Но я тогда ничего этого не понимал. Я боялся голода, а страх — плохой советчик. Дай ему волю, не возьми себя в руки — много будет бед. Не знаю, что сделал бы я, как сложилась бы моя жизнь дальше и вообще уцелел ли бы я в голодном Ленинграде без карточек, но на следующий день произошли события, которые изменили очень многое. Уже вечерело, когда, подойдя к своей квартире, в дверной ручке я увидел свёрнутый в трубку лист голубой бумаги. Я развернул его. В верхнем правом углу был штамп. Посредине листа — большими печатными буквами моя фамилия и адрес. А дальше шли отпечатанные на машинке слова: «Просим вас быть у заведующего райпищеторгом завтра в 12 часов». Внизу стояло число и подпись. Допоздна бродил я по улице, садился на ступеньки и всё думал: «Зачем вызывают меня в райпищеторг?» Хотелось посоветоваться с Жекой, но он как сквозь землю провалился. Пустынная улица смотрела на меня тёмными проёмами на месте выбитых стёкол, серыми заплатами из досок и железа. Было одиноко и зябко на родной Набережной улице. Ночью не спалось — думал, зачем вызывают меня в райпищеторг. «Может, там узнали, что повар даёт мне еду без талончиков, и хотят наказать его? А за что? Ведь он это по доброте своей, потому что я дистрофик». Я даже вслух стал объяснять, что во всём виноват я один и судить надо не повара, а меня. Я, наверно, громко говорил, потому что мама проснулась и спросила, что со мной. — Ничего, — ответил я. — Это у нас самодеятельность будет для бойцов раненых. — А я уж испугалась — не потерял ли карточку, — сказала мама таким голосом, что у меня даже мурашки побежали по коже. Вдруг она захочет проверить, вдруг узнает обо всём? А ведь мама не выдержит этого удара: только-только ходить начала — и такое горе. Она станет делить на двоих свой паёк, а ей самой так нужно питание. «Нет, — думал я — ни за что нельзя ей говорить... Надо найти другой выход. Настоящий человек всегда сам найдёт выход...»
ДУБЛИКАТ
Комната насторожённо молчала. В полусумерках хорошо были видны все предметы. Наискосок от моей кровати стояла мамина кровать. Укрывшись с головой — привычка холодной зимы, — спала мама. «Всю вину, — думал я, — я должен взять на себя. Потому что сам виноват, и потом, у меня карточки нет, а арестованных, может, и без карточек кормят». От этой мысли мне стало не так страшно за завтрашний день. «А может быть, мне помогут в райпищеторге?.. Правда, вдруг они совсем и не судить хотят, а карточку мою кто-нибудь нашёл и сдал. Ведь может это быть...» Мне рисовались картины, как сам заведующий райпищеторгом возвращает утерянную карточку и улыбается при этом. Потом наоборот — ругает, называет шляпой. «Ну и пусть, — думаю я, — зато теперь, как все, стану получать и обед, и ужин... Нет, — одёргиваю я себя, - так никогда не будет. Дела мои конченные». Из дому я вышел рано, сразу после мамы. Накрапывал дождик. Тёплый и мелкий. Вдоль дороги зеленела трава. Даже между булыжниками мостовой. В канаве то тут, то там виднелись тоненькие стебельки и маленькие узорчатые листики крапивы. Я не стал их рвать, потому что шёл в райпищеторг и не знал, когда вернусь оттуда и вернусь ли вообще. У остановки стоял трамвай. Красный, с жёлтой полосой посредине. «Неужели поедет?» -подумал я и вдруг услышал звон, которым водитель предупреждал, чтобы с дороги все ушли. Скоро трамвай и правда двинулся. Когда он приблизился, я побежал и хотел, как бывало, вскочить на подножку, но сил у меня было мало — рука не удержалась на поручне, и я шлёпнулся на булыжник. Всё тише, всё дальше стучал трамвай. Казалось, что-то большое и тяжёлое навалилось на меня, и я никогда больше не встану. В голове у меня тупо отдавался стук бегущего но рельсам трамвая. Вдруг — голос девчонки: — Мама, он, наверно, расшибся. Давай поможем. — Поможем, — ответила женщина. Я вытер слёзы рукавом и, хотя было больно, поднялся на ноги. Возле меня стояла Люська-выдра со своей мамашей. — Во-ова? — вскрикнула Люська. — Сильно ушибся? — спросила Люськина мамаша. — Ничего, — ответил я. — Я это... тренируюсь... Мне не хотелось, чтобы Люська со своей мамашей стали жалеть меня, причитать. К чему? Ведь помочь они всё равно не смогут. «Что в райпищеторге решат, то и будет, — думал я. — Райпищеторг — это главный штаб питания всего района. Там никаким слезам не поверят». — А ты за карточкой когда пойдёшь? — спрашивает вдруг Люська и косу свою теребит. — За какой карточкой? — заволновался я от мысли, что вдруг мою карточку нашли и теперь ждут, когда я приду. Люська смутилась, а её мать руками развела и сказала: — Утерю-то тебе вернут. Люди же вокруг... Надо только... — Она снова развела руками и стала поправлять на голове большую чёрную шаль. Люськина мамаша и зимой и летом ходила в шали. У неё от голода волосы вылезли на голове. — Надо тебе, повторила она, — с дружком с твоим поговорить. Он чего-то в райком собирался. У меня снова пусто стало на душе. Когда люди не могут помочь, они часто советуют «что-нибудь сделать, куда-нибудь пойти». А Женька... Я не хотел думать о нём. Вдоль Невы, по всему берегу люди копали землю. Их было очень много. В ватниках и непомерно широких пиджаках, в болтающихся больших платьях, часто со спутанными волосами, они вонзали в землю лопаты, разбивали комья, мельчили почву граблями. Работали люди упрямо, как муравьи. Они готовились к посадке овощей. Хотя семян ещё не было, но мы с мамой мечтали в ближайшие дни тоже вскопать участок около нашего дома. «А теперь ничего этого не будет», — с тоской подумал я. Зимой возле Дома культуры промкооперации громоздились сугробы, а людей совсем не было видно. Теперь полукружье кинотеатра снова было целёхонько, будто бомба сюда и не попадала. А на стенах — огромные афиши: «Смотрите новый художественный фильм “Свинарка и пастух” — и нарисованы парень и девушка. Смотрят друг на друга и смеются А у подъезда очередь стоит, больше всё женщины. «Неужели Дом культуры работает и кино показывают настоящее?» На какие-то минуты я как обалдел. Даже подошёл и спросил — за чем очередь стоит. — За билетами в кино, — с гордостью отошла пожилая женщина в длинном и очень широком для неё платье. От этих слов мне как-то легче стало. По Геслеровскому проспекту добрался я до улицы Красных Курсантов[13]. Домов здесь почти не осталось — всё больше груды камней да голые стены. Фашисты, видать, стреляли сюда очень часто — здесь находилась военная академия. Я присел на каменную глыбу, лежавшую на тротуаре. Прежние опасения снова давили на меня. Хотелось бежать от них, от этой разбитой улицы. Я встал. Хотя по улице то и дело проходили люди, спрашивать, где находится райпищеторг, не стал. Я нашёл его сам — по запаху. Я знал, что он в одном здании с фабрикой-кухней, а там всё время обеды готовили и питательный пар шёл. Я учуял его, ещё когда отдыхал на каменной глыбе.
К заведующему меня не пустили. Полная женщина в хромовых сапогах прочитала мою повестку и сказала; «Садись и жди». Сама она села за стол. На столе были телефоны — целых пять. Они то и дело звонили. Женщина кому-то говорила «Заведующий занят». И вешала трубку.
Большущие, выше человека, тикали часы. Длинный маятник раскачивался то влево, то вправо. Когда маленькая стрелка совсем приблизилась к цифре 12, я вдруг почувствовал, что кто-то на меня смотрит. Оглянулся — Степан Витальевич.
— Здравствуйте, молодой человек! — сказал он весело.
— Здра... — протянул я растерянно.
Степан Витальевич подошёл к столу с телефонами. В это время часы стали бить «двенадцать». Секретарша исчезла за дверью заведующего райпищеторгом. Вскоре она вернулась и сказала:
— Иди, товарищ Павлов!
Ноги у меня стали тяжёлые-тяжёлые. Будто к ним гири привязали. И рубашка сразу намокла.
— Смелее! — услышал я позади себя знакомый голос. Оглянулся — Степан Витальевич улыбается. С трудом сделал я шаг, ещё...
Меня усадили в мягкое кресдо. Напротив за большим столом сидел сам заведующий райпищеторгом. А по бокам, за длинным столом, который был приставлен буквой «Т» к председательскому, были ещё какие-то люди. Много. Человек двадцать.
Заведующий взял какую-то бумагу и стал вслух читать её: «Владимир Павлов учился только на отлично и хорошо. Был командиром фронтового отделения школьников. Он честный и отзывчивый мальчик. Вместе со своим другом Женей Орловым...»
Заведующий продолжал читать, но я плохо разбирал его слова. У меня такая путаница началась в голове — ужас. Когда мне велели рассказать про утерю карточки, я встал, а язык никак не шевелится, и во рту сухо-сухо.
— В общем, товарищи, по-моему, и так всё ясно, — сказал заведующий и встал. На гимнастёрке у него звякнули ордена и медали. — Профессору Степану Витальевичу Старову можно верить, — продолжал он. — Голосую за выдачу, в порядке исключения, дубликата Владимиру Павлову — как настоящему пионеру-ленинградцу.
Зашуршали и поднялись руки. Потом мне дали новенькую карточку и сказали, чтобы я расписался за неё. Рука у меня дрожала, и вместо подписи я посадил кляксу, похожую на большого усатого таракана.
Я так волновался, что и спасибо за карточку не сказал. Я вышел на Геслеровский проспект и двинулся по направлению к Новой Деревне. У Большой Зелениной улицы около разбитого серого дома, что напротив сквера, меня нагнал трамвай и остановился. Какой-то мужчина подтолкнул на ступеньки переполненного трамвая, а потом втиснул на площадку. Я стоял у окна и смотрел, как бегут рельсы, дома. У Каменного острова навстречу попался другой трамвай, тоже переполненный, — всем хотелось проехать на трамвае. Стучали колёса по рельсам. Иногда раздавался резкий звонок, и трамвай круто тормозил — за зиму люди привыкли, что никакой транспорт. Не работает и улицу можно переходить где захочешь. Теперь нужно было соблюдать правила уличного движения.
Всё во мне радовалось и пело. У меня снова была карточка на усиленное питание... Я ехал в настоящем трамвае...
Трамвай довёз почти до самого дома — до Земского переулка.
что он в одном здании с фабрикой-кухней, а там всё время обеды готовили и питательный пар шёл. Я учуял его, ещё когда отдыхал на каменной глыбе.
К заведующему меня не пустили. Полная женщина в хромовых сапогах прочитала мою повестку и сказала; «Садись и жди». Сама она села за стол. На столе были телефоны — целых пять. Они то и дело звонили. Женщина кому-то говорила «Заведующий занят». И вешала трубку.
Большущие, выше человека, тикали часы. Длинный маятник раскачивался то влево, то вправо. Когда маленькая стрелка совсем приблизилась к цифре 12, я вдруг почувствовал, что кто-то на меня смотрит. Оглянулся — Степан Витальевич.
— Здравствуйте, молодой человек! — сказал он весело.
— Здра... — протянул я растерянно.
Степан Витальевич подошёл к столу с телефонами. В это время часы стали бить «двенадцать». Секретарша исчезла за дверью заведующего райпищеторгом. Вскоре она вернулась и сказала:
— Иди, товарищ Павлов!
Ноги у меня стали тяжёлые-тяжёлые. Будто к ним гири привязали. И рубашка сразу намокла.
— Смелее! — услышал я позади себя знакомый голос. Оглянулся — Степан Витальевич улыбается. С трудом сделал я шаг, ещё...
Меня усадили в мягкое кресдо. Напротив за большим столом сидел сам заведующий райпищеторгом. А по бокам, за длинным столом, который был приставлен буквой «Т» к председательскому, были ещё какие-то люди. Много. Человек двадцать.
Заведующий взял какую-то бумагу и стал вслух читать её: «Владимир Павлов учился только на отлично и хорошо. Был командиром фронтового отделения школьников. Он честный и отзывчивый мальчик. Вместе со своим другом Женей Орловым...»
Заведующий продолжал читать, но я плохо разбирал его слова. У меня такая путаница началась в голове — ужас. Когда мне велели рассказать про утерю карточки, я встал, а язык никак не шевелится, и во рту сухо-сухо.
— В общем, товарищи, по-моему, и так всё ясно, — сказал заведующий и встал. На гимнастёрке у него звякнули ордена и медали. — Профессору Степану Витальевичу Старову можно верить, — продолжал он. — Голосую за выдачу, в порядке исключения, дубликата Владимиру Павлову — как настоящему пионеру-ленинградцу.
Зашуршали и поднялись руки. Потом мне дали новенькую карточку и сказали, чтобы я расписался за неё. Рука у меня дрожала, и вместо подписи я посадил кляксу, похожую на большого усатого таракана.
Я так волновался, что и спасибо за карточку не сказал. Я вышел на Геслеровский проспект и двинулся по направлению к Новой Деревне. У Большой Зелениной улицы около разбитого серого дома, что напротив сквера, меня нагнал трамвай и остановился. Какой-то мужчина подтолкнул на ступеньки переполненного трамвая, а потом втиснул на площадку. Я стоял у окна и смотрел, как бегут рельсы, дома. У Каменного острова навстречу попался другой трамвай, тоже переполненный, — всем хотелось проехать на трамвае. Стучали колёса по рельсам. Иногда раздавался резкий звонок, и трамвай круто тормозил — за зиму люди привыкли, что никакой транспорт. Не работает и улицу можно переходить где захочешь. Теперь нужно было соблюдать правила уличного движения.
Всё во мне радовалось и пело. У меня снова была карточка на усиленное питание... Я ехал в настоящем трамвае...
Трамвай довёз почти до самого дома — до Земского переулка.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Едва пришёл я домой, как явился Женька. — Здорово! — заговорив он, суетясь, бегая по комнате. — Теперь тебя откормят знаешь как... Степан Витальевич знаешь какой... Женькин голос всё больше раздражал меня. — Теперь надо фронтовой взвод весь собрать и за дело. Понял? — не унимался Женька. В душе я был согласен с Женькой. Ребята подпитались. Даже бегать некоторые могут. В самый раз за дело браться. И список есть. И Александра Афанасьевна ждёт... Но как вспомнил я про Женькино «бегство», захотелось говорить всё наоборот. Мы поссорились. — Без тебя обойдусь! — закричал я. — А то говорил: карточку отоварим на двоих — и на фронт. А сам... Сам струсил и удрал, да? Чтобы карточку не делить, да? Глаза у Женьки стали большие-большие. И ресницы заморгали. Женька смотрел на меня, будто раньше никогда не видел. — Ты... — сказал он растерянно и рукой махнул. — Ты мне больше, понял... — Он не договорил и вдруг дёрнулся к двери. Казалось, кто-то толкнул его в спину, и он не устоял — засеменил длинными ногами. Несколько минут я прислушивался. Хлопнула уличная дверь — это Женька вышел. «Ну и пускай, — думал я, — пускай. Сам виноват...» В столовой все поздравляли меня с получением дубликата. Степан Витальевич вовсю шутил, а под конец в гости к себе позвал. — Когда мой сын приедет, — сказал Степан Витальевич, — я обязательно познакомлю вас. Он любит таких, как ты. У него свой сынишка был... Теперь бы ему тоже двенадцать... Степан Витальевич задумался. Потом спросил: — Договорились? Ещё когда шёл в столовую, я решил, что надо у Степана Витальевича прощение попросить: ведь я так обидел его, такое подумал о нём... Мне было не по себе. Я собирался честно обо всём рассказать ему и не знал, как это сделать, с чего начать. Каждый раз, когда я хотел заговорить о своих прежних подозрениях, то кто-нибудь проходил мимо нашего столика, то вдруг начинал говорить сам Степан Витальевич. Я терялся и продолжал молчать. — Дружка твоего, Женю, тоже пригласить надо, — сказал Степан Васильевич, — очень уж он хороший у тебя. Я насторожился. — Всех на ноги поднял, — продолжал Степан Витальевич. — Меня в школу, в пищеторг погнал... — На лице Степана Витальевича задрожала добрая улыбка. От глаз побежали лучики морщин. — А сам он, — где бы ты думал, дежурство установил? — Степан Витальевич покачал головою и сказал многозначительно: — У самого секретаря райкома партии. На случай, если в райпищеторге осложнения возникнут... Здорово, а?! — Степан Витальевич засмеялся. От его смеха стало ещё жарче. «И как только мог я подумать такое... Жека-то из-за меня к самому секретарю райкома пошёл, а я .. Струсил, удрал в трудную минуту...» Я долго и безуспешно искал в тот день Жеку. Вечером я сидел за отцовским столом и вспоминал всё, что произошло за последние дни. На душе было пасмурно. Бесцельно раскрыл я средний ящик стола. В нём лежали отцовские бумаги — те, что мама не велела жечь. Я стал рыться в них, желая найти письма, которые папа присылал нам на дачу. Эти письма были где-то в столе. Случайно я натолкнулся на наш семейный альбом. Он был толстый, в коричневом кожаном переплёте. Я стал листать его. Вот отец в школьной форме, а рядом с ним девочка с косичками — тётя Варя. А вот папа с мамой на юге. Сидят на скамейке, а над головами у них настоящие пальмы. Вот все мы — папа, мама, Галка и я на даче, в Осиновке у реки... До чего же хорошо в Осиновке! Сколько там рыбы, раков! Огороды у каждого дома... Хлеба целые поля. Конца им не видать... Вот бы сейчас туда... С фотографии улыбался отец. Вдалеке виднелась гора Светляк с огромными соснами... Я весь ушёл в воспоминания и не заметил, как локтем столкнул со стола альбом. Лежавшие в конце альбома неприкреплённые фотографии рассыпались по полу. Я стал собирать их. Одна из фотографий оказалась под столом. Я стал поднимать её, и вдруг рука моя коснулась какого-то конверта. На серой толстой бумаге всего два слова: «25 февраля». ...Двадцать пятое февраля... В этот день умер отец... Конверт был запечатан. На снег в нём проглядывала какая-то бумага. Мне очень захотелось увидеть её. В нашем доме было правило: никогда не читать чужие письма. А что в конверте письмо — в этом я даже не сомневался. Но кому оно? Почему запечатано? ...За окном в белой ночи шуршали берёзы. Я лежал с открытыми глазами и думал. Думал о Жеке, о словах, которые читал про меня заведующий райпищеторгом, о профессоре Старове, которому все верили; о карточке, которая была теперь у меня под подушкой. И ещё о конверте. Он не давал мне покоя. Часы показывали половину одиннадцатого. Мамы не было. Она работала в вечер и предупредила ещё утром: — Если к десяти не приду — значит, на работе заночую. Не беспокойся. Буду завтра в полдень. Я подождал ещё четверть часа. Мама не пришла. В окно смотрела светлая майская полночь. Я взял конверт и стал осторожно вскрывать его. В нём было... Строчки запрыгали у меня перед глазами, когда я увидел знакомый почерк: «Володя! Сын мой! Когда ты станешь читать это письмо, меня уже не будет. Не бойся, мой мальчик, как не боюсь и я. Мы мужчины. Моё сердце может остановиться в любой момент. Поэтому и обращаюсь к тебе с последним словом. Ты уже большой, мой мальчик. С тобою можно говорить, как со взрослым. Что бы ни случилось, всегда будь человеком. Как в тот новогодний день, когда ты принёс нам с мамой подарок — котлету и мандарины. Мне легко будет умирать — у меня есть ты. А у тебя всё впереди. Слышишь, всё впереди! Вся жизнь! Жизнь, Володя, сложна. Я очень хорошо знаю: победа придёт, она не может не прийти, потому что мы платим за неё сполна. Помни, мой сын, об этом. Помни, что всегда надо быть человеком. Иначе не стоит жить. Прощайте, родные. Береги, Володя, себя, Галочку и маму. Вы должны увидеть победу. Прощайте. Когда остановится мое сердце, я не умру. Я буду жить в вас, родные». ...Я достал из альбома фотографии отца. Расставил на столе. И хотя майские ночи в Ленинграде светлые, зажёг сразу и коптилку, и лучину. С фотографий на меня смотрел отец. Красивый, сильный... — Папа, — шептал я, — папоч... Горький комок перехватывал горло. Белая ночь сменялась розовым рассветом, и скоро первый луч солнца упал на железный пол балкона. В тишине, какая бывает только очень ранним утром, чуть слышно тикали отцовские часы. Я долго смотрел на них. Маленькая секундная стрелка деловито бежала в жёлтом кружке. Длинная минутная — спокойно совершала свой обычный путь. Она обошла по кругу весь циферблат. Один раз, потом другой. Я так и уснул, сидя за столом, на котором, как сердце, стучали часы...
ЖЕНЬКА
Вдоль нашего дома росли берёзы. Высоченные. Ветвистые. На берёзах уже зелёный пух. Лёгкий, узорчатый. Будто это не листья совсем... Раньше в это время на берёзах свиристели чижи, чечётки. Пронзительно кричали синицы. А воробьи прямо базары устраивали — шумят, крылышками бьют, на дорогу спрыгивают и в сухой земле купаются — только пыль летит. Теперь ни одной птицы не бывает на наших берёзах. Нет больше в городе и кошек. Нет собак... А птицы, они, наверно, и артобстрелов боятся... Зато деревья хоть бы что — оживают в положенное время. Им не надо ни хлеба, ни жиров... У самом большой берёзы я увидел Женю. Он делал ножом надрез в коре. У ног стояла бутылка. Горлышко у неё проволокой обвязано, а внутрь шнурок опущен. Ясное дело, Жека соку берёзового решил нацедить. Сначала я хотел сразу всё начистоту выложить Жеке и прощение попросить. А там — будь что будет. Оказалось, сделать это не так-то просто. Язык как деревянный стал, и с чего начать — сам не знаю. Женька делом был занят и внимания на меня не обращал. Я покашлял в кулак. Женька обернулся. Увидел меня и сразу опять отвернулся. Будто и не заметил. Я подошёл к соседней берёзе и ухо приложил к коре. Под корой будто двигался кто или пчёлы роились вдалеке — это дерево проснулось после зимней спячки, и сок по нему шёл. — Жек, — тихонько сказал я и посмотрел на Женю. Женя не ответил, только левое ухо у него немного шевельнулось и вроде краснее стало. Раньше Жека на спор ушами шевелил. Получалось как в цирке. — Жек, — повторил я — Ты мне ножик дай. Ладно? Женя молча протянул большой складной нож. Я взял его и задумался. Женя, не глядя в мою сторону, приладил бутылку к дереву, надел на голову свой лётный шлем и уходить собрался. Когда он прошёл мимо, мне даже холодно сделалось. Сам не знаю, как это получилось, но я поспешил за ним. У парадной догнал и сказал: — Жека, я виноватый. Не сердись... Я от отца письмо получил... Я очень спешил рассказать всё. Жека даже рот раскрыл от удивления и смотрел на меня гак, будто я психический какой. — Тебе плохо, да? — забеспокоился он и руку положил мне на плечо. — Не, — ответил я и почувствовал, как всё во мне задрожало. Я вытащил из грудного кармана папино письмо. Лицо у меня горело. Женькино лицо стало розовым, как до войны. — Ты извинишь меня... Ладно? — попросил я тихо. Жека со всей силы сжал мне руку и отвернулся. Я стал смотреть вверх. По небу бежали белёсые облака. Вынырнуло звено самолётов, и до нас донёсся ровный гул моторов. — Наши! — сказал Жека и приложил руку козырьком, чтобы солнце не мешало смотреть. — Если старую мою карточку найдём, — сказал я, — на неё будем подарки делать семьям красноармейцев. Ладно? Жека ничего не ответил. Только захлопали его белёсые ресницы.

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
Сразу после дождя выглянуло солнце, и всё вокруг преобразилось. С деревьев падали капли и буравили землю маленькими кружочками. Воздух был чистый и тёплый. Пахло листьями и травой. После дождя любое дерево аромат свой особый имеет. И трава тоже. Я руками разгребал землю возле маленьких зелёных кустиков и делал у каждого из них небольшую насыпь. Картошка любит, когда землю рыхлят. Её обязательно надо окучивать. Без этого урожай будет плохой. Я присыпал землёй последний кустик — до маленьких зелёных листиков — и распрямился. Листики блестели после дождя и чуть вздрагивали от ветра. Один стебель придавило комком. Я нагнулся и осторожно поправил его. Стебелёк сразу встал торчком. «Теперь картошка у нас не погибнет», — думал я, оглядывая наш маленький, меньше детской комнаты, но аккуратный огород. Большую часть его занимал картофель — тридцать три кустика. Дед Антон говорил, что с них можно получить целый мешок картошки. Это если хорошо ухаживать за растениями. «Я сделаю всё-всё, — думаю я, — чтобы урожай получился самый большой, какой только бывает...» Наши тридцать три кустика выросли из малюсеньких глазков — у картошки есть такие ямочки на кожуре. Из них в земле появляются побеги, новые растения. Эти растения очень слабые, ведь самой картофелины-матери нет и питаться им приходится прямо из земли. Я выходил этих малышей — поливал их специальным раствором, сорняки вырывал... Кроме картофеля, в нашем огороде есть овощная гряда. У лука стрелки маленькие-маленькие — чуть торчат из земли, а уже острые и зелёные. Морковь тоже взошла. Стебельки малюсенькие, а узор на них, как у большой моркови. — Как у доброго хозяина всё, — говорит о нашем огороде дед Антон и даёт мне то удобрения, то советы — когда и что делать надо. А уж он знает толк в растениях. За нашим огородом — Люськин. Потом идёт участок деда Антона и жильцов из красного дома. «Когда овощи зреть начнут, — думаю я, — буду спать в огороде и охранять его... Только бы вот не эвакуировали...» Ещё в мае, когда я в столовую усиленного питания ходил, к нам явился управхоз и сказал: — Надо эвакуироваться. Женщины с детьми подлежат обязательной эвакуации. Возможна новая попытка штурма города. — Мы не поедем никуда, — сказал я. — Мы поправились и тоже воевать будем. — Помолчи, Володя, — сказала мама и нахмурилась. — Ты хочешь помочь Ленинграду, красноармейцам? — спросил управхоз. — Ясное дело, — ответил я. — Мама для бойцов обмундирование шьёт и ещё... Управхоз не дал мне договорить. — Ленинград окружён, — сказал он. — Продукты возят... — Через Ладожское озеро, — досказал я. — Верно, — подтвердил управхоз. — А раз ты это знаешь, то должен понять: если дети уедут — можно будет больше подвезти боеприпасов и продуктов для бойцов. Оборона станет сильнее, и мы быстрее победим. А вы, вы поможете Ленинграду с тыла. — А мы семьям фронтовиков помогаем, — не сдавался я. — Что ж, — наступал управхоз. — Семьи фронтовиков тоже подлежатэвакуации. В тылу будешь помогать им. — Я зайду в жилконтору с ответом, — сказала мама. С тревогой смотрел я на кустики картошки, на нежную зелень лука... «Неужели придётся уезжать? — думал я. — Неужели нас заставят эвакуироваться? Ведь здесь, в Ленинграде, папина могила и такая картошка у нас растёт...» В те дни многих эвакуировали из города против их желания. Говорили, что это необходимо, — фашисты снова готовятся к штурму Ленинграда. Шли бои на Кавказе. Фашисты приближались к Волге. Положение было трудное. Только всё равно мы знали, что победим. Я весь ушёл в думы и не заметил, как подошёл Женька. — Ты чего? — послышался над самым ухом его голос. — Чего-нибудь потерял? Жека испуганно смотрел мне в глаза. Он, наверное, боялся, что я опять карточку посеял. — Не-е, — ответил я и вздохнул. Говорить об эвакуации не хотелось. Что толку? Если будет приказ — всё равно выполнять надо. — Так и быть, — тихо сказал Жека, — скажу тебе... Только никому не говори. Понял? Жека снял с плеча ржавую железяку, и тут я узнал в ней наш старый лом, тот, с которым мы раньше тренировались. Лом совсем пожелтел за зиму. Никому не был он нужен в ту зиму. А теперь — снова у нас. Я обрадовался этой встрече, будто не простую железяку принёс Жека, а кусок настоящей довоенной жизни. Жека положил лом на землю и зашептал мне в самое ухо: — Наши готовятся к наступлению. Скоро эвакуации больше не будет, потому что Ленинград теперь большую помощь получает... От Женькиных слов у меня перехватило дыхание. — А точно это? — спросил я. Язык был сухой, а по коже как шарики побежали. — Сам профессор Степан Витальевич Старов сказал, — внушительно ответил Жека. — Я его видел сегодня и говорю, что нас насильно хотят эвакуировать... Ну, он по секрету и сказал не волнуйтесь, мол, скоро всё изменится. Женька ставит винтовку к ноге. Потом по моей команде вскидывает её к плечу и начинает целиться. Жека держит оружие по всем правилам устава. Я слежу то за Женькой, то за стрелкой часов. Старых папкиных часов. Маленькая стрелка весело бежит в жёлтом кружке, нанесённом в нижней части циферблата. «Тик-так, тик-так», — отсчитывает она секунды. Обежит круг — на одно деление подвинется минутная стрелка... — Всё. Руки дрожат — не засчитывай, — говорит Жека. — Ладно, — отвечаю я и сообщаю результат — одна минута десять. На восемь секунд больше вчерашнего. Жека удовлетворённо сопит и прячет нашу самодельную винтовку под мясистые, с тарелку величиной, листья лопуха и пытается выжать увесистую железяку. — Володь, Жень! — вдруг кто-то зовёт нас. Мы выходим на улицу. На булыжной мостовой стоит Коля Богданов — в спецовке и заткнутых в резиновые сапоги больших, наверно отцовских, брюках. Руки Коля держит за спиной, и вид у него как у взрослого мужчины. Он давно не стрижен, и голова кажется тоже взрослой. О фигуре и говорить нечего. Только вот нос у Кольки подозрительный, какой-то пришлёпнутый. Даже больше, чем до войны. Ну, да это чепуха. Рядом с Колей Люська-выдра и ещё однорукая девочка. Девочка стояла к нам спиной и что-то рассматривала на противоположной стороне улицы. — Люба?! — Я даже вскрикнул от удивления, когда в однорукой девочке узнал Любу Масолову, нашу отличницу. Люба очень изменилась за зиму. Только по большущим глазам да по косе и узнал я её. Правда, коса тоньше стала. А вол заплетена всё той же голубой лентой, что и раньше. До войны я не раз дёргал за эту ленту... Я думал, что Люба уехала из Ленинграда, а тут... Но ни Женька, ни я не стали спрашивать её о несчастье, От таких расспросов человеку только хуже делается. — Нас ждёт Александра Афанасьевна, — спешила сообщить Люська. — Будем школу готовить к новому учебному году... Пошли? Мы шли по безлюдной, заросшей травой Шишмарёвской улице и мечтали о дне, когда сможем снова сесть за парты, когда в коридорах опять зазвучит пронзительный школьный звонок. — Да, ребята, — сказала Люба и улыбнулась. Лицо её стало, как раньше, красивым, а в глазах лучики запрыгали. — Письмо пришло от Пети Ершова. После смерти своей мамы он тоже чуть не помер. Его подобрали дружинницы. Сейчас Петя с детдомом на Урале. В школе учится и ещё в поле работает. Хлеб выращивает... Мы проходили как раз мимо того места, где раньше был дом Ершовых. Одиноко торчала печная труба, да стояли никому не нужные большая чугунная плита и высокая круглая печь. — На дрова разобрали дом, — сказал Жека, не сбавляя шага. Я вспомнил тот день, когда искал Петю в заброшенных комнатах; дома. Вспомнил Василия Васильевича — как он спрашивал у меня про своих и как я соврал тогда ему на заводе, у своего отца. — Меня на завод обещают взять, — сказал после долгого молчания Коля, — учеником слесаря. Жека помрачнел и ничего не ответил. Я тоже немного расстроился; нас с Жекой нигде на работу не берут. Говорят, что мы ещё маленькие, надо подрасти, силёнок набраться. — А мы в бытовом отряде работаем, - нашлась Люська. — Вот дрова на зиму будем готовить и всё делать... Из-за кустов и ветвей высоченных пышных лип проглядывало серо-красное трёхэтажное здание. Ребята в испачканных, не но росту больших спецовках, комбинезонах и пиджаках натягивали между деревьями, там, где раньше была калитка в школьный двор, красное полотнище. На полотнище слова: «Добро пожаловать в родную школу!» Не сговариваясь, мы остановились и несколько раз про себя прочитали эти слова. Сердце бухало радостно и громко. — Не опоздать бы нам, — спохватилась Люська, — Александра Афанасьевна ждёт ровно к двенадцати. Я достал из грудного кармана старые отцовские часы. Было только половина двенадцатого. Но всё равно мы спешили. Мы не могли опаздывать в нашу школу. Когда мы уже поднялись по каменным ступеням на широкое каменное крыльцо, откуда-то издалека донеслись разрывы снарядов. Это стреляли фашисты. Никто из нас слова не сказан об этом — все привыкли и к артобстрелам, и к бомбёжкам. Но вот с улицы, с нашей Набережной улицы, донёсся стремительный грохот танков. Мы все разом обернулись. Мимо школы одна за другой мчались грозные боевые машины с пятиконечными звёздами на башнях. Из открытых люков порой выглядывали люди в тёмных шлемах на голове. — Тридцатьчетвёрки пошли, — сказал Женька и снял с готовы свой лётный шлем. «Танки, наверно, на папином заводе сделали. Они тоже в наступление пойдут...» — подумал я и двинулся следом за Жекой в раскрытую настежь парадную нашей школы.

Последние комментарии
5 часов 39 минут назад
6 часов 16 минут назад
1 день 19 часов назад
1 день 22 часов назад
2 дней 12 часов назад
2 дней 12 часов назад