Записки Павла Курганова [Юрий Борисович Ильинский] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Я возвращался домой с парада Победы — праздничная Москва ликовала. Повсюду смеющиеся радостные лица — столица чествовала победителей.
Я пробирался сквозь поющий, танцующий людской океан, а перед глазами стояла брусчатка Красной площади, мавзолей, руководители партии и правительства, четкая поступь полков, общипанные фашистские орлы на древках знамен, повергнутых к ногам освободителей человечества.
Вечером, когда вся семья была в сборе, кто-то позвонил. Открыв дверь, я увидел незнакомого.
— Вы капитан Латышев?
— Да.
— У меня к вам посылка.
— От кого? — изумился я.
— Вы знали старшего лейтенанта Курганова?
— Еще бы, ведь это мой школьный друг.
— Тогда держите, — сержант протянул мне планшет, перетянутый резинкой.
— А где он сам, где Павел?
Сержант потупился, потом взглянул прямо в глаза.
— Его больше нет.
— Где же это случилось? Когда?
— Весной. В Берлине… Тут прочитаете все. Он перед концом просил передать все вам и адрес дал. Ведь вы пишите?..
Горе настолько ошеломило меня, что я не поблагодарил сержанта и едва с ним простился. Я прошел к себе в комнату, сел за стол, за которым не сидел четыре года, и раскрыл планшет. В нем оказалась рукопись, написанная мелким каллиграфическим почерком, и конверт, на котором значилась моя фамилия и адрес.
В конверте находилось письмо. Привожу его полностью.
«Дорогой друг!
С некоторых пор я стал пописывать. Ты помнишь, как я смеялся над тобой в школе, когда ты напечатал в журнале „Пионер“ свой рассказ о собаках? Каюсь, я был тогда неправ. Вот и меня потянуло к перу и бумаге, Хочется рассказать о том, что я испытал на фронте. Я понимаю, что мои записи несовершенны, — я ведь не учился в литинституте — некогда было. Ты же постарайся привести мое творение в божеский вид — может оно кого и заинтересует. Уверен, что ты не откажешь своему другу. Будь счастлив, не поминай лихом.
К конверту с письмом я приложил записку с просьбой доставить планшет тебе, если меня… ну ты понимаешь. Все-таки я не на увеселительной прогулке.
Жму твою добрую лапу.
Твой Павел»
* * *
Я исполнил просьбу школьного товарища — рукопись увидела свет. Так пусть же не осудят ее суровые критики — Павлу действительно некогда было кончать литературный институт. Семнадцати лет он добровольно ушел на фронт.

-

I
 ожалуй, во всем была виновата эта трижды проклятая немецкая пуля. Мне потом, уже в госпитале, рассказывали, что гитлеровцы спиливают ее остроконечную головку и делают на ней крестообразный разрез.
— Раны, наносимые такими пулями, — говорил мне пожилой бородатый хирург, — ужасны. Их нельзя порой закрыть даже тарелкой, так что вам, молодой человек, просто повезло, очень повезло.
Четыре месяца провел я во фронтовом госпитале. Теперь меня выписывали.
Завтра нужно было ехать в штаб армии — получать назначение, но какое? Неужели в тыловые части, а вдруг на пенсию? Это в двадцать-то один год!
За распахнутым окном простирался огромный помещичий сад, теплый ветерок залетал в палату, овевая разгоряченное лицо. Хмельные весенние запахи заставляли учащенно биться сердце. Сад дремал, погруженный во мрак. Лишь у дальних каменных ворот искрилась огненная точка — это, пользуясь отсутствием начальства, курил часовой. Я вглядывался в сумрак ночи — он рассеивался, и перед глазами вставало прошедшее, такое знакомое и такое далекое.
…Наш полк двигался лесными тропами, преодолевая завалы, минные поля, уничтожая узлы вражеской обороны. Мы старались не отрываться от противника, но это было трудно: фрицы быстро убегали.
А мне, по служебной обязанности, все время нужно было находиться рядом с противником, знать каждый его шаг и не просто знать, а докладывать все своему командованию — ведь это разведка. Вот однажды выехал я с группой конных разведчиков по следам отступающих фашистов. Ехали медленно, разговаривали, курили. Непрерывное бегство гитлеровцев настраивало всех на мирный лад. Поговаривали о близком конце войны.
Впереди показался просвет, на опушке леса увидели небольшой хуторок — две-три хаты. Разговоры смолкли. Я послал двух бойцов вперед. Внезапно от крайней хаты рванул залп. Молодой сержант Иващенко, схватившись за грудь, упал с коня навзничь. Ко мне подскакал один из посланных к хутору рябой Кочетков.
— Напоролись на заслон, — еще издали крикнул он, — человек тридцать.
Правая щека солдата была в крови, сбитый пулей погон мотался на ниточке.
— Атаковать! За мной, ребята, вперед!
Ветер рванулся навстречу, воздух стал плотным, ощутимым, над головой посвистывало, еловые иголки хлестали по лицу. Отряд, разбившись на две группы, окружил хуторок, завязался бой. Вдруг у самой опушки я почувствовал сильный удар в ногу. «Налетел на сук» — промелькнуло в мозгу.
Мы ворвались в хуторок, у ближней хаты валялся перевернутый взрывом гранаты немецкий пулемет МГ, рядом чернели трупы пулеметчиков. Уцелевшие фашисты бежали в лес…
Я остановил коня — нога онемела, ниже колена из развороченного хромового голенища лилась кровь, торчали три белых щепки.
«Как стукнуло суком, — подумал я, — ишь какие занозы влезли». Зажмурясь от боли, я дернул одну из них — на ладони лежала сахарно-белая в затеках густой крови косточка…
Очнулся я в госпитале, в бане. Ощущение приятного тепла. Теплые клубы пара. Ласковые, заботливые руки, стирающие въевшуюся в кожу копоть и грязь. В ожидании перевязки я лег на скамейку и задремал…
И начались дни, полные боли, надежд, страха, бессонных ночей. Нога одеревенела, распухла. Врачи все чаще останавливались около моей койки, спорили, перебрасываясь латинскими терминами. Один настаивал на операции, двое на ампутации. Красивая полная черноглазая женщина-майор, главный врач, пришла меня уговаривать.
— Сделаем вам замечательный протез, привыкните к нему — сможете бегать, прыгать, танцевать. — Но я отказывался.
Как-то днем она пришла в сопровождении нескольких молодых врачей.
— Взгляните на этого упрямца — он отказывается от ампутации.
На меня уставились серые, черные, голубые глаза. Посыпался ливень латыни, среди которого часто, как градинки в дождь, ударялось холодное липкое слово «леталис». Не знали уважаемые эскулапы, что я перед войной учился в медицинском техникуме и по латыни имел пятерку. Что-что, а слово «летальный» мне было хорошо известно.
— Ну так как же, молодой человек, надумали?
— Надумал, товарищ майор, решил умирать двуногим…
Врачи ушли. Я лежал на спине с закрытыми глазами. Где-то в глубине мозга шевелилась мысль. А может решиться? Может правы доктора? Кто-то остановился рядом со мной и тронул за плечо.
— Товарищ Курганов!
Рядом стоял молодой рыжий парень. Большерукий, крепкий, какой-то квадратный, румяный, точно налитый солнечным соком.
— Я возьмусь за тебя, — забасил рыжий, — вылечу, на ноги поставлю.
Парню на вид было двадцать с немногим.
— А ты кто?
— Военврач третьего ранга.
— Новоиспеченный?
— Да, а ты не бойся, сказал вылечу — и баста.
Я удивился решительному тону молодого врача, но согласился.
Началось лечение. Днем я чувствовал себя сносно, болтал с соседями, читал, спал. Но зато ночью не мог сомкнуть глаз. Уже с вечера нога начинала гореть, боли усиливались и к полночи становились нестерпимыми. Я ворочался, вставал, ходил по затемненным коридорам на костылях. Рыжий врач немилосердно ругал меня за такие прогулки.
Однажды ночью, доведенный болью до исступления, я схватил графин, вылил его на полотенце и приложил к ране. Боль немного утихла, а потом возобновилась.
«Добуду холодной воды из-под крана», — решил я и поскакал к умывальнику. Там я сел на табурет, положил ногу под кран, отвернул его… и задремал.
Проснулся я, почувствовав, что меня кто-то сильно трясет. Передо мной стоял взбешенный доктор. Выдернув ногу из-под крана, он придерживал меня за руку, не давая упасть. Всю его красноречивую ругань я терпеливо выслушал. Да, доктор был прав, я слишком своевольничал.
Взбудораженный я лежал на койке, обдумывая происшедшее, даже боль куда-то отодвинулась на задний план.
Молодой доктор и впрямь оказался замечательным парнем. В короткий срок (если только девяносто суток можно считать таковым) он действительно поставил меня на ноги. Кость срослась, сняли гипс, боль прошла, я ходил, даже не хромая, но рана не зарастала. Края ее отвердели — образовалась так называемая «трофическая язва». Язвы, конечно, никакой не было; но так называли незаживающую рану с твердыми краями.
Чего только не делал со мной мой госпитальный шеф. Рана не уменьшалась ни на миллиметр. Но доктор духом не падал. Последним его изобретением был расплавленный парафин. Когда мне на рану из какой-то кастрюльки доктор вылил растопленную горячую массу, я подпрыгнул. Тотчас же мне была прочитана соответствующая лекция.
Доктора звали Роман Гаврилович, и к этому времени мы с ним основательно сдружились, а посему я мог, не стесняясь, высказывать ему свое воззрение на данный метод лечения.
Роман Гаврилович уничтожающе посмотрел на меня. Едва парафин остывал, его нужно было снимать, вернее отдирать, вместе с присохшими волосками ноги.
— Твой парафин — удовольствие ниже среднего.
— Терпи, парнище, такая твоя доля.
Я терпел. В свободное от процедур время слонялся по госпиталю, иногда гулял по городу.
Я все время просился на выписку, но об этом главный врач и слушать не хотел. Я говорил, что скоро уже войне конец, надо же довоевать со своим полком до последнего.
— Для вас, Курганов, война уже кончилась, — заявила мне главный врач, — отправитесь в тыл.
…Я уезжал утром. Сходил на склад, забрал свои немудрящие вещички, обошел госпиталь, попрощался, пожал руки ребятам из палаты, получил в канцелярии свои документы: направление в штаб армии и справку о ранении.
Меня никто не провожал. Я вышел потихоньку и побрел к воротам. Становилось жарко, солнце припекало вовсю, в густых ветвях зеленеющей аллеи чирикали и возились воробьи, в каменной нише часовни дремала пара голубков.
Я вспомнил своих полковых друзей, подумал, что скоро увижу их снова, и хорошее настроение возвратилось ко мне.
Сзади затарахтел мотоцикл. Я обернулся. С мотоцикла лихо соскочил рыжий доктор. На голове у него был шлем с очками, и я не сразу его узнал.
— Насилу догнал тебя, Павел. Хочу проститься и поблагодарить за то, что терпеливо выносил мое лечение.
— Прощай, Рома, прощай, хороший ты парень, хоть и помучил меня. Но ты поставил меня на ноги, а этого забыть нельзя.
Мы обнялись. Доктор шмыгнул носом и сунул мне флягу. Фляга была завернута в суконную рубашку с кнопками и имела пристяжной стаканчик.
— Лекарство на дорогу. Спиритус вини — веселые капли. Жаль, Павел, что недолечил я тебя.
— Ничего, пока доеду до штаба, рана зарастет.
Я встретил попутную машину и без приключений прибыл в штаб.
В штабе армии мне пришлось пережить несколько неприятных минут: чуть не отправили в тыл, но потом все обошлось благополучно. Хотя в тыл я не поехал, но не поехал и на передовую — попал в резерв. Здесь я получил назначение совсем для меня необычное. Меня послали в маленький городишко на польско-немецкой границе помощником военного коменданта. Подвели анкетные данные. И надо же было мне указать, что я владею немецким языком.
Мои просьбы о возвращении в полк оказались тщетными, да и спорить с начальством не приходилось — приказ.
Начались семинары для новоиспеченных комендантов.
Два последних занятия я едва высидел — моя рана после очередной перебинтовки загноилась и отчаянно болела. Образовался нарыв величиной с детский кулачок. К врачу мне обращаться не хотелось из-за боязни снова очутиться в госпитале.
Я вылил на рану бутылочку риваноля, намотал свежий бинт. Через полчаса уже сидел в кабине попутной машины, угощал водителя папиросами и слушал последние фронтовые новости. Шоферы — лица, вечно находящиеся в движении, и кому же, как не им знать все фронтовые новости.
Так незаметно, болтая с водителем, я проехал два часа. У развилки дорог машина остановилась. Мне нужно было прямо, а машина сворачивала направо. Я присел на ноздреватый камень, проводил глазами полуторку и стал ждать новой оказии.
Вскоре ко мне присоединились два солдата, очутившиеся у развилки дорог таким же путем, как и я. Оба они расположились на камне, достали припасы, хлеб и стали закусывать.
— Товарищ старший лейтенант, покушайте с нами, — предложил усатый, ладный солдат.
— Пожалуйста, пожалуйста, — мягким украинским тенорком поддержал его спутник, молодой, кругленький, лобастый.
Солдаты нарезали колбасу, почистили вяленую рыбу, достали пару луковиц и соль в тряпочке. Я протянул им докторскую флягу.
— Ого! — глаза усача обрадованно сверкнули, он как-то подобрался, помолодел.
Младший отнесся к появлению фляги равнодушно.
— Не употребляю.
— И правильно делаешь, дюже вредная штука.
С этими словами усач вылил в кружку половину фляги.
Вдалеке показалась полуторка. Мы вскочили с камня, замахали руками. Машина замедлила ход, сидевшие в ней военные девчата связистки крикнули нам:
— Эй, воины! По коням!
Через мгновение оба солдата сидели в кузове. Я прыгнул, подтянулся на руках, занес ногу. Машину качнуло на выбоине. Раненой ногой я оперся о ребро борта и в глазах запрыгали тысячи искр. Боль отняла силу, я повис на борту. Солдаты помогли мне забраться в кузов и посадили на запасное колесо. В кузове было полно девчат — они ехали из глубокого тыла, шутили, смеялись, пели. Одна из них, брызжущая молодостью и здоровьем, задорно бросила мне.
— Эх, лейтенант, даже в машину влезть не умеешь, видно на фронте не был!
Я сидел на колесе и смотрел вдаль, не замечая бежавших навстречу домиков, часовен, площадей, думая лишь об одном: только бы не закричать от пронзительной боли.
— Что ж молчишь, лейтенант, даже не повернешься.
— Так вiн же ж ранений, — не выдержал молодой солдат, — а вони причепились.
Он подсел ко мне, достал индивидуальный пакет и тронул девушку за руку. — Побач, сорока, — и показал ей на промокшую штанину.
Ногу пришлось перевязать — нарыв лопнул, я почувствовал облегчение. Девушка с состраданием смотрела за перевязкой.
— Простите меня, пожалуйста.
К вечеру мы прибыли в беленький, чистенький, промытый весенним дождем и просушенный теплым ветром городок, полный остроконечных крыш и каменных статуй святых на дорогах. Это и был тот самый город Т., в котором мне надлежало служить. Девушки тоже ехали сюда. Веселой стайкой они отправились на холм к городской ратуше, где квартировало их начальство.
ожалуй, во всем была виновата эта трижды проклятая немецкая пуля. Мне потом, уже в госпитале, рассказывали, что гитлеровцы спиливают ее остроконечную головку и делают на ней крестообразный разрез.
— Раны, наносимые такими пулями, — говорил мне пожилой бородатый хирург, — ужасны. Их нельзя порой закрыть даже тарелкой, так что вам, молодой человек, просто повезло, очень повезло.
Четыре месяца провел я во фронтовом госпитале. Теперь меня выписывали.
Завтра нужно было ехать в штаб армии — получать назначение, но какое? Неужели в тыловые части, а вдруг на пенсию? Это в двадцать-то один год!
За распахнутым окном простирался огромный помещичий сад, теплый ветерок залетал в палату, овевая разгоряченное лицо. Хмельные весенние запахи заставляли учащенно биться сердце. Сад дремал, погруженный во мрак. Лишь у дальних каменных ворот искрилась огненная точка — это, пользуясь отсутствием начальства, курил часовой. Я вглядывался в сумрак ночи — он рассеивался, и перед глазами вставало прошедшее, такое знакомое и такое далекое.
…Наш полк двигался лесными тропами, преодолевая завалы, минные поля, уничтожая узлы вражеской обороны. Мы старались не отрываться от противника, но это было трудно: фрицы быстро убегали.
А мне, по служебной обязанности, все время нужно было находиться рядом с противником, знать каждый его шаг и не просто знать, а докладывать все своему командованию — ведь это разведка. Вот однажды выехал я с группой конных разведчиков по следам отступающих фашистов. Ехали медленно, разговаривали, курили. Непрерывное бегство гитлеровцев настраивало всех на мирный лад. Поговаривали о близком конце войны.
Впереди показался просвет, на опушке леса увидели небольшой хуторок — две-три хаты. Разговоры смолкли. Я послал двух бойцов вперед. Внезапно от крайней хаты рванул залп. Молодой сержант Иващенко, схватившись за грудь, упал с коня навзничь. Ко мне подскакал один из посланных к хутору рябой Кочетков.
— Напоролись на заслон, — еще издали крикнул он, — человек тридцать.
Правая щека солдата была в крови, сбитый пулей погон мотался на ниточке.
— Атаковать! За мной, ребята, вперед!
Ветер рванулся навстречу, воздух стал плотным, ощутимым, над головой посвистывало, еловые иголки хлестали по лицу. Отряд, разбившись на две группы, окружил хуторок, завязался бой. Вдруг у самой опушки я почувствовал сильный удар в ногу. «Налетел на сук» — промелькнуло в мозгу.
Мы ворвались в хуторок, у ближней хаты валялся перевернутый взрывом гранаты немецкий пулемет МГ, рядом чернели трупы пулеметчиков. Уцелевшие фашисты бежали в лес…
Я остановил коня — нога онемела, ниже колена из развороченного хромового голенища лилась кровь, торчали три белых щепки.
«Как стукнуло суком, — подумал я, — ишь какие занозы влезли». Зажмурясь от боли, я дернул одну из них — на ладони лежала сахарно-белая в затеках густой крови косточка…
Очнулся я в госпитале, в бане. Ощущение приятного тепла. Теплые клубы пара. Ласковые, заботливые руки, стирающие въевшуюся в кожу копоть и грязь. В ожидании перевязки я лег на скамейку и задремал…
И начались дни, полные боли, надежд, страха, бессонных ночей. Нога одеревенела, распухла. Врачи все чаще останавливались около моей койки, спорили, перебрасываясь латинскими терминами. Один настаивал на операции, двое на ампутации. Красивая полная черноглазая женщина-майор, главный врач, пришла меня уговаривать.
— Сделаем вам замечательный протез, привыкните к нему — сможете бегать, прыгать, танцевать. — Но я отказывался.
Как-то днем она пришла в сопровождении нескольких молодых врачей.
— Взгляните на этого упрямца — он отказывается от ампутации.
На меня уставились серые, черные, голубые глаза. Посыпался ливень латыни, среди которого часто, как градинки в дождь, ударялось холодное липкое слово «леталис». Не знали уважаемые эскулапы, что я перед войной учился в медицинском техникуме и по латыни имел пятерку. Что-что, а слово «летальный» мне было хорошо известно.
— Ну так как же, молодой человек, надумали?
— Надумал, товарищ майор, решил умирать двуногим…
Врачи ушли. Я лежал на спине с закрытыми глазами. Где-то в глубине мозга шевелилась мысль. А может решиться? Может правы доктора? Кто-то остановился рядом со мной и тронул за плечо.
— Товарищ Курганов!
Рядом стоял молодой рыжий парень. Большерукий, крепкий, какой-то квадратный, румяный, точно налитый солнечным соком.
— Я возьмусь за тебя, — забасил рыжий, — вылечу, на ноги поставлю.
Парню на вид было двадцать с немногим.
— А ты кто?
— Военврач третьего ранга.
— Новоиспеченный?
— Да, а ты не бойся, сказал вылечу — и баста.
Я удивился решительному тону молодого врача, но согласился.
Началось лечение. Днем я чувствовал себя сносно, болтал с соседями, читал, спал. Но зато ночью не мог сомкнуть глаз. Уже с вечера нога начинала гореть, боли усиливались и к полночи становились нестерпимыми. Я ворочался, вставал, ходил по затемненным коридорам на костылях. Рыжий врач немилосердно ругал меня за такие прогулки.
Однажды ночью, доведенный болью до исступления, я схватил графин, вылил его на полотенце и приложил к ране. Боль немного утихла, а потом возобновилась.
«Добуду холодной воды из-под крана», — решил я и поскакал к умывальнику. Там я сел на табурет, положил ногу под кран, отвернул его… и задремал.
Проснулся я, почувствовав, что меня кто-то сильно трясет. Передо мной стоял взбешенный доктор. Выдернув ногу из-под крана, он придерживал меня за руку, не давая упасть. Всю его красноречивую ругань я терпеливо выслушал. Да, доктор был прав, я слишком своевольничал.
Взбудораженный я лежал на койке, обдумывая происшедшее, даже боль куда-то отодвинулась на задний план.
Молодой доктор и впрямь оказался замечательным парнем. В короткий срок (если только девяносто суток можно считать таковым) он действительно поставил меня на ноги. Кость срослась, сняли гипс, боль прошла, я ходил, даже не хромая, но рана не зарастала. Края ее отвердели — образовалась так называемая «трофическая язва». Язвы, конечно, никакой не было; но так называли незаживающую рану с твердыми краями.
Чего только не делал со мной мой госпитальный шеф. Рана не уменьшалась ни на миллиметр. Но доктор духом не падал. Последним его изобретением был расплавленный парафин. Когда мне на рану из какой-то кастрюльки доктор вылил растопленную горячую массу, я подпрыгнул. Тотчас же мне была прочитана соответствующая лекция.
Доктора звали Роман Гаврилович, и к этому времени мы с ним основательно сдружились, а посему я мог, не стесняясь, высказывать ему свое воззрение на данный метод лечения.
Роман Гаврилович уничтожающе посмотрел на меня. Едва парафин остывал, его нужно было снимать, вернее отдирать, вместе с присохшими волосками ноги.
— Твой парафин — удовольствие ниже среднего.
— Терпи, парнище, такая твоя доля.
Я терпел. В свободное от процедур время слонялся по госпиталю, иногда гулял по городу.
Я все время просился на выписку, но об этом главный врач и слушать не хотел. Я говорил, что скоро уже войне конец, надо же довоевать со своим полком до последнего.
— Для вас, Курганов, война уже кончилась, — заявила мне главный врач, — отправитесь в тыл.
…Я уезжал утром. Сходил на склад, забрал свои немудрящие вещички, обошел госпиталь, попрощался, пожал руки ребятам из палаты, получил в канцелярии свои документы: направление в штаб армии и справку о ранении.
Меня никто не провожал. Я вышел потихоньку и побрел к воротам. Становилось жарко, солнце припекало вовсю, в густых ветвях зеленеющей аллеи чирикали и возились воробьи, в каменной нише часовни дремала пара голубков.
Я вспомнил своих полковых друзей, подумал, что скоро увижу их снова, и хорошее настроение возвратилось ко мне.
Сзади затарахтел мотоцикл. Я обернулся. С мотоцикла лихо соскочил рыжий доктор. На голове у него был шлем с очками, и я не сразу его узнал.
— Насилу догнал тебя, Павел. Хочу проститься и поблагодарить за то, что терпеливо выносил мое лечение.
— Прощай, Рома, прощай, хороший ты парень, хоть и помучил меня. Но ты поставил меня на ноги, а этого забыть нельзя.
Мы обнялись. Доктор шмыгнул носом и сунул мне флягу. Фляга была завернута в суконную рубашку с кнопками и имела пристяжной стаканчик.
— Лекарство на дорогу. Спиритус вини — веселые капли. Жаль, Павел, что недолечил я тебя.
— Ничего, пока доеду до штаба, рана зарастет.
Я встретил попутную машину и без приключений прибыл в штаб.
В штабе армии мне пришлось пережить несколько неприятных минут: чуть не отправили в тыл, но потом все обошлось благополучно. Хотя в тыл я не поехал, но не поехал и на передовую — попал в резерв. Здесь я получил назначение совсем для меня необычное. Меня послали в маленький городишко на польско-немецкой границе помощником военного коменданта. Подвели анкетные данные. И надо же было мне указать, что я владею немецким языком.
Мои просьбы о возвращении в полк оказались тщетными, да и спорить с начальством не приходилось — приказ.
Начались семинары для новоиспеченных комендантов.
Два последних занятия я едва высидел — моя рана после очередной перебинтовки загноилась и отчаянно болела. Образовался нарыв величиной с детский кулачок. К врачу мне обращаться не хотелось из-за боязни снова очутиться в госпитале.
Я вылил на рану бутылочку риваноля, намотал свежий бинт. Через полчаса уже сидел в кабине попутной машины, угощал водителя папиросами и слушал последние фронтовые новости. Шоферы — лица, вечно находящиеся в движении, и кому же, как не им знать все фронтовые новости.
Так незаметно, болтая с водителем, я проехал два часа. У развилки дорог машина остановилась. Мне нужно было прямо, а машина сворачивала направо. Я присел на ноздреватый камень, проводил глазами полуторку и стал ждать новой оказии.
Вскоре ко мне присоединились два солдата, очутившиеся у развилки дорог таким же путем, как и я. Оба они расположились на камне, достали припасы, хлеб и стали закусывать.
— Товарищ старший лейтенант, покушайте с нами, — предложил усатый, ладный солдат.
— Пожалуйста, пожалуйста, — мягким украинским тенорком поддержал его спутник, молодой, кругленький, лобастый.
Солдаты нарезали колбасу, почистили вяленую рыбу, достали пару луковиц и соль в тряпочке. Я протянул им докторскую флягу.
— Ого! — глаза усача обрадованно сверкнули, он как-то подобрался, помолодел.
Младший отнесся к появлению фляги равнодушно.
— Не употребляю.
— И правильно делаешь, дюже вредная штука.
С этими словами усач вылил в кружку половину фляги.
Вдалеке показалась полуторка. Мы вскочили с камня, замахали руками. Машина замедлила ход, сидевшие в ней военные девчата связистки крикнули нам:
— Эй, воины! По коням!
Через мгновение оба солдата сидели в кузове. Я прыгнул, подтянулся на руках, занес ногу. Машину качнуло на выбоине. Раненой ногой я оперся о ребро борта и в глазах запрыгали тысячи искр. Боль отняла силу, я повис на борту. Солдаты помогли мне забраться в кузов и посадили на запасное колесо. В кузове было полно девчат — они ехали из глубокого тыла, шутили, смеялись, пели. Одна из них, брызжущая молодостью и здоровьем, задорно бросила мне.
— Эх, лейтенант, даже в машину влезть не умеешь, видно на фронте не был!
Я сидел на колесе и смотрел вдаль, не замечая бежавших навстречу домиков, часовен, площадей, думая лишь об одном: только бы не закричать от пронзительной боли.
— Что ж молчишь, лейтенант, даже не повернешься.
— Так вiн же ж ранений, — не выдержал молодой солдат, — а вони причепились.
Он подсел ко мне, достал индивидуальный пакет и тронул девушку за руку. — Побач, сорока, — и показал ей на промокшую штанину.
Ногу пришлось перевязать — нарыв лопнул, я почувствовал облегчение. Девушка с состраданием смотрела за перевязкой.
— Простите меня, пожалуйста.
К вечеру мы прибыли в беленький, чистенький, промытый весенним дождем и просушенный теплым ветром городок, полный остроконечных крыш и каменных статуй святых на дорогах. Это и был тот самый город Т., в котором мне надлежало служить. Девушки тоже ехали сюда. Веселой стайкой они отправились на холм к городской ратуше, где квартировало их начальство.
 Я слез с машины и спросил вихрастого водителя.
— Как пройти в комендатуру?
— Та мы же идем туда, — протянул молодой солдат, — мы сами комендантские.
— Порядок! Вместе служить будем.
— И вы туда, товарищ старший лейтенант?
— Назначен помощником коменданта.
Солдаты повеселели и рассказали, что служат в комендатуре со дня освобождения города и что комендант капитан Степанов очень хороший человек.
— Душевный он! Видит в каждом человека, даже в немце.
Круглолицый нахмурился.
— Побывал бы он в Аушвице, увидел бы, какие немцы — люди. Мы этот городок освобождали — по-польски Освенцим называется — печки одни и пепел. Горы пепла.
— Немцы, брат, разные бывают.
Мы подошли к двухэтажному особняку. У подъезда стоял часовой с автоматом. Над домом реял флажок.
Капитан Степанов, военный комендант города, оказался на редкость симпатичным человеком. Совершенно седые волосы рассыпались шапкой, упрямый мальчишеский чуб спускался на высокий лоб. Синие глаза блестели на бронзовом от загара лице. Капитан оказался моим земляком, до войны работал директором одного из московских театров.
Вечером мы долго говорили о своем родном городе, вспоминали его улицы и площади, и казалось нам, что мы не на войне. Но она была рядом, вокруг нас, пылала орудийным огнем на передовой, прерывисто гудела в вышине, шпионом прокрадывалась в ночи…
Я переночевал у капитана на кожаном диване, а наутро начались дела. Меня познакомили с немногочисленным персоналом комендатуры. Среди солдат я увидел двух своих попутчиков по машине и дружески им кивнул.
Капитан повел меня показывать город. Он был так мал, что мы прошли его из конца в конец минут за тридцать. Городок был весь в зелени, аккуратненький и совершенно не напоминал о войне. В центре городка возвышался огромный костел. Мы вошли во двор. Из костела доносились торжественные звуки органа — шло богослужение.
— Величественное сооружение — не правда ли?
— Да, — рассеянно согласился я, поглядывая на хорошенькую паненку.
Капитан перехватил мой взгляд, засмеялся, погрозил пальцем.
— Эх, молодость.
Девушка заметила нас, внимательно посмотрела на меня. У ворот костела я обернулся. Девушка провожала нас взглядом.
По дороге в комендатуру мы посетили еще одного работника комендатуры лейтенанта Сибирцева. Он жил в маленьком одноэтажном домишке, две стены которого были сплошь увиты плющом. У калитки стояла раскрашенная гипсовая мадонна в проволочном венчике.
— Сибирцев сейчас дома, — объяснил мне капитан, — он нездоров, простудился.
К моему удивлению простуженный сидел за столом и что-то писал. Рядом лежали исписанные листы. Увидев нас, он встал, приветливо поздоровался и тотчас смахнул в планшет все свое писание. «Наверное невесте пишет, — подумал я, — стесняется, скрытный парень».
Сибирцев с любопытством оглядел меня, предложил чаю. Мы отказались. Перебрасываясь незначительными фразами, потолковали о том, о сем. Мне показалось, что Сибирцев что-то недоговаривает. Внезапно, без всякой связи с разговорной нитью, Сибирцев спросил:
— Вы член партии?
Я кивнул головой.
— Это хорошо. — Сибирцев повеселел и сказал капитану.
— А я все анализирую. Ситуация довольно интересная. Есть над чем поработать. — И снова внезапно повернулся ко мне.
— Вам нравится наш городок?
— Очень.
— То еще болотце!
Сибирцев сказал это с чисто одесской интонацией, явно не оправдывая свою фамилию.
Мы рассмеялись.
— Почему же болотце?
— А потому, молодой человек, что в болотах обычно водятся черти, водяные, лешие и тому подобная нечисть.
Я улыбнулся, но увидел, что это было сказано совершенно серьезно.
Офицер задумался, посмотрел на часы.
— Ну, дорогие гости, не надоели ли вам хозяева? — Мы попрощались и ушли.
— Ну, как вам показался Сибирцев?
— Странный тип. А кто он по должности?
— Так… есть одна такая должность, — уклончиво ответил капитан и к этой теме больше не возвращался. Остаток пути прошли молча, только у самого особняка капитан задумчиво произнес.
— И всюду-то он видит нечисть, — фриц бежит без оглядки, а ему не до этого. И в городке нашем никаких особых объектов нет, одни госпитали, ни один черт немецкий сюда не заползет — нечего здесь делать. Тыловичок. Отсюда и страсти-мордасти.
— Какие еще страсти, Сергей Петрович?
— Так… ерунда… мистика… А знаете, в нашем городке ведь немцы есть.
— Какие немцы?
— Обыкновенные, мирные жители, семей с десяток наберется, а вот, кстати, один из них, на маслозаводе работает. Петер, ком!
Худой светловолосый мальчик лет пятнадцати слез с велосипеда и подошел к нам.
— Что угодно господину коменданту? — заговорил он по-польски.
— Что угодно? Хм. Покажи велосипед.
Капитан взглянул на марку.
— «БСА» — ничего машина. Гут.
— Не шибко гут, — я указал на колеса.
Покрышки были прикручены к ободьям веревочками и вместо камер набиты опилками. Я заговорил с мальчиком по-немецки.
Услышав немецкую речь, он насторожился, потом заулыбался.
— Вы хорошо говорите по-немецки, господин офицер.
Я улыбнулся.
— Я не господин, Петер, а товарищ. Понимаешь? Давай руку, — я крепко пожал узкую мальчишескую кисть, — ясно?
— Ясно, — прошептал Петер, — камрад.
Вечером мы с капитаном и Сибирцевым сидели у маленького бассейна во дворе особняка, бросали крошки хлеба рыбкам, слушали тихие песни наших солдат. Слова русской песни будили воспоминания о далеких родных краях.
У бассейна цвели раскидистые черешни; лепестки, сбитые ветром, падали в воду; а рыбки, принимая их за крошки хлеба, подхватывали лепестки и уходили вглубь, поблескивая в лунных лучах узкими серебристыми телами. И так было тихо и мирно кругом, что опять казалось, что нет никакой войны, что все прошедшее за последние годы — сон, который никогда не повторится.
…Но война продолжалась. В эту же ночь она занесла свою костлявую лапу над нашим городком. Вдруг послышались взрывы. Я вскочил с дивана и, затягивая на ходу пояс, сбежал по лестнице вниз. Капитан уже был здесь и, вслушиваясь в торопливый рапорт дежурного, отдавал распоряжения. Толком никто ничего не знал. Взрыв и стрельба произошли в районе домика, где жил Сибирцев. Туда помчались конные патрули. Известий от них не было.
В комнату вбежал солдат.
— Товарищ капитан, машина готова!
— Едем! Старшина командуй. Вы, Курганов, со мной!
Машина понеслась по спящим улицам. Уже совсем рассвело. От мостовой поднимался пар. У костела нас встретили конные. Коренастый сержант соскочил с коня, вытянулся перед капитаном и взволнованно доложил.
— Товарищ капитан, в квартиру Сибирцева брошена граната. Наш патруль видел бегущих людей, окликнул их, в ответ был открыт огонь из автоматов. Младший сержант Чернов убит, ефрейтор Лобода ранен в голову.
— Прочесать окрестность!
— Есть!
Мы вошли в дом. Перепуганная хозяйка-полька жалась в углу, отсутствующим взглядом смотрела на солдат. В комнате лейтенанта царил разгром, разметанная взрывом переломанная мебель валялась по углам. Стены были сплошь изъедены сотнями осколков. Сам Сибирцев лежал посреди комнаты ничком.
Первым опомнился капитан.
— Обыскать дом. Труп в комендатуру. Вызвать из госпиталя врача. Лободу на перевязку. Курганов!
— Я!
— Возьмите документы убитого.
Я снял с пояса убитого кобуру с пистолетом, расстегнул карманы, вынул документы, снял два ордена Красной Звезды и медаль «За отвагу».
Капитан тем временем обследовал письменный стол, собрал с него бумаги (очевидно, в момент убийства Сибирцев писал). Пока капитан собирал в планшет разлетевшиеся по всей комнате листы, я подошел к окну просмотреть документы. Их было немного — партбилет, вещевая книжка офицера, удостоверение личности. Я раскрыл стандартную маленькую книжечку с гербом нашей страны и звездочкой на негнущейся обложке. Совсем молодой Сибирцев смотрел на меня с фотографии.
«Так вот, кто такой этот лейтенант, — подумал я с уважением. — Контрразведчик».
Днем мы с капитаном обсуждали создавшееся положение. Капитан рассказал мне, что Сибирцев предполагал, что в городе существует тайная фашистская организация. Он кое-что предпринимал, и, очевидно, успешно, но ему не суждено было завершить начатое дело. Мы просмотрели все бумаги Сибирцева. В них не было ничего, чтобы могло пролить свет на это дело.
Оставался маленький блокнотик, взятый из нагрудного кармана. Страницы слиплись от крови. К нашему удивлению Сибирцев оказывается писал стихи. Это были простые, теплые строчки о любимой девушке.
— Лирика, — вздохнул капитан, перелистывая блокнотик. — Вот тебе и лирика, эх Сибирцев, Сибирцев.
Кроме стихов, в блокноте ничего не было, если не считать рисунков. Один из них изображал немецкую военную каску с рожками, столь знакомую еще с детства по карикатурам Бориса Ефимова. Тысячи таких касок ржавели на дорогах войны, истлевали в лесах, прорастали буйными всходами в полях. Под рисунком помещались две немецкие буквы: W. W.
Капитан пожал плечами, отдал книжечку мне и задумчиво проговорил.
— Помнишь, он намекал на какую-то нечисть. Может, это они его и убили?
Я задумался. Перед глазами встало улыбающееся лицо Сибирцева. Я распахнул окно, смотрел на купающийся в солнечных лучах город и думал, что где-то здесь, может быть, рядом, орудует группа врагов, действует скрыто, тайно, хорошо маскируясь, — попробуй ее найди. А сколько вреда она может причинить…
Где-то я слышал или читал, что убийцы обязательно приходят на место преступления, чтобы взглянуть на свои жертвы. Эти, конечно, не придут, а может быть, им нужны какие-нибудь документы? Ведь их спугнули…
— Я переночую сегодня там, — сказал я.
— Где? — капитан поднял голову, наморщил лоб.
— У Сибирцева.
— Вы с ума сошли. Зачем?
— Попробую разгадать эту загадку.
— Ну и ну, — протянул капитан. — Бессмысленная и рискованная затея.
— А почему рискованная?
— Ну кто его знает, может за домом слежка и вас прихлопнут, как муху.
— Значит, вы допускаете…
— Ничего не допускаю. Сумасбродство — и все.
Капитана позвали вниз и он ушел.
Вечером я пошел на квартиру Сибирцева и заявил хозяйке, что переночую в комнате покойного. После изумленных восклицаний дело было улажено. Постель я постелил сам — хозяйка боялась входить в комнату. Услышав звук отворяемого окна, она, преодолев страх, вбежала, умоляя закрыть окно, чтобы, не дай пан бог, со мной чего-нибудь не случилось.
«Вшистко бенде в пожондке», — улынулся я, подумав, что оконное стекло слишком слабая зашита от современного оружия. Я лег в постель, не раздеваясь. Под подушку положил трофейный парабеллум. Я очень люблю этот пистолет: он бьет исключительно точно, даже на большом расстоянии.
Я очень устал и хотел спать, но, когда закрыл глаза, почувствовал, что заснуть не удастся. В детстве я здорово боялся покойников, и когда однажды, еще в августе 1941 года, ночью мне пришлось стоять часовым на кладбище, за которым окопалась наша рота, я чувствовал себя неважно — казалось, что кресты шевелятся. Я едва не запорол своего сменщика, приняв его, должно быть, за пришельца из царства теней. Хотя с тех пор и прошло немало времени, мне все же было не по себе.
Я не заметил, как уснул. Проснулся в полночь от удара по подоконнику. На окне появилось что-то белое. Я вскочил, выхватил парабеллум и рванулся к окну. На подоконнике мирно сидел пушистый сибирский кот. Он посмотрел на меня, как мне показалось, удивленно, потянулся и замурлыкал…
Я выругался. Ругань относилась ко мне самому, ибо капитан был прав: так шпионов не ловят.
Я слез с машины и спросил вихрастого водителя.
— Как пройти в комендатуру?
— Та мы же идем туда, — протянул молодой солдат, — мы сами комендантские.
— Порядок! Вместе служить будем.
— И вы туда, товарищ старший лейтенант?
— Назначен помощником коменданта.
Солдаты повеселели и рассказали, что служат в комендатуре со дня освобождения города и что комендант капитан Степанов очень хороший человек.
— Душевный он! Видит в каждом человека, даже в немце.
Круглолицый нахмурился.
— Побывал бы он в Аушвице, увидел бы, какие немцы — люди. Мы этот городок освобождали — по-польски Освенцим называется — печки одни и пепел. Горы пепла.
— Немцы, брат, разные бывают.
Мы подошли к двухэтажному особняку. У подъезда стоял часовой с автоматом. Над домом реял флажок.
Капитан Степанов, военный комендант города, оказался на редкость симпатичным человеком. Совершенно седые волосы рассыпались шапкой, упрямый мальчишеский чуб спускался на высокий лоб. Синие глаза блестели на бронзовом от загара лице. Капитан оказался моим земляком, до войны работал директором одного из московских театров.
Вечером мы долго говорили о своем родном городе, вспоминали его улицы и площади, и казалось нам, что мы не на войне. Но она была рядом, вокруг нас, пылала орудийным огнем на передовой, прерывисто гудела в вышине, шпионом прокрадывалась в ночи…
Я переночевал у капитана на кожаном диване, а наутро начались дела. Меня познакомили с немногочисленным персоналом комендатуры. Среди солдат я увидел двух своих попутчиков по машине и дружески им кивнул.
Капитан повел меня показывать город. Он был так мал, что мы прошли его из конца в конец минут за тридцать. Городок был весь в зелени, аккуратненький и совершенно не напоминал о войне. В центре городка возвышался огромный костел. Мы вошли во двор. Из костела доносились торжественные звуки органа — шло богослужение.
— Величественное сооружение — не правда ли?
— Да, — рассеянно согласился я, поглядывая на хорошенькую паненку.
Капитан перехватил мой взгляд, засмеялся, погрозил пальцем.
— Эх, молодость.
Девушка заметила нас, внимательно посмотрела на меня. У ворот костела я обернулся. Девушка провожала нас взглядом.
По дороге в комендатуру мы посетили еще одного работника комендатуры лейтенанта Сибирцева. Он жил в маленьком одноэтажном домишке, две стены которого были сплошь увиты плющом. У калитки стояла раскрашенная гипсовая мадонна в проволочном венчике.
— Сибирцев сейчас дома, — объяснил мне капитан, — он нездоров, простудился.
К моему удивлению простуженный сидел за столом и что-то писал. Рядом лежали исписанные листы. Увидев нас, он встал, приветливо поздоровался и тотчас смахнул в планшет все свое писание. «Наверное невесте пишет, — подумал я, — стесняется, скрытный парень».
Сибирцев с любопытством оглядел меня, предложил чаю. Мы отказались. Перебрасываясь незначительными фразами, потолковали о том, о сем. Мне показалось, что Сибирцев что-то недоговаривает. Внезапно, без всякой связи с разговорной нитью, Сибирцев спросил:
— Вы член партии?
Я кивнул головой.
— Это хорошо. — Сибирцев повеселел и сказал капитану.
— А я все анализирую. Ситуация довольно интересная. Есть над чем поработать. — И снова внезапно повернулся ко мне.
— Вам нравится наш городок?
— Очень.
— То еще болотце!
Сибирцев сказал это с чисто одесской интонацией, явно не оправдывая свою фамилию.
Мы рассмеялись.
— Почему же болотце?
— А потому, молодой человек, что в болотах обычно водятся черти, водяные, лешие и тому подобная нечисть.
Я улыбнулся, но увидел, что это было сказано совершенно серьезно.
Офицер задумался, посмотрел на часы.
— Ну, дорогие гости, не надоели ли вам хозяева? — Мы попрощались и ушли.
— Ну, как вам показался Сибирцев?
— Странный тип. А кто он по должности?
— Так… есть одна такая должность, — уклончиво ответил капитан и к этой теме больше не возвращался. Остаток пути прошли молча, только у самого особняка капитан задумчиво произнес.
— И всюду-то он видит нечисть, — фриц бежит без оглядки, а ему не до этого. И в городке нашем никаких особых объектов нет, одни госпитали, ни один черт немецкий сюда не заползет — нечего здесь делать. Тыловичок. Отсюда и страсти-мордасти.
— Какие еще страсти, Сергей Петрович?
— Так… ерунда… мистика… А знаете, в нашем городке ведь немцы есть.
— Какие немцы?
— Обыкновенные, мирные жители, семей с десяток наберется, а вот, кстати, один из них, на маслозаводе работает. Петер, ком!
Худой светловолосый мальчик лет пятнадцати слез с велосипеда и подошел к нам.
— Что угодно господину коменданту? — заговорил он по-польски.
— Что угодно? Хм. Покажи велосипед.
Капитан взглянул на марку.
— «БСА» — ничего машина. Гут.
— Не шибко гут, — я указал на колеса.
Покрышки были прикручены к ободьям веревочками и вместо камер набиты опилками. Я заговорил с мальчиком по-немецки.
Услышав немецкую речь, он насторожился, потом заулыбался.
— Вы хорошо говорите по-немецки, господин офицер.
Я улыбнулся.
— Я не господин, Петер, а товарищ. Понимаешь? Давай руку, — я крепко пожал узкую мальчишескую кисть, — ясно?
— Ясно, — прошептал Петер, — камрад.
Вечером мы с капитаном и Сибирцевым сидели у маленького бассейна во дворе особняка, бросали крошки хлеба рыбкам, слушали тихие песни наших солдат. Слова русской песни будили воспоминания о далеких родных краях.
У бассейна цвели раскидистые черешни; лепестки, сбитые ветром, падали в воду; а рыбки, принимая их за крошки хлеба, подхватывали лепестки и уходили вглубь, поблескивая в лунных лучах узкими серебристыми телами. И так было тихо и мирно кругом, что опять казалось, что нет никакой войны, что все прошедшее за последние годы — сон, который никогда не повторится.
…Но война продолжалась. В эту же ночь она занесла свою костлявую лапу над нашим городком. Вдруг послышались взрывы. Я вскочил с дивана и, затягивая на ходу пояс, сбежал по лестнице вниз. Капитан уже был здесь и, вслушиваясь в торопливый рапорт дежурного, отдавал распоряжения. Толком никто ничего не знал. Взрыв и стрельба произошли в районе домика, где жил Сибирцев. Туда помчались конные патрули. Известий от них не было.
В комнату вбежал солдат.
— Товарищ капитан, машина готова!
— Едем! Старшина командуй. Вы, Курганов, со мной!
Машина понеслась по спящим улицам. Уже совсем рассвело. От мостовой поднимался пар. У костела нас встретили конные. Коренастый сержант соскочил с коня, вытянулся перед капитаном и взволнованно доложил.
— Товарищ капитан, в квартиру Сибирцева брошена граната. Наш патруль видел бегущих людей, окликнул их, в ответ был открыт огонь из автоматов. Младший сержант Чернов убит, ефрейтор Лобода ранен в голову.
— Прочесать окрестность!
— Есть!
Мы вошли в дом. Перепуганная хозяйка-полька жалась в углу, отсутствующим взглядом смотрела на солдат. В комнате лейтенанта царил разгром, разметанная взрывом переломанная мебель валялась по углам. Стены были сплошь изъедены сотнями осколков. Сам Сибирцев лежал посреди комнаты ничком.
Первым опомнился капитан.
— Обыскать дом. Труп в комендатуру. Вызвать из госпиталя врача. Лободу на перевязку. Курганов!
— Я!
— Возьмите документы убитого.
Я снял с пояса убитого кобуру с пистолетом, расстегнул карманы, вынул документы, снял два ордена Красной Звезды и медаль «За отвагу».
Капитан тем временем обследовал письменный стол, собрал с него бумаги (очевидно, в момент убийства Сибирцев писал). Пока капитан собирал в планшет разлетевшиеся по всей комнате листы, я подошел к окну просмотреть документы. Их было немного — партбилет, вещевая книжка офицера, удостоверение личности. Я раскрыл стандартную маленькую книжечку с гербом нашей страны и звездочкой на негнущейся обложке. Совсем молодой Сибирцев смотрел на меня с фотографии.
«Так вот, кто такой этот лейтенант, — подумал я с уважением. — Контрразведчик».
Днем мы с капитаном обсуждали создавшееся положение. Капитан рассказал мне, что Сибирцев предполагал, что в городе существует тайная фашистская организация. Он кое-что предпринимал, и, очевидно, успешно, но ему не суждено было завершить начатое дело. Мы просмотрели все бумаги Сибирцева. В них не было ничего, чтобы могло пролить свет на это дело.
Оставался маленький блокнотик, взятый из нагрудного кармана. Страницы слиплись от крови. К нашему удивлению Сибирцев оказывается писал стихи. Это были простые, теплые строчки о любимой девушке.
— Лирика, — вздохнул капитан, перелистывая блокнотик. — Вот тебе и лирика, эх Сибирцев, Сибирцев.
Кроме стихов, в блокноте ничего не было, если не считать рисунков. Один из них изображал немецкую военную каску с рожками, столь знакомую еще с детства по карикатурам Бориса Ефимова. Тысячи таких касок ржавели на дорогах войны, истлевали в лесах, прорастали буйными всходами в полях. Под рисунком помещались две немецкие буквы: W. W.
Капитан пожал плечами, отдал книжечку мне и задумчиво проговорил.
— Помнишь, он намекал на какую-то нечисть. Может, это они его и убили?
Я задумался. Перед глазами встало улыбающееся лицо Сибирцева. Я распахнул окно, смотрел на купающийся в солнечных лучах город и думал, что где-то здесь, может быть, рядом, орудует группа врагов, действует скрыто, тайно, хорошо маскируясь, — попробуй ее найди. А сколько вреда она может причинить…
Где-то я слышал или читал, что убийцы обязательно приходят на место преступления, чтобы взглянуть на свои жертвы. Эти, конечно, не придут, а может быть, им нужны какие-нибудь документы? Ведь их спугнули…
— Я переночую сегодня там, — сказал я.
— Где? — капитан поднял голову, наморщил лоб.
— У Сибирцева.
— Вы с ума сошли. Зачем?
— Попробую разгадать эту загадку.
— Ну и ну, — протянул капитан. — Бессмысленная и рискованная затея.
— А почему рискованная?
— Ну кто его знает, может за домом слежка и вас прихлопнут, как муху.
— Значит, вы допускаете…
— Ничего не допускаю. Сумасбродство — и все.
Капитана позвали вниз и он ушел.
Вечером я пошел на квартиру Сибирцева и заявил хозяйке, что переночую в комнате покойного. После изумленных восклицаний дело было улажено. Постель я постелил сам — хозяйка боялась входить в комнату. Услышав звук отворяемого окна, она, преодолев страх, вбежала, умоляя закрыть окно, чтобы, не дай пан бог, со мной чего-нибудь не случилось.
«Вшистко бенде в пожондке», — улынулся я, подумав, что оконное стекло слишком слабая зашита от современного оружия. Я лег в постель, не раздеваясь. Под подушку положил трофейный парабеллум. Я очень люблю этот пистолет: он бьет исключительно точно, даже на большом расстоянии.
Я очень устал и хотел спать, но, когда закрыл глаза, почувствовал, что заснуть не удастся. В детстве я здорово боялся покойников, и когда однажды, еще в августе 1941 года, ночью мне пришлось стоять часовым на кладбище, за которым окопалась наша рота, я чувствовал себя неважно — казалось, что кресты шевелятся. Я едва не запорол своего сменщика, приняв его, должно быть, за пришельца из царства теней. Хотя с тех пор и прошло немало времени, мне все же было не по себе.
Я не заметил, как уснул. Проснулся в полночь от удара по подоконнику. На окне появилось что-то белое. Я вскочил, выхватил парабеллум и рванулся к окну. На подоконнике мирно сидел пушистый сибирский кот. Он посмотрел на меня, как мне показалось, удивленно, потянулся и замурлыкал…
Я выругался. Ругань относилась ко мне самому, ибо капитан был прав: так шпионов не ловят.
II
 рошло несколько дней. Поиски убийц лейтенанта Сибирцева были тщетны. Капитан ругался. Я деятельно ему помогал, — но дело не двигалось.
Свободное от работы время, хотя его было крайне мало, я уделял одной хорошенькой девушке, с которой недавно познакомился. Звали ее Зося. Это была та самая девушка, которая смотрела на нас с капитаном у костела. Я подружился с ней. Девушка понравилась мне сразу еще тогда, у костела. Кажется, у опытных людей это и называется любовью с первого взгляда. Не знаю, может быть. Во всяком случае мне трудно об этом судить, так как раньше со мной ничего подобного не бывало.
Просто я хотел быть все время с Зосей вместе, видеть ее синие, чистые глаза, милую улыбку, слышать приятный голосок, мягко выговаривающий трудные русские слога. Просто я часто думал о ней, мечтал сделать для нее что-то необычайное, отчаянно героическое, просто я все свободное время уделял ей, вот и все. Может быть, это и есть любовь.
Вечером после инструктажа патрулей я попрощался с капитаном и пошел к Зосе. Город, казалось, вымер. Я шел через бульвар к костелу. От клумб поднимался дурманящий запах ночного цветка табака. Украдкой оглянувшись, я присел к клумбе и нарвал букетик цветов. Мысленно я поругивал себя. Ну разве можно коменданту, лицу, на которое возложена ответственность за город и его обитателей, так некрасиво поступать? Цветы тоже народная собственность. Совесть погрызла меня — я выставил «оправдание». Не могу же я прийти к девушке без цветов, а купить негде.
Зося ждала у костела. Под луной ее голубое платье казалось совсем воздушным, прозрачным. Она прикрепила белую звездочку табака к волосам, и мы медленно пошли по пустынному городку.
— Вы знаете, пан лейтенант, я нарушаю постановление пана коменданта, — кокетливо улыбнулась Зося.
— Во-первых, я не пан, во-вторых, у меня есть имя, а в-третьих, какое еще постановление?
— А то, где запрещается цивильным ночью ходить по городу.
— Ничего, панна Зося. Я разрешаю.
Мы рассмеялись.
Зося взяла мою фуражку и растрепала мне волосы. Я посмотрел ей прямо в глаза.
— Зося, — что-то замерло в груди, — Зося! — Я перевел дыхание. — Я хочу вам сказать.
— Цо?
Я смутился. Я хотел сказать Зосе то, что никогда и никому еще не говорил, а первый раз должно быть это очень трудно.
За городом захлопали зенитки. Послышалось нудное порывистое гудение одиночных самолетов.
— Зося, я хочу сказать вам…
Где-то ухнуло, дрогнула от ударов земля.
— Зося…
Что нам ворчанье зениток, что свист бомб, завывание пикировщиков. Передо мной — два глубоких озерка, а в них дрожат лунные блики… Это глаза Зоси. Ничего и никого вокруг нет. Существует только она, только она одна — больше ничего и не надо.
Проснулся я часов в десять. В окно врывался начальственный бас. Умывшись, я спустился вниз и вышел во двор. У кирпичной стены выстроились солдаты, перед ними расхаживал старшина, распекая нерадивых за разные проступки. Увидев меня, он оглушительно скомандовал:
— Смиррр-на!
— Вольно! Где капитан?
— Уехал на станцию, — коротко доложил старшина, — ее ночью бомбанули.
Я пошел завтракать. Вскоре к моему столу подошел запыленный с шоферскими очками на фуражке Степанов.
— Сиди, сиди, — добродушно заговорил он, — питайся.
— Вы были на станции?
— Был. Бомбили ее ночью. Паровоз подбит. Есть повреждения на линии.
Капитан рассеянно отхлебнул чаю, откусил кусок галеты.
— Странное дело, понимаешь, — задумчиво проговорил он. — Если на станции нет эшелонов, то бомбежки в эту ночь не бывает. Стоит только появиться поезду — жди гостей.
— Н-да. Противник поразительно догадлив.
— Догадливость подозрительная.
— Пожалуй, так. Я тоже думаю — следят подлецы.
— А если рация?
Капитан посмотрел на меня в упор.
— Верно земляк. Она. Ну погодите братцы-кролики. Мы вас запеленгуем.
— Дежурный! — крикнул капитан, — старшину ко мне. Живо!
Прибежал запыхавшийся старшина.
— Гусаров, слетай на мотоцикле к соседям. Записку передашь подполковнику Горбатову.
В двенадцати километрах от города стояла танковая бригада. К вечеру старшина приехал в сопровождении машины.
— Приехали ловцы чужих раций, — улыбнулся капитан. — Скоро пойдем на охоту.
Вечером мы готовились к «охоте». Радисты-пеленгаторы возились со своей сложной аппаратурой. Капитан разрабатывал план прочески, я инструктировал отобранных для ночной операции солдат. Цель ее их очень удивила. Лобастый Малоличко никак не мог примириться с мыслью, что где-то в городе, может быть, совсем рядом, прячется ловкий, хитрый, коварный враг, который в любой момент может нанести удар в спину.
Когда стемнело, ко мне подошел взволнованный старшина.
— Как же так, товарищ старший лейтенант. Почему меня не берете?
— Останешься, старшина, в комендатуре.
Старшина вздохнул, покрутил чубатой головой.
— Жаль, хотелось бы пойти с вами.
Ночью мы обшарили весь город, исходили его из конца в конец — рации не было. Капитан ворчал на пеленгаторов, те тормошили свою премудрую установку — толку не было.
Под утро прилетел самолет, спокойно сбросил груз на пути; только чудом уцелел подошедший эшелон с боеприпасами. Капитан рвал и метал.
В эту ночь мы так и не ложились. Три ночи подряд крутились мы в районе станции, но рации так и не нашли. Две ночи, правда, выдались спокойные. Фашистские бомбардировщики пролетали над станцией два-три раза за ночь, но не бомбили — как будто знали, что станция пуста. Вечером третьего дня на станции остановился эшелон с продовольствием и обмундированием. В ту же ночь от него полетели щепки, а привокзальная часть города оказалась завалена консервными банками, выброшенными силой взрыва. Капитан неистовствовал, вытребовал других пеленгаторов, с другим аппаратом, а толку не было.
— Ты подумай, — горячился он за обедом, — как только станция пустынна — они летают, но не бомбят, стоит прибыть эшелону — летят гостинцы. Черт знает что!
Я и сам ломал голову над загадочными бомбежками и решил во что бы то ни стало разгадать эту фашистскую загадку. Прошло еще несколько дней, настолько напряженных, что они показались минутами.
Как-то утром я сидел в комнате капитана, приводя в порядок нашу канцелярию. Сам Степанов был в городе, поэтому я с удобством развалился в его мягком кресле. Кресло некогда принадлежало какому-то сбежавшему фашистскому чиновнику, на его спинке был мастерски вырезан хищный германский орел.
Я просидел около часа и окончательно убедился в том, что призвания к канцелярской деятельности у меня нет. Всякие там «входящие», «исходящие» вызывали отчаянную, до боли в скулах зевоту. Но вот хлопнула дверь, и высокий подтянутый офицер отвлек меня от нудного дела.
— Вы комендант города?
Офицер носил майорские золотые погоны, видимо, приехал из тыла. Он был очень красив, выглядел весьма воинственно, возможно, оттого, что лихо, по-кавалерийски, закручивал пышные пшеничные усики. Но больше всего меня поразило обилие наград. Такого количества я ни у кого из простых смертных не видел.
У меня самого есть кое-что, у командира полка, где я когда-то служил, ордена занимали половину груди, но у этого лихого вояки не грудь, а целый иконостас, и главное — ни одной медали! Но офицеру было некогда вникать в мои душевные переливы.
— Вы что язык проглотили? А н-ну встать! Встать говорю! Смирно! Почему не приветствуете?
Я вскочил, вытянулся, но ливень грубых нравоучений не иссяк:
— Распустились, а еще комендатура!
— Товарищ майор, я не привык…
— А я не привык, чтобы меня перебивали. Этакая распущенность. Этакое безобразие, мальчишка!
— Я вас прошу…
— Что? Всякая тыловая вошь будет…
Это уж слишком. Я молча выдвинул ящик стола, вынул свой парабеллум, оттянул затвор, загоняя в ствол патрон. Майор стих. Остановился на полуслове.
— Еще одно слово и больше вам говорить не придется! — Майор прикинул, кто из нас быстрее может применить оружие, посмотрел на свою застегнутую кобуру, обмяк окончательно.
— Ты извини, старшой. Погорячился. Бывает. Зубы, понимаешь, замучили, беда с ними.
— Зубы?
— Болят проклятые, прибыл лечить в госпиталь, а медики говорят — флюс, и три дня загорать здесь придется. Эх, врачи, врачи. Да что я тебе толкую, ты (он посмотрел на мои нашивки — знаки ранений) не хуже меня знаешь эту публику.
Я вспомнил рыжего доктора, покачал головой. Майор превратился в простецкого парня, сыпал прибаутками, хлопал меня по плечу.
— Приятно, знаешь, своего фронтовичка встретить. Я думал здесь тыловой народец, а тут свои хлопцы. Да убери ты свою пушку. Вот. Порядок в танковых частях.
Майор поговорил еще немного, показал мне документы.
— Проверь, старшой, смотри внимательно, а вдруг я какой-нибудь шпион, — майор захохотал, натуженно закашлялся, схватился за щеку.
— Ох, опять заныли. А я, собственно, вот по какому вопросу: устрой с жильем — денька три придется все-таки здесь покантоваться. И как там ребята мои воюют? — душа болит.
Я устроил майора на квартиру, проводил его до решетчатой чугунной ограды. Перед уходом он внимательно осмотрел комендатуру, поблагодарил и, прощаясь, сказал:
— Ты, старшой, не сердись. Нервы, знаешь, всяко бывает, а вечерком давай двигай ко мне, выпьем по-гвардейски. Спиртяга есть — знаменитый зверобой.
Майор лихо козырнул, вскочил в «Виллис» и умчался.
Этот человек вскоре исчез из моей памяти, запомнилась только странная фамилия — Мартынято.
Днем я прошелся по городу. Был какой-то католический праздник, разодетые горожане толпились у костела, вздыхали. Я подошел ближе. Во дворе костела несколько человек, стоя на коленях, молились. Гудел орган, изнутри доносилось торжественное пение.
— Амен! — грозно произнес ксенз.
Два чистеньких мальчика вошли в толпу, размахивая кистями, разбрызгивали благовония. Я прислонился к ограде, слушал орган и смотрел по сторонам. По моим расчетам здесь должна быть Зося. Неожиданно вместо Зоси я увидел зеленый «Виллис». Он остановился в отдалении. Из машины выскочил майор, перешел улицу, посмотрел по сторонам и исчез в костеле.
— Вот так номер, — удивился я, — зачем он туда пошел, да еще с черного хода! Странно. И фамилия странная — Мартынято. Мартын-я-то, — Я усмехнулся.
Чьи-то мягкие ладони закрыли мне глаза. Зося! Конечно, это была она, милая панна Зося. В белом пышном платье, свежая, розовая, она напоминала спелую черешню после утренней росы.
— Вы прямо, как невеста. — Девушка покраснела и кокетливо улыбнулась.
— Я вам нравлюсь?
Я хотел ее обнять, но Зося отпрянула.
— Цо-вы, цо-вы, тутай дом пана бога, тутай не можно!
Она набожно перекрестилась по-католически — ладошкой.
Зося взяла меня под руку, мы вышли на площадь, в заросший высоким кустарником садик, сели на скамейку.
— А здесь можно?
Зося засмеялась, бросила осторожный взгляд на костел и крепко меня поцеловала. Тут же она отодвинулась.
— Смотрите, люди выходят из костела.
— Все кончилось?
— Так. Вшистко, вшистко.
Мы просидели около часа, нужно было уходить.
— Посидим еще?
— Не могу, Зосенька, дело есть.
Зося удивленно раскрыла глаза. Я рассмеялся, вспомнив, что «дело» по-польски означает «пушка».
Мы вышли на площадь. Зеленый «Виллис» по-прежнему сиротливо стоял на месте.
«Неужели майор еще в костеле, что он там делает? Богослужение давно кончилось и зачем ему вообще понадобилось туда идти?»
— Вот что Зосенька. У меня к тебе просьба. Выполнишь ее?
Зося молча кивнула.
— Пройди в костел, посмотри, что там делает русский офицер, с кем разговаривает. Если спросят, зачем вернулась, придумай что-нибудь, скажи, что потеряла кошелек…
— У меня никогда не было кошелька, — печально вздохнула Зося, — Ойтец бедный… бардзо бедный…
— Еще будет, — утешил я, — Иди, но помни, об этом никому ни слова.
— Ни слова, — эхом отозвалась Зося, — як бога кохам!
Я возвратился в садик и сквозь кусты стал наблюдать. Белая фигурка девушки утонула во мраке средневековой глыбы. Минут через десять Зося вышла обратно. Немного помолилась у каменного Христа за оградой и пошла по улице в гору.
Что такое? Я подождал немного, проскользнул в кусты, слегка раздвинул их. Зося прошла мимо меня и, не повернув головы, тихо, но внятно произнесла:
— Вечером в девять у бассейна.
Едва стало смеркаться, и я направился к бассейну. Он находился на «горе», так называли здесь высокий, утопавший в море зелени холм. Вершина его, плоская, как блин, служила спортплощадкой. Здесь, в серую скалу, врезали бассейн для плавания. Вода цвета бутылочного стекла была недвижима и отражала две ромашки, которые Зося прикрепила к волосам. Она задумчиво сидела на гранитной стенке бассейна, смотрела в воду. Я бросил камешек. Зося обернулась и просияла. Она быстро подошла ко мне, прижалась и положила голову на мой старенький выгоревший под солнцем погон.
— Уколешься, — улыбнулся я.
— О звездочки? Нет.
— Сама ты у меня звездочка…
Зося посмотрела мне прямо в глаза, я взглянул на глубокие озерки и увидел в них столько теплоты, радости и бесхитростного счастья, что забыл обо всем…
Коротки летние ночи. Еще на западе тлеет, угасая, вечерняя заря, а на востоке, далеко-далеко, край неба светлеет — рождается новый день.
Когда рассвело, я спросил Зосю:
— Да, Зосенька, что ты видела в костеле?
— А ниц такого, важного.
— Нет, ты расскажи.
— Пустяки. В костеле никого не было, только русский офицер и пан ксенз. Барзо ладный хлопак тен офицер.
— Понравился?
— Мне два нравиться не могут.
— Значит он понравился?
Зося игриво стукнула меня, разворошила чуб.
— Они разговаривали?
— Так пустяки, — повторила она, — разговаривали о кино.
— О кино? Что за чертовщина?
— Так, так о кино. Потом меня увидели, я и сказала насчет кошелька… как ты, Павлик, научил. Первый раз неправду мувила — это большой грех.
Проводив Зосю, я вернулся к себе. Стараясь не шуметь, прошел наверх, распахнул окно. На лавочке мирно сидел старшина с какой-то девушкой в пилотке. Стук рамы заставил его подпрыгнуть. Увидев меня, старшина смущенно прокашлялся. Я дружески помахал ему и, чтобы не смутить окончательно, захлопнул окно. Эх, старшина, старшина! Ты застеснялся своего командира, а он сам, знаешь чем сейчас будет заниматься? Стихи будет писать, вот до чего дошел!
Я немного писал. Стихи свои хранил в клеенчатой венгерской трофейной тетради. Это была тайна. И если бы я увидел свое клеенчатое сокровище в чужих руках, наверное, сгорел бы со стыда.
…Иной раз бывает сядешь — царапаешь, царапаешь, рифмуешь какие-нибудь там «дни» и «пни» — двух строк не напишешь. А иной раз… Эх, хорошо писать, когда найдет вдохновение. Перо само по бумаге бегает. И дело быстро двигается, и на душе приятно. Так вот и родились строки:
— poem-
..Вечером поздней порою
В воду упала луна,
Стала вода под луною
И голуба, и ясна.
Мы у бассейна мечтали,
Ты прижималась ко мне,
И потихоньку считали
Камешки-звезды на дне…
— poem-
Да, хорошая штука жизнь.
Я уснул под монотонное жужжание вражеского самолета, кружившегося в бездонной холодной голубизне. Бомбы не падали — очевидно, станция была пустынна.
рошло несколько дней. Поиски убийц лейтенанта Сибирцева были тщетны. Капитан ругался. Я деятельно ему помогал, — но дело не двигалось.
Свободное от работы время, хотя его было крайне мало, я уделял одной хорошенькой девушке, с которой недавно познакомился. Звали ее Зося. Это была та самая девушка, которая смотрела на нас с капитаном у костела. Я подружился с ней. Девушка понравилась мне сразу еще тогда, у костела. Кажется, у опытных людей это и называется любовью с первого взгляда. Не знаю, может быть. Во всяком случае мне трудно об этом судить, так как раньше со мной ничего подобного не бывало.
Просто я хотел быть все время с Зосей вместе, видеть ее синие, чистые глаза, милую улыбку, слышать приятный голосок, мягко выговаривающий трудные русские слога. Просто я часто думал о ней, мечтал сделать для нее что-то необычайное, отчаянно героическое, просто я все свободное время уделял ей, вот и все. Может быть, это и есть любовь.
Вечером после инструктажа патрулей я попрощался с капитаном и пошел к Зосе. Город, казалось, вымер. Я шел через бульвар к костелу. От клумб поднимался дурманящий запах ночного цветка табака. Украдкой оглянувшись, я присел к клумбе и нарвал букетик цветов. Мысленно я поругивал себя. Ну разве можно коменданту, лицу, на которое возложена ответственность за город и его обитателей, так некрасиво поступать? Цветы тоже народная собственность. Совесть погрызла меня — я выставил «оправдание». Не могу же я прийти к девушке без цветов, а купить негде.
Зося ждала у костела. Под луной ее голубое платье казалось совсем воздушным, прозрачным. Она прикрепила белую звездочку табака к волосам, и мы медленно пошли по пустынному городку.
— Вы знаете, пан лейтенант, я нарушаю постановление пана коменданта, — кокетливо улыбнулась Зося.
— Во-первых, я не пан, во-вторых, у меня есть имя, а в-третьих, какое еще постановление?
— А то, где запрещается цивильным ночью ходить по городу.
— Ничего, панна Зося. Я разрешаю.
Мы рассмеялись.
Зося взяла мою фуражку и растрепала мне волосы. Я посмотрел ей прямо в глаза.
— Зося, — что-то замерло в груди, — Зося! — Я перевел дыхание. — Я хочу вам сказать.
— Цо?
Я смутился. Я хотел сказать Зосе то, что никогда и никому еще не говорил, а первый раз должно быть это очень трудно.
За городом захлопали зенитки. Послышалось нудное порывистое гудение одиночных самолетов.
— Зося, я хочу сказать вам…
Где-то ухнуло, дрогнула от ударов земля.
— Зося…
Что нам ворчанье зениток, что свист бомб, завывание пикировщиков. Передо мной — два глубоких озерка, а в них дрожат лунные блики… Это глаза Зоси. Ничего и никого вокруг нет. Существует только она, только она одна — больше ничего и не надо.
Проснулся я часов в десять. В окно врывался начальственный бас. Умывшись, я спустился вниз и вышел во двор. У кирпичной стены выстроились солдаты, перед ними расхаживал старшина, распекая нерадивых за разные проступки. Увидев меня, он оглушительно скомандовал:
— Смиррр-на!
— Вольно! Где капитан?
— Уехал на станцию, — коротко доложил старшина, — ее ночью бомбанули.
Я пошел завтракать. Вскоре к моему столу подошел запыленный с шоферскими очками на фуражке Степанов.
— Сиди, сиди, — добродушно заговорил он, — питайся.
— Вы были на станции?
— Был. Бомбили ее ночью. Паровоз подбит. Есть повреждения на линии.
Капитан рассеянно отхлебнул чаю, откусил кусок галеты.
— Странное дело, понимаешь, — задумчиво проговорил он. — Если на станции нет эшелонов, то бомбежки в эту ночь не бывает. Стоит только появиться поезду — жди гостей.
— Н-да. Противник поразительно догадлив.
— Догадливость подозрительная.
— Пожалуй, так. Я тоже думаю — следят подлецы.
— А если рация?
Капитан посмотрел на меня в упор.
— Верно земляк. Она. Ну погодите братцы-кролики. Мы вас запеленгуем.
— Дежурный! — крикнул капитан, — старшину ко мне. Живо!
Прибежал запыхавшийся старшина.
— Гусаров, слетай на мотоцикле к соседям. Записку передашь подполковнику Горбатову.
В двенадцати километрах от города стояла танковая бригада. К вечеру старшина приехал в сопровождении машины.
— Приехали ловцы чужих раций, — улыбнулся капитан. — Скоро пойдем на охоту.
Вечером мы готовились к «охоте». Радисты-пеленгаторы возились со своей сложной аппаратурой. Капитан разрабатывал план прочески, я инструктировал отобранных для ночной операции солдат. Цель ее их очень удивила. Лобастый Малоличко никак не мог примириться с мыслью, что где-то в городе, может быть, совсем рядом, прячется ловкий, хитрый, коварный враг, который в любой момент может нанести удар в спину.
Когда стемнело, ко мне подошел взволнованный старшина.
— Как же так, товарищ старший лейтенант. Почему меня не берете?
— Останешься, старшина, в комендатуре.
Старшина вздохнул, покрутил чубатой головой.
— Жаль, хотелось бы пойти с вами.
Ночью мы обшарили весь город, исходили его из конца в конец — рации не было. Капитан ворчал на пеленгаторов, те тормошили свою премудрую установку — толку не было.
Под утро прилетел самолет, спокойно сбросил груз на пути; только чудом уцелел подошедший эшелон с боеприпасами. Капитан рвал и метал.
В эту ночь мы так и не ложились. Три ночи подряд крутились мы в районе станции, но рации так и не нашли. Две ночи, правда, выдались спокойные. Фашистские бомбардировщики пролетали над станцией два-три раза за ночь, но не бомбили — как будто знали, что станция пуста. Вечером третьего дня на станции остановился эшелон с продовольствием и обмундированием. В ту же ночь от него полетели щепки, а привокзальная часть города оказалась завалена консервными банками, выброшенными силой взрыва. Капитан неистовствовал, вытребовал других пеленгаторов, с другим аппаратом, а толку не было.
— Ты подумай, — горячился он за обедом, — как только станция пустынна — они летают, но не бомбят, стоит прибыть эшелону — летят гостинцы. Черт знает что!
Я и сам ломал голову над загадочными бомбежками и решил во что бы то ни стало разгадать эту фашистскую загадку. Прошло еще несколько дней, настолько напряженных, что они показались минутами.
Как-то утром я сидел в комнате капитана, приводя в порядок нашу канцелярию. Сам Степанов был в городе, поэтому я с удобством развалился в его мягком кресле. Кресло некогда принадлежало какому-то сбежавшему фашистскому чиновнику, на его спинке был мастерски вырезан хищный германский орел.
Я просидел около часа и окончательно убедился в том, что призвания к канцелярской деятельности у меня нет. Всякие там «входящие», «исходящие» вызывали отчаянную, до боли в скулах зевоту. Но вот хлопнула дверь, и высокий подтянутый офицер отвлек меня от нудного дела.
— Вы комендант города?
Офицер носил майорские золотые погоны, видимо, приехал из тыла. Он был очень красив, выглядел весьма воинственно, возможно, оттого, что лихо, по-кавалерийски, закручивал пышные пшеничные усики. Но больше всего меня поразило обилие наград. Такого количества я ни у кого из простых смертных не видел.
У меня самого есть кое-что, у командира полка, где я когда-то служил, ордена занимали половину груди, но у этого лихого вояки не грудь, а целый иконостас, и главное — ни одной медали! Но офицеру было некогда вникать в мои душевные переливы.
— Вы что язык проглотили? А н-ну встать! Встать говорю! Смирно! Почему не приветствуете?
Я вскочил, вытянулся, но ливень грубых нравоучений не иссяк:
— Распустились, а еще комендатура!
— Товарищ майор, я не привык…
— А я не привык, чтобы меня перебивали. Этакая распущенность. Этакое безобразие, мальчишка!
— Я вас прошу…
— Что? Всякая тыловая вошь будет…
Это уж слишком. Я молча выдвинул ящик стола, вынул свой парабеллум, оттянул затвор, загоняя в ствол патрон. Майор стих. Остановился на полуслове.
— Еще одно слово и больше вам говорить не придется! — Майор прикинул, кто из нас быстрее может применить оружие, посмотрел на свою застегнутую кобуру, обмяк окончательно.
— Ты извини, старшой. Погорячился. Бывает. Зубы, понимаешь, замучили, беда с ними.
— Зубы?
— Болят проклятые, прибыл лечить в госпиталь, а медики говорят — флюс, и три дня загорать здесь придется. Эх, врачи, врачи. Да что я тебе толкую, ты (он посмотрел на мои нашивки — знаки ранений) не хуже меня знаешь эту публику.
Я вспомнил рыжего доктора, покачал головой. Майор превратился в простецкого парня, сыпал прибаутками, хлопал меня по плечу.
— Приятно, знаешь, своего фронтовичка встретить. Я думал здесь тыловой народец, а тут свои хлопцы. Да убери ты свою пушку. Вот. Порядок в танковых частях.
Майор поговорил еще немного, показал мне документы.
— Проверь, старшой, смотри внимательно, а вдруг я какой-нибудь шпион, — майор захохотал, натуженно закашлялся, схватился за щеку.
— Ох, опять заныли. А я, собственно, вот по какому вопросу: устрой с жильем — денька три придется все-таки здесь покантоваться. И как там ребята мои воюют? — душа болит.
Я устроил майора на квартиру, проводил его до решетчатой чугунной ограды. Перед уходом он внимательно осмотрел комендатуру, поблагодарил и, прощаясь, сказал:
— Ты, старшой, не сердись. Нервы, знаешь, всяко бывает, а вечерком давай двигай ко мне, выпьем по-гвардейски. Спиртяга есть — знаменитый зверобой.
Майор лихо козырнул, вскочил в «Виллис» и умчался.
Этот человек вскоре исчез из моей памяти, запомнилась только странная фамилия — Мартынято.
Днем я прошелся по городу. Был какой-то католический праздник, разодетые горожане толпились у костела, вздыхали. Я подошел ближе. Во дворе костела несколько человек, стоя на коленях, молились. Гудел орган, изнутри доносилось торжественное пение.
— Амен! — грозно произнес ксенз.
Два чистеньких мальчика вошли в толпу, размахивая кистями, разбрызгивали благовония. Я прислонился к ограде, слушал орган и смотрел по сторонам. По моим расчетам здесь должна быть Зося. Неожиданно вместо Зоси я увидел зеленый «Виллис». Он остановился в отдалении. Из машины выскочил майор, перешел улицу, посмотрел по сторонам и исчез в костеле.
— Вот так номер, — удивился я, — зачем он туда пошел, да еще с черного хода! Странно. И фамилия странная — Мартынято. Мартын-я-то, — Я усмехнулся.
Чьи-то мягкие ладони закрыли мне глаза. Зося! Конечно, это была она, милая панна Зося. В белом пышном платье, свежая, розовая, она напоминала спелую черешню после утренней росы.
— Вы прямо, как невеста. — Девушка покраснела и кокетливо улыбнулась.
— Я вам нравлюсь?
Я хотел ее обнять, но Зося отпрянула.
— Цо-вы, цо-вы, тутай дом пана бога, тутай не можно!
Она набожно перекрестилась по-католически — ладошкой.
Зося взяла меня под руку, мы вышли на площадь, в заросший высоким кустарником садик, сели на скамейку.
— А здесь можно?
Зося засмеялась, бросила осторожный взгляд на костел и крепко меня поцеловала. Тут же она отодвинулась.
— Смотрите, люди выходят из костела.
— Все кончилось?
— Так. Вшистко, вшистко.
Мы просидели около часа, нужно было уходить.
— Посидим еще?
— Не могу, Зосенька, дело есть.
Зося удивленно раскрыла глаза. Я рассмеялся, вспомнив, что «дело» по-польски означает «пушка».
Мы вышли на площадь. Зеленый «Виллис» по-прежнему сиротливо стоял на месте.
«Неужели майор еще в костеле, что он там делает? Богослужение давно кончилось и зачем ему вообще понадобилось туда идти?»
— Вот что Зосенька. У меня к тебе просьба. Выполнишь ее?
Зося молча кивнула.
— Пройди в костел, посмотри, что там делает русский офицер, с кем разговаривает. Если спросят, зачем вернулась, придумай что-нибудь, скажи, что потеряла кошелек…
— У меня никогда не было кошелька, — печально вздохнула Зося, — Ойтец бедный… бардзо бедный…
— Еще будет, — утешил я, — Иди, но помни, об этом никому ни слова.
— Ни слова, — эхом отозвалась Зося, — як бога кохам!
Я возвратился в садик и сквозь кусты стал наблюдать. Белая фигурка девушки утонула во мраке средневековой глыбы. Минут через десять Зося вышла обратно. Немного помолилась у каменного Христа за оградой и пошла по улице в гору.
Что такое? Я подождал немного, проскользнул в кусты, слегка раздвинул их. Зося прошла мимо меня и, не повернув головы, тихо, но внятно произнесла:
— Вечером в девять у бассейна.
Едва стало смеркаться, и я направился к бассейну. Он находился на «горе», так называли здесь высокий, утопавший в море зелени холм. Вершина его, плоская, как блин, служила спортплощадкой. Здесь, в серую скалу, врезали бассейн для плавания. Вода цвета бутылочного стекла была недвижима и отражала две ромашки, которые Зося прикрепила к волосам. Она задумчиво сидела на гранитной стенке бассейна, смотрела в воду. Я бросил камешек. Зося обернулась и просияла. Она быстро подошла ко мне, прижалась и положила голову на мой старенький выгоревший под солнцем погон.
— Уколешься, — улыбнулся я.
— О звездочки? Нет.
— Сама ты у меня звездочка…
Зося посмотрела мне прямо в глаза, я взглянул на глубокие озерки и увидел в них столько теплоты, радости и бесхитростного счастья, что забыл обо всем…
Коротки летние ночи. Еще на западе тлеет, угасая, вечерняя заря, а на востоке, далеко-далеко, край неба светлеет — рождается новый день.
Когда рассвело, я спросил Зосю:
— Да, Зосенька, что ты видела в костеле?
— А ниц такого, важного.
— Нет, ты расскажи.
— Пустяки. В костеле никого не было, только русский офицер и пан ксенз. Барзо ладный хлопак тен офицер.
— Понравился?
— Мне два нравиться не могут.
— Значит он понравился?
Зося игриво стукнула меня, разворошила чуб.
— Они разговаривали?
— Так пустяки, — повторила она, — разговаривали о кино.
— О кино? Что за чертовщина?
— Так, так о кино. Потом меня увидели, я и сказала насчет кошелька… как ты, Павлик, научил. Первый раз неправду мувила — это большой грех.
Проводив Зосю, я вернулся к себе. Стараясь не шуметь, прошел наверх, распахнул окно. На лавочке мирно сидел старшина с какой-то девушкой в пилотке. Стук рамы заставил его подпрыгнуть. Увидев меня, старшина смущенно прокашлялся. Я дружески помахал ему и, чтобы не смутить окончательно, захлопнул окно. Эх, старшина, старшина! Ты застеснялся своего командира, а он сам, знаешь чем сейчас будет заниматься? Стихи будет писать, вот до чего дошел!
Я немного писал. Стихи свои хранил в клеенчатой венгерской трофейной тетради. Это была тайна. И если бы я увидел свое клеенчатое сокровище в чужих руках, наверное, сгорел бы со стыда.
…Иной раз бывает сядешь — царапаешь, царапаешь, рифмуешь какие-нибудь там «дни» и «пни» — двух строк не напишешь. А иной раз… Эх, хорошо писать, когда найдет вдохновение. Перо само по бумаге бегает. И дело быстро двигается, и на душе приятно. Так вот и родились строки:
— poem-
..Вечером поздней порою
В воду упала луна,
Стала вода под луною
И голуба, и ясна.
Мы у бассейна мечтали,
Ты прижималась ко мне,
И потихоньку считали
Камешки-звезды на дне…
— poem-
Да, хорошая штука жизнь.
Я уснул под монотонное жужжание вражеского самолета, кружившегося в бездонной холодной голубизне. Бомбы не падали — очевидно, станция была пустынна.
III
 тром за завтраком я откровенно позевывал, капитан мирно бурчал что-то о влиянии войны на юнцов в военной форме.
— Вижу, что не спали, батенька. Нехорошо, ночью спать надо. Вот с кого берите пример — тоже молод, а свеж, как огурчик, — и показал на чистенького, причесанного, перекрещенного ремнями старшину.
Старшина принял это как должное, незаметно лукавоподмигнул.
Старшина был парень дошлый. Я погасил улыбку.
Сначала я хотел посоветоваться со Степановым насчет майора с орденами и его загадочной встречи с ксендзом в костеле. Но потом решил не делать скоропалительных выводов и поработать над этой проблемой самому.
Я вышел в город и медленно побрел по улице. Ноги сами несли меня к костелу, почему — я даже ясного отчета дать себе не мог. У каменного столба решетчатой ограды я присел на тумбу и осмотрелся — улица была пустынна. Послышались легкие шаги, рядом кто-то робко произнес по-немецки.
— Добрый день, господин офицер.
— А, Петер, здравствуй, камрад, как дела? — Мальчик был одет по-рабочему, из кармана спецовки торчал моток проволоки.
— С работы иду, — пояснил Петер, — пообедать, мама, наверное, заждалась.
— Где же ты работаешь?
— На станции электромонтером и на маслозаводе, вот уже два года, с тех пор как отца…
— А отец погиб на фронте?
— Нет. Он работал машинистом, ночью гестаповцы вошли к нам, арестовали отца и увели. Он пробыл в тюрьме шесть дней… потом умер от воспаления мозга — так они сказали… Гроб нам выдали, но открывать не велели… Отец никогда не болел…
Я положил Петеру руку на плечо.
— Мужайся, парень. Крепись. Старайся быть достойным отца. Ну, давай лапу.
Петер улыбнулся, потряс мне руку обеими руками, но вдруг насторожился.
— Я побегу, вон мой шеф идет.
— Какой еше шеф?
— Начальник станции Генрих Вальтер. Молиться идет.
Вдалеке шагал длинноногий человек. Он быстро приближался. Железнодорожная форменная фуражка с огромным козырьком скрывала полное, бледное лицо.
— Почему ты думаешь, молиться?
— Он часто ходит — очень набожный.
Петер еще раз тряхнул мне руку и исчез.
Железнодорожник снял фуражку, пригладил белесые волосы и прошел в костел. К моему удивлению, он даже не склонился перед распятием у входа. Вот так набожный человек, а, впрочем, я не знаток религиозных ритуалов. Может, так и надо.
Я собрался уходить. Еще раз окинул взглядом безмолвный костел и медленно двинулся вдоль ограды. У последнего столба сидел на складном стульчике слепец, рядом стояла баночка для подаяния. Я опустил в нее несколько монет и едва не вскрикнул от удивления. Баночка находилась у самого серого каменного столба, а на его гладкой поверхности была нацарапана солдатская каска, точно такая, какая была в записной книжке Сибирцева.
Я еще раз всмотрелся — сомнений быть не могло. Что же это значит?
Вечером я поделился своими соображениями с капитаном, он отнесся к этому скептически.
— А чепуха, шпиономания, всюду вам они чудятся, а впрочем, — он, видимо, подумал о смерти Сибирцева, — скоро приедет на место лейтенанта человек, он во всем разберется.
— Пока солнце взойдет, роса очи выест, но я попытаюсь сам разобраться…
— Попытка не пытка, — отозвался капитан, — действуйте, только без мальчишеских причуд.
Я покраснел, вспомнив ночевку в комнате Сибирцева. Я рассказал Степанову о майоре с орденами и его поведении в костеле. Капитан выслушал меня внимательно, затем спустился вниз к дежурному и возвратился с книгой регистрации.
— Сделаем запрос в штаб армии.
— Какой запрос?
— Об этом майоре. Кто он, что он, где родился, зачем родился.
Капитан улыбнулся, но глаза его выдавали волнение.
Мы написали запрос о майоре Мартынято Викторе Ивановиче, прибывшем на излечение из в. ч. 33875 в. Эти сведения были взяты из регистрационной книги. Я отстукал запрос одним пальцем на машинке, с согласия капитана взял старшину и поехал в штаб армии. Старшина вел машину, как заправский гонщик. Всю дорогу он гнал на предельной скорости, и сидевший сзади Саша Малоличко осторожно покряхтывал — видимо, не по душе пришлась солдату такая езда. Расстояние до штаба армии мы покрыли часа за полтора. Старшина поставил машину в тень, закурил и предложил Саше — тот покачал головой.
— Да ведь ты у нас праведник — не пьешь, не куришь…
Саша усмехнулся, а старшина подошел ко мне и спросил.
— Товарищ старший лейтенант, а зачем мы сюда приехали?
— Нужно навести справки об одном человеке…
В штабе армии меня направили в один из отделов к подполковнику Васину. Подполковник хмурый, желчный, небрежно одетый разговаривал со мной неохотно (он отдыхал и адъютанту пришлось его разбудить). Молча подполковник прочитал запрос — порылся в каких-то, ящиках, выдвинул ящичек, похожий на библиотечный каталог, покопался в нем и, позевывая, буркнул:
— Город К. площадь Геринга.
Встретив мой недоумевающий взгляд, он объяснил, как проехать в город и разыскать площадь. Такое «пояснение» ясности не внесло. Я злился, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Подполковник удивленно взметнул брови.
— Вы меня поняли?
Я окончательно разозлился.
— Не совсем. Что ж этот майор на площади Геринга делает? Он там служит или ему памятник стоит?
Подполковник спокойно посмотрел на меня, почесал за ухом, медленно достал папиросу и закурил.
— Угум, — пыхая табачным дымом, выдохнул подполковник. — Памятник и есть… — Он еще раз затянулся. — Только небольшой, скромный. Сам видел.
— Если вы намерены шутить…
— Какие шутки, — рассердился подполковник, — Мартынято похоронен там, битый час вам толкую.
— Похоронен! — чуть не заорал я. — Не может быть?!
Подполковник пожал плечами и вышел.
На улице меня встретил старшина.
— Ну как, порядочек? — Я кивнул.
Мы сели в машину. Саша откуда-то приволок молоко, старшина распечатал пачку галет, вытащил из полевой сумки толстую плитку шоколада.
— Голландский, трофейный, Гитлер всю Европу ободрал.
Прихлебывая холодное молоко из пластмассового черного стаканчика, я обдумывал слова подполковника. Старшина ораторствовал. Обычно лаконичный, он стал странно разговорчив и заспорил с Сашей о Гитлере — куда он будет удирать. Саша считал, что в Испанию. Старшина не соглашался.
— В Африку он драпанет, вот увидишь. Ему врачи цвет кожи изменят и будет он, как папуас.
— Как же, будет, — лениво тянул Саша, — папуасы ему вмиг харакири сделают. Ось побачишь.
Холодное молоко было очень вкусным, но ощутимо отдавало чем-то едким. Принюхавшись, я понял, что во фляге минут десять назад было нечто более крепкое. Вот чем объяснялась невиданная разговорчивость старшины.
— Ну, ребята, поехали.
— До дому, до хаты?
— Нет. В город К., на площадь Геринга.
— Зачем? — удивились мои спутники.
— Дело есть. Нужно.
В город К. мы влетели с ракетной скоростью. Старшина лихо миновал КПП, помахав девушке-постовому у шлагбаума. Машина остановилась на площади у готического стиля здания городской ратуши. Это и была площадь Геринга, как нам сообщил старый поляк в выгоревшей, порыжелой конфедератке.
— О-то, о-то, проше пана, туварища — плац Геринга, пся его мама.
Перед ратушей бугрились небольшие черные прямоугольники, обсаженные цветами. В центре помещался обелиск с металлической красной звездочкой на верхушке. Это были могилы наших братьев, павших в боях за Советскую Родину, за освобождение народов от фашистского кошмара.
Я подошел к памятникам. Вечернее солнце золотило вырезанные в камне буквы. Я снял фуражку. Подошел притихший старшина и снизил голос до шепота:
— У вас тут кто-нибудь лежит. Родич или друг?
Я покачал головой и подумал о том, что все эти похороненные здесь люди были когда-то мне близки и дороги — так много общего нас объединяло.
Я подошел к центральному обелиску и увидел то, что искал. На черном мраморе горели буквы:
тром за завтраком я откровенно позевывал, капитан мирно бурчал что-то о влиянии войны на юнцов в военной форме.
— Вижу, что не спали, батенька. Нехорошо, ночью спать надо. Вот с кого берите пример — тоже молод, а свеж, как огурчик, — и показал на чистенького, причесанного, перекрещенного ремнями старшину.
Старшина принял это как должное, незаметно лукавоподмигнул.
Старшина был парень дошлый. Я погасил улыбку.
Сначала я хотел посоветоваться со Степановым насчет майора с орденами и его загадочной встречи с ксендзом в костеле. Но потом решил не делать скоропалительных выводов и поработать над этой проблемой самому.
Я вышел в город и медленно побрел по улице. Ноги сами несли меня к костелу, почему — я даже ясного отчета дать себе не мог. У каменного столба решетчатой ограды я присел на тумбу и осмотрелся — улица была пустынна. Послышались легкие шаги, рядом кто-то робко произнес по-немецки.
— Добрый день, господин офицер.
— А, Петер, здравствуй, камрад, как дела? — Мальчик был одет по-рабочему, из кармана спецовки торчал моток проволоки.
— С работы иду, — пояснил Петер, — пообедать, мама, наверное, заждалась.
— Где же ты работаешь?
— На станции электромонтером и на маслозаводе, вот уже два года, с тех пор как отца…
— А отец погиб на фронте?
— Нет. Он работал машинистом, ночью гестаповцы вошли к нам, арестовали отца и увели. Он пробыл в тюрьме шесть дней… потом умер от воспаления мозга — так они сказали… Гроб нам выдали, но открывать не велели… Отец никогда не болел…
Я положил Петеру руку на плечо.
— Мужайся, парень. Крепись. Старайся быть достойным отца. Ну, давай лапу.
Петер улыбнулся, потряс мне руку обеими руками, но вдруг насторожился.
— Я побегу, вон мой шеф идет.
— Какой еше шеф?
— Начальник станции Генрих Вальтер. Молиться идет.
Вдалеке шагал длинноногий человек. Он быстро приближался. Железнодорожная форменная фуражка с огромным козырьком скрывала полное, бледное лицо.
— Почему ты думаешь, молиться?
— Он часто ходит — очень набожный.
Петер еще раз тряхнул мне руку и исчез.
Железнодорожник снял фуражку, пригладил белесые волосы и прошел в костел. К моему удивлению, он даже не склонился перед распятием у входа. Вот так набожный человек, а, впрочем, я не знаток религиозных ритуалов. Может, так и надо.
Я собрался уходить. Еще раз окинул взглядом безмолвный костел и медленно двинулся вдоль ограды. У последнего столба сидел на складном стульчике слепец, рядом стояла баночка для подаяния. Я опустил в нее несколько монет и едва не вскрикнул от удивления. Баночка находилась у самого серого каменного столба, а на его гладкой поверхности была нацарапана солдатская каска, точно такая, какая была в записной книжке Сибирцева.
Я еще раз всмотрелся — сомнений быть не могло. Что же это значит?
Вечером я поделился своими соображениями с капитаном, он отнесся к этому скептически.
— А чепуха, шпиономания, всюду вам они чудятся, а впрочем, — он, видимо, подумал о смерти Сибирцева, — скоро приедет на место лейтенанта человек, он во всем разберется.
— Пока солнце взойдет, роса очи выест, но я попытаюсь сам разобраться…
— Попытка не пытка, — отозвался капитан, — действуйте, только без мальчишеских причуд.
Я покраснел, вспомнив ночевку в комнате Сибирцева. Я рассказал Степанову о майоре с орденами и его поведении в костеле. Капитан выслушал меня внимательно, затем спустился вниз к дежурному и возвратился с книгой регистрации.
— Сделаем запрос в штаб армии.
— Какой запрос?
— Об этом майоре. Кто он, что он, где родился, зачем родился.
Капитан улыбнулся, но глаза его выдавали волнение.
Мы написали запрос о майоре Мартынято Викторе Ивановиче, прибывшем на излечение из в. ч. 33875 в. Эти сведения были взяты из регистрационной книги. Я отстукал запрос одним пальцем на машинке, с согласия капитана взял старшину и поехал в штаб армии. Старшина вел машину, как заправский гонщик. Всю дорогу он гнал на предельной скорости, и сидевший сзади Саша Малоличко осторожно покряхтывал — видимо, не по душе пришлась солдату такая езда. Расстояние до штаба армии мы покрыли часа за полтора. Старшина поставил машину в тень, закурил и предложил Саше — тот покачал головой.
— Да ведь ты у нас праведник — не пьешь, не куришь…
Саша усмехнулся, а старшина подошел ко мне и спросил.
— Товарищ старший лейтенант, а зачем мы сюда приехали?
— Нужно навести справки об одном человеке…
В штабе армии меня направили в один из отделов к подполковнику Васину. Подполковник хмурый, желчный, небрежно одетый разговаривал со мной неохотно (он отдыхал и адъютанту пришлось его разбудить). Молча подполковник прочитал запрос — порылся в каких-то, ящиках, выдвинул ящичек, похожий на библиотечный каталог, покопался в нем и, позевывая, буркнул:
— Город К. площадь Геринга.
Встретив мой недоумевающий взгляд, он объяснил, как проехать в город и разыскать площадь. Такое «пояснение» ясности не внесло. Я злился, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Подполковник удивленно взметнул брови.
— Вы меня поняли?
Я окончательно разозлился.
— Не совсем. Что ж этот майор на площади Геринга делает? Он там служит или ему памятник стоит?
Подполковник спокойно посмотрел на меня, почесал за ухом, медленно достал папиросу и закурил.
— Угум, — пыхая табачным дымом, выдохнул подполковник. — Памятник и есть… — Он еще раз затянулся. — Только небольшой, скромный. Сам видел.
— Если вы намерены шутить…
— Какие шутки, — рассердился подполковник, — Мартынято похоронен там, битый час вам толкую.
— Похоронен! — чуть не заорал я. — Не может быть?!
Подполковник пожал плечами и вышел.
На улице меня встретил старшина.
— Ну как, порядочек? — Я кивнул.
Мы сели в машину. Саша откуда-то приволок молоко, старшина распечатал пачку галет, вытащил из полевой сумки толстую плитку шоколада.
— Голландский, трофейный, Гитлер всю Европу ободрал.
Прихлебывая холодное молоко из пластмассового черного стаканчика, я обдумывал слова подполковника. Старшина ораторствовал. Обычно лаконичный, он стал странно разговорчив и заспорил с Сашей о Гитлере — куда он будет удирать. Саша считал, что в Испанию. Старшина не соглашался.
— В Африку он драпанет, вот увидишь. Ему врачи цвет кожи изменят и будет он, как папуас.
— Как же, будет, — лениво тянул Саша, — папуасы ему вмиг харакири сделают. Ось побачишь.
Холодное молоко было очень вкусным, но ощутимо отдавало чем-то едким. Принюхавшись, я понял, что во фляге минут десять назад было нечто более крепкое. Вот чем объяснялась невиданная разговорчивость старшины.
— Ну, ребята, поехали.
— До дому, до хаты?
— Нет. В город К., на площадь Геринга.
— Зачем? — удивились мои спутники.
— Дело есть. Нужно.
В город К. мы влетели с ракетной скоростью. Старшина лихо миновал КПП, помахав девушке-постовому у шлагбаума. Машина остановилась на площади у готического стиля здания городской ратуши. Это и была площадь Геринга, как нам сообщил старый поляк в выгоревшей, порыжелой конфедератке.
— О-то, о-то, проше пана, туварища — плац Геринга, пся его мама.
Перед ратушей бугрились небольшие черные прямоугольники, обсаженные цветами. В центре помещался обелиск с металлической красной звездочкой на верхушке. Это были могилы наших братьев, павших в боях за Советскую Родину, за освобождение народов от фашистского кошмара.
Я подошел к памятникам. Вечернее солнце золотило вырезанные в камне буквы. Я снял фуражку. Подошел притихший старшина и снизил голос до шепота:
— У вас тут кто-нибудь лежит. Родич или друг?
Я покачал головой и подумал о том, что все эти похороненные здесь люди были когда-то мне близки и дороги — так много общего нас объединяло.
Я подошел к центральному обелиску и увидел то, что искал. На черном мраморе горели буквы:
Гвардии майор Мартынято Виктор Иванович,
уроженец г. Киева.
Зверски замучен фашистскими палачами.
Вечная слава героям, павшим в боях за Родину.
5.10.1910 г.–19.4.1944 г.
В верхней части обелиска, в белом фарфоровом диске, помещался портрет худощавого смуглого человека с доброй улыбкой и детски-наивным взглядом. — Не тот! Ничего общего с тем майором! Ах, сволочь! Ну погоди. Тут же около могил я рассказал ребятам все, предварительно взяв с них обещание молчать. — Слово коммуниста! — громыхнул старшина, пожимая мне руку. — Честное комсомольское, — взволнованно проговорил Малоличко и зачем-то добавил, — может билет показать? Мы посовещались. Решено было навести справки у местных властей о похороненном майоре. Уже затемно нам удалось выяснить, что майор Мартынято, тяжело раненный в бою, попал в плен. Его пытали целые сутки, затем за полчаса до освобождения города расстреляли в городской тюрьме. Теперь стало ясно, что немцы снабдили документами погибшего советского офицера своего разведчика и перебросили его на соседний участок фронта для подрывной работы. Скорее назад! Мы помчались по кривым уличкам спящего города. Около двух часов ночи случилось несчастье — спустил правый задний скат. Запасного баллона не оказалось, и мы провозились с починкой до самого утра. Роса на придорожной траве уже блестела от солнечных лучей, когда машина въехала в городок. Старшина погудел перед воротами, их распахнули, машина вернулась домой. Капитан уже был на ногах, он выглядел утомленным. Бледный, небритый, он разговаривал с незнакомым военврачом, поодаль сидели какие-то офицеры. Один из них, с перевязанной рукой, показался мне знакомым. — Садись. Мой помощник старший лейтенант Курганов, — отрекомендовал капитан. — Старый знакомый, — дружелюбно протянул раненый офицер, — и тут только я угадал в нем нашего госпитального замполита, или «комиссара», как мы его называли. — Что ж так плохо работаешь! В комнату стремительно вошел младший лейтенант медик в сопровождении солдата. — Товарищ начальник госпиталя, — обратился он к подполковнику, беседующему с капитаном, — ефрейтор Захаров доставлен по вашему приказанию. Все встали и подошли к солдату. Я ничего не понимал. — Ты стоял дежурным у клуба? — Так точно, товарищ капитан. — Кого-нибудь из посторонних пропускал? — Никак нет, товарищ капитан. Не пропускал. — А из гражданских? Может, девчонку какую? — Никак нет… Пока капитан допрашивал дежурного, политрук рассказал мне следующее. В тот самый вечер, когда я со старшиной и Сашей Малоличко рыскали по площади Геринга в городе К., в госпитале 4584 произошло вот что. В помещении клуба демонстрировали кинофильм. Собралось много народу — легкораненые, выздоравливающие, врачи, сестры. Веселая комедия подходила к благополучному концу, когда в раскрытое окно была брошена противотанковая граната… Политрук перечислял количество убитых, тяжело и легко раненных (этих было особенно много), но я почти не слушал его. — Поймали его? — Кого? — Да гранатчика?.. — В том-то и дело, что нет. Чего захотел. Он уже, наверное, километров за 50 шнапс попивает. Поймаешь их, черта с два. Капитан устало отвалился от дежурного, видимо, ничего не добившись. Я подошел к нему. — Вы где дежурили? — Та у клуба ж, — заныл солдат, — истинный бог никого посторонних, ну не единого. — Товарищ капитан, — обратился я к Степанову, — нужно вызвать часового, который стоял у госпитальных ворот. Минут через двадцать тот же младший лейтенант привез с собой стройного чернявого сержанта. — Сержант Донцов. Прибыл по вашему приказанию. — Это по его приказанию, — врач-подполковник указал на капитана. Капитан начал доставать бумагу, чернила, долго возился в полевой сумке. Я не выдержал. — Вы стояли часовым вчера вечером у госпиталя? — Так точно, я. — Подозрительных людей не замечали, в кино никто не проходил? — Не замечал подозрительных. Посторонних тоже не было. — Ну вот, — раздраженно бросил капитан, — не дух же святой швырнул гранату в кино… В кино. В кино… Ослепительной короткой молнией ударила мысль. Вспомнились слова Зоси: «Они говорили о кино»… Я вскочил. — Стойте. Все удивленно посмотрели на меня. — А ксендз случайно не проходил? — Ксендз, — вытаращил глаза сержант, — то ись польский поп? — Он ожесточенно потряс головой. — Обождите, а майор усатый не проходил? Сержант задумался. — Вроде был усатый. Точно был. В офицерской плащ-накидке. Такой представительный. Только это наш офицер, товарищ старший лейтенант. Я его еще днем видел у зубного врача… — Он? — капитан сорвался с места. — За мной… — Стойте! — я подошел к Степанову. — Как бы не спугнуть! События разворачивались с молниеносной быстротой. Мы разослали почти всех солдат комендатуры в качестве городских патрулей, сообщив им предварительно приметы усатого майора. Сам капитан, я, старшина и четверо солдат, приняв меры предосторожности, приблизились к дому, где поселился майор. Было решено, что я приду к нему как гость, воспользовавшись его приглашением, а дальше… А дальше вышло так. Выждав часов до десяти утра, то есть до того времени, когда можно было идти в «гости», не возбудив подозрений, я постучал в застекленную дверь. Мне отворила хозяйка, пожилая, нарумяненная, вся в рожках-папильотках, и проводила в комнату постояльца. «Майор» валялся на тахте и курил. Увидев меня, он слегка встревожился, но тотчас же блеснул улыбкой, обнажив великолепные зубы. — А, комендатура, почет и уважение. Садись, гостем будешь. Мы поболтали о том, о сем минут десять, после чего я предложил. — Знаешь что, товарищ майор, мой хозяин отбыл к начальству — поедем купаться, машина есть. Майор наморщил лоб, потом вскочил с тахты. — Дело, старшой, поехали. — А может на твоем «Виллисе»? — Понимаешь, какое дело, мой драндулет что-то захандрил — мотор барахлит. — Ладно, — согласился я, — поедем на моем… Мы поехали. Майор сел рядом с шофером. Подтянутый, необычно торжественный старшина, осведомленный, какую птицу он везет, был корректен и вежлив, как дипломат на приеме, и осторожно уголком глаза поглядывал на своего соседа. Саша Малоличко, представленный как мой ординарец, молчаливо сидел в углу рядом со мной. Майор упивался красотами окрестностей и рассказывал такие анекдоты, что у Саши краснели уши, а я от души хохотал и, стараясь не отстать, черпал из своих запасов слышанное ранее в госпиталях. Майор сочно и густо ржал, еще более повеселел, лихо отсвистел какую-то допотопную песню «Черные гусары». Мимо проносились поля, перелески, разбитые войной деревни. Я посмотрел на красивый, правильный профиль майора. «Ну погоди же, черный гусар, посмотрим, что ты вскоре запоешь». Майор неожиданно закрутил головой. — Что-то долго едем, господа военные, где же река? — Здесь, недалеко, — ответил я, — сразу за городом. Я сказал это спокойно, и майор принял это спокойно, но если б он только знал, в какой город мы направляемся — мы ехали в город К… Замелькали маленькие, увитые плющом домики. Мы въехали в затопленный солнцем, зеленый городок и остановились у ратуши. — Простите, товарищи офицеры, — деликатно забасил старшина, — моторчик перегрелся — водички залью. — Залей, братец, залей, — покровительственно проговорил майор, — а мы тем временем разомнем старые кости. Мы вылезли «разминать» кости, медленно подошли к могилам у ратуши. Я оглянулся — старшина с ведром подошел к колонке, набрал воды, залил в радиатор. Мы закурили и подошли ближе к могилам. — О, прах русских воинов, — высокопарно произнес майор, — вот где ты лежишь, как далеко от родных краев. О, русские могилы, сколько их, где их нет? Я закусил губы. Ах, сволочь. Ты еще издеваешься, а сколько русских могил возникло по твоей милости? Подошел старшина и срывающимся от волнения голосом сказал. — Тут вот есть очень интересный памятник, весь черный и золотистый, его нужно обязательно посмотреть, — старшина здорово волновался. Ничего не подозревавший майор подошел к могиле и впился взором в золотую надпись… Сильный удар в челюсть опрокинул меня навзничь. Тотчас рядом со мной, как мешок с мукой, рухнул майор, сбитый страшным ударом. Багроволицый старшина схватил его за грудь, приподнял с земли и так ударил его, что тот потерял сознание. Через мгновение Саша сидел на нем верхом, отстегнул кобуру, обшарил карманы. «Майору» связали руки ремешком от планшета. Старшина вылил на него полведра воды, и тот едва очухался. Странное зрелище являл собой пойманный гитлеровец. От великолепного майора не осталось и следа — перед нами на помятой клумбе сидел, трусливо моргая, человек с огромным синяком под глазом.IV
 моей памяти навсегда останется это страшное утро…А утро, утро было какое! Чудесное, летнее, сотканное из золота солнечных лучей и голубизны горного воздуха. Небо бездонное, алмазное, чистое, вымытое ночным дождем, просушенное теплым ветром.
Вдруг воздух со свистом рассекли металлические подвижные тела. Тройка «мессеров» пронеслась над самой крышей к центру города, поливая улицы пулеметным огнем. Все замерли. Затем прошло второе звено, забухали запоздалые разрывы зениток, над городом закрутилось «чертово» колесо. Бомбардировщики входили в пике, взмывали вверх, а земля, вздрогнув от тяжелого удара, вздымала ржаво-черный фонтан огня и дыма.
Все это продолжалось несколько минут. Самолеты исчезли.
Я перепрыгнул через балюстраду, помчался по главной улице к центру — рядом бежали врачи, сестры, легкораненые, какие-то солдаты. Я добежал до мостика. Каменный, одноарочyый, он всегда напоминал мне о Ленинграде, куда я ездил на каникулы. На мосту всегда стояли наши часовые. Но что с ними?
Оба часовых не ушли с поста. Один лежал без движения, натянув на голову изодранную шинель: он был убит. Наискось секанула его пулеметная строчка. Об этом красноречиво говорили четыре окровавленных суконных бугорка на спине — следы выходных отверстий пуль. Второй часовой лежал поодаль, судорожно вцепившись в раздробленную винтовку. Закрыв глаза, он едва слышно стонал, неестественно вывернутая нога мелко подрагивала. Прибежали санитары, солдата подняли, положили на носилки. В лужице крови что-то тускло поблескивало. Я нагнулся и поднял маленький кругляшок — медаль «За боевые заслуги». Я вытер медаль (она была в красном, липком) о траву. Санитары тронулись. Голова раненого бессильно моталась из стороны в сторону в такт шагам. Я догнал носилки, передал медаль санитару и побежал дальше.
В угловой домик попала бомба, начисто срезав угол. У ограды во дворе меня окликнули. Полный, солидный мужчина, лежа в густой траве, попросил сообщить о случившемся его жене. Невидящими глазами он смотрел на меня и прерывисто, странно спокойно говорил:
— Пан комендант, передайте моей жене, обязательно передайте, что я здесь, ведь вы знаете, где я живу.
Сложив пухлые руки в перстнях на круглом животе, он беспрестанно повторял эту фразу. Я не знал этого человека, нагнулся, чтобы лучше его рассмотреть, и отпрянул точно обожженный — ног у этого человека не было…
Я выбежал на главную улицу. Воздушная волна сорвала пышный убор с каштанов, странно выглядели их голые кроны, точно сотни худых изможденных темных рук тянулись в неслышной мольбе к грозному небу.
Посреди улицы валялся подбитый «Виллис» и рядом лежали трое убитых. По улицам пробегали солдаты из комендатуры, проехал на полуторке старшина — повез раненых…
Помню, что я кого-то перевязывал, кого-то откапывал. Потом быстро пошел к комендатуре. До нее оставалось несколько кварталов. У костела нужно было повернуть за угол направо. Вот и костел. Проходя мимо знакомой каменной ограды, я заглянул сквозь решетку и замер. Весь дворик костела был полон трупов. День был воскресный, в костеле были люди. Сюда гитлеровские летчики сбросили свой смертоносный стальной град. Трупы лежали в разных позах, кровь запеклась на камнях, вытертых до блеска коленями верующих. Фашисты не пощадили и гранитную фигуру Христа. Чудовищный осколок стали сбил с согнутых плеч Христа голову в терновом венце, она упала в лужу крови убитого мальчика. Из дальнего угла, охая, поднялся человек и, шатаясь, побрел к выходу.
Откуда-то взялся Малоличко. Бледный, с дрожащими губами, он ходил по двору, помогая перевязывать раненых. Я обошел кругом постамента и вскрикнул. На земле неподвижно лежала девушка, ее легкое воздушное платье багровело пятнами. Чистые голубые глаза смотрели в небо, и маленькие облака отражались в них и исчезали, уплывая в неведомую даль.
Зося! Смерть! Я сразу понял, что это смерть — живые так не лежат. Много я видел смертей, и сам убивал — таково ремесло солдата, но…
Я снял фуражку, взял Зосю на руки и вышел со двора. Я пошел к госпиталю, нес то, что было мне самым близким, дорогим. Шел, не ощущая тяжести, словно нес невесомое. Сзади, вздыхая, плелся Саша, комкая в руках мою фуражку.
моей памяти навсегда останется это страшное утро…А утро, утро было какое! Чудесное, летнее, сотканное из золота солнечных лучей и голубизны горного воздуха. Небо бездонное, алмазное, чистое, вымытое ночным дождем, просушенное теплым ветром.
Вдруг воздух со свистом рассекли металлические подвижные тела. Тройка «мессеров» пронеслась над самой крышей к центру города, поливая улицы пулеметным огнем. Все замерли. Затем прошло второе звено, забухали запоздалые разрывы зениток, над городом закрутилось «чертово» колесо. Бомбардировщики входили в пике, взмывали вверх, а земля, вздрогнув от тяжелого удара, вздымала ржаво-черный фонтан огня и дыма.
Все это продолжалось несколько минут. Самолеты исчезли.
Я перепрыгнул через балюстраду, помчался по главной улице к центру — рядом бежали врачи, сестры, легкораненые, какие-то солдаты. Я добежал до мостика. Каменный, одноарочyый, он всегда напоминал мне о Ленинграде, куда я ездил на каникулы. На мосту всегда стояли наши часовые. Но что с ними?
Оба часовых не ушли с поста. Один лежал без движения, натянув на голову изодранную шинель: он был убит. Наискось секанула его пулеметная строчка. Об этом красноречиво говорили четыре окровавленных суконных бугорка на спине — следы выходных отверстий пуль. Второй часовой лежал поодаль, судорожно вцепившись в раздробленную винтовку. Закрыв глаза, он едва слышно стонал, неестественно вывернутая нога мелко подрагивала. Прибежали санитары, солдата подняли, положили на носилки. В лужице крови что-то тускло поблескивало. Я нагнулся и поднял маленький кругляшок — медаль «За боевые заслуги». Я вытер медаль (она была в красном, липком) о траву. Санитары тронулись. Голова раненого бессильно моталась из стороны в сторону в такт шагам. Я догнал носилки, передал медаль санитару и побежал дальше.
В угловой домик попала бомба, начисто срезав угол. У ограды во дворе меня окликнули. Полный, солидный мужчина, лежа в густой траве, попросил сообщить о случившемся его жене. Невидящими глазами он смотрел на меня и прерывисто, странно спокойно говорил:
— Пан комендант, передайте моей жене, обязательно передайте, что я здесь, ведь вы знаете, где я живу.
Сложив пухлые руки в перстнях на круглом животе, он беспрестанно повторял эту фразу. Я не знал этого человека, нагнулся, чтобы лучше его рассмотреть, и отпрянул точно обожженный — ног у этого человека не было…
Я выбежал на главную улицу. Воздушная волна сорвала пышный убор с каштанов, странно выглядели их голые кроны, точно сотни худых изможденных темных рук тянулись в неслышной мольбе к грозному небу.
Посреди улицы валялся подбитый «Виллис» и рядом лежали трое убитых. По улицам пробегали солдаты из комендатуры, проехал на полуторке старшина — повез раненых…
Помню, что я кого-то перевязывал, кого-то откапывал. Потом быстро пошел к комендатуре. До нее оставалось несколько кварталов. У костела нужно было повернуть за угол направо. Вот и костел. Проходя мимо знакомой каменной ограды, я заглянул сквозь решетку и замер. Весь дворик костела был полон трупов. День был воскресный, в костеле были люди. Сюда гитлеровские летчики сбросили свой смертоносный стальной град. Трупы лежали в разных позах, кровь запеклась на камнях, вытертых до блеска коленями верующих. Фашисты не пощадили и гранитную фигуру Христа. Чудовищный осколок стали сбил с согнутых плеч Христа голову в терновом венце, она упала в лужу крови убитого мальчика. Из дальнего угла, охая, поднялся человек и, шатаясь, побрел к выходу.
Откуда-то взялся Малоличко. Бледный, с дрожащими губами, он ходил по двору, помогая перевязывать раненых. Я обошел кругом постамента и вскрикнул. На земле неподвижно лежала девушка, ее легкое воздушное платье багровело пятнами. Чистые голубые глаза смотрели в небо, и маленькие облака отражались в них и исчезали, уплывая в неведомую даль.
Зося! Смерть! Я сразу понял, что это смерть — живые так не лежат. Много я видел смертей, и сам убивал — таково ремесло солдата, но…
Я снял фуражку, взял Зосю на руки и вышел со двора. Я пошел к госпиталю, нес то, что было мне самым близким, дорогим. Шел, не ощущая тяжести, словно нес невесомое. Сзади, вздыхая, плелся Саша, комкая в руках мою фуражку.
 Навстречу дул ветер, ласковый, теплый ветер, он перебирал густые локоны девушки… Спустилась душная, тихая ночь, но успокоения она не принесла.
…Мы с капитаном сидели в моей комнате. Он отечески обнял меня и говорил теплые, душевные слова. Сочувствие человека — великая вещь, тем более на фронте, где все приобретало особый оттенок, особое значение. Я очень был благодарен капитану за заботу.
Послышался такой знакомый, так опротивевший за последние годы сверлящий зуд мотора вражеского ночного бомбардировщика. Заахали зенитки, зажигая в безлунном небе яркие, мгновенно гаснущие фонарики. Что-то засвистело и тяжело ухнуло на землю.
— Привез, окаянный, — встрепенулся капитан, — Значит на станцию эшелон прибыл.
— А может нет эшелона?
Я возразил машинально, думая о другом, просто для того, чтобы что-нибудь сказать.
— Нет. Я твердо уверен — цель для них есть. Зря нашу станцию не бомбят. — Капитан вздохнул, натягивая фуражку с неизменными автомобильными очками.
— Я двинусь, а ты… того, отдохни.
— Спасибо, дорогой Сергей Васильевич, но я пойду с вами — одному оставаться не хочется.
Капитан пожал мне руку. Мы сбежали вниз. Прихватив старшину и нескольких солдат, мы поспешили к станции. До нее оставалось метров триста, как вдруг земля дрогнула — невиданной силы взрыв потряс окрестности. Мы скатились в ров рядом с железнодорожной насыпью.
— Боеприпасы! — покрывая грохот взрыва, заорал мне в самое ухо старшина. — Подбили эшелон с боеприпасами!
Это была правда! Взрывы следовали один за другим. Над нами со свистом и страшным скрежетом проносились осколки.
— Я посмотрю, — крикнул я капитану.
Тот молча погрозил кулаком и поднял на палке валявшуюся старую каску, она зазвенела, как колокол.
— Понял, дурья башка!
Взрывы не прекращались.
Мы пролежали так еще несколько часов. И здесь, именно здесь, в этом ровике, у насыпи, я поклялся во что бы то ни стало отыскать тех, кто свил себе гнездо в этом маленьком городке и принес столько несчастий и нам, и ему. Когда поутихло, мы пришли на станцию. Она почти не пострадала — эшелон догорал на путях.
К себе мы возвратились далеко за полночь. Усталые, закопченные, раздраженные. Хитрый враг водил нас вокруг пальца, а поймать его никак не удавалось. В комендатуре нас ожидала новость. Пришел пакет, в котором сообщалось, что в нашем городке проживает семья известного немецкого антифашиста Вебера, зверски замученного в гестапо. Командование предлагало разыскать эту семью и помочь ей, чем будет возможно.
Капитан хмуро посмотрел на предписание и заявил, что после сегодняшней бомбежки у него исчезло всякое желание помочь кому-либо из немцев. Пусть благодарят бога, что остались целы.
— Да ведь это семья антифашиста, такого же коммуниста, как мы, — резко проговорил я.
Капитан мрачно посмотрел на меня и крикнул:
— Петренко! Заготовь продуктов, — капитан покрутил рукой в воздухе, — одним словом, всяких там вещей, отвезешь со старшим лейтенантом тут одним жителям. Я уж забыл, что штатскому человеку полагается иметь, — добавил он.
— Есть. Отвезти харчи и барахло гражданским, — бойко выкрикнул Петренко. — Разрешите выполнять?
Старшина, ругая Петренко за то, что тот примостился на ящике с шоколадом, сел за руль, и мы двинулись. Ехали недолго, разыскали дом на окраине и квартиру. На стук вышел светловолосый мальчик. Увидев военных, он испуганно отпрянул.
— Петер, — я узнал знакомого, — здравствуй, камрад!
— Здравствуйте, товарищ обер-лейтенант. Вы кого-нибудь ищете?
— Мне нужна семья Вебера!
— Вебера, — удивленно протянул мальчик, — Курта Вебера?
Петер побледнел, немного подумал и решительно произнес:
— Я — Вебер!
— Ты?
— Да. Я его сын!
— Ребята, — обратился я к солдатам, — это он, это его сын.
— Молодец хлопец!
Здоровенные руки старшины обхватили тщедушную фигурку мальчика и подняли ее высоко в воздух.
— Молодец!
Старшина опустил Петера на землю и крепко пожал ему руку.
— Гут! И учти парень — за всю жизнь первому немцу руку жму.
Мы прошли в дом, и я все объяснил Петеру и его матери — бледной, болезненной женщине. После изумленных вздохов и потока благодарностей нас угостили кофе. Повеселевший Петер сидел рядом со мной, ловя каждое слово. Фрау Вебер сушила слезы платочком, улыбалась. Золотоволосая синеглазая малышка лет пяти взобралась на могучее колено старшины и что-то оживленно ему рассказывала. Старшина, знавший по-немецки только слова «Хальт», «Хенде хох», «Вафен хинлеген», беспомощно смотрел на меня, ожидая выручки. Мы позавтракали, поблагодарили.
Петер наклонился ко мне и прошептал.
— Я вам, я сделаю для вас все, не пожалею жизни и, если нужно, отдам ее за дело моего отца, за ваше дело!
Я поднялся.
— За наше дело, Петер. За нашу победу. За победу над фашизмом!
Петер с чувством потряс мне руку.
Я оглянулся. У окна стоял, выпрямившись во весь свой богатырский рост русский солдат, осторожно держа на руках немецкого ребенка. Червонные кудри малышки касались разгоряченного лица старшины, сплетались с его залихватским чубом.
Окно было распахнуто, солдат и девочка смотрели вдаль, откуда из-за зубчатой синей кромки гор поднималось сияющее, вечно живое солнце. Они смотрели на восток.
…В маленькой великолепно обставленной комнате, некогда служившей гостиной, мы с капитаном допрашивали «майора». Теперь с трудом в этом человеке можно было узнать того лощеного офицера, роль которого этот тип разыгрывал. Красноглазый, кислолицый, весь какой-то опустившийся, словно проколотый пузырь, «майор» был жалок и отвратителен. Он понимал, что его песенка спета, он решил фальшивить до конца, чтобы избежать расстрела. «Майор» изворачивался, лгал не краснея, выдумывал фантастические истории. Мы терпеливо выслушивали его, изредка поправляя завиравшегося гитлеровца, что мгновенно приводило его в ярость.
Но главного «майор» не выдавал — цели своей шайки, имена и приметы соучастников. Наконец, нам это надоело.
— Слушайте вы, сын холеры и чумы, — загремел капитан, — долго вы будете путать черное с белым и кислое с пресным?
«Майор» привстал, пораженный столь неаристократическим вступлением.
— Сиди! — старшина спокойно опустил ему кулак на плечо, так что стул под «майором» едва не ушел в пол. — Душу выну!
— Майн Готт! — вскрикнул испуганный майор. — Я все скажу.
— Говорите, — приказал я.
— Я действительно майор, — торопливо забормотал задержанный и вдруг задрожал: это зашевелился в своем углу старшина. Он был хмур, необыкновенно внимателен и по глазам было видно, что старшина готов к немедленным, решительным действиям, и не удивительно — он первый раз в жизни своими глазами видел настоящего шпиона.
Этот тип действительно оказался майором — майором войск «СС». Звали его Вилли Грюнвальд. Он окончил офицерскую школу в городе Бромберге, много лет выполнял различные «деликатные» поручения фашистской военной разведки «Абвер» и гестапо, в совершенстве выучил русский язык. Сюда майор был переброшен недавно и несомненно принадлежал к какой-нибудь тайной нацистской организации, но категорически отрицал связь с кем-либо. На вопрос, что он делал в костеле, Грюнвальд нагло заявил, что ходил молиться. Долго пришлось с ним повозиться, и под утро я не выдержал.
— Вот что, Грюнвальд, довольно вилять. Если хотите жить, — говорите. Не хотите — расстреляем ровно, — я взглянул на часы, — через десять минут…
Я врал. Самым бессовестным образом врал — никогда бы я его не расстрелял, никто мне таких прав не давал, я просто хотел попугать нациста, нанести ему удар «по нервам», перешел, что называется, в психическую атаку.
«Майор» молчал. Я скомандовал:
— Старшина, вызвать отделение солдат. Этого в расход.
«Майор» вскочил, зашатался. Я подмигнул старшине.
— Ладно, расскажу. Меня перебросили сюда в марте. Задание: выяснить дислокации воинских частей, их номера, вооружение, сеять ложные слухи, — майор замялся.
— Продолжайте, продолжайте.
— Дезорганизация, нарушение связи, паника, провокации…
— Не забудьте про гранату, которую вы швырнули в госпитальный клуб.
— Я имел и задания террористского характера…
— Вот гад! — не удержался старшина.
Я выразительно посмотрел на него, старшина смолк.
Я резко спросил:
— Зачем убили Сибирцева?
— Кого? Простите?
— Лейтенанта Сибирцева, работника комендатуры.
— Клянусь сединами покойной матери — не трогал его.
— Опять изворачиваетесь?
Но Грюнвальд клялся страшными клятвами, что Сибирцева никогда не видел.
— Кто действовал с вами? Ну!
— Вальтер.
— Начальник станции?
— Да, он с нами.
— А еще?
— Пан Иорек — ксендз.
— Как, с вами работал поляк?
— Он такой же поляк, как вы эфиоп. Работает на нас с 1914 года, происходит из старинной прусской семьи.
— Еще кто?
— Были двое. В самолет попал зенитный снаряд. Нас перебрасывали через линию фронта по воздуху…
— Они погибли!
— Так. Все?
Внезапно меня осенило. Я достал из нагрудного кармана записную книжечку Сибирцева и показал Грюнвальду рисунки лейтенанта.
— Что это такое?
В глазах фашиста блеснул страх, он побледнел и испуганно спросил.
— Значит вам все известно?! Боже, я пропал!
Я промолчал. Грюнвальд, захлебываясь, заговорил.
Да, он все расскажет, ничего не утаит. Его и других послал «Стальной шлем» — тайная, широко разветвленная фашистская организация, насчитывающая тысячи членов. — «Штальгельм», — захлебывался словами Грюнвальд, — очень разветвленная, могущественная организация. — Он еще долго перечислял многочисленные фашистские «достоинства» «Стального шлема», говорил о нем с плохо скрываемой гордостью.
«Погоди, — думалось мне, — ударим и разлетится твой „Стальной шлем“ на мелкие кусочки»…
Пришел капитан, сел напротив, не глядя на гитлеровца, спросил в упор.
— Для чего был совершен дневной налет — раньше этого не наблюдалось?
— Военная хитрость, господин капитан, — услужливо ответил Грюнвальд, — маскировка. Мы приметили, что ваши солдаты рыскают по городу и вокруг станции. Вы искали рацию — не так ли?
Капитан кивнул.
— И не нашли, не правда ли?
— Верно.
На утомленном лице Грюнвальда заиграла улыбка.
— Я открою вам ее местопребывание. Но гарантируйте — он немного замялся, — гарантируйте мне жизнь.
Мы замолчали. Грюнвальд задумался, потом махнул рукой.
— Ладно, вшистко едно, как говорят ваши братья-поляки. Все расскажу, а там, как знаете, быть может зачтете добровольное признание.
Грюнвальд говорил почти искренне, немного рисуясь.
— В саду у моего дома. В заброшенном колодце. Он весь травой зарос, там на дне и лежит рация.
— Но ведь вы недавно попали в этот дом?
— Совершенно справедливо. Раньше я возил ее с собой в машине — впрочем, это был бесполезный груз.
— Как так?
— Наша армия давно вышла из радиуса ее действия.
— Вон что, — насмешливо протянул капитан, — вышла, а может ее того, под зад коленкой…
— Что-о? — вытаращил глаза Грюнвальд, — что вы хотите этим сказать? — видимо, немец недостаточно хорошо знал русский язык.
— Как же без рации извещаете авиацию о целях?
— Сигналами с земли.
— Какими?
— Это мне не известно, это не по моей части.
— Очевидно, это по части Вальтера?
Вилли Грюнвальд нехотя кивнул головой.
— Хватит, — сказал капитан, — увести.
Старшина молча подошел к фашисту. Тот испуганно вскочил.
— Хальт, — металлическим голосом буркнул старшина.
— Один момент, одну минуточку.
— За одну минуточку фриц украл Анюточку. Хальт, шкура!
— Подождите, — зачастил Грюнвальд, — я еще хочу сказать, я знаю кое-что о втором рисунке в блокноте…
— Пошли, пошли, — громыхал старшина, — рисуночек.
— Подождите.
Я подошел к Грюнвальду.
— Это интересно. — Я достал записную книжечку Сибирцева, отыскал страницу — хищный оскаленный чертик смотрел на меня с глянца бумаги, рядом чернели две немецкие буквы.
— Что сие означает?
— Это тайна, господин старший лейтенант, страшная тайна, автор ее сам рейхсфюрер СС…
Гиммлер! — Палач, хладнокровный кровопийца, трупных дел мастер, фюрер Освенцима, Бухенвальда, Майданека, лагерей уничтожения и смерти. Хозяин огромной шайки, именуемой гестапо… Я задохнулся, подскочил к Грюнвальду вплотную, сгреб рукой за грудь.
— Говори!..
— Это, как-то, черти, домовые, — ну как это по-русски?
— Говори по-немецки болван!..
— Вервольф! — вот что означают эти буквы.
— Вервольф? Оборотень? Что за дьявольщина?
— Да, да, оборотень, так называются диверсионные группы, которые забрасываются в ваш тыл. Они — диверсанты. Это их эмблема.
— Так эти черти действуют в нашем городе?
— Очевидно. Можно предположить. Нас предупредили перед заброской, что мы будем не одни, возможно, ваш офицер, как вы сказали, Сибиряцкий?
— Сибирцев! Так это они его?
— Возможно. Но больше ничего не знаю, ничего не знаю…
После обеда я пошел к Петеру.
Он только что вернулся с работы и мыл руки прямо в саду.
— Вот что, Петер, у меня к тебе важное дело. Ты помнишь наш разговор?
— Да, товарищ старший лейтенант.
— Ты должен нам помочь.
Я рассказал Петеру вкратце о предстоящей операции и о его задаче.
Петер согласился немедленно.
…Ночь. Тишина. Петер осторожно влез на крышу вокзала, пригибаясь к самой черепице. Ровно в 23.00 старшина с солдатами вошел в кабинет начальника станции, якобы попросить спичек, прикурить. Прикуривали минут пять: у старшины все гасла трубка. За это время я успел вскарабкаться на крышу вокзала и там залечь.
Старшина ушел. Послышалось далекое гудение, так надоевшее за войну.
Вечером прибыли эшелоны с танками, неподалеку формировалась танковая бригада. Значит, цель есть. Значит, будет бомбежка. Из-за трубы показалась взъерошенная тень — это Петер. Я подполз к нему. Самолет был прямо над моей головой, но ракет не видно. Подполз к трубе. Над головой неистовый вой: самолет вошел в пике. Петер схватил меня за руку.
— Смотрите, в трубе огонь!
Навстречу дул ветер, ласковый, теплый ветер, он перебирал густые локоны девушки… Спустилась душная, тихая ночь, но успокоения она не принесла.
…Мы с капитаном сидели в моей комнате. Он отечески обнял меня и говорил теплые, душевные слова. Сочувствие человека — великая вещь, тем более на фронте, где все приобретало особый оттенок, особое значение. Я очень был благодарен капитану за заботу.
Послышался такой знакомый, так опротивевший за последние годы сверлящий зуд мотора вражеского ночного бомбардировщика. Заахали зенитки, зажигая в безлунном небе яркие, мгновенно гаснущие фонарики. Что-то засвистело и тяжело ухнуло на землю.
— Привез, окаянный, — встрепенулся капитан, — Значит на станцию эшелон прибыл.
— А может нет эшелона?
Я возразил машинально, думая о другом, просто для того, чтобы что-нибудь сказать.
— Нет. Я твердо уверен — цель для них есть. Зря нашу станцию не бомбят. — Капитан вздохнул, натягивая фуражку с неизменными автомобильными очками.
— Я двинусь, а ты… того, отдохни.
— Спасибо, дорогой Сергей Васильевич, но я пойду с вами — одному оставаться не хочется.
Капитан пожал мне руку. Мы сбежали вниз. Прихватив старшину и нескольких солдат, мы поспешили к станции. До нее оставалось метров триста, как вдруг земля дрогнула — невиданной силы взрыв потряс окрестности. Мы скатились в ров рядом с железнодорожной насыпью.
— Боеприпасы! — покрывая грохот взрыва, заорал мне в самое ухо старшина. — Подбили эшелон с боеприпасами!
Это была правда! Взрывы следовали один за другим. Над нами со свистом и страшным скрежетом проносились осколки.
— Я посмотрю, — крикнул я капитану.
Тот молча погрозил кулаком и поднял на палке валявшуюся старую каску, она зазвенела, как колокол.
— Понял, дурья башка!
Взрывы не прекращались.
Мы пролежали так еще несколько часов. И здесь, именно здесь, в этом ровике, у насыпи, я поклялся во что бы то ни стало отыскать тех, кто свил себе гнездо в этом маленьком городке и принес столько несчастий и нам, и ему. Когда поутихло, мы пришли на станцию. Она почти не пострадала — эшелон догорал на путях.
К себе мы возвратились далеко за полночь. Усталые, закопченные, раздраженные. Хитрый враг водил нас вокруг пальца, а поймать его никак не удавалось. В комендатуре нас ожидала новость. Пришел пакет, в котором сообщалось, что в нашем городке проживает семья известного немецкого антифашиста Вебера, зверски замученного в гестапо. Командование предлагало разыскать эту семью и помочь ей, чем будет возможно.
Капитан хмуро посмотрел на предписание и заявил, что после сегодняшней бомбежки у него исчезло всякое желание помочь кому-либо из немцев. Пусть благодарят бога, что остались целы.
— Да ведь это семья антифашиста, такого же коммуниста, как мы, — резко проговорил я.
Капитан мрачно посмотрел на меня и крикнул:
— Петренко! Заготовь продуктов, — капитан покрутил рукой в воздухе, — одним словом, всяких там вещей, отвезешь со старшим лейтенантом тут одним жителям. Я уж забыл, что штатскому человеку полагается иметь, — добавил он.
— Есть. Отвезти харчи и барахло гражданским, — бойко выкрикнул Петренко. — Разрешите выполнять?
Старшина, ругая Петренко за то, что тот примостился на ящике с шоколадом, сел за руль, и мы двинулись. Ехали недолго, разыскали дом на окраине и квартиру. На стук вышел светловолосый мальчик. Увидев военных, он испуганно отпрянул.
— Петер, — я узнал знакомого, — здравствуй, камрад!
— Здравствуйте, товарищ обер-лейтенант. Вы кого-нибудь ищете?
— Мне нужна семья Вебера!
— Вебера, — удивленно протянул мальчик, — Курта Вебера?
Петер побледнел, немного подумал и решительно произнес:
— Я — Вебер!
— Ты?
— Да. Я его сын!
— Ребята, — обратился я к солдатам, — это он, это его сын.
— Молодец хлопец!
Здоровенные руки старшины обхватили тщедушную фигурку мальчика и подняли ее высоко в воздух.
— Молодец!
Старшина опустил Петера на землю и крепко пожал ему руку.
— Гут! И учти парень — за всю жизнь первому немцу руку жму.
Мы прошли в дом, и я все объяснил Петеру и его матери — бледной, болезненной женщине. После изумленных вздохов и потока благодарностей нас угостили кофе. Повеселевший Петер сидел рядом со мной, ловя каждое слово. Фрау Вебер сушила слезы платочком, улыбалась. Золотоволосая синеглазая малышка лет пяти взобралась на могучее колено старшины и что-то оживленно ему рассказывала. Старшина, знавший по-немецки только слова «Хальт», «Хенде хох», «Вафен хинлеген», беспомощно смотрел на меня, ожидая выручки. Мы позавтракали, поблагодарили.
Петер наклонился ко мне и прошептал.
— Я вам, я сделаю для вас все, не пожалею жизни и, если нужно, отдам ее за дело моего отца, за ваше дело!
Я поднялся.
— За наше дело, Петер. За нашу победу. За победу над фашизмом!
Петер с чувством потряс мне руку.
Я оглянулся. У окна стоял, выпрямившись во весь свой богатырский рост русский солдат, осторожно держа на руках немецкого ребенка. Червонные кудри малышки касались разгоряченного лица старшины, сплетались с его залихватским чубом.
Окно было распахнуто, солдат и девочка смотрели вдаль, откуда из-за зубчатой синей кромки гор поднималось сияющее, вечно живое солнце. Они смотрели на восток.
…В маленькой великолепно обставленной комнате, некогда служившей гостиной, мы с капитаном допрашивали «майора». Теперь с трудом в этом человеке можно было узнать того лощеного офицера, роль которого этот тип разыгрывал. Красноглазый, кислолицый, весь какой-то опустившийся, словно проколотый пузырь, «майор» был жалок и отвратителен. Он понимал, что его песенка спета, он решил фальшивить до конца, чтобы избежать расстрела. «Майор» изворачивался, лгал не краснея, выдумывал фантастические истории. Мы терпеливо выслушивали его, изредка поправляя завиравшегося гитлеровца, что мгновенно приводило его в ярость.
Но главного «майор» не выдавал — цели своей шайки, имена и приметы соучастников. Наконец, нам это надоело.
— Слушайте вы, сын холеры и чумы, — загремел капитан, — долго вы будете путать черное с белым и кислое с пресным?
«Майор» привстал, пораженный столь неаристократическим вступлением.
— Сиди! — старшина спокойно опустил ему кулак на плечо, так что стул под «майором» едва не ушел в пол. — Душу выну!
— Майн Готт! — вскрикнул испуганный майор. — Я все скажу.
— Говорите, — приказал я.
— Я действительно майор, — торопливо забормотал задержанный и вдруг задрожал: это зашевелился в своем углу старшина. Он был хмур, необыкновенно внимателен и по глазам было видно, что старшина готов к немедленным, решительным действиям, и не удивительно — он первый раз в жизни своими глазами видел настоящего шпиона.
Этот тип действительно оказался майором — майором войск «СС». Звали его Вилли Грюнвальд. Он окончил офицерскую школу в городе Бромберге, много лет выполнял различные «деликатные» поручения фашистской военной разведки «Абвер» и гестапо, в совершенстве выучил русский язык. Сюда майор был переброшен недавно и несомненно принадлежал к какой-нибудь тайной нацистской организации, но категорически отрицал связь с кем-либо. На вопрос, что он делал в костеле, Грюнвальд нагло заявил, что ходил молиться. Долго пришлось с ним повозиться, и под утро я не выдержал.
— Вот что, Грюнвальд, довольно вилять. Если хотите жить, — говорите. Не хотите — расстреляем ровно, — я взглянул на часы, — через десять минут…
Я врал. Самым бессовестным образом врал — никогда бы я его не расстрелял, никто мне таких прав не давал, я просто хотел попугать нациста, нанести ему удар «по нервам», перешел, что называется, в психическую атаку.
«Майор» молчал. Я скомандовал:
— Старшина, вызвать отделение солдат. Этого в расход.
«Майор» вскочил, зашатался. Я подмигнул старшине.
— Ладно, расскажу. Меня перебросили сюда в марте. Задание: выяснить дислокации воинских частей, их номера, вооружение, сеять ложные слухи, — майор замялся.
— Продолжайте, продолжайте.
— Дезорганизация, нарушение связи, паника, провокации…
— Не забудьте про гранату, которую вы швырнули в госпитальный клуб.
— Я имел и задания террористского характера…
— Вот гад! — не удержался старшина.
Я выразительно посмотрел на него, старшина смолк.
Я резко спросил:
— Зачем убили Сибирцева?
— Кого? Простите?
— Лейтенанта Сибирцева, работника комендатуры.
— Клянусь сединами покойной матери — не трогал его.
— Опять изворачиваетесь?
Но Грюнвальд клялся страшными клятвами, что Сибирцева никогда не видел.
— Кто действовал с вами? Ну!
— Вальтер.
— Начальник станции?
— Да, он с нами.
— А еще?
— Пан Иорек — ксендз.
— Как, с вами работал поляк?
— Он такой же поляк, как вы эфиоп. Работает на нас с 1914 года, происходит из старинной прусской семьи.
— Еще кто?
— Были двое. В самолет попал зенитный снаряд. Нас перебрасывали через линию фронта по воздуху…
— Они погибли!
— Так. Все?
Внезапно меня осенило. Я достал из нагрудного кармана записную книжечку Сибирцева и показал Грюнвальду рисунки лейтенанта.
— Что это такое?
В глазах фашиста блеснул страх, он побледнел и испуганно спросил.
— Значит вам все известно?! Боже, я пропал!
Я промолчал. Грюнвальд, захлебываясь, заговорил.
Да, он все расскажет, ничего не утаит. Его и других послал «Стальной шлем» — тайная, широко разветвленная фашистская организация, насчитывающая тысячи членов. — «Штальгельм», — захлебывался словами Грюнвальд, — очень разветвленная, могущественная организация. — Он еще долго перечислял многочисленные фашистские «достоинства» «Стального шлема», говорил о нем с плохо скрываемой гордостью.
«Погоди, — думалось мне, — ударим и разлетится твой „Стальной шлем“ на мелкие кусочки»…
Пришел капитан, сел напротив, не глядя на гитлеровца, спросил в упор.
— Для чего был совершен дневной налет — раньше этого не наблюдалось?
— Военная хитрость, господин капитан, — услужливо ответил Грюнвальд, — маскировка. Мы приметили, что ваши солдаты рыскают по городу и вокруг станции. Вы искали рацию — не так ли?
Капитан кивнул.
— И не нашли, не правда ли?
— Верно.
На утомленном лице Грюнвальда заиграла улыбка.
— Я открою вам ее местопребывание. Но гарантируйте — он немного замялся, — гарантируйте мне жизнь.
Мы замолчали. Грюнвальд задумался, потом махнул рукой.
— Ладно, вшистко едно, как говорят ваши братья-поляки. Все расскажу, а там, как знаете, быть может зачтете добровольное признание.
Грюнвальд говорил почти искренне, немного рисуясь.
— В саду у моего дома. В заброшенном колодце. Он весь травой зарос, там на дне и лежит рация.
— Но ведь вы недавно попали в этот дом?
— Совершенно справедливо. Раньше я возил ее с собой в машине — впрочем, это был бесполезный груз.
— Как так?
— Наша армия давно вышла из радиуса ее действия.
— Вон что, — насмешливо протянул капитан, — вышла, а может ее того, под зад коленкой…
— Что-о? — вытаращил глаза Грюнвальд, — что вы хотите этим сказать? — видимо, немец недостаточно хорошо знал русский язык.
— Как же без рации извещаете авиацию о целях?
— Сигналами с земли.
— Какими?
— Это мне не известно, это не по моей части.
— Очевидно, это по части Вальтера?
Вилли Грюнвальд нехотя кивнул головой.
— Хватит, — сказал капитан, — увести.
Старшина молча подошел к фашисту. Тот испуганно вскочил.
— Хальт, — металлическим голосом буркнул старшина.
— Один момент, одну минуточку.
— За одну минуточку фриц украл Анюточку. Хальт, шкура!
— Подождите, — зачастил Грюнвальд, — я еще хочу сказать, я знаю кое-что о втором рисунке в блокноте…
— Пошли, пошли, — громыхал старшина, — рисуночек.
— Подождите.
Я подошел к Грюнвальду.
— Это интересно. — Я достал записную книжечку Сибирцева, отыскал страницу — хищный оскаленный чертик смотрел на меня с глянца бумаги, рядом чернели две немецкие буквы.
— Что сие означает?
— Это тайна, господин старший лейтенант, страшная тайна, автор ее сам рейхсфюрер СС…
Гиммлер! — Палач, хладнокровный кровопийца, трупных дел мастер, фюрер Освенцима, Бухенвальда, Майданека, лагерей уничтожения и смерти. Хозяин огромной шайки, именуемой гестапо… Я задохнулся, подскочил к Грюнвальду вплотную, сгреб рукой за грудь.
— Говори!..
— Это, как-то, черти, домовые, — ну как это по-русски?
— Говори по-немецки болван!..
— Вервольф! — вот что означают эти буквы.
— Вервольф? Оборотень? Что за дьявольщина?
— Да, да, оборотень, так называются диверсионные группы, которые забрасываются в ваш тыл. Они — диверсанты. Это их эмблема.
— Так эти черти действуют в нашем городе?
— Очевидно. Можно предположить. Нас предупредили перед заброской, что мы будем не одни, возможно, ваш офицер, как вы сказали, Сибиряцкий?
— Сибирцев! Так это они его?
— Возможно. Но больше ничего не знаю, ничего не знаю…
После обеда я пошел к Петеру.
Он только что вернулся с работы и мыл руки прямо в саду.
— Вот что, Петер, у меня к тебе важное дело. Ты помнишь наш разговор?
— Да, товарищ старший лейтенант.
— Ты должен нам помочь.
Я рассказал Петеру вкратце о предстоящей операции и о его задаче.
Петер согласился немедленно.
…Ночь. Тишина. Петер осторожно влез на крышу вокзала, пригибаясь к самой черепице. Ровно в 23.00 старшина с солдатами вошел в кабинет начальника станции, якобы попросить спичек, прикурить. Прикуривали минут пять: у старшины все гасла трубка. За это время я успел вскарабкаться на крышу вокзала и там залечь.
Старшина ушел. Послышалось далекое гудение, так надоевшее за войну.
Вечером прибыли эшелоны с танками, неподалеку формировалась танковая бригада. Значит, цель есть. Значит, будет бомбежка. Из-за трубы показалась взъерошенная тень — это Петер. Я подполз к нему. Самолет был прямо над моей головой, но ракет не видно. Подполз к трубе. Над головой неистовый вой: самолет вошел в пике. Петер схватил меня за руку.
— Смотрите, в трубе огонь!
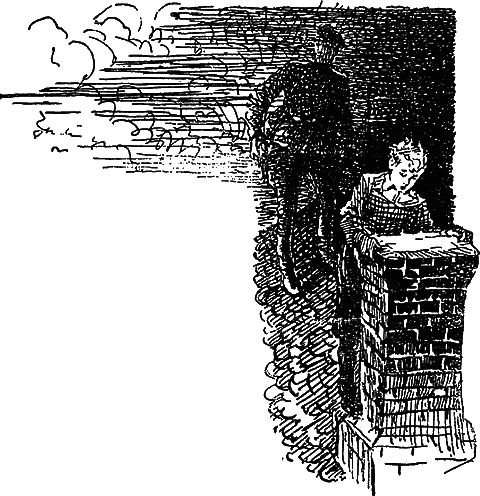 Я заглянул в трубу.
Ослепительным шаром пылала на дне трубы тысячесвечовая лампа.
Я знал, что огонек папироски летчик может заметить с большой высоты, а здесь — целый прожектор.
— Ах, гады!
Я выхватил парабеллум и выстрелил в лампу — она разлетелась на тысячи кусков. Треск выстрела слился с разрывом бомб, они ложились сериями. Но враг уже был дезориентирован: сигнал потух и ему уже не вспыхнуть в ночной темноте.
Осторожно слезли вниз, подкрались к дверям вокзала. В зале для ожидания было темно, пробирались ощупью, впереди Петер.
Вот и дверь начальника станции. Я прижался ухом к холодной коже. Тихо.
— Вася, давай!
Старшина обрушился на дверь, вышиб ее. Страшно заметался огонь свечи, выхватывая из мрака лысого человека у печи, — это был Вальтер.
— Стой! Руки вверх!
Вальтер, оттолкнув Петера, бросился к окну. Мы за ним.
— Сюда, сюда побежал, сховался, — кричал солдат, — вот сюда.
Он показал на зияющий провал, заросший кустарником.
— Нора, что ли?
— Убежище?
— Подземный ход, — торопливо сообщил Петер, — выходит прямо в костел.
Петер скрылся в отверстии.
— Старшина! Быстро в костел.
— Есть!
Я нырнул вслед за мальчиком, за мной полезли Саша и усатый солдат. Я вынул фонарик, и мы побежали по подземному рукаву. Бежали долго. Рукав расширился, под ногами каменные плиты, откуда-то сверху проникал свет.
Саша споткнулся об истлевший скелет. Далеко откатился череп, зазвенела цепь.
— Кто здесь был прикован? За что?
Вот и конец пути. Кругом стены — лестница, над головой — люк. Петер попробовал его открыть — не тут-то было.
— Привалили крышку, гады, — хрипит Саша. — А ну еще разок. — Тщетно: мы заперты в каменном подполье. Бросились назад. Грянули выстрелы.
— Ловушка!
Отскочили за угол, прижались к стене. С нами нет усатого. Что с ним? Стрелять боялись, а вдруг он там, в рукаве?
Петер попросил у Саши автомат.
— Ничего, хлопчик, сами справимся, иди в укрытие.
Но вдруг над нами люк открылся.
— Живы! — вопит наверху старшина, — порядок, товарищ капитан.
Мы вылезли наверх, костел был полон солдат. У ног капитана лежали трое связанных: Вальтер, ксендз Йорек и какой-то длинноволосый субъект в порванной спортивной тужурке.
— Старшина, бери солдат, — скомандовал капитан, — прочесать подземный ход!
В люк нырнули наши солдаты — они пойдут навстречу старшине.
Прошло томительных полчаса. Из люка показался взлохмаченный, облепленный паутиной старшина. Вышло еще несколько солдат, которые несли безжизненное тело. Положили на деревянную скамью — это был солдат, который когда-то ехал со мной на машине. Маской белело в полумраке морщинистое лицо, усы были залиты кровью.
— Поймали их?
— Никого не нашли, товарищ капитан, как в воду канули, только вот Кузьмича… — голос старшины прервался.
Рассвет. Я подошел к убитому: в спине старого солдата торчал плоский, широкий тесак с массивной рукояткой. На рукоятке две буквы: W. W.
…Вечером за ужином я достал записную книжечку Сибирцева, открыл страничку с нарисованной фашистской каской и с удовольствием поставил на ней жирный крест. «Стальной шлем» в нашем городе перестал существовать.
Я заглянул в трубу.
Ослепительным шаром пылала на дне трубы тысячесвечовая лампа.
Я знал, что огонек папироски летчик может заметить с большой высоты, а здесь — целый прожектор.
— Ах, гады!
Я выхватил парабеллум и выстрелил в лампу — она разлетелась на тысячи кусков. Треск выстрела слился с разрывом бомб, они ложились сериями. Но враг уже был дезориентирован: сигнал потух и ему уже не вспыхнуть в ночной темноте.
Осторожно слезли вниз, подкрались к дверям вокзала. В зале для ожидания было темно, пробирались ощупью, впереди Петер.
Вот и дверь начальника станции. Я прижался ухом к холодной коже. Тихо.
— Вася, давай!
Старшина обрушился на дверь, вышиб ее. Страшно заметался огонь свечи, выхватывая из мрака лысого человека у печи, — это был Вальтер.
— Стой! Руки вверх!
Вальтер, оттолкнув Петера, бросился к окну. Мы за ним.
— Сюда, сюда побежал, сховался, — кричал солдат, — вот сюда.
Он показал на зияющий провал, заросший кустарником.
— Нора, что ли?
— Убежище?
— Подземный ход, — торопливо сообщил Петер, — выходит прямо в костел.
Петер скрылся в отверстии.
— Старшина! Быстро в костел.
— Есть!
Я нырнул вслед за мальчиком, за мной полезли Саша и усатый солдат. Я вынул фонарик, и мы побежали по подземному рукаву. Бежали долго. Рукав расширился, под ногами каменные плиты, откуда-то сверху проникал свет.
Саша споткнулся об истлевший скелет. Далеко откатился череп, зазвенела цепь.
— Кто здесь был прикован? За что?
Вот и конец пути. Кругом стены — лестница, над головой — люк. Петер попробовал его открыть — не тут-то было.
— Привалили крышку, гады, — хрипит Саша. — А ну еще разок. — Тщетно: мы заперты в каменном подполье. Бросились назад. Грянули выстрелы.
— Ловушка!
Отскочили за угол, прижались к стене. С нами нет усатого. Что с ним? Стрелять боялись, а вдруг он там, в рукаве?
Петер попросил у Саши автомат.
— Ничего, хлопчик, сами справимся, иди в укрытие.
Но вдруг над нами люк открылся.
— Живы! — вопит наверху старшина, — порядок, товарищ капитан.
Мы вылезли наверх, костел был полон солдат. У ног капитана лежали трое связанных: Вальтер, ксендз Йорек и какой-то длинноволосый субъект в порванной спортивной тужурке.
— Старшина, бери солдат, — скомандовал капитан, — прочесать подземный ход!
В люк нырнули наши солдаты — они пойдут навстречу старшине.
Прошло томительных полчаса. Из люка показался взлохмаченный, облепленный паутиной старшина. Вышло еще несколько солдат, которые несли безжизненное тело. Положили на деревянную скамью — это был солдат, который когда-то ехал со мной на машине. Маской белело в полумраке морщинистое лицо, усы были залиты кровью.
— Поймали их?
— Никого не нашли, товарищ капитан, как в воду канули, только вот Кузьмича… — голос старшины прервался.
Рассвет. Я подошел к убитому: в спине старого солдата торчал плоский, широкий тесак с массивной рукояткой. На рукоятке две буквы: W. W.
…Вечером за ужином я достал записную книжечку Сибирцева, открыл страничку с нарисованной фашистской каской и с удовольствием поставил на ней жирный крест. «Стальной шлем» в нашем городе перестал существовать.
 Была середина апреля. Солнце, теплынь, голубое небо — весна в разгаре.
Наши армии наступали, громя фашистскую орду, шли к Берлину.
Меня все же очень тяготила тыловая жизнь, правда, мы не сидели сложа руки, но все же… А потом — Зося. Где и как ее похоронили, я не знал. Тошно стало мне в этом маленьком конфетном городке, мне хотелось в свою часть.
Капитан утешал меня как мог — нагружал работой, старался отвлечь, не знал, бедняга, что я подал командованию просьбу отпустить на передовую.
А еще на место Сибирцева приехал лейтенант. Человек он, видимо, был хороший, и парень, видно, энергичный. Звали его Володей.
…Как-то утром прибежал к нам толстый интендантский капитан чуть не в истерике: кто-то стрелял, в него с крыши разбитого бомбой дома на улице Святого Духа. Капитан тыкал мне в лицо продырявленную фуражку, обливался потом и ругал комендатуру.
— Подхожу к кофейне пивца выпить — жарища, понимаете, вдруг — ззык, и фуражка долой. Что же у вас делается — среди бела дня обстреливают. Весь фронт прошел, все время в боях, приехал с передовой по делу — и на тебе. Еще чего доброго в тылу ухлопают, перед концом войны — обидно.
— Товарищ капитан, я возьму солдат, прочешем это место, а вы покажете дорогу.
Капитан зашипел, как проколотый пузырь.
— Нет, уж увольте, вы там как-нибудь сами, у меня дела: муку надо принимать.
— Муку?
— Точно, ее. Я начальник ПаХа.
Толстяк исчез. Мы с Володей, посмеявшись «воинственности» представителя полевой армейской хлебопекарни, пошли на улицу Святого Духа и облазили все разрушенные дома.
— Похоже, что в этого пекаря стрелял сам святой дух, — пошутил Володя, стряхивая с гимнастерки бурую кирпичную пыль, — впрочем, эти духи ждать нас не станут.
А на другой день опять происшествие. Капитан Степанов ехал на мотоцикле в коляске. На него сбросили с крыши кирпич, который попал ему в грудь… Опять прочесывали здание — и опять ничего.
Степанова отправили в госпиталь — были сломаны два ребра.
Через два дня после этого случая ко мне пришла фрау Вебер, мать Петера. Она принесла записку — Петер болен, просит вечером зайти. Записка была написана по-русски. «Способный, дьяволенок, — подумал я, — изучает русский язык». Я подчеркнул две ошибки красным карандашом.
— Передайте, что приду, фрау Вебер, а это — Хильде. — Я сунул немке пачку печенья из офицерского пайка.
Вечером я отправился к Петеру. Он очень обрадовался моему приходу.
— Матери нет дома, — зашептал Петер, — ушла к соседке, у меня большие новости.
— Как чувствуешь себя? Ты простудился?
— Нет, я не болен, честное слово, просто попросил маму пригласить вас, может, за мной следят.
Я вопросительно посмотрел на мальчика, он продолжал.
— Вы ведь знаете, что я работаю не только на станции, но и два раза в неделю на маслозаводе. Так вот я познакомился там с одним человеком, и он хочет повидаться с вами.
— Зачем?
— Не знаю, он очень просил, но тайно, чтобы его никто не увидел. Он боится, что его убьют.
— Кто этот человек?
— Рабочий на маслозаводе. Немец. Фамилия его Шульц. Иоган Шульц.
— Что же ему нужно?
— Не знаю. Он говорит, что дело большой важности.
— А как ты с ним познакомился?
— Я менял проводку на складе, а он там работает. Как-то раз смотрю, — сидит и плачет. Мужчина — и плачет, удивительно, правда? Но я его стал успокаивать, подружился с ним, а вчера он позвал меня и говорит: «Мне надо поговорить с русскими по важному делу, но я боюсь, что они меня расстреляют». Я рассказал ему о вас, как вы ко мне относитесь и вообще, — Петер махнул рукой, — а он опять заплакал…
— Короче, Петер, где он?
— Посидите здесь, я сейчас за ним сбегаю.
Через полчаса Петер привел Шульца. Немолодой, узколицый, с тяжелыми крестьянскими руками, он встал во фронт.
«Военный, — мелькнуло в голове, — выправка, не хватает только „Хайль“».
— Садитесь, господин Шульц, давайте познакомимся, я помощник коменданта города.
— Я знаю, — прошептал Шульц, — о, господи!
— Что привело вас ко мне?
Он вскочил, порывисто забормотал, глядя мутными глазами куда-то в сторону, затем посмотрел на меня в упор, с каким-то остервенением махнул рукой и заговорил четко, лаконично, толково.
Вот что рассказал он мне.
— Я вырос в Гамбурге, прекрасном, добром, старом немецком городе, в семьепекаря. Началась война. Наш безумец хотел поработить весь мир. У меня слабое сердце, но разве ему есть дело до здоровья простого человека? Так я стал поваром, военным поваром. — Шульц замолчал.
— Надеюсь, что вы пришли сюда не только для того, чтобы рассказывать свою автобиографию?
— О да! Я был в армии, в пехотной дивизии и одному человеку очень понравились мои блюда. Он взял меня к себе. Это было ужасно.
— Дальше!
— А дальше начался сущий ад. Мой шеф был большим начальником в Биркенау.
— Биркенау? Филиал Освенцима, — я вздрогнул.
— Да, — горестно вздохнул Шульц, — я пробыл там больше года, готовил пищу для охранников. Это были дни кошмара. Страшно говорить…
— И не надо говорить, — перебил я, — наша часть освобождала Освенцим. Я знаю, что это такое. Дальше!
— Потом русская армия, бегство, дорожные мытарства и, наконец, я очутился здесь.
— Вы дезертировали?
— В том то и дело, что нет. Я оставлен здесь по заданию вместе с группой.
— Так вот оно что, — у меня перехватило дыхание, рывком выхватил я из кармана книжечку Сибирцева — оскаленный чертик глянул с пожелтевшей страницы — W. W.?
— Да, — прошептал оглядываясь на дверь немец, — это Вервольф!
Я задыхался. Так вот когда я схвачу тебя за глотку, фашистская гадина!
— Количество членов организации? Задания?
— Со мной пятеро. Шеф — штурмбанфюрер «СС», Карл и Герхард — местные немцы, работают на маслозаводе, и Гансен. О, этот Гансен! Он был на акциях, в Биркенау работал в бане, вырывал у трупов зубы, а с живыми…
— Довольно, — хмуро оборвал я, — ясно. Задание?
— Разведка, террор. Убивают только шеф и Гансен, это они убили вашего офицера, они закололи солдата в подземном ходе, они…
Шульц дрожащим голосом долго перечислял злодеяния.
— Все?
— Да. Ах, самое главное. Мы проиграли войну, это ясно, как божий день. Шеф совсем осатанел. Они с Гансеном все время шепчутся, хотят удрать, а на прощание хлопнуть дверью.
— Что такое?
— Да, шеф так и сказал: «Мы уйдем, хлопнув дверью на всю Германию».
— Что это означает?
— Не знаю.
Шульц опустился на стул, тяжело вздохнул, повесил голову.
— Все, господин офицер.
Я поднялся. Шульц вскочил и вытянулся.
— Почему вы пришли ко мне, Шульц?
— У меня есть сын, господин офицер, я не хочу, чтобы он был сыном фашиста. Я не наци, но служил им. Я…
— Вот что, Шульц, — я сунул ладони за пояс, — вы поможете нам и я буду считать, что в вашей банде не пятеро, а четверо.
Зеленые глаза Шульца недоверчиво прищурились, мгновение он, казалось, колебался, затем махнул рукой и вытянулся еще больше.
— Приказывайте, — четко проговорил он, — я сделаю все. — Теперь уже я смотрел на него с недоверием.
— Господин офицер! Даю слово, слово честного немца…
…Меня разбудил старшина.
— Пришел Петер, срочно требует вас, ничего не говорит, а требует — настырный хлопец.
— Давай его сюда.
Петер вбежал в комнату и, не поздоровавшись, зачастил.
— Господин обер-лейтенант, скорей… Они задумали…
Мальчик был настолько взволнован, что назвал меня господином и не поздоровался.
— Стоп. Садись. Воды выпьешь?
Вслед за Петером вошел Владимир. Он был тщательно выбрит и подтянут. Я быстро оделся и подошел к Петеру.
— Ну!
— Шульц! Шульц! Прибежал ко мне ночью, говорит, что у них что-то готовится. Сегодня в одиннадцать часов все собираются в конторе маслозавода. Там что-то произойдет, а может быть и раньше, а что, Шульц сам не знает. Шеф и Гансен держат в тайне. Вечером они исчезнут из города. Шульц послал меня к вам. — Я перевел Владимиру и старшине рассказ Петра.
— Гусаров! Подготовьте солдат к операции!
— Есть!
Я взглянул на часы — половина одиннадцатого.
— Быстрее, старшина!
— Ничего, — спокойно приговорил Владимир, — как этот пацан сказал. В одиннадцать. Ну что ж, езды минут пятнадцать-двадцать, а если с ветерком поедем, и того меньше.
Мы действительно ехали с «ветерком». Наш вездеходик метеором летел по городу, поднимая пыль. Следом поспевал трофейный «Виллис» — недобрая память о «майоре с орденами» — до отказа набитый солдатами. Среди зеленых гимнастерок белела рубашка Петера.
Маслозавод находился за городом, на опушке леса. Он был мгновенно окружен по всем правилам военного искусства. Все дороги, лучами разбегавшиеся от маленького одноэтажного здания с черепичной крышей, гордо именуемого заводом, были перекрыты. Ровно в одиннадцать мы вошли в контору. Вероятно нас заметили, когда мы подъезжали к заводу. В конторе все имело самый нормальный вид. За столами сидело несколько человек, один щелкал на счетах. Нам навстречу угодливо поднялся поджарый, прилизанный человек.
— День добрый, — приветствовал он нас по-польски, — что панам угодно?
— Это шеф, — шепнул мне Петер.
— Я заместитель коменданта города. У вас будет произведен обыск.
— О, проше, проше, пана коменданта, — рассыпался шеф, — мы есть мирные обыватели, пожалуйста, я сам все покажу.
— Сидите на месте, — холодно бросил Владимир, — начнем, старший лейтенант.
В контору быстро вошли Шульц и длинный, костлявый человек с крестообразным шрамом на щеке. Заметив нас, оба остолбенели.
— Гансен, — шепнул Петер.
— Проходите сюда, — проговорил я, — садитесь и сидите смирно.
Вошел старший сержант и доложил, что обыск в цехе не дал результатов. При этих словах подбритые в ниточку усики «шефа» дрогнули.
— Где все рабочие? Почему цехи пустые?
— Сегодня воскресенье, господин комендант, праздник. — «Шеф» улыбнулся еще шире.
— Вот как, — притворно удивился я. — Чем же в таком случае здесь занимаются эти господа?
— Итог подводим, — залебезил шеф.
— Вот оно что, оказывается работаете?
— Так, проше пана, так.
Солдаты обшарили контору. Пока ничего найдено не было. «Шеф» приторно улыбнулся, я злился, но сдерживался.
Внезапно Владимир спокойно подошел к «шефу» и выхватил у него из кармана пистолет. «Шеф» посинел.
— Это что, инструмент для сбивания масла? — спросил Владимир и дал «шефу» по шее.
— Обыскать этих «друзей», — крикнул я.
На сей раз результат был положительным. Пять пистолетов, патроны к ним, ножи.
— Какой интересный инструмент у мирных тружеников маслозавода, — ехидно протянул Владимир, — красивый инструмент.
Я схватил со стола нож — на рукоятке блестели две столь знакомые и столь ненавистные буквы: W. W.
— Ну, «оборотни», допрыгались!
«Оборотни» зеленели, на «шефа» было жалко смотреть. Только Шульц и Гансен сохраняли самообладание.
Я заметил, что Шульц ловит мой взгляд. Он смотрел на меня в упор, на него косился сквозь полуприкрытые веки Гансен. Внезапно Шульц вскочил на стол, дотянулся до висящей над ним картины — как сейчас помню, на ней была нарисована ветряная мельница, сорвал ее, бросил на пол и тронул стену рукой, она подалась, выдвинулся ящичек. Грянул выстрел, за ним второй. Шульц вскрикнул, схватился за грудь и, зашатавшись, тяжело рухнул на пол.
Гансен, оттолкнув солдата, выскочил в окно. Мы бросились за ним. Он помчался по дороге, но, увидев солдат, бросился в сторону, споткнулся и упал. Очевидно, Гансен подвернул ногу. Поднявшись на колени, он выпустил в меня и Владимира, который бежал позади, несколько пуль. Мне обожгло висок. Мы были совсем близко. Гансен лихорадочно перезаряжал обойму, и тогда я выпустил прямо ему в грудь все десять пуль моего парабеллума.
Мы вернулись в дом. Шульц лежал на полу, обнаженный до пояса, над ним хлопотали солдаты. Он хрипло, порывисто дышал, кровь пузырилась на губах, проступала маковыми пятнами на перехваченной бинтами груди. Я склонился над ним. Он открыл мутнеющие глаза, отчетливо сказал.
— В масло… засыпан… яд. Спешите… масло отравлено… быстрее…
Яд! Страшно подумать — масло отравлено! Его еще утром отправили в госпитали, в танковую бригаду. Погибнут тысячи людей — вот он пресловутый хлопок дверью на всю Германию, который замыслил «Вервольф».
Мгновенно, точно стая встревоженных птиц, понеслись наши солдаты в разные стороны. Старшина на «Виллисе» укатил к танкистам, Саша, раздобыв откуда-то двух коней, вскочил на одного и умчался, на другом поскакал старший сержант. Распорядившись насчет арестованных, я с двумя солдатами и Владимиром полетел в город.
Давно наш вездеход не ходил в таком бешеном темпе. У двух госпиталей я ссадил поочередно солдат — они опрометью побежали к белым домикам с краснокрестовыми флажками у входа. Сам я ракетой влетел во двор того самого ППГ-4584, где пролежал столько времени.
Мы с Владимиром затопали по коридору, вбегали в палаты. А раненым принесли завтрак — какао и хлеб с маслом. Масло желтыми брусочками мирно покоилось на пайках хлеба… Опрокидывая подносы, мы бежали из палаты в палату. Когда последний брусок масла был сброшен на пол, мы остановились. Прошло полчаса. Начальник госпиталя седой полковник Дячко обнял нас с Владимиром и поцеловал.
Как сквозь сон, я слышал торжествующий голос рыжего доктора:
— Я же вам говорил, что не зря мы поставили на ноги этого парня…
Была середина апреля. Солнце, теплынь, голубое небо — весна в разгаре.
Наши армии наступали, громя фашистскую орду, шли к Берлину.
Меня все же очень тяготила тыловая жизнь, правда, мы не сидели сложа руки, но все же… А потом — Зося. Где и как ее похоронили, я не знал. Тошно стало мне в этом маленьком конфетном городке, мне хотелось в свою часть.
Капитан утешал меня как мог — нагружал работой, старался отвлечь, не знал, бедняга, что я подал командованию просьбу отпустить на передовую.
А еще на место Сибирцева приехал лейтенант. Человек он, видимо, был хороший, и парень, видно, энергичный. Звали его Володей.
…Как-то утром прибежал к нам толстый интендантский капитан чуть не в истерике: кто-то стрелял, в него с крыши разбитого бомбой дома на улице Святого Духа. Капитан тыкал мне в лицо продырявленную фуражку, обливался потом и ругал комендатуру.
— Подхожу к кофейне пивца выпить — жарища, понимаете, вдруг — ззык, и фуражка долой. Что же у вас делается — среди бела дня обстреливают. Весь фронт прошел, все время в боях, приехал с передовой по делу — и на тебе. Еще чего доброго в тылу ухлопают, перед концом войны — обидно.
— Товарищ капитан, я возьму солдат, прочешем это место, а вы покажете дорогу.
Капитан зашипел, как проколотый пузырь.
— Нет, уж увольте, вы там как-нибудь сами, у меня дела: муку надо принимать.
— Муку?
— Точно, ее. Я начальник ПаХа.
Толстяк исчез. Мы с Володей, посмеявшись «воинственности» представителя полевой армейской хлебопекарни, пошли на улицу Святого Духа и облазили все разрушенные дома.
— Похоже, что в этого пекаря стрелял сам святой дух, — пошутил Володя, стряхивая с гимнастерки бурую кирпичную пыль, — впрочем, эти духи ждать нас не станут.
А на другой день опять происшествие. Капитан Степанов ехал на мотоцикле в коляске. На него сбросили с крыши кирпич, который попал ему в грудь… Опять прочесывали здание — и опять ничего.
Степанова отправили в госпиталь — были сломаны два ребра.
Через два дня после этого случая ко мне пришла фрау Вебер, мать Петера. Она принесла записку — Петер болен, просит вечером зайти. Записка была написана по-русски. «Способный, дьяволенок, — подумал я, — изучает русский язык». Я подчеркнул две ошибки красным карандашом.
— Передайте, что приду, фрау Вебер, а это — Хильде. — Я сунул немке пачку печенья из офицерского пайка.
Вечером я отправился к Петеру. Он очень обрадовался моему приходу.
— Матери нет дома, — зашептал Петер, — ушла к соседке, у меня большие новости.
— Как чувствуешь себя? Ты простудился?
— Нет, я не болен, честное слово, просто попросил маму пригласить вас, может, за мной следят.
Я вопросительно посмотрел на мальчика, он продолжал.
— Вы ведь знаете, что я работаю не только на станции, но и два раза в неделю на маслозаводе. Так вот я познакомился там с одним человеком, и он хочет повидаться с вами.
— Зачем?
— Не знаю, он очень просил, но тайно, чтобы его никто не увидел. Он боится, что его убьют.
— Кто этот человек?
— Рабочий на маслозаводе. Немец. Фамилия его Шульц. Иоган Шульц.
— Что же ему нужно?
— Не знаю. Он говорит, что дело большой важности.
— А как ты с ним познакомился?
— Я менял проводку на складе, а он там работает. Как-то раз смотрю, — сидит и плачет. Мужчина — и плачет, удивительно, правда? Но я его стал успокаивать, подружился с ним, а вчера он позвал меня и говорит: «Мне надо поговорить с русскими по важному делу, но я боюсь, что они меня расстреляют». Я рассказал ему о вас, как вы ко мне относитесь и вообще, — Петер махнул рукой, — а он опять заплакал…
— Короче, Петер, где он?
— Посидите здесь, я сейчас за ним сбегаю.
Через полчаса Петер привел Шульца. Немолодой, узколицый, с тяжелыми крестьянскими руками, он встал во фронт.
«Военный, — мелькнуло в голове, — выправка, не хватает только „Хайль“».
— Садитесь, господин Шульц, давайте познакомимся, я помощник коменданта города.
— Я знаю, — прошептал Шульц, — о, господи!
— Что привело вас ко мне?
Он вскочил, порывисто забормотал, глядя мутными глазами куда-то в сторону, затем посмотрел на меня в упор, с каким-то остервенением махнул рукой и заговорил четко, лаконично, толково.
Вот что рассказал он мне.
— Я вырос в Гамбурге, прекрасном, добром, старом немецком городе, в семьепекаря. Началась война. Наш безумец хотел поработить весь мир. У меня слабое сердце, но разве ему есть дело до здоровья простого человека? Так я стал поваром, военным поваром. — Шульц замолчал.
— Надеюсь, что вы пришли сюда не только для того, чтобы рассказывать свою автобиографию?
— О да! Я был в армии, в пехотной дивизии и одному человеку очень понравились мои блюда. Он взял меня к себе. Это было ужасно.
— Дальше!
— А дальше начался сущий ад. Мой шеф был большим начальником в Биркенау.
— Биркенау? Филиал Освенцима, — я вздрогнул.
— Да, — горестно вздохнул Шульц, — я пробыл там больше года, готовил пищу для охранников. Это были дни кошмара. Страшно говорить…
— И не надо говорить, — перебил я, — наша часть освобождала Освенцим. Я знаю, что это такое. Дальше!
— Потом русская армия, бегство, дорожные мытарства и, наконец, я очутился здесь.
— Вы дезертировали?
— В том то и дело, что нет. Я оставлен здесь по заданию вместе с группой.
— Так вот оно что, — у меня перехватило дыхание, рывком выхватил я из кармана книжечку Сибирцева — оскаленный чертик глянул с пожелтевшей страницы — W. W.?
— Да, — прошептал оглядываясь на дверь немец, — это Вервольф!
Я задыхался. Так вот когда я схвачу тебя за глотку, фашистская гадина!
— Количество членов организации? Задания?
— Со мной пятеро. Шеф — штурмбанфюрер «СС», Карл и Герхард — местные немцы, работают на маслозаводе, и Гансен. О, этот Гансен! Он был на акциях, в Биркенау работал в бане, вырывал у трупов зубы, а с живыми…
— Довольно, — хмуро оборвал я, — ясно. Задание?
— Разведка, террор. Убивают только шеф и Гансен, это они убили вашего офицера, они закололи солдата в подземном ходе, они…
Шульц дрожащим голосом долго перечислял злодеяния.
— Все?
— Да. Ах, самое главное. Мы проиграли войну, это ясно, как божий день. Шеф совсем осатанел. Они с Гансеном все время шепчутся, хотят удрать, а на прощание хлопнуть дверью.
— Что такое?
— Да, шеф так и сказал: «Мы уйдем, хлопнув дверью на всю Германию».
— Что это означает?
— Не знаю.
Шульц опустился на стул, тяжело вздохнул, повесил голову.
— Все, господин офицер.
Я поднялся. Шульц вскочил и вытянулся.
— Почему вы пришли ко мне, Шульц?
— У меня есть сын, господин офицер, я не хочу, чтобы он был сыном фашиста. Я не наци, но служил им. Я…
— Вот что, Шульц, — я сунул ладони за пояс, — вы поможете нам и я буду считать, что в вашей банде не пятеро, а четверо.
Зеленые глаза Шульца недоверчиво прищурились, мгновение он, казалось, колебался, затем махнул рукой и вытянулся еще больше.
— Приказывайте, — четко проговорил он, — я сделаю все. — Теперь уже я смотрел на него с недоверием.
— Господин офицер! Даю слово, слово честного немца…
…Меня разбудил старшина.
— Пришел Петер, срочно требует вас, ничего не говорит, а требует — настырный хлопец.
— Давай его сюда.
Петер вбежал в комнату и, не поздоровавшись, зачастил.
— Господин обер-лейтенант, скорей… Они задумали…
Мальчик был настолько взволнован, что назвал меня господином и не поздоровался.
— Стоп. Садись. Воды выпьешь?
Вслед за Петером вошел Владимир. Он был тщательно выбрит и подтянут. Я быстро оделся и подошел к Петеру.
— Ну!
— Шульц! Шульц! Прибежал ко мне ночью, говорит, что у них что-то готовится. Сегодня в одиннадцать часов все собираются в конторе маслозавода. Там что-то произойдет, а может быть и раньше, а что, Шульц сам не знает. Шеф и Гансен держат в тайне. Вечером они исчезнут из города. Шульц послал меня к вам. — Я перевел Владимиру и старшине рассказ Петра.
— Гусаров! Подготовьте солдат к операции!
— Есть!
Я взглянул на часы — половина одиннадцатого.
— Быстрее, старшина!
— Ничего, — спокойно приговорил Владимир, — как этот пацан сказал. В одиннадцать. Ну что ж, езды минут пятнадцать-двадцать, а если с ветерком поедем, и того меньше.
Мы действительно ехали с «ветерком». Наш вездеходик метеором летел по городу, поднимая пыль. Следом поспевал трофейный «Виллис» — недобрая память о «майоре с орденами» — до отказа набитый солдатами. Среди зеленых гимнастерок белела рубашка Петера.
Маслозавод находился за городом, на опушке леса. Он был мгновенно окружен по всем правилам военного искусства. Все дороги, лучами разбегавшиеся от маленького одноэтажного здания с черепичной крышей, гордо именуемого заводом, были перекрыты. Ровно в одиннадцать мы вошли в контору. Вероятно нас заметили, когда мы подъезжали к заводу. В конторе все имело самый нормальный вид. За столами сидело несколько человек, один щелкал на счетах. Нам навстречу угодливо поднялся поджарый, прилизанный человек.
— День добрый, — приветствовал он нас по-польски, — что панам угодно?
— Это шеф, — шепнул мне Петер.
— Я заместитель коменданта города. У вас будет произведен обыск.
— О, проше, проше, пана коменданта, — рассыпался шеф, — мы есть мирные обыватели, пожалуйста, я сам все покажу.
— Сидите на месте, — холодно бросил Владимир, — начнем, старший лейтенант.
В контору быстро вошли Шульц и длинный, костлявый человек с крестообразным шрамом на щеке. Заметив нас, оба остолбенели.
— Гансен, — шепнул Петер.
— Проходите сюда, — проговорил я, — садитесь и сидите смирно.
Вошел старший сержант и доложил, что обыск в цехе не дал результатов. При этих словах подбритые в ниточку усики «шефа» дрогнули.
— Где все рабочие? Почему цехи пустые?
— Сегодня воскресенье, господин комендант, праздник. — «Шеф» улыбнулся еще шире.
— Вот как, — притворно удивился я. — Чем же в таком случае здесь занимаются эти господа?
— Итог подводим, — залебезил шеф.
— Вот оно что, оказывается работаете?
— Так, проше пана, так.
Солдаты обшарили контору. Пока ничего найдено не было. «Шеф» приторно улыбнулся, я злился, но сдерживался.
Внезапно Владимир спокойно подошел к «шефу» и выхватил у него из кармана пистолет. «Шеф» посинел.
— Это что, инструмент для сбивания масла? — спросил Владимир и дал «шефу» по шее.
— Обыскать этих «друзей», — крикнул я.
На сей раз результат был положительным. Пять пистолетов, патроны к ним, ножи.
— Какой интересный инструмент у мирных тружеников маслозавода, — ехидно протянул Владимир, — красивый инструмент.
Я схватил со стола нож — на рукоятке блестели две столь знакомые и столь ненавистные буквы: W. W.
— Ну, «оборотни», допрыгались!
«Оборотни» зеленели, на «шефа» было жалко смотреть. Только Шульц и Гансен сохраняли самообладание.
Я заметил, что Шульц ловит мой взгляд. Он смотрел на меня в упор, на него косился сквозь полуприкрытые веки Гансен. Внезапно Шульц вскочил на стол, дотянулся до висящей над ним картины — как сейчас помню, на ней была нарисована ветряная мельница, сорвал ее, бросил на пол и тронул стену рукой, она подалась, выдвинулся ящичек. Грянул выстрел, за ним второй. Шульц вскрикнул, схватился за грудь и, зашатавшись, тяжело рухнул на пол.
Гансен, оттолкнув солдата, выскочил в окно. Мы бросились за ним. Он помчался по дороге, но, увидев солдат, бросился в сторону, споткнулся и упал. Очевидно, Гансен подвернул ногу. Поднявшись на колени, он выпустил в меня и Владимира, который бежал позади, несколько пуль. Мне обожгло висок. Мы были совсем близко. Гансен лихорадочно перезаряжал обойму, и тогда я выпустил прямо ему в грудь все десять пуль моего парабеллума.
Мы вернулись в дом. Шульц лежал на полу, обнаженный до пояса, над ним хлопотали солдаты. Он хрипло, порывисто дышал, кровь пузырилась на губах, проступала маковыми пятнами на перехваченной бинтами груди. Я склонился над ним. Он открыл мутнеющие глаза, отчетливо сказал.
— В масло… засыпан… яд. Спешите… масло отравлено… быстрее…
Яд! Страшно подумать — масло отравлено! Его еще утром отправили в госпитали, в танковую бригаду. Погибнут тысячи людей — вот он пресловутый хлопок дверью на всю Германию, который замыслил «Вервольф».
Мгновенно, точно стая встревоженных птиц, понеслись наши солдаты в разные стороны. Старшина на «Виллисе» укатил к танкистам, Саша, раздобыв откуда-то двух коней, вскочил на одного и умчался, на другом поскакал старший сержант. Распорядившись насчет арестованных, я с двумя солдатами и Владимиром полетел в город.
Давно наш вездеход не ходил в таком бешеном темпе. У двух госпиталей я ссадил поочередно солдат — они опрометью побежали к белым домикам с краснокрестовыми флажками у входа. Сам я ракетой влетел во двор того самого ППГ-4584, где пролежал столько времени.
Мы с Владимиром затопали по коридору, вбегали в палаты. А раненым принесли завтрак — какао и хлеб с маслом. Масло желтыми брусочками мирно покоилось на пайках хлеба… Опрокидывая подносы, мы бежали из палаты в палату. Когда последний брусок масла был сброшен на пол, мы остановились. Прошло полчаса. Начальник госпиталя седой полковник Дячко обнял нас с Владимиром и поцеловал.
Как сквозь сон, я слышал торжествующий голос рыжего доктора:
— Я же вам говорил, что не зря мы поставили на ноги этого парня…
 -
-
Информация об издании
Ю. ИЛЬИНСКИЙ
«ЗАПИСКИ ПАВЛА КУРГАНОВА»
Художник Л. А. Ушаков
Редактор А. И. Григорьева Тех. ред. Г. И. Блаженкова Худ. ред. Б. А. Васильев Корректор Л. И. Померанцева
Сдано в набор 25.10.57 Подписано к печати 4/V–58 Г-40309 Формат бум. 84×1081/32 Изд. № 4/1091 1,75 физ. п. л. = 2,87 усл. п. л. Учет.-изд. л. = 2,930 Тираж 145 000 экз. Цена 90 коп.

Издательство ДОСААФ, Москва, Б-66, Ново-Рязанская, 26


Последние комментарии
1 день 14 часов назад
1 день 18 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 21 часов назад
1 день 23 часов назад
2 дней 9 минут назад