Мои знакомые [Александр Семенович Буртынский] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Мои знакомые
Другу моему — Александру Хмурчику посвящается
ДАВНИЙ РЕЙС
ОТ АВТОРА
Погожим августовским вечером, какие редко выпадают на Балтике, мы с Александром Федоровичем, старым моим приятелем, возвращаясь из колхоза в город, свернули на дикий пляж, решив скоротать часок на взморье. И то ли тихие всплески волны, лизавшей берег, то ли дымок, тянувшийся за белым судном на горизонте, а может быть, по контрасту с благостным пейзажем: разудалая компания парней и девчонок, уже изрядно навеселе кейфовавшая под орущий транзистор у самой кромки воды, — только вдруг заговорил он о днях своей юности, дальних плаваньях, незаметно перекинувшись на то, что волновало его сейчас как прирожденного воспитателя и партийного работника: начало пути, выбор места в жизни. Покашляв, неожиданно произнес с уже знакомой мне, застенчивой усмешкой: — Слушай, я ведь не ханжа и душой не стар, но, ей-богу, не могу понять, как это можно часами лежать под такую музыку и ни черта не делать. Я так прямо заболеваю от безделья… — Отдых после работы… — Сомневаюсь. У этих, похоже — вместо работы. Он помолчал, о чем-то раздумывал, словно бы прислушиваясь к самому себе; взгляд его, провожавший стелящийся в синеве дымок, стал отсутствующим, далеким. — У нас юность потрудней была, — сказал он с легким вздохом. — А как мечталось о море… Мечта — это вроде поэзии. Но существует еще и проза — к сожалению. А может, и к счастью. Мечту еще заработать надо… — Ты что же, разве не сразу плавать начал? — Сразу? Я мореходку, знаешь, каким горбом достигал. И, рассмеявшись, стал вспоминать о том, как начиналась его, так сказать, морская жизнь… Это было время, когда зарождался рыбацкий флот Калининграда, взявший свое начало в небольшой полузаброшенной пристани, на месте которой вырос ныне порт мирового значения; время первых рейсов на шхунах, мотоботах и стареньких СРТ, лишенных элементарного холодильника, где мясной харч висел в мешках на вантах, единственным поисковым оборудованием был эхолот, а вместо современных кошельковых тралов обычная сеть, какой пользовались еще купринские листригоны. За первый год было добыто в заливах около тысячи центнеров рыбы, то есть сотая доля того, что дает сейчас один мощный рыболовный траулер. Но это была хорошая школа опыта и мужества, суда возглавили бывшие фронтовые моряки. Под началом одного из них — И. И. Иванова оказался и мой приятель, тогда еще деревенский парнишка. Капитан стал для него примером выдержки, честности, справедливого отношения к людям. Санькина морская одиссея показалась мне настолько типичной для нашей жизни со всеми ее сложностями, обретениями и потерями, что, вернувшись вечером к себе в гостиницу, я тотчас со всеми подробностями записал ее в тетрадь. История эта и легла в основу небольшой повести.ПЕРВЫЕ ШАГИ
Он и сам толком не знал, что его толкнуло в этот чужой портовый город, еще пахнущий гарью развалин. Слишком много было прочитано в деревенской избе, при свете каганца, о море и моряках. Недоступным, непостижимым казалось мужество неведомых путешественников, чтобы хоть робко надеяться, что и ему, Саньке, привалит когда-нибудь счастье. Но вот однажды он увидел вернувшихся в село флотских парней, загорелых, красивых, в синих форменках, похожих и не похожих на себя, недавних пастухов и водовозов. У него даже дух захватило — вот тогда-то и решился… Он сошел с поезда, кинув за плечо тощий, заплатанный баульчик. Среди копотно-зловещих руин кое-где маячили новостройки в лесах, но весь город с его черепичными крышами в осколочных шрамах, торчащей вдали готикой разбитого собора, израненный, чадный, какого-то истемна-кровавого цвета еще дышал войной. Казалось, вот-вот грохнет рядом, полыхнет огнем, как было тогда, в сорок четвертом в родном селе, спаленном немцами перед уходом. Даже ойкнуло где-то внутри, под сердцем — давно приглушенный временем собственный, неузнаваемый голос. На мгновение он замер и не сразу тронулся дальше, оскальзываясь на мокрой от мороси брусчатке. Немцев он боялся до смерти, мальцом в рваных портках улепетывал на чердак всякий раз, когда они врывались на подворье, вылавливая оставшихся кур. Забивался в угол, пережидал беду. Сейчас он усмехнулся тому себе, похожему на пойманного воробышка, хотя было ему и теперь совсем немного — всего-то семнадцать с лишком. Утром, переночевав у дальних родичей — мамкина сватья, десятая вода на киселе, — пристроивших его без особой радости в чулане на лавке, Санька почистил не раз чиненные сапоги, в которых братья ходили в школу посменно, отгладил касторовый отцовский пиджак, доходивший ему до колен и контрастно отличавшийся от полотняных штанов (костюмные достались старшему брату), и вышел в город. Добрался к порту лишь за полдень, часами ждал трамвая, похожего на броневик — весь в листовых заплатах с заклепками… Неожиданно открылся взору канал с медленно плывущими судами. Он долго стоял, разинув рот, с бьющимся сердцем. Где-то там, вдали, колыхалось невидимое море, дальние страны, удивительная, немыслимо красивая жизнь. — Эй, сторонись, — послышался позади звонкий голос. Он обернулся, девчонка в заляпанной известкой спецовке тащила к воротам лестницу. Из-под стянутой на лбу косынки на него глянули черные смешливые глаза. Она уже прошла мимо, как вдруг обернулась, обронив: — Помог бы, кавалер! — Я не кавалер, — промямлил Санька. Он вообще был застенчив с девчонками. Однако помочь надо было, и он перехватил лестницу. — Да ты кто будешь? — вдруг спросила девчонка, глаза у нее по-прежнему смеялись, а голос был грубоват. — Не портовый, так тебя и не пустят. Он объяснил не очень складно, кто он и откуда и зачем приехал. — Ну-у, — разочарованно протянула она. Глаза уже не смеялись, и от этого стало почему-то обидно и холодно на душе. — Комсомолец хоть, или так — сам по себе? — Как же, — сказал он и даже полез в карман, где хранился завернутый в газетку билет. Девчонка о чем-то подумала и вдруг азартно стала его наставлять. Говорила она быстро, будто выстреливала слова. Он хватал их на лету, главное стало ясно: надо ему немедленно в райком, стать на учет и тут же попроситься в порт. Не откажут, люди позарез нужны. А ты такой молодец, да не устроят, ты уж мне поверь… И эти слова так легко и ладно легли на душу, что он даже вырос в собственных глазах и уже не сомневался, что и впрямь все устроится. И, может, через неделю он уже будет стоять на борту вот такого же корабля, что медленно уходил по каналу, белый, точно лебедь, с косой, как отросток крыла, трубой. — Ага, ага, я так и сделаю… Спасибо вам… Уже вслед расслышал ее голос: — Как хоть звать тебя? — Санькой. — А я Лена. Счастливо, студент! Встренемся. В райкоме ему повезло: сбывались Ленкины слова. И на учет его поставили тотчас, без лишних расспросов и направление дали. Он даже не сразу понял, куда и кем, и только на улице, вчитавшись в направление, вдруг ощутил слабость в ногах. Черным по белому значилось, что он направляется в порт для использования в строительных работах — штукатуром, каменщиком и т. д. На этот раз он уже не плутал. У проходной, куда час назад вошла с лестницей черноглазая Ленка, замедлил шаг, разглядев на стенке белый листок с чернильной надписью печатными буквами.«Рыбному порту требуются матросы…»Вот она, мелькнула обжигающая мысль, судьба. Он вошел в проходную с таким чувством, будто прокрался в чужой дом, на вопрос старика вахтера, куда и зачем, объяснил, что в кадры. Тот кивнул, сказал — проходи. Отдел кадров направо, вот в том здании. Тут, как на счастье, видно пошла ему везучая полоса, снова увидел Ленку, она стояла на верхотуре и затирала стену. — Лен! — позвал он ее, словно давнюю знакомую, потому что впрямь считал ее другом — помогла. — Ой, — сказала она, покачнувшись, и стала спускаться, — ну и шустро ты обернулся, студент. — Но видно, что-то поняла по его лицу, взяла из рук бумагу, прочла и вдруг привычно зачастила, словно убеждая самое себя: — Государство одно? Верно? Матросы нужны? Нужны! Попросился бы — на судно направили, а ты как телок… сам виноват. Вот сейчас исправляйся. Кадры на втором этаже, там в приемной запишись и жди. А бумажку спрячь. Ясно? — переспросила она, словно опасаясь, что он передумает. — Ясно… — он запнулся, сказав со смешком: — Как бы не сорвалось, мне ведь восемнадцати нету. — Вона… — она взглянула недоверчиво. — А мне уже все девятнадцать. — И, тряхнув головой, торопливо добавила: — Ну, ступай, ступай, горе мое. Он удивленно оглянулся на нее и бегом припустил по лестнице. Записываться не пришлось, в приемной никого не было, из чего он не без радости заключил, что с кадрами туго. Рано радовался. Молодой, стриженый кадровик в линялой гимнастерке, просмотрев его документы, промямлил: — Так, а войну где… ага, оккупация… Возраст… не выйдет. Вдруг стало жарко, тело под рубашкой было горячим и липким. — Чего не выйдет-то? — Дать работу, — твердо отчеканил кадровик. — Никакой… Несовершеннолетний. Стиснуло в горле, и Санька лишь закивал по-глупому, боясь расплакаться. В ушах шумело, пальцы сами собой мяли кепку. Кадровик, поморщась, поставил перед ним стакан с водой. Санька хотел было отпить, но тут же отдернул руку. — Брось фокусы, — все так же неколебимо прозвучало в ушах, будто издалека. — Я в твои годы… — Подыхать мне из-за не-верше… несоверше… — К мамке, на хлеба. Все хотят плавать! За границу! Я, может, тоже… — Сама без хлеба! Он рывком надвинул на лоб кепку и пошел к дверям. — Постой, ишь какие мы гордые. Под немцем такие выросли? — Ага, в рабстве. — Поосторожней! Он выскочил в коридор. Будто что перевернулось в душе. Зашагал сослепу по каким-то лестницам, не зная, что теперь делать, но уже твердо, с неведомо откуда взявшимся злым упорством решил, что больше сюда не ходок. Самовольно пристанет к команде, зайцем на судно, черт знает что еще, только в обиду себя не даст, унижаться перед этим стриженым не станет. Бюрократ!.. Когда-нибудь он, Санька, вернется из плавания лучшим, заслуженным матросом, а навстречу этот хмырь: «Неужто вы, Александр Федорович?» — а он пройдет мимо — и ноль внимания. Где-то на этаже, возле распахнутой огромной приемной, дохнувшей дымом, гомоном, смехом, столкнулся с парнем в новеньком бушлате. Тот протянул длинную сигарету — видно жаждал поболтать — спросил: «Тоже в рейс? С визой?» Санька пробормотал невнятное, но сигарету взял, закурил впервые, закашлялся. Морячок, видно, бывалый, что-то говорил о начальнике портофлота, из чего Санька только и понял, что именно здесь, в кабинете, заседает сам царь и бог Петр Иваныч, от которого все зависит. К нему-то Саньке и надо, раз он новичок да еще прибыл издалека. Главное — предъявить документы, только верные, не липу. Санька одурело мотал головой. — Эх ты, матрос на квинте нос, — вздохнул парень. — Главное, держись с достоинством, жизнь, она сопливых не любит. А Петр Иваныч подавно… Они уже сидели в приемной, где было дымно, хоть якорь вешай, как выразился случайный попутчик. А народу — битком. Наверное, начальник и впрямь был важный. Прошло часа два, не меньше, а Санька все еще был далек от обитых кнопками дверей. Они со скрипом отворялись, внутрь то и дело входили люди со стороны, не сидевшие в очереди, — видать, имели право. Остальные гудели, перебрасываясь репликами, то и дело слышались непонятные слова: «штурманская вахта», «пищевая группа», «траловый лов». Он старательно запоминал их, точно пробовал на вкус непривычную пищу, отдававшую запахом дальних рейсов. Стала покруживаться голова, был он слабоват, после войны жили худо, а тут еще за двое суток — один сухарь. У тетки харчиться не стал — спросила утром: деньги-то есть с собой? В кармане оставалась тридцатка — на буханку как раз, ее надо беречь. И какой из него моряк, стоит начальнику взглянуть — все станет ясно. В свои почти восемнадцать совсем хиляк, тощий, белобрысенький, самый раз подержаться за мамкин подол. Коротая время, он принялся репетировать, что скажет начальнику — чтобы сразу дошло, проникло в самое сердце. Всякие жили при немцах, у него совесть чиста. Дважды отца угоняли в Германию, дважды он бежал. И вообще он, Санька, комсомолец, с десятилеткой, не какой-нибудь шлендра. В голову лезли разные умные слова, заковыристые обороты, призванные пронять начальство. Вспомнилась фраза из старой газетки, найденной в вагоне, — об отношении к кадрам.
«Зачастую, к сожалению, имеет место недоучет, за бумажкой не видим человека… В сверхбдительной канцелярщине свивает гнездо формализм…»Как бы с этим гнездом формализма его не вытурили. А вот «недоучет» — это, пожалуй, в точку. Тем более что «зачастую и к сожалению». Совместное, так сказать, сожаление, пострадавшего и обидчика. Он представил Ленку, которая прочла бы сейчас эти мысли, и ему стало стыдно. К черту, сказать надо просто, по-человечески… Фраза распадалась, новая никак не складывалась, в голове от усталости и голодухи стоял туман. Морячок опять что-то стал втолковывать участливо. — Жизнь, брат как матрас, полосками… Он отмахнулся, боясь потерять ораторскую нить, а морячок, видно умаявшись, резко поднялся, пошел и скрылся в дверях тамбура, нарушив очередность, но никто не шумнул: может, он тоже был тут своим, а вот проторчал в приемной по скромности. От сумерек в комнате стало и вовсе сине, кутала дремота, и он не сразу сообразил, когда кто-то толкнул его в плечо — твоя очередь. От яркого света в кабинете у Саньки на мгновение поплыло в глазах, показалось, что за дальним столом у окна не один, а сразу двое начальников, оба седые, в строгой форме, рождавшей уважение и страх. Только бы пройти четко по ковровой дорожке, вытянуться в струнку, как учил школьный военрук, и четко доложить. И попросить, нет, потребовать… Но слова разлетелись, как пух с одуванчика, ноги заплелись, и только чудом начальник ничего этого не заметил, потому что сам встал поразмяться после долгого сидения, даже потянулся совсем по-домашнему. Он впрямь казался богом, меднолицый, в литом серебре волос. — С какой нуждой, моряк? И Санька ответил совсем не то, что сложилось в уме. — Войдите в положение, — сказал он, как говорил старик отец, когда к нему приходил полицай требовать харчи для немцев, хотя знал, собака, что в сусеках все под метелочку. — Войдите в положение, заради бога… — И так ему стало жалко себя, что он поперхнулся и умолк, опустив глаза. — Ты о чем, малый? — спросил седой, просмотрев документы. — В бога веруешь? Стало вдруг пусто в душе, тоскливо, даже обиду смыло. Одна пустота. Сказал глухо, с внезапным тупым упрямством, глядя перед собой. — Все одно не уйду. На стульях вон поселюсь, ждать буду… А в бога — нет, разве что в матрац. — В какой еще матрац? — Жизнь в полоску. То светлая, то темная. А тут никакого просвета. Должно ж, наконец… — В кадрах был? — Был! Седой спросил словно бы вскользь, о чем-то раздумывая, — долго ли ждал в приемной? Санька ответил. — Мог бы и до утра прождать, тут народ такой, палец в рот не клади. — Вспоминающе сунулся рукой в стол и, вытащив сверточек, подал Саньке ломоть хлеба с вяленой рыбой. — Поешь, потом поговорим. Ешь, не стесняйся. — Да я потом, ну честно — съем. Или с собой возьму, а сейчас решать надо. — Ну решать так решать, — сказал седой, сложив бумаги. — Ты ведь общежитие запросишь? — Не-а, у меня есть… — Знаю, что у тебя есть, догадываюсь. И потом — ты же ничего не можешь. Ну это ладно, это наживное. А как я тебе устрою короткий день? Работа есть работа, а закон запрещает… — Не надо мне короткого, — простонал Санька. — Два месяца пролетят, а до того — откуда кому… Я ж не собираюсь день рождения праздновать. — Да, мой в восемнадцать погиб. В первом бою… — как бы про себя произнес начальник. — Может, в стройбригаду подсобником, если возьмут. Санька мотнул головой, но сказать «нет» постеснялся. Седой понимающе хмыкнул, что-то черкая на бумажке, сложил ее вдвое и подал Саньке. — Это для медкомиссии, пройдешь и оттуда матросом на НБ-3. Понял? Не забудь — НБ-3, так и скажи там. Портофлот, мол, дядя Ваня посоветовал именно туда. Там тебе и койка будет… — Дядя — это вы? — Ну. Может, скидку сделают, на семейственность. Седой усмехнулся, и они по-мужски серьезно пожали друг другу руки. Койка! Это здорово, думал Санька, слетая вниз через три ступеньки, так что дух захватывало. Койка — отдых после вахты, об этом он уже был наслышан. А под койкой — сундук, и в нем новенькая форма, которую он наденет перед сходом на берег в незнакомом порту. Он пойдет по бульвару, хлопая клешами, и все на него станут оглядываться — кто с завистью, кто со злобой, как же, ведь он сошел с огромного траулера, того самого, что нынче прибыл в порт под алым флагом. Подумать только, совсем пацан, а уже матрос!
НБ-3
На другой день, уже в сумерки, освободившись от врачей, подошел он к причалу — спросить, где тут пришвартован НБ-3. Немного смущали эти буквы, корабль должен иметь звучное имя, какие встречались ему на страницах затрепанных книг в сельской библиотеке. А тут НБ-3. Может, сокращенно — «Новая бригантина»? Или это инициалы ученого или революционера… Скажем, Николай Бауман. Но при чем тогда тройка, их же не трое было — Бауманов! — Сань! Это я… Перед ним стояла Лена в заляпанной спецовке и с ведерком в руке, платок обтягивал лицо и подбородок до самых губ, растянутых в сторожкой улыбке. — Никак устроился? — он кивнул. — Ну, поздравляю… Мужикам все легче. Поплывешь… А куда тебя? — На НБ-3! У нее слегка вытянулось лицо, сахарными зубками покусала платок — то ли от зависти, то ли чему обрадовалась. Промолчала, потупясь. Ему стало не но себе. Всякий раз, когда она опускала глаза и в поле ее зрения попадали его полотняные штаны, он готов был сквозь землю провалиться! — Сань! — Ну? — Знаешь, я ведь тоже деревенская. Из райдетдома. Хочешь, подружимся, — зачастила она, — на сто лет. Если что — выручать… Я такая, не веришь? Трудно будет, скажешь. И я скажу. Только не стесняйся. У всех трудности, главное — перетерпеть, не поддаться, как… иной хлюпик… Он совсем не считал себя хлюпиком и вообще немного был удивлен ее жалостным тоном. Мимо прошли грузчики, скалясь на них, — все как на подбор здоровые, битюги. Ему было неловко под ее сыплющейся дождем скороговоркой и вместе легко, хорошо на душе: вот ведь нашлась товарка, день знакомы, а вроде своя. Какой-то усатый мужичок окликнул ее строго от дверей столовой: «Елена! Не задерживайся, ждем!» Она лишь отмахнулась игриво: «Крепче любить будешь!» — Ну ладно, — пробормотал Санька, — я пойду, поищу. — Ага, мне тож пора, девчонки ждут у кассы, получка сегодня… Хочешь в кино? Завтра выходной. В час у ворот. На улице. Или, может, нет желания, тогда не надо. Есть? Ну тогда я жду… Все? Ну все, бегу. А НБ чего искать. Вон, видишь, у того берега. Привет! У того берега стоял пароход с черно-белой кормой. Он не знал, что добраться до него просто — с портовым катером, — и пошел кругалем. Пришлось обойти весь порт и часть города, так что явился он к трапу, когда уже совсем стемнело, и, заметив на борту матроса, окликнул его: где найти капитана НБ-3? Тот не сразу понял, и Санька повторил: — Судно-то как называется? — «Жемчуг», ты что, неграмотный? — И впрямь по борту белыми буквами, видными даже в полутьме, красовалось имя корабля. — А тебе, видать, на баржу, — крикнул матрос. — Заходи с кормы, а то скоро отчалит. Он хотел спросить, где корма, но по взмаху догадался и кинулся туда, увидев при свете прожекторов ржавую посудинку, болтавшуюся под бортом корабля.…Такое было ощущение, будто его на всем ходу столкнули с поезда. Только под ногами была не земля, а грязная палуба с четырьмя округлыми баками — они назывались танки — в черных, маслянистых подтеках и огромным штурвалом выше головы. Железная эта посудинка, насквозь провонявшая мазутом, и была НБ-3, нефтеналивная баржа. Командовал ею огромный краснолицый шкипер в усах и баках — Сан Саныч, остальные двое имен вроде бы не имели. Тощего, с костлявым лицом и устрашающим шрамом от рта до уха звали Сыч, другого — ухмыльчивого коротышку с ладонями в тарелку и тугим, как барабан, животом — почему-то Цыпой. Санька подивился такому несоответствию, спросил как-то шкипера, тот нехотя отмахнулся: «С чужих рук клюет», а уточнять не стал. Видно, секрет был в том, что Цыпа безропотно ходил под Сычом, оба, как выяснилось, побывали в местах не столь отдаленных, взяты были в порт от большой нужды в рабочих руках, потому что толку от них, по словам шкипера, как от рыбы шерсти: от получки до получки в загуле. Сам Саныч тоже на этот счет был не дурак, однако компании с ними не водил, имелась у него какая-то Дарья со своим углом в городе, откуда он возвращался по понедельникам чистый, как стеклышко, в густо пахнущей шипром стираной робе. Санька тоже старался держаться от «команды» подальше, хотя встречен был весьма радушно. Оба явно обрадовались пополнению, хотя тощий оставался мрачным, лишь устрашающе дернул щекой, а Цыпа, обняв свое брюхо, заорал: — Саныч, теперя у нас жизнь — лафа! Дозволь до «Паруса» мотнуть, трое суток горло сохнет. — Да, — буркнул шкипер, — большой срок. А я, по-вашему, не человек? — Так вместях и кинем якорь. С нас банка! Но шкипер торопился в диспетчерскую и позволения своего не дал. Приказал «вахтовать посменно», а сам легонько сгреб тезку за шиворот и подтолкнул вниз к машине. У него был час в запасе, и за это время он решил, не откладывая, бегло познакомить новичка с баржой. Напрягаясь, Санька ловил каждое его слово — генератор, насос, шланги, порядок включения. Кое о чем сам догадывался: как-никак школа за плечами. Многого не понял, но переспрашивать не решался — Саныч спешил. Наверху шкипер передал его Цыпе, тот сам вызвался познакомить Саньку с камбузом. Прямо-таки горел нетерпением, потирая мощными, в жирном глянце, ладонями. Он радостно объяснял Саньке, как готовить крупяную кашу на экипаж, подмигивал, сладко ухмылялся, и за каждым его словом чудился подвох. — Главное, чтоб ложка стояла… Значится, берешь пшено, рысу шкипер не обожает… И побольше. А также соль! Она для его первое дело, жажду дает, а жажда — пиво, иначе хоть не пей. А без этого ему нельзя, как всякому культурному моряку. Усек? Санька кивал недоверчиво, все же совет учел и под конец лишь спросил, не осталось ли чего от ужина — есть хотелось нестерпимо, живот подвело. — Как не остаться? Вобла есть. За пивом сбегаешь? — Он похлопал Саньку по карману. — Ай, не звенит? — А каша? — Кашу не едим. Что мы, дети? — Варить тогда зачем? — Для порядку. Саныч, он порядок любит. Ну и соль, само собой. Куривший в дверях Сыч проронил равнодушно и жестко, непонятно в, чей адрес. — Во гнусь, шлют салаг необученных. Какая от их помощь? Цыпа угодливо поддакнул. Вообще, чувствовалось, он у Сыча на побегушках. Цигарку ему свертывал, табак носил в кисете, хотя сам не курил. И сейчас всем своим видом как бы подтвердил: в самом деле, пришел на готовое, еще с ним возись. Какая помощь от этих двух и что означает «бросить якорь в «Парусе», Санька понял на третий день, когда оба после ухода шкипера исчезли, а возвратясь, завалились спать. Санька же с рассветом принялся куховарить. Хорошо, что Саныча еще не было да и баржу никто не вызывал — можно было не спеша постряпать. Но уже скоро стало ясно, что дело это непростое. С кашей творилось что-то невероятное. Крупа, не занявшая и половины кастрюли, вдруг стала расти на глазах, вспучиваться и вскоре пошла через край. Он отбирал ее в пустую посуду, а она все перла и снизу стала подгорать. Явился, видно посланный Сычом, Цыпа, сонно усмехаясь опухшей рожей, сказал, повиснув лапами на притолоке: «Весь корабль завонял, а люди отдыхают, японский бог». И захлопнул дверь. Задыхаясь в чаду, Санька продолжал маяться у плиты. Каша занимала уже четыре кастрюли и все еще была сырая, к тому же он забыл, сколько бросил соли, и на всякий случай добавил — хуже ж не будет. Шкипер вернулся, когда солнце, пробрызнув сквозь грифельные облака, заслепило в иллюминаторе, черно засверкало в густом, как мазут, портовом ковше. Саныч отпрянул, отворив дверь, и лишь минуту спустя вошел и, глядя на кастрюли, спросил: — Это что? — Каша, — сказал Санька растерянно, — только еще сырая, а так, как советовали — ложка стоит. — Кто советовал? — Ну Цыпа. — Этак мы в трубу с продуктом вылетим. — Он попробовал, зачерпнув кончиком ложки. Бурячное лицо его перекосилось. Сплюнув, выдавил тяжело: — Ох-ламон! Обедали сельдью с пивом, за которым слетал по жесту Сыча коротышка Цыпа. Сыч только пальцем повел. Он вообще почти не разговаривал, изъясняясь пальцами, однако дружок все понимал отлично. Вскоре шкипер отправился в порт. Сыч с Цыпой, заправив небольшое судно, сели на палубе резаться в карты, а Санька сбегал на берег — еще вчера приметил в киоске книгу «Пособие молодому матросу». Решил — пригодится. Вернувшись, обошел игроков, направляясь в камбуз мыть и отскребать кастрюли. Его остановил ленивый, в растяжку, голос Цыпы: — Эй, скубент, выдь-ка!.. Ну, чего стесняешься, подгребай. — Он говорил, не переставая ухмыляться и поглядывая на Сыча. — Слыхал, что шкипер велел? Возьми кувалду, осади кнехт. Ничего такого он не слыхал, однако насторожился — может, прослышал? Да нет, вряд ли, опять эта шкода что-то затеял. Вот же паразиты, подумалось с нарастающей злой обидой. Имен-то людских нет, одни клички, а туда же — выдрючивается. Он старался не смотреть на Сыча, а с Цыпы глаз не сводил, словно стараясь переглядеть его и устоять, — даже ноги расставил для опоры. Он привык уважать старших, за ними был житейский опыт, доброта, а у этой пьяни одни каверзы на уме. — Заложило тебе? — Слышу… — Гляди, как выступает, — протянул Цыпа, отвалившись на локте и все еще глядя в рот Сычу. — Может, тебе ухо юшкой прочистить? А? У Саньки предательски засаднило под ложечкой, и от этого, уже злясь на себя, он вконец замкнулся, набычась. — Не видишь, торчит высоко! Кнехт — железная тумба — крепился к палубе стальными шпильками, дураку было ясно — ее не осадишь никакими ударами, а этот гад попросту изгилялся над ним. — Придется поучить… Он словно брал Сыча в свидетели или испрашивал «добро» на расправу. Медленно, будто нехотя поднялся все с той же несходящей ухмылочкой, пугающе-шало щурясь исподлобья и облизывая толстые губы. Саньку забила дрожь, и в какое-то мгновение, уже ничего не сознавая, кроме каменной ненависти, повинуясь инстинкту, он схватил кувалду, Цыпа расплылся в глазах, выхрипнул: — Брось! А то хлопну — сразу не помрешь, помучишься! — Стой, — тихо выдавил Санька. И почувствовал что-то, похожее на то, что испытал однажды в детстве, в ледоход, когда с визгом прыгнул с лопнувшей крыги. — Убью, не отвечу. Несовершеннолетний я! Одного уже кончил… Цыпа шел на него впригиб, ощерясь, растопырив короткие свои лапы. — Убью, фашист! Как в тумане видел Санька Цыпу, толстое чудище — нос клювиком между щек — с оттопыренным задком и вскинутыми подкрылками, с поворотом головы, как бы взывавшей к Сычу: «Сомну же скубентика, скажи ему, Сыч… Скажи по-хорошему… А то не ручаюсь, нарублю макароны по-флотски, а, Сыч? Скажи ему пару…»; и самого Сыча, что вдруг неуловимо шевельнул длинной, как оглобля рукой, отчего Цыпа странно подпрыгнул и исчез — лишь за кормой с всплеском раздался истошный, дерущий душу вопль: «Тону-ну! Конец! Конец давай, Сы-ыч!» Но тот задумчиво глядел не то в карты, не то куда-то вдаль за кромку борта… Оглушенный истошным криком, глянув за борт на отчаянно барахтавшегося Цыпу с вытаращенными от ужаса глазами и сообразив наконец, что тот и впрямь потонет, Санька кинул ему круг. И потом, вытащив его через силу на палубу — мокрого, с головой, похожей на грязный, облепленный волосами купол, еще спросил: «Ты чего, плавать не горазд?» Но Цыпа только плевался, вытряхивал из уха воду, прыгая на одной ноге и нещадно матерясь. Вдруг подхватился и сиганул на камбуз — сушиться. К вечеру Цыпа как ни в чем не бывало напомнил Сычу, что пора бы в «Парус», благо Саныч в городе, у своей. Они ушли, не сказав ни слова. Санька с тревогой смотрел им вслед. Сыч шагал впереди, за ним — руки в карманы и поддерживая штаны — Цыпа.
ТАКАЯ СЛУЖБА
Санька сидел на бухте, глядя на утонувший в сумерках порт. Было ему неспокойно. За дневной колготой и встряской совсем забыл свои мечты о кораблях и странствиях и теперь, со щемящим сердцем вглядываясь сквозь сумерки в дальние суда с развешанными по матчам гирляндами елочно-ярких огней, вдруг ощутил себя бесприютным сиротой, щенком посреди чужой дороги. Вдруг потянуло в порт — встретить Ленку, ведь сегодня выходной — кино, ждет, ждет же его. И вахта была не его, не назначали пока, но каким-то шестым чувством угадывал, что если уйдет, бросит баржу — не будет ему прощения. А вдруг… Вот это самое «вдруг», которого он в душе, честно говоря, не ждал, как раз и нагрянуло, когда на дворе уже вовсе стемнело и вода за бортом стала густой и черной. Неожиданно, как привидение из тьмы, вынырнул буксир, тот же, что и вчера, отводивший баржу на нефтебазу за горючим, и оттуда с мостика прокричали: — Эй, на барже, принимай продольный… Днем, на камбузе, слышал краем уха про «концы», который берут с буксира, но куда какой цеплять, понятия не имел. В свете вспыхнувшего прожектора он схватил канат и потащил в корму и сразу понял, что делает не то: сверху несся густой мат, буксир стало относить, еще минута — и он его потеряет. — Принимай ширинг! — заорал капитан с буксира. Санька заметался по палубе, но и на буксире, видно, смекнули, что он новичок, больше никого на барже нет, и, наверное, это было не в новинку — капитан в мегафон уже спокойно, жестко показывал ему, где какой конец закреплять. Он теперь тоже был освещен, и Санька мчался от кормы к носу, точно наскипидаренный, закидывал концы на кнехты, мешкал, трясся, тут же догадываясь что к чему, пока, наконец, не ощутил всем своим существом прочное крепление, дрогнувшую вслед за буксиром баржу. Внезапно задул ветер с юга, слепо засек в лицо осенней моросью. Он не чувствовал холода, меж лопаток стекала горячая струйка. Ночь, таившая еще неясные испытания, только начиналась, что она несла ему вместе с дождем и мраком? Вцепившись в штурвал, он приспосабливался к тихому ходу буксира, начисто забыв обо всем на свете, ничего не видя, кроме уходившей в темь освещенной кормы. Краем сознания, как в давнем сне, всплыло лицо матери, совавшей в баул узелок с сухарями, завернутый в газету обмылок: «Береги, зря не расходуй». Наверное, ей хотелось сказать другое — «себя береги», прижать его к груди, всплакнуть на дорожку, но мать была женщиной твердой, знала, что будет ему несладко, и не хотела расхолаживать. Она всегда была головой в доме, баловству не потакала, но за строгостью в ней жило доброе, разумное сердце, детям не становилась поперек пути. Сама безграмотная, хотела, чтобы они выучились, чтобы им жилось хорошо, пусть идут дорожкой, которую сами проторят. А с мылом была потеха. Еще в сорок пятом прислал отец с фронта посылочку, а в ней матери платок и отрез на платье, и еще в круглых белых коробочках, в каких бывал зубной порошок, по два черных кругляша — невиданное мыло. Уж как ему мать порадовалась, ведь стирала кирпичом да золой, а тут набухала в корыто тряпья и давай тереть, а мыло не мылится, одна чернота, и все без толку. Уж на другой день сосед-сельповец, которому она пожаловалась, прочел надпись на коробочке, рассмеялся. — Это ж, — говорит, — Настя, не мыло, а шоколад ребятишкам. Питательный продукт. Летчики ихние жрали. Он-то посмеялся, а мать со стоном уткнулась в ладони. Впервые он видел ее плачущей и сам заревел, а за ним братья и сестренки. Сосед стал успокаивать, мол, чего не бывает, а мыла я тебе отпущу, как жене фронтовика. — Не об ем плачу, — отмахнулась мать и утерла мокрой рукой лицо. Не об мыле она плакала, а что дети ее кровные не видали сроду сладкого, и они теперь бы могли попробовать, да она все сгубила зазря. — Эй, на барже!.. Он сумел подать швартовые концы довольно ловко, а вот со шлангами получилась беда. Одному мотаться с ними тяжко, а он еще не знал, как заправлять баки. Четыре их на барже, по две на каждую сторону, и надо было залить с каждой стороны, а он вставил в одну правую, и баржа стала крениться на бок. Палуба уже уходила из-под ног, когда он, словно по наитию, спрыгнул на берег и перекрыл вентиль, потом снова, едва не сорвавшись, вскочил на борт, суматошно забегал по рубке. На счастье фонарь Сан Саныча лежал на столике. Присвечивая фонарем, еще не веря, что у него что-то получится, лишь помня, что еще днем заметил на танках медные бирки с надписями, торопливо осветил их. Строчки прыгали в глазах, одно ухватил — каким образом в баках перепускается топливо, и открыл клапаны, чувствуя, как выравнивается палуба, а к нему возвращается жизнь вместе с влагой ветра и запахами порта. — Ну как там — управился? — чуть погодя донесся голос диспетчера нефтебазы. Он все еще не верил, что справился. Один. Без чужой помощи. Он присел на палубе, только сейчас заметил, что руки у него дрожат. Утер мокрое от пота лицо, ткнулся головой в переборку и уснул. Шкипер поднял его, когда уже рассвело и в тумане едва угадывались черные контуры траулеров, а в полоске маслянистой воды у самого берега плавилось солнце. Спросил, откашлявшись, сиплым басом: — Охламоны где? Санька пожал плечами. — Сам брал горючее? Санька кивнул. — А спишь почему? — Так ведь целые сутки один. — Ну-ну, — только и вымолвил шкипер. Зачерпнул из бачка воды и залпом опорожнил огромную кружку со свисавшей цепочкой, выхукнул воздух, будто хватанул спирту, сказал: — Пошли, с машиной познакомлю… Как следует. Потом они пили черный чай из раскаленных кружек, и шкипер, щекастый, распаренный, благостно взирая на панораму береговой стройки, говорил, какой тут порт будет вскорости, красавец, со всеми бытовками, мастерскими и даже кафе, и люди придут другие, а этих своих пивохлебов метлой пометет, не долго им шалапутничать. А Санька, глядишь, лет через пяток будет ему сменой, вместо этой калоши самоходку дадут, танкер… — Что ж мне, весь век по порту шлепать, — неожиданно для себя буркнул Санька — с языка сорвалось. — А ты что, в большие капитаны метишь? — заплывшие глазки шкипера на мгновение стали колкими, как у ежа. — Я тоже когда-то… А ты в малом себя покажи! Это ж надо, все в начальство прут. А я вот ничего, работаю, с тремя классами, а вот одет, обут и нос в табаке. Прошлый год на доске висел, пока мне этих цуцыков не подкинули… Да! Живу, не жалуюсь, без обиды. — Да не надо мне в капитаны, — отмахнулся Санька и больше объяснять не стал. Вид у шкипера и впрямь был разобиженный, отчего — непонятно. — Ладно, — сказал Сан Саныч, — сосну-ка часок, а ты марш наверх, подвалит буксир — свистнешь. И потянулись дни, один похожий на другой, а все же чем-то отличавшиеся и потому таившие интерес. Не просто это было: причаливать, брать концы при сильном ветре, а ветер тут, на Балтике, капризный, с дождевыми зарядами, постоянно менял направление… Он уже уверенно крутил штурвал, сам запускал двигатель, чистил компрессор, и то, что раньше пугало, казалось угрожающе загадочным, сейчас было проще простого, только управляться со всем хозяйством нелегко. Еще приходилось чистить и драить палубу, кубрик тоже был на нем. Сыч с Цыпой по-прежнему сходили на берег, начхав на угрозы шкипера, порой загулы длились по неделе, и шкипер, похоже, махнул на обоих рукой, сам управлялся и на Саньку накладывал — только вези. Его уже знали на судах, окликали по имени: «Давай, Сань, подгребай!», «Службе порта салют!», «Как там твои иждивенцы, во сне не померли?», «Завтра с утра не забудь, ждем!» Дважды он дозаправлял «Жемчуг», что-то там не ладилось с энергосистемой, и судну предстоял лишь короткий рейс в Северное море за сельдью, а после в док. Обо всем, как и о многом другом, знал он от моряков. Особенно привечал его знакомый из портофлота, оказавшийся старпомом. Сам он только недавно вернулся из рейса и теперь в ожидании захворавшего сменщика следил за ремонтом. Он угощал Саньку сигарами и зарубежным тоником в пестрых банках. Сигары он прятал для шкипера, тоник с привкусом кофе был хорош. Отпивая из высокого бокала, он отвечал на вопросы старпома или внимательно слушал его объяснения, как ищут косяки, назначение эхолота, о котором старпом зачем-то толковал ему со всякими подробностями, расспрашивая между делом о семье, о матери, и при этом называл Саньку земляком. Сам он был из глухого сельца в Казахстане, рос без отца, погибшего на фронте, и вот вышел в люди собственным трудом и старанием. Перед Санькой не хвалился, но это и так было ясно. Здесь, на корабле, он был совсем иным, чем казался раньше в приемной, говорил степенно, без наигрыша. — А шкипера зря сигаретами балуешь, он что, подношения любит? Как бы не принял тебя за подлизу, таким ходу не дают, всю жизнь на побегушках. — Я ж от души, — удивился Санька тому, как близко к сердцу принимает старпом такую мелочь. — Да и он вроде добрый… На последнем слове он запнулся, вспомнив недавний разговор со шкипером, оставивший в душе осадок. И сам не понял зачем выложил перед старпомом все до словечка. Тот протянул ладонь: «Верни сигары!» Сломал и бросил в корзинку. — Обойдется твой шкипер… Каков наездник, нашел себе тягло! На пять лет вперед! Сам выпивоха, оттого и списали с судна. А насчет малого и большого он прав, да только у самого ни малого, ни большого. Развел бардак на барже, а как подчиненным ткнешь, если сам такой, рыльце в табаке, то-то и оно. Командир без авторитета — ноль. Рыба снулая! У самого-то старпома авторитет был. Это чувствовалось по тому, как он отдавал приказания забегавшему боцману, механику, скупо, дважды не повторяя и ни разу не повысив голоса. А как обращались к нему? Весело, вежливо, не сразу решаясь перебить их беседу. А ведь он немногим старше был Саньки — без году неделя из мореходки. — Вместо турус на колесах напомнил бы шкипер о тебе Ивану Иванычу, портофлоту. Его дело хлопотать, тем более твоя старательность всем видна, да, да, в порту каждый как на ладони. А то сам бы пошел, а что? Не в санаторий просишься — в море. И без глупых стеснений, характер надо иметь — раз моряк. Говорил я тебе уже? Не помнишь? Ну так запомни. Уважай сам себя, тогда и другие уважат! А пока знай свое — работай, где поставлен…ЛЕНКА
Работа, между прочим, пошла Саньке на пользу, исчезла мешковатость, медлительность, тело стало крепким, он чувствовал каждый мускул и, хотя еще не брился, порой брал осколок шкиперского зеркала, не без смущения оглядывая загорелое, крепкое от ветра лицо. Даже Ленка, однажды повстречав его возле столовой, словно бы даже не узнала его в новенькой выходной робе, ахнула, покраснела отчего-то и хотела прошмыгнуть мимо, но он окликнул ее, и она с готовностью остановилась вполоборота, дескать, некогда, и руку отдернула, едва он попытался поздороваться. Она все еще ждала чего-то, вот-вот уйдет: может быть, объяснения, почему не пришел тогда, как уговаривались. Было какое-то ощущение страха, неловкости и вины перед ней, понуро стоявшей в ожидании. Он торопливо и комкано стал что-то бормотать про ночную тогдашнюю вахту, чувствуя, как отчужденно ловит она каждое слово, вскинув подбородок и насмешливо оттопырив нижнюю, чуть припухлую губу. — Ну как, — спросила, — как дела? — Отлично! Как будто его за язык дергали. Ее бы урезонить, мол, шел вот к тебе душу отвести, а вслух соврал этак небрежно, аж самому тошно стало. — На учебу вот пошлют. — И скоро? — Ага. — Поздравляю. Капитаном станешь, возьмешь себе замуж какую актерку или докторицу судовую. Вместях плавать… — Ты что? — Ничего. Сейчас бы не встренул, небось и не искал бы. Хотя тут ведь порт большой, отыскать мудрено. А и мне не шибко нужно. — Лен… ты какая-то чудная. — Ага, я чудная, я очень чудная, — знакомо, с неожиданной злостью зачастила она, не давая вставить слово, — одним словом, дрянь девка, ты со мной не водись, не советую. — Его кинуло в пот, мимо шли люди, и он не знал, куда деваться от их взглядов и как ей сказать, что она неправа. — Вот, миленький, понял, прими совет. — Ага… — Что ага?! Мы только друзья — не больше. Понял? И я не дурочка… — Н-не знаю… не пойму я… — Ах, не знаешь, ну думай, может, что и поймешь. Она круто повернулась и упорхнула в приоткрытую дверь. Еще крикнул вслед, хрипло, с нарочитым, отчаянным смешком: «Лен! Постой!» Куда там, будто и не расслышала. Посидеть бы с ней рядом, за столиком в кафе, после баржевой самодельной пищи попробовать нормальной еды, но идти следом он просто не мог, да и есть расхотелось. Так он простоял в тоскливой растерянности и лишь сейчас понял, что наряжался в надежде встретить Лену, да ведь теперь не объяснишь. «Только друзья». А что ж тут плохого — быть другом? Что за девка, что они за люди, толком не поймешь, чего хотят. Все в башке перепуталось. Он вернулся на баржу, переоделся в грязное и вышел на палубу. — Со свиданьицем, — сказал Цыпа, — что ж так скоро, любовь у тебя как у воробья. — Заткнись, — ответил Санька, исподлобья упершись в коротышку. С того случая он перестал его бояться напрочь и всякий раз лез на рожон, но Цыпа вроде бы даже остерегался его, не принимал ссоры. Глухо, с подвывом работал насос, качая в баки горючее, шла легкая зыбь, и берег, казалось, чуть колыхался за кормой, Санька все еще ждал, вглядываясь в снующих на причале рабочих, словно еще надеялся — не мелькнет ли алая косынка. — Сычу вахту сдавать, а его нет и нет, и где засел, — миролюбиво обронил Цыпа. — Может, пойду пошукаю, все одно ты здесь. Я ненадолго. Санька уже знал, что значит это «ненадолго», двое суток не спал почти — один за всех, но смолчал, а Цыпу тотчас как ветром сдуло. До полной закачки оставалось не менее получаса, и он подумал, что успеет черкнуть письмо родным, а то заждались там. Потом — уборка палубы, атам разбудит шкипера, пускай сменяет. В кубрике вырвал из блокнота желтоватый листок и торопливо стал писать, с трудом пересиливая навалившуюся сонливую тяжесть.«…А еще сообщаю вам, дорогие мои, что плаваю пока на небольшой акватории… Скоро пойду тралить в океан и тогда куплю бате кирзовые сапоги, а вам, родная мама, отрез в горошек, как вы мечтали. А пока высылаю триста рублей на ремонт хаты, сам я полностью обеспечен, каждый день питаюсь кашей с комбижиром первого сорта…»За спиной сдержанно кашлянули. Шкипер при полном параде, в гражданском костюмчике, едва не лопавшемся в плечах, выглядел торжественно, должно быть, перед предстоящим свиданием с Дарьей и вместе с тем слегка встревоженно. — Куды пишешь? А-а, домой. А что именно, не секрет? При всей своей самоуверенности он питал благоговейную боязнь перед всякой бумагой, независимо от того, куда она пойдет — в высшие инстанции или в неизвестную ему белорусскую деревню, мало ли что напишет матросик о своей службе. В глубине души переживал разброд на барже и не хотел выносить мусор из избы. Санька прочел, нехотя, опуская эпитеты «дорогие», «родная». Шкипер выслушал, хмуро кивая, что означало полное понимание серьезности момента, сказал, разгладив по щекам пышные усы: — Уважать родителев — первое дело… А что, Цыпа опять сбег? Ох, дождутся прохиндеи, ох, дождутся. — Сколько уж так грозился. Да и сам шкипер уходит не вовремя. Нет, прав старпом: каковы сами, таковы сани. — Ну пока, дозавтрева, смотри тут, чтобы порядок был. И на прощанье зачем-то пожал Саньке руку. Санька заклеил письмо, смочив языком кисловатый клейкий ободок. Вздохнул, вспомнив размолвку с Леной, прилег щекой к подушке и — отключился, сморило… Очнулся от запаха гари, выскочил на палубу — из горловины валил дым. В первое мгновение у него ослабли ноги. И тут его осенило: кончилось масло в картере! А Цыпа забыл проверить! Нет, не зря он зубрил «Пособие для матроса». Через пять минут все было сделано. Залил масло и снова врубил ток. И хорошо сделал, иначе от резкого остывания мотор бы заклинило. Это он уж потом понял, а в те жесткие минуты действовал как по наитию, отложилась в цепкой памяти школьная физика — смекнул, что к чему. В этот вечер все прошло гладко, вызовов не было, и руки уже не дрожали, как в тот первый раз, когда напутал с закачкой. Но и сон как рукой сняло. Он облокотился на холодный от росы леер, какое-то время разглядывал сверкающий огнями траулер, входивший в порт, потом суетливую толпу встречающих, размытую сизым туманом, мелькание на трапах матросских беретов вперемешку с цветастыми платками. И только сейчас заметил в сторонке у крана одинокую фигурку в стеганке. Ленка! Сперва ему показалось, что и она кого-то встречает, даже внутри заныло, но лицо ее было обращено к барже, точно она и впрямь могла что-то разглядеть в темноте. Он-то ее видел хорошо — в свете фонаря поблескивающий изморосью ватник, темные впадинки глаз под косынкой, и, еще не веря себе, медленно сошел с трапа, позвал, увидев, как она вся встрепенулась и точно вслепую пошла прямо на него. Он встретил ее у трапа, будто у порога в собственный дом, ощущая в душе доброе чувство хозяина и еще какую-то непривычную теплоту и жалость, когда усаживал ее на скамье в рубке. На койку сесть отказалась и от ужина тоже — макароны остались и по случаю субботы бутылка пива — лишь резко завертела головой, точно слова у нее в губах застряли. — Ты чего? — спросил он с внезапно передавшимся беспокойством и невольно взял ее за руку. Она с силой отняла ее. — Не трожь. — Чудная. — Какая есть… Ужинала я. В столовке. С мужиками своими… И снова кольнуло внутри. — Не обижают тебя? Настороженно-притихшая, колючая, смотревшая искоса, она была не похожа ну ту, что впервые встретилась у проходной. После стычки возле столовой внушала робость и опаску — с какой стороны подступиться, на что напорешься. — Все вы одинаковые. Он не знал, что и подумать, охваченный смутной тревогой. Мужики… Одинаковые. И все смотрел на нее, все еще видел в моросящем луче под фонарем на берегу такую гордую — с опущенной головой. И так вдруг щемяще, до спазма в горле потянуло выплеснуть нежность, ласковое слово, а не мог, точно душу задраило, и он ждал, что она оттает, и тогда он объяснит, как благодарен ей за первое знакомство, за поддержку, вселившую в него уверенность. А вслух вымолвил: — Я ведь жалеючи… — Не надо. Жалость унижает человека. — Чепуха это! Отец мать всегда жалел. — Не знаю, у меня мамки не было. — Да, да… Только так не бывает. — Бывает. Все бывает… Когда нас кулачье пожгло в тридцатом, меня в пеленках с пожару вынесли. Вот и все мамки-папки. — Тогда я провожу тебя. — Когда — тогда? — Ну чтоб не пристал кто, ночь на дворе. — Какая там ночь… — Ему почудилось, будто она улыбнулась в темноте. — Ладно, проводи. Только до трамвая, а то в общежитии увидят, молвы не оберешься, и так уж… — И горячо, знакомо зачастила: — А ты не верь… Мало ли что говорят про нас, девок. Ничему и никому. Только мне одной. А не хочешь — не надо. Твое дело… Когда спускались по трапу, Лена, потянувшись, вскользь, чмокнула его в щеку. — Это наперед. Не при людях же… — Увидимся еще? — спросил торопливо, будто на людях и спросить будет некогда. Она кивнула. — Выдастся время — загляну. А ты жди. — Когда? — Всегда. Ему стало смешно и тепло на душе, так уверенно у нее получилось. — А ты, Лен, от скромности не помрешь. Она ответила серьезно: — Какая есть. С тех пор повелось: Лена приходила изредка по вечерам и, если на барже никого не было, легко сбегала по трапу. Он угощал ее припасенным харчем, потом они пили чай и разговаривали о всяком-разном. О его матери, часто ли он ей пишет, поминал ли о ней, Ленке; о неладах на стройке — то того нет, то другого, а все же движется дело, и ей подвезло — за хорошую работу дали в общежитии комнату на двоих. Соседка — славная, из приезжих, скоро позовем на новоселье — вот только приберемся, блеск наведем. Но Санька так и не побывал у ней в гостях. Однажды вечером, заглянув на баржу, Лена не застала его. Шкипер, пристально оглядев ее, почему-то покачал головой, объяснив, что Санька на первом причале, на траулере, сам старпом его пригласил… Он увидел ее, едва спрыгнул с катера на берег, все еще переполненный неожиданной для него встречей со старпомом, часовой беседой, после которой он чувствовал себя так, будто выскочил из парной — легко и весело. С новым ощущением неясной и радостной тревоги, бившей через край. Он не сразу сообразил, зачем понадобился старпому, выглядевшему перед рейсом особенно щеголевато в своей новой форменке при черном галстуке — фуражка набекрень. Отвечал невпопад, думая о Ленке, с которой назначено свидание — ждет ведь, а когда понял, что к чему, обомлел, растерял слова. Старпом даже удивился: — Что это ты сегодня, как воробей под дождем. Моряком же стал. Ловкий парень… И работящий… Я к тебе давно приглядываюсь. Словом, капитан дал добро, оформим. Первый рейс всегда нелегок. Выучка в пути. В субботу отчалите. Ну, поздравляю… В руке осталось ощущение сухого тепла чужой ладони. Он кивнул, повторяя: — Я постараюсь, не сомневайтесь, спасибо. — Сомневался — не просил бы за тебя. И брось ты эти благодарности. Человек сам себе хозяин — сколько тебе вдалбливать. Что заслужишь, то и получишь. Еще учиться пошлем — ты ж перспективный. Все, до завтра… Все это он рассказывал Лене комкано, торопливо, будто оправдывался, — и как растерялся вначале, все думал о ней. А Лена, как заводная, поддакивала. — Да, да… Я знала… Все у тебя будет хорошо, очень хорошо, даже очень прекрасно. Да, да. Вечером в субботу она провожала его на причале, в толчее незнакомых женщин-морячек. Оба молчали, все уже было сказано по дороге. Она только кивала в ответ, взглядывая на него из-под ресниц сухими, блестящими глазами, будто расставалась навек. И потом с борта он еще долго видел ладную ее фигурку в черной стеганке, платок в поднятой руке, похожий в сгущавшихся сумерках на белую птаху, застывше трепетавшую над умолкшей толпой.
В ПУТИ
Третью неделю судно шло сквозь налетавшие штормы, в составе целого отряда судов, растянувшихся на сотню километров. Позади остались беспокойные, со стремительно зависавшими тучами проливы Скагерак и Каттегат, в Северном море болтанка все еще давала себя знать, но терпимо. Вот с уловом было худо. Пару раз ставили сети, больше, чем на уху, не получалось. Мелочь… Настроение у моряков было скверное, то и дело вспыхивали перепалки — с плохого почина чего ждать, каких заработков? Сменщик Саньки рулевой Дядюха, борцовского вида парень, при своих тридцати тянувший на все сорок, сменившись с вахты, ворча бухнулся в койку, выдернул из рундука толстенную книгу «Жизнь растений», — книги он буквально глотал, все подряд, в погоне за знаниями, как бы наверстывая упущенное в годы своей партизанской юности. Знал он массу нужных и полезных вещей и был склонен к серьезным рассуждениям. Морякам он был первой подмогой: одних просвещал по международной политике, другим советовал, как быстро «вхолодную» починить обувку, а боцману Сыроежкину надиктовал травяной сбор от потницы, которая донимала того, вопреки солидному возрасту. И помогло. Правда, боцман потом признался, что такого сбора у судового врача не оказалось, и он заменил его растиранием спиртом. Дядюха на это авторитетно заметил — то, мол, временно, а сбор — на века. Но последние дни даже Дядюха приуныл. Радист Венька, одессит, тоже сосед по кубрику, шустрый и курчавый, как негритенок, уже не радовал своими байками, по суткам сидел на ключе, выслушивая ругань в эфире, — начальник с плавбазы требовал от капитана сменить район, но тот стоял на своем… Третий их сосед, второй механик Юшкин, часами лениво раскладывал на койке простой Суворовский пасьянс — сошлось не сошлось — и все приставал к Саньке, кося цыганским глазом: загадай. И время от времени с опаской приглатывал из фляги какое-то пойло. Если верить всеведущему Веньке, Юшкин тайком заводил бражку в шлюпочном анкерке для пресного НЗ. Это было грубым нарушением порядка, капитан еще в начале рейса предупредил: «Кого замечу — спишу без предупреждения». И спишет, он такой. Но Венька помалкивал, и Санька не лез не в свое дело. Вообще неудача с ловом его не очень трогала, он был горд своей должностью рулевого, многое увидел и узнал в эти дни и удивлялся нелюдимости в кубрике. Он-то завидовал каждому из них. Радисту — потому что человек при деле, специалист; Дядюхе, классному рулевому, да к тому же с большим авторитетом, а Юшкину — просто потому, что он красив собой, шалопут, да и при всей своей расхлябанности — даже бритву дома забыл, всякий раз просит у Веньки — ловок как черт: говорят, с первого маха бросает линь при швартовке к танкеру — дал бог уменье. Вот и сегодня, сменившись с вахты, нехотя, словно бы делая одолжение, обронил Веньке: «Брось-ка безопаску, — и еще добавил, заметив, что Венька слишком долго копошится в рундучке: — Не жмоться! Хотя ладно, переживу». Венька чуть не со слезами в глазах стал доказывать, что ему не жалко бритвы, просто закатилась в угол, вот, возьми! Юшкин только посмеивался в ответ, лениво тасуя вынутую из-под подушки колоду карт. — Дело же не в бритве, — вдруг вспыхнул Венька, — а в твоем обалдуйстве, ты что на улицу выскочил — побриться забыл, или в рейс на полгода? Юшкин лишь беззвучно похохатывал, думая о чем-то своем. Судно кидало с боку на бок. Санька ездил по койке, ухватившись за прутья — не заснуть с непривычки. Дядюха тоже поднялся, закурил. Венька со вздохом завалился на койку, сиротливо поджав острые коленки. — Что вздыхаешь, Одесса, — засмеялся Юшкин, — вздыхай не вздыхай, тянем лажу. Лучше покемарь, и пусть тебе приснится твоя Суламифь, мечтающая о панбархатном платье, которое, увы, горит синим пламенем. — Ее зовут Дуня, — буркнул Вениамин. — Какая разница, рыбы нет и не будет. Сейчас сельдь к западу, а мы прем на норд-вест. — Не каркай, — отозвался Дядюха, глядя в книгу. — Просто невезучка высшей категории. — Говорю, потому что знаю. Плавал тут. — Ну конечно, — сказал Дядюха, — я не знаю, капитан не знает, а он в курсе! Не зря с двух судов выгнали. Плавал он… — Помолчал бы, категория… — механик потянулся к фляжке, но Дядюха резко сказал: — А ну брось!.. Ну что за человек, ей-богу. Дважды капитан драил, и хоть бы хны. Гордость в тебе есть? Все-таки механик, лицо на судне… — Да пошел ты… — Юшкин строптиво вскинул голову и на мгновение стал похож на обиженного мальчишку — дите с обросшим темной стерней подбородком. — Лицо… Краткосрочные курсы. — Покривился, но флягу спрятал. — Ну что за жизнь, в мазуте по уши, и разговеться нельзя. — Выбирал бы себе другую, или папаша не кормит? — Папаша таких, как ты, троих прокормит. Оне-то и сунули меня в дерьмо, — запаясничал механик, поплевав на колоду, — за провал с мореходкой… Набраться тут у вас опыта плюс характеристика. — Смотри ты, — хмыкнул Дядюха, — орабочиваемся, значит? Избранная хвигура… — Не спорю, каким бог сотворил, — усмехнулся Юшкин, однако флягу спрятал. — Природа творит. И между прочим, совесть вкладывает. Как говорится в «Анти-Дюринге», человек — животное общественное… — Животное, — хмыкнул Юшкин. — Возможно. И поскольку меня в стадо не тянет, я к этому виду не отношусь… В отличие от некоторых. Дядюхин приподнялся на локте, казалось, ему трудно стало дышать. — Ты смотри на него! Давно ль с-под мамкиной юбки, а какой ученый… — Во всяком случае не с-под немцев, не они меня учили. Это уже было чересчур. Судьба Дядюхи была как на ладошке: раненый в сорок первом, отлежавшись в приймах, в селе на Киевщине, пока не зажила нога, ушел в партизаны, у него было аж два ордена Красной Звезды, говорившие сами за себя. Сейчас он медленно, как потерянный, сел на койке, свесив ноги, молча глядя исподлобья на тасовавшего карты механика, точно ему не хватало слов, — только грудь широкая, как щит, поднялась, сдерживая дыхание. — Я у них не учился, я их в гробу видел, а там они молчат. Пять эшелонов ихних на моем счету… На личном! Атмосфера знакомо накалялась, так уж бывало не раз, особенно в прогарные дни. Санька, не терпевший ругни, поежился. Пора было замирять Юшкина, который хотя и побаивался Дядюху, но под газом или «в конусе», как он называл высший градус подпития, способен был на любую каверзу. Обычно трусоватый, он становился агрессивным, — в голове все на-попа, — и начинал задирать новичков, мог полезть на рожон даже против Дядюхи. — Лучше раскинь на селедку, — сказал Санька, — я загадал. — Можно, — с готовностью согласился Юшкин, явно радуясь вмешательству Саньки, видно, еще не дошел до «конуса». И тотчас рассыпал карты. Он не успел стасовать, как дверь с грохотом отворилась и на пороге показался боцман Сыроежкин, блестя яблочными щеками. — Юшкин! И все свободные наверх — берем заправку! Это значило — подошел, наконец, танкер с горючим, которое долго манежил начальник экспедиции, в ответ на упрямство капитана, гнувшего свою линию — на норд-вест. После вахты Дядюхе можно было отдыхать, но маневр был ответственный — без Дядюхи не обойтись. Саньку же тянуло посмотреть на швартовку в штормящем море. Выскочив на палубу и прилепившись к переборке рубки, Санька с замершим сердцем смотрел на авральную суету. Зарываясь носом в волну, разворачивался танкер, черный, осадистый, как утюг. Дядюхин уже стоял у дубль-штурвала на верхней площадке мостика, открытой для обзора. Рядом с ним маячила во вздувшейся робе небольшая поджарая фигура капитана с четким кирпичным профилем. На баке, весь подобравшись, пружинно расставив длинные ноги, с свернутым через локоть линем, с песочной грушей на конце, стоял Юшкин, точно ковбой, готовый метнуть лассо. Все дальнейшее происходило как в фильме, когда, глядя на сменявшиеся в экране кадры, радуешься, что сам ты всего лишь зритель. Море кипело, танкер с горючим надвигался бортом, подталкиваемый звериной силой наката. Судно тоже разворачивалось бортом, и это было самое опасное — качка кидала его вдоль волны, малейшая промашка в маневре, и обе посудины грохнутся бортами вдребезги. С танкера что-то кричали, капитан отдавал короткие, сносимые ветром команды. Дядюха, глыбой застывший у штурвала, доворачивал влево под натужный, на пределе, рев машины. Маневр был осторожным и в то же время выверенно-четким, точно штурвальные на суднах слышали друг друга на расстоянии, покрытом ревом волны. В какой-то неуловимый момент капитан поднял руку, готовясь отдать команду Юшкину, но судно отнесло, растянулась дистанция, и снова капитан ждал момента на грани риска, двигая ручкой телеграфа. И опять начиналась схватка с морем: маневр, ход, торможение, легкий доворот, усиленный набросом волны, который, казалось, невозможно было рассчитать. — Конец! — гаркнул капитан потонувшим в грохочущей свистопляске голосом, но Юшкин понял. Ощерясь, блеснул цыганским глазом, Саньке даже почудилось, будто услышал короткий выдох или он выдохнул сам. Конец белой змеей взвился над морем, дернулся, пойманный на танкере. Матросы забрали, приплясывая у лееров. Дальше было полегче, но тоже с напряжением и риском напороться на чужой борт. На танкере к закрепленному линю прицепили свой трос с проводником, его втянули, закрепив на кнехты траулера, тут же с помощью проводника стали выбирать шланг и, наконец, махнули танкеру — закачивай! И все это время, томительное и жуткое, пока шла закачка и потом — расчаливанье, суда танцевали в растяжке, рискуя порвать трос, и тогда пришлось бы все начинать сначала. Но вот суда словно бы нехотя разошлись, одолевая взбесившийся накат… Капитан объявил всем участникам швартовки благодарность, Юшкину особо. При этом губы его сжались, и чеканное лицо затвердело в скулах. — Видать, заметил, — сказал Дядюха, когда они с Санькой перекуривали на шкафуте, намекая на «четверть конуса». — От него не укроешься, глаз — алмаз. Санька, закуривший впервые — потянуло с большого волнения, — закашлялся и выразил сомнение. Но Дядюхин сказал — точно, и думать нечего — у Юшкина лоб в красных пятнах, реакция на выпивку, обычная у людей тонкой душевной категории. — Не веришь, почитай энциклопедию, на букву «а» — аллергия. Сам он в случае некомпетентности — а такие бывали, — взбудораженно покопавшись в памяти, срывался в библиотеку и там в толстых томах добирался до истины. — У тебя два часа в запасе, — вдруг всполошился Дядюха, — давай на боковую. — Ага, — кивнул Санька и сплюнул окурок за борт.ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ
Неожиданно задул резкий морозный норд, редкий в этих широтах в середине апреля, к рассвету вся палуба покрылась коркой льда в белых лишаях замерзшей пены, возле надстроек образовались горбатые наледи, капитан объявил аврал. Боцман, без обычной своей улыбочки, с серым от сумерек лицом, стоял у кубричного трапа, раздавая ломы. Матросы торопились как на пожар — положение аварийное, бывали случаи, когда обледеневшее судно теряло остойчивость и перевертывалось. Об этом узнали из короткого инструктажа парторга Никитича, принявшего на себя ответственность за сколку палубы. — По трое на участок! Час — и смена, — энергично распоряжался он, расставляя людей. Волна была баллов пять, и Никитич приказал на всякий случай привязаться концами к надстройкам. Часа на ледяном ветру никто не выдерживал, вначале еще кое-как дотягивали, а потом смена пошла дробиться с небольшими интервалами. Ветер забивал дыхание, валил на скользкую палубу, приходилось одной рукой держаться за выступы лебедки, другой, мгновенно немевшей, работать ломом. Длинный накат перехлестывал бак, сколотые участки снова покрывались стеклянной коркой, и все начиналось сызнова. Люди шли прямо с вахты, усталые — рук не хватало. И было ясно — дикая эта выматывающая работа продлится столько, сколько будет дуть этот гудящий ножевой норд. А конца не было видно. — Давай! Давай, хлопцы-ы, — с каким-то отчаянным весельем орал Дядюха, только что сменившийся с вахты и приставший к своим, кубричным. Слова растворялись в свистящем ветровом вое. Санька, орудуя ломом, точно заведенный, пытался в ответ улыбнуться растрескавшимся ртом и лишь охал от боли. Весь в какой-то жаркой, мокрой трясучке от пота и ледяных брызг, всем своим существом только и ждал очередной команды — привал, смена! Полуживые, сваливались с трапа в сумрак кубрика и на корточках, привалясь к стенке, долго еще не могли произнести ни слова, глядя на мелькавшие мимо по трапу бахилы сменщиков. Венька засыпал мгновенно, а может, просто был в каком-то обморочном полусознании, потому что глаза его были полуоткрыты. Дядюха тоже всхрапывал и, тут же очнувшись, доставал из-за трубопровода смятую пачку сигарет. Юшкин сидел мрачный, с заострившимися скулами и красноватым, примороженным носом. Вот тебе и красавчик, подумал Санька и подивился, что в такие минуты еще способен думать о пустяках. Почти на карачках скатился вниз старик бондарь Сысой в надвинутом на лоб капюшоне, попросил у Дядюхи сигарету. — Вот спасибочко, уважил старика, — и окунув нос в розовые от огня ладони, смачно затянулся. — Что, папаша, — спросил Дядюха, — ухайдакался? — Маненько есть, а в основном ничо, живем. — Что ж тебе на суше не жилось? — Хе, много ты знаш про сушу. Я как с деньгами в раж войду, как три месяца поберегую, в карманах шиш. А тута, брат, мине ндравится, тута мине отдых. И здоровая пища. Юшкин рассмеялся — сипло, с откидкой — и долго не мог успокоиться, взглядывая на старика, точно его лихорадка била. Потом со смешком стал рассказывать, как иные сходят на берег: нанимают сразу три такси — в одну машину шляпу кладут, в другую — рюкзак с деньгой, а первая — порожняком, сам впереди идет, такой кураж. — А ить верно, — ожил Сысой, разулыбясь беззубыми деснами, — это я и был, меня ты видел! — И, вздохнув, добавил: — Дурья моя голова, потом и вспомнить срамно… Не, судно есть судно, тут мине санаторий, верное дело. Тверезое… — Не скажи, — буркнул Дядюха, — кому надо, и на судне спроворят, свиня грязи найде. …Санька слушал как в полусне, ощущал разморенный в отдыхе стук сердца, отсчитывающего секунды до новой команды «Подъем!», пробовал мускулы ног — живы, смогут поднять. А в ушах тягуче шелестел стариковский говорок: — Ни-ни, ни в каком случае, ни росинки… С глупа, чо ли, бы я тут нализывался… Тут ежели допустишь, капитан в другой раз не возьмет, тогда мине крышка, а я не дурак… «Дурак… дурак», — вязко колыхалось в мозгу. А ведь он и впрямь не дурак, бондарь, мастер хоть куда — такая о нем слава, от боцмана слышал — золотые руки. Оттого, видно, и старается, знает: оступись, не видать больше судна. Там одна слава, тут другая. И живет он в сладком предчувствии «берегования», терпит искус и работает как в предпраздничье. Вот народ… — Старуха-то есть? Бондарь хлопнул шапкой по колену, обнажив седую, как еж, голову. — Э, много их было… Коли в младости до ста, в старости жизнь постна. — То-то, — сказал Дядюха неодобрительно, — одному худо. — Такому всегда хорошо, — буркнул Юшкин. — Ишшо как! А помирать стану, на дно попрошусь, без лишних забот. Не люблю людей заботить… «Вот человек, — думалось Саньке в забытьи, — как растение. Невесть откуда взялся и неизвестно куда уйдет. И зачем жил? Зачем Дядюха, зачем он? А Юшкин, заливающий брагой неудачу с мореходкой… Стремление, поиск, борьба, какой-то есть в этом смысл? Счастливый старик, не ищущий смысла… Все равно все исчезнет. И он, Санька, тоже?» Он подумал об этом с какой-то муторной тоской, представил на мгновение стариковское дно, разрывающий легкие тугой, соленый запах, очнулся и вскочил на заломившие ноги. — А ты лентяй! — корявый палец старика был уставлен в Юшкина. — И вся твоя судьбина. Я десять тыщ пятьсот бочков вот етими руками — для людей, мне и почивать пора, а ты лентяй, вот мое слово! — Ты чего? — спросил Дядюха Саньку, все еще ошалело глядевшего на сидевших. — Со сна, что ли? — Ему больше всех надо, — усмехнулся Юшкин, не обращая внимания на стариков палец. Бондарь вдруг рассмеялся, как ни в чем не бывало, короткими быстрыми затяжками кончил окурок. А сверху уже несся боцманский визг: «Па-а-дьем, смена!» И снова они долбили ледяной наплав, захлебываясь жгучим ветром. Старик истово соскребал крошево у Саньки под ногами, и надо было успевать за ним, ладони в кровавых от лома мозолях, и упрямое тюканье, когда звука не слышно, лишь колючие брызги обозначают, что ты еще жив и руки твои движутся и ноги держат — до нового свального порыва, когда, падая, хватаешься за что попало, только бы ощущать под собой палубу, родную, как сама жизнь. Вцепившись в станину лебедки, он осторожно поднимался, расставив дрожащие ноги, и уже было взмахнул ломом, когда кто-то крикнул: — Брезент! Угол брезента, сорванный с лебедки, стрелял на ветру. Первой мыслью было бросить лом и скользом, держась за надстройки, добраться до люка. Уже рванул с пояса трос, но его опередил бондарь. Минуту-другую он копошился, пытаясь закрепить непослушный конец, и вдруг исчез — только мелькнула его маленькая, раскоряченная фигурка над бурлящим смывом волны. — Человек за бортом! — Шлюпку на воду! — резанул боцманский голос — Юшкин, Бурда, к шлюпке! Пока возились у шлюпки, — видно, заело подмороженный крепеж, — на баке выросла неестественно огромная, в брезентухе, фигура Дядюхи, круг с концом метнулся за борт. — Держись, держись, черт! — орал Дядюха. — Бери в захват, в захват! Матросы, столпившиеся на палубе, тоже что-то кричали. Санька увидел в метельном от пены море седой ежик, вытаращенные в ужасе глаза и руку, пытавшуюся дотянуться до круга. Круг относило, видно, руку свело, старик тыкался в круг, как слепой кутенок, и то и дело скрывался под волной — еще секунда, и нет его… — Венька, держи конец! Отпускай! Это крикнул Дядюха, мокрая роба отлетела в сторону, за ней ватник. Охватив ногами кнехт, Венька травил конец, тельняшка Дядюхи уже мелькнула за бортом. Видно было, как там внизу, в белом сееве, он подгребал к старику, ловчась ухватить его за скользкую голову. Оттуда несся нещадный мат, очевидно, подбадривавший спасателя, а заодно и тонущего. Наконец-то Дядюха ухватил его за ворот. Шлюпка, танцуя на волнах, уже подходила к ним. Юшкин, как видно, плохо управлялся с веслами; долговязый матрос Бурда, перегнувшись за борт и тоже матерясь в его сторону, тянулся к Дядюхе, боровшемуся с волной, и этой возне, казалось, не будет конца. Капитан в мегафон крикнул Юшкину, показывая рукой: — Влево, влево, под ветер! Теперь вперед! Прямо на них, прямо. Левым табань, левым! Бурда перехватил линь, подтащив обоих, помог влезть Дядюхе, а тот одной рукой, точно тряпичную куклу, втащил старика. Было мгновение, лодка накренилась, но Юшкин сообразил, налег на левый борт, и шлюпка пошла к корме… Старпом стоял у дверей рубки, помогая затащить туда бондаря. Дядюха, синий от холода, вырвал у него фляжку, отхлебнув, засунул в карман, а старика повернул навзничь и, нажав коленом на грудь, стал бешено давить, вскидывая омертвевшие руки. Старпом помогал ему, сидя, подложив ногу старику под поясницу. Дядюха все продолжал ругаться на чем свет стоит. Бондарь все еще не мог вымолвить ни слова, лишь отрыгивал зеленую воду, разевая лягушачий рот. Наконец он открыл глаза. Дядюха тут же влил ему глоток в рот, приговаривая: — Ага, оскоромился, старый черт, ага! — Нельзя! Хватит, — хрипнул старик. — Пейте, это на пользу, — сказал доктор. — Не! — вдруг взъерепенился бондарь. — Норма! Сказал не — и не! — И вдруг ощерился блаженно. Его повели в кубрик, раздевая на ходу. По контрасту с морщинистым лицом, тело у него оказалось крепким, загорелым, точно у молодого, так что Санька даже подивился. Но пора было возвращаться на палубу, страх прошел, в душе обозначалась удивительная легкость и умиротворение, точно сам только что пришел с того света — и никакими силами его не заставили бы вернуться обратно.ВЫЗОВ К КАПИТАНУ
Ближе к маю установилась погода. Лишь изредка штормило. Заметы, правда, все еще не давали хороших уловов, но капитан, видно, ждал своего часа, забирался подальше к востоку, меняя квадраты. Однажды вечером, когда Санька начисто выжатый штормовой вахтой, улегся спать, в кубрике появился старпом Никитич, он же парторг судна, и, топорща подковку огненно-рыжих усов, негромко сказал: — Стах, потрудитесь зайти к капитану. Очень просил. Насчет «очень просил» можно было бы не уточнять, но старпом был человек деликатный, что, в общем, Саньке в нем нравилось, только никак не мог привыкнуть, что его называют по фамилии: такая уважительная флотская официальность — на первых порах аж в дрожь бросало. Устало, с ломотой в ногах, натягивая робу, он терялся в догадках — зачем понадобился капитану, Ивану Иванычу, не допустил ли где какую оплошку? С той минуты, как он стал членом команды, капитан, запросто принявший его вначале и вроде не изменившийся к Саньке, превращался в его глазах как бы в недосягаемую личность: в сущности, срабатывала самодисциплина. Чем больше он наблюдал капитана, тем сильней уважал этого человека, в котором за внешней строгостью нелегко угадывалась скрытая доброта. И когда капитан самолично учил Саньку на штурвального, парень робел ужасно, как бы не напортачить, — это был не страх, а боязнь подвести человека. Он, легонько стукнув, приоткрыл дверь каюты и уже хотел было отступить, увидев перед столом покатую спину боцмана со стесанным затылком, внаклон подавшегося к капитану, но тот кивнул приглашающе, и Санька остался, услышав конец боцманской фразы: — …ржавеет, а ок, знай, под мухой и откуда только берет. Уж не о Юшкине ли шла речь? — Вот что, — поморщился капитан, — это ваше дело — разобраться. И давайте официально, рапортом. Будем решать. Боцман козырнул лихо, по-старшински, и со смятой улыбочкой, не глядя на Саньку, прошмыгнул мимо. Капитан молчал, опустив белесую голову, и Санька, переминаясь, огляделся, точно ему впрямь было интересно, что тут и как. Небольшая каюта капитана была под стать хозяину — строгого стиля: барометр на стене, часы — ничего лишнего. Иван Иваныч сидел за небольшим, крепким столом — поговаривали, будто он сам его полировал, мастер был на все руки, — как всегда, подтянутый, с гладким белесым зачесом на висок. Закатное солнце било в иллюминатор, от этого глаза капитана казались совсем прозрачными, и не понять было — что в них: хмурь или улыбка. И то правда, улыбался он редко и скупо. Но сейчас Санька разглядел чуть дрогнувшие губы, затем листок из тетради в руке. И вдруг обомлел. Листок был его, Санькин, очевидно, выпавший из робы во время вахты. Это были стихи. И как его вообще угораздило писать? Случилось это вчера, когда капитан похвалил его вахту. Тут-то и нахлынуло. На радостях, должно быть. — Явился, товарищ капитан… Не сказав ни слова, Иван Иваныч чуть отставил от глаз листок и медленно, негромким голосом, в котором не было даже намека на подвох, стал читать:УДАЧА
День начался как обычно — с боцманских команд, палубной беготни, скрипа тельферов, таскавших из трюма пустые бочки для засола. Радист Веня пригласил капитана к протянутому в рубку микрофону, и Санька, стоявший у штурвала, слышал глуховатый капитанский голос, ронявший редкие слова в ответ на чей-то приказной крик с плавбазы. — Что вы там резину тянете, сами же выбрали этот квадрат, а топчетесь… На буксир вас брать? — Квадрат не уйдет, к вечеру так и так буду. — Ну-ну, смотри. Что нащупаешь, радируй. Пару судов я туда уже направил — за твоей удачей. Так что поспеши! Потом капитан вызвал главного механика, лысеющего дядьку с растерянными глазами и неизменным блокнотцем в руке, и тем же ровным, со знакомой глухотцой голосом, не предвещавшим ничего хорошего, спросил: — Почему все-таки семь узлов вместо десяти? Опять ваш второй филонит. Избранная личность! Ну вот что, подменять вас не стану: проверьте форсунки, не иначе опять забило. Примите меры и доложите! Главмех вытер огромным платком лысину под фуражкой, и точно его ветром сдуло. Выходит, Юшкин опять проштрафился, подумал Санька, ощутив за спиной присутствие капитана. — Возьми полборта вправо и на норд строго. — Потом обронил в трубу: — Машина, вы что там, уснули? Поддай ходу. Судно слегка затрясло в новом ритме, затвердевшее, словно высеченное резцом лицо капитана выдавало скопившуюся грозу, которой не миновать на планерке механикам. Качалось море, свинцово-зеленое в оспяной ряби заморосившего дождя. Легкие распирало от встречного ветра, время неслось незаметно. Санька впивался в мутную линию горизонта, на котором вот-вот должны были появиться силуэты «рыбаков», спешивших в заданные квадраты. Было прохладно, но Санька то и дело стирал со лба пот, крепко сжимая штурвал. — Полегче, — негромко сказал капитан, и Санька уловил в его голосе улыбку. — А то ненароком сломаешь. Легко крутить штурвал, словно касаясь одной рукой, было высшим шиком опытного рулевого — сменщика Дядюхи. Он вел судно «по струне», без вихляний, съедавших время. Санька тоже пробовал, пока не получалось. Однажды едва не сбился с курса. Сейчас тем более накладно было, каждая секунда на учете. Но все же хватку ослабил, не спуская глаз с компаса. Капитан вышел из рубки, Венька убрал динамик и, прислоняясь к спущенному окну, закурил, засмеялся: — Мама родная, только месяц из дому, и уже тоска. Другому Санька бы не отозвался, не до того сейчас, но с Веней ему было легко, внимание не отвлекалось. «Мама родная»… Венькину мать с отцом заморили в гетто немцы, а сам он еще во время обороны пристал к военным морякам, тем и спасся. История была Саньке известна, а вот по кому Венька скучал — по жене ли, по девушке, понять не мог и спросить не решался. Юшкиным насмешкам не верил, а сам Венька на этот счет помалкивал. — Вень, чего тебя понесло сюда? На Черном море рыбалки нет? — Тут рубль подлинней, — сказал Венька. Вот тебе на, уж кто-кто, а Венька на рвача не был похож, очень толковый радист, капитан им дорожил. Хотя что там говорить — деньги всем нужны: приодеться там, мебель купить. А куда ее ставить? Хотя у него же комната в Одессе. Были родители, осталась комната. И может быть, ему надо сменить обстановку, напоминавшую о пережитой беде. Он высказал свое предположение вслух, и Веня только хмыкнул, проглотив улыбку. В черных, в пол-лица, печальных глазах его мелькнула тень. — Фантазер ты, Саня. Наоборот, пусть все стоит на месте, чтобы я не забывал про фашизм. Это мы сейчас с немцами дружбу ладим, и я, конечно, понимаю, нельзя всех одной меркой мерить, но только и целоваться с ними не тянет. Этого из души не вытравишь — как с голодухи мерли и как их сапогами топтали. Рассудок — одно, а душа человеческая — совсем другое, две большие разницы. Ненавижу! — Не всех же? — Мое дело. — А я и тогда одного пожалел, — вздохнул Санька, вспомнив, как перед приходом Красной Армии партизаны выкурили немцев из села, а один замешкался, в сено залез и трясется, серый весь. — Он ведь, гад, обирал нас, все курей резал. Мать в крик, малышня ревет, а он, знай, режет и лыбится. Задушил бы паршивца… А тут наши пришли, и вся злость улетучилась… — Тряпка ты толстовская, больше никто! — Может быть. А потом, твое с моим не сравнить. То люди, а то куры… — Все равно, надо было кокнуть его, из принципа! — Из принципа пусть его суд кокает. До сих пор не мог понять, почему тогда не отомстил, не смог лежачего.Качка словно бы стала стихать, но дождь пошел гуще, и железная палуба за окном стала темной. Веня выкинул сигарету за борт и машинально вытащил другую. — У меня невеста, сама с Молдавии, тоже голая, как мачта под дождем. Я ее на улице подобрал, как перелетную птицу. Домой бы к себе не дошла — с Кавказа верталась. Ну отогрел ее и отдал в техникум, на медичку. Вдвоем на мои копейки не прожить. Пока что она в общежитии, если дождется — поженимся. Понял теперь? — Теперь-то да. — В жизни бы не поверил, что Венька жених. Такой дохляк, совсем пацан. — То-то, ты же мальчик с соображением. И вообще, что-то в тебе есть, я людей нюхом чую. Не какой-нибудь жлоб с Молдаванки. — А что такое Молдаванка? — Даже слышать смешно. Темный ты мужик. Молдаванка — это город в городе, деревянные дома пополам с ракушником — аж в пять этажей, и в каждой квартире по пять семей, и в каждой семье детей как курей. Мои тоже вышли оттуда, пока не стали врачами. Так что я интеллигент во втором колене. Это кое-что? — Веня, кончай травлю,марш в рубку! Капитан возник неожиданно, и Венька, сделав ему и Саньке ручкой, нырнул в отсек. — Что на горизонте? — Два «рыбака» идут на норд-вест. — Все равно, возьми десять левее, и так держать.
Они прибыли в квадрат почти вовремя. Смеркалось, с тихим шорохом терлась о борт волна. Красно растекался закат, казалось, море вдали занялось пожаром. Капитан доложил флагману место нахождения судна и, услышав короткое «молодец» буркнул в ответ: — Сам знаю. — И отдал команду приготовиться к замету. — Все по местам. Товсь… ме-та-ать, — тотчас взвился пронзительный голос боцмана, загрохали по палубе бахилы, трескуче взвизгнула лебедка и затихла. Но еще с полчаса экипаж напряженно ждал команды. А капитан стоял у эхолота, подвинчивая усиление, и глядел на ленту с зубчатой линией от работавших самописцев, вдруг сменявшуюся редкими штрихами, рисками и снова на мгновение выплывшим частоколом, обозначившим присутствие рыбы. Но капитан все медлил с командой, что-то соображая, прикидывая, словно собственными глазами нащупывал капризный ход косяка, и лишь ронял негромко — «лево руля», «еще полборта», «правей». Санька даже взмок, боясь какой-то неточности, ошибки в капитанском расчете. Но, видно, у капитана было свое, особое чутье, и когда, казалось, все пронесло, упустили, капитан резко махнул рукой: — Есть! Сети за борт! И снова заверещала лебедка и сети, шурша поплавками, скользнули с рола, потянулись в море, заводя круг. Теперь Санька не спускал глаз с морской дорожки, мгновенно повинуясь голосу капитана, пока не стал у коренного конца под ветром, чтоб не нанесло на сеть. Тут смотри и смотри: намотаешь на винт — беды не оберешься. Теперь надо было ждать до утра, положившись на удачу. На иных суднах, где, по словам капитана, уже была новинка — рыболовные тралы, все обстояло куда быстрей. Забросил и вскоре вытягивай. Пролов — снова бросай, шансов на удачу куда больше. А здесь продолжалась обычная ночная вахта, и лишь нет-нет да прорывались споры, выдававшие возбуждение, которым были охвачены матросы. Казалось, один только Дядюха среди населения кубрика сохранял невозмутимость. Да и то, когда Юшкин, раскинув очередной пасьянс, вякнул: «Бабки на двое сказали», Дядюха тихо обронил: «Заткнись, цуцык». В шесть утра, когда Дядюха уже заступил на вахту, раздалась отрывистая команда капитана: — Все на выборку сетей! — Авра-ал. По места-ам! — как резаный, заорал боцман. И точно сорвался клапан с вязкой, шумящей морем тишины. В натужном скрипе шпиля, скрежете лебедки, в лихом матросском разноголосье пошла работа, на первый взгляд сбивавшая с толку своей кажущейся неразберихой, толкотней, где тем не менее каждый знал свое место, так что все в конце концов обретало стремительный ритм — одни тянули вожак, чьи-то ловкие руки мелькали у подбора, остальные уже трясли вытянутую на палубу сеть. Общим молчаливым выдохом, уже без криков и напускного веселья, было встречено туго полившееся на палубу рыбье серебро. Матросы приплясывали, как черти, возле этой живой, шевелящейся массы, подцепляя зюзьгой крупную сельдь, торопясь заполнить бочки. С цепным бряком ставились они на палубу, вытащенные из трюмной горловины. Мастер добычи — он же бригадир — Елохин тут же их раскатывал чередой. Капитан был тоже здесь, среди матросов, переодетый в робу, неотличимый от других. Аврал объединял всех: кто ловчей, тому и почет. А капитан был ловок и быстр в укладке, и это еще больше поднимало его в Санькиных глазах.
…Трое суток стояла погода как на заказ, и в каждом замете рыба перла в сеть, словно в приманку, — почти месячный план. Удачу моряки, как правило, связывают с капитаном. С таким не пропадешь, говорили на палубе, везуч, черт. Везение, должно быть, играло не последнюю роль, но капитан и впрямь был опытным рыбаком: по ветру, течению и каким-то еще, одному ему известным приметам выходил на большие скопления, намного обогнав остальные суда. Хотя и на других были опытные капитаны, не могло не быть, но, видно, свой был посильней, в этом Санька не сомневался, радуясь и гордясь, словно на него самого падала часть капитанской славы. Усталость уже не донимала, как прежде, привык, втянулся в эту работу, обдирая руки о рыбьи жабры и плавники, весь пропахший селедочным духом, от которого даже во сне не было спасенья. В коротких перекурах, обмыв морской водой руки — пресную берегли, перевязав ветошью вспухшие, разъеденные солью, штурвальные мозоли, шлепались на палубу, в тень рубки. Держались, как и в кубрике, все вместе — он, Дядюха, Венька-радист. Санька так и не приучился смолить сигареты, лежал, закрыв глаза. Лениво перебрасывались словами… Юшкина вызвали в машинное отделение, должно быть, опять по его вине что-то не заладилось, и он, пользуясь случаем, часами торчал там, увиливая от «соленой» работы. В одну из таких передышек Венька как бы к слову сообщил о механике такое, что у Саньки сжалось сердце: будто бы капитан взял Юшку по блату, закрыл глаза на графу: «Ушел по собственному желанию». Ради папаши. Папаша-то в свое время утверждал капитана в должности с большим скоком — из вторых помощников, и значит, Иван Иваныч ему обязан — начальство, как ни верти. — И это несмотря на то, что супружница его когда-то с Юшкой крутила, — добавил Венька, — школьная любовь, потом, правда, кинула. — Раскусила пустышку! — отрезал Дядюха. — А все остальное брехня. Я бы знал. — Он все знал, с ним все делились, даже проныра-боцман. — Капитана-то, в крайнем случае, знаю. Не такой категории человек, чтобы честь терять. — Точно, — поддакнул Санька, томимый каким-то тоскливым любопытством: неужто капитан на такое способен. Как-то не по себе ему стало, будто его самого уличили в чем-то постыдном. Самого бы еще ладно, но Ивана Иваныча! Мир показался каким-то ненадежным, зыбким, точно палубу качнуло под ногами, уходила из-под ног прочность, из души — ясность, которая была во всем облике капитана. — За что купил, — буркнул радист. — Юшка сам говорил с «полуконуса», правда, хвастался. Главмех, мол, погрозился уволить после рейса за ржавые плунжера, с боцманом ходил к капитану — а вышел пшик, руки коротки, и у капитана тоже. Шоб я так жил! — Божись всерьез! — Шоб мне своей не видать. Наверное он очень любил свою медичку-молдаванку. — Нет, я не можу, — сказал Дядюха, — я у него сам спрошу. Его же, гада, держат, как лучшего метальщика, оттого и прощают многое. Что я, неправ, Санька? — И сам себе ответил: — Прав! По высшей категории! Они его с Никитичем перевоспитать вздумали, нет же неисправимых, верно? А ты что городишь? — Значит, другие капитаны его погнали, а наш трус? — наконец прорвало Саньку. — Совесть есть? Или хотя бы уважение к капитану? — Не знаю, — огрызнулся Венька, — его спроси. У него, говорят, жена совсем юная. А это знаешь, чем они моложе, тем нам дороже. А жить надо. И вообще — что вы навалились? Если ваш Юшка такой халамидник, что служит из милости, так ему и надо. Конфликт исчерпан. Нет, думал Санька, лихорадочно размышляя о случившемся, не так все просто. Служить из милости — это Юшкина дело. Но как быть с капитаном, взявшим на борт охламона, фактически во вред делу, из корысти, — ведь так получается. Юшкин — никто. А капитан для тебя пример. Сам его сотворил, едва не молился. А теперь вот разрушь, раз такой принципиальный! Спроси обо всем напрямик. Слабо? Тоже трусишь. Ведь он добр к тебе, мореходку обещал, на штурмана… Выходит, и твое к нему уважение на корысти? И стало быть, все одинаковы, а примеры нужны, чтобы легче прожить? Так имеешь ли ты право судить капитана, раз сам таков? Но ведь это не так, не так, черт — отбивался он от собственных стыдных мыслей, барахтаясь в них, как в омуте. Даже вспотел, тяжело дыша, через силу вынырнув на поверхность. Какое-то время молча глазел на отдыхавших ребят, будто увидел их впервые. Неожиданно вернулся Юшкин, его встретили хмурым молчанием. — По места-ам, подъем! — гулко, как из бочки, разнесся голос рыбмастера Елохина. Крупный, смуглокожий, с тяжелым нелюдимым взглядом из-под густых бровей, Елохин был опытный, с довоенным стажем мастер, отличавшийся твердым характером, какой-то беспощадностью к новичкам. Со всех требовал поровну. Веньке, который к полудню сдал настолько, что лег на палубе ничком, он спокойно бросил: — Встать! — Не могу, — засмеялся Венька бессильно. — Тогда сиди дома и не рыпайся. А тут — море. Подъем! Елохин сжал огромные, как гири, кулаки, и Венька, бледный от жары, встав на карачки, поднялся и — заработал. Через час, закатывая новую порцию рыбы, он даже улыбался и легонько пританцовывал, точно кукла, которую дергали за нитки, так что Дядюха удивился: — Что с тобой, Веня? — Черт его знает, второе дыхание. А Юшкину, который наотрез отказался солить, потребовав положенный перерыв, Елохин пригрозил подзатыльником. — Милый, — сказал Юшкин, — физические наказания на флоте отменены знаешь когда? — А моральные? — Ради бога! — Тогда уматывай в свою машину, полдня я с тебя вычту. И у Юшкина тоже появилось второе дыхание. Возле бочек суетился бондарь Сысой. Куда девалась его степенность, раздумчивый говорок; с отросшими волосами он был похож на встрепанного воробья, который умудряется в стае голубей склевать сразу все крохи, — так же отпрыгивал, искоса осматривая чужую работу, вдруг кидался к закатчикам, отбирал молоток и зубило, взахлеб выпискивал: «Вота как надо, вота!» Отскочив, снова подбадривал: — Не так, не так, тютя, плечо отмотаешь, бей в торец. — Легче, легче, не тещу гладишь, навскид и поточней. — Эй, Венямин! Бочка перед тобой али радива? Аккуратней, малая щель — и пропал продуктик! Вот смотри, как я! И снова подскочив к бочке, показывал, как ударять вкруговую, «без ослабки». Елохин, скупой на похвалу, только его и похваливал походя: «Молодец, старик, мастер, что и говорить!» Сысой сиял, как новый гривенник, и пуще прежнего старался всех поучить и сам две нормы выдать, такой у него закон был. — Роздыху ужо себе не давай, роздых, он спину ломит, а то вон товарищ Елоха уже глазом зырит, прости господи.
И снова они, под пологим солнцем, до темноты в глазах перетрушивали солью, уминали в бочках селедку. Санька работал машинально, не чувствуя едучей боли, до того было муторно на душе, все думал о капитане, каково ему между долгом и совестью, а может, плевать ему на такие мелочи, будет портить себе жизнь из-за какого-то Юшки. Венька с Дядюхой вкалывали как ни в чем не бывало, Венька даже насвистывал. Неужто он, Санька, один тут такой, тонкокожий, белая ворона. Все-то его трогает, пустяк душу точит. Или и впрямь стал ему капитан родней родного, и не верит он сплетням — ерунда, палубный треп!
ПИСЬМО
Старпом Никитич принял вахту, и капитан с Санькой привычно засели в штурманской над картой, на которой поблескивали транспортир и линейка. После той болтовни на палубе насчет Юшкина исподтишка вглядывался в чеканное, дубленое лицо капитана, стараясь отыскать в нем ответ на мучившие сомнения, начисто их отмести. Будь они вдвоем, спросил бы напрямик, да вот увязался, как назло, радист, а за ним, прослышав о штурманской учебе, и Дядюха. Он не был бы Дядюхой, если бы остался в стороне от такого перспективного дела. Хотя поступать в мореходку ему было поздно — годы не те. — Если разрешите, — сказал он капитану, — вам же все одно время терять, а мне сгодится. — Точно, — поддел его Венька, — вдруг когда-нибудь в одиссеях неизвестный бог превратит команду в камни, один ты уцелеешь и благодаря знаниям приведешь судно в родной порт. — Одесса от слова одиссея? — вскинулся Дядюха. — Наоборот! — Ладно травить, специалист, — смекнул, наконец, Дядюха. — Тебе-то зачем учеба? — За компанию. — Подружились, стало быть, — улыбнулся капитан. — Ну что ж, служба и дружба понятия близкие, даже рифмуются. Как, Стах, прав я? — Не знаю! Санька вспыхнул, потупясь: не хватало, чтобы дружки приклеили прозвище поэта, и пойдет — у матросов язык острый. Но капитан не стал распространяться и взял транспортир. За неделю занятий Санька уже разбирался в маяках, знал их характеристики, сигналы. Сказочно раскрывалась карта ночного неба с его таинственными созвездиями, превращавшимися в знакомые ориентиры: Орион, Большая Медведица, Полярная звезда. Сегодня небо было в черной наволоке облаков. И капитан подробно объяснил, как определяться по двум проблесковым маякам вдали на Фарерских островах. Затем по радиопеленгатору стали определять направление на радиомаяк. Дядюха справился на удивление быстро. Венька вообще прослушал урок, а у Саньки, взявшего не тот угол, получился обратный пеленг. Дядюха схватился за живот и поперхнулся под взглядом капитана. А капитан объяснил, в чем ошибка, и сказал, что если бы нечто подобное допустить, то корабль пойдет в противоположную сторону. Санька тоже посмеялся, не испытывая особого огорчения. Ему и в школе точные науки давались нелегко. Но если уж возьмет себя в руки и, наконец, поймет — накрепко отпечатывалось в мозгу. Они еще долго тренировались в прокладке курсов, и Санька постепенно с облегчением вбирал в себя премудрости штурманского дела, которое на первых порах казалось просто непостижимым. — Впредь, — сказал капитан, — будешь выполнять некоторые штурманские обязанности во время вахты. Трудно, зато крепче запомнится. — Это понятно. — А я? — спросил Дядюха почти обиженно. — И ты тоже, куда от тебя денешься. Ну все, отдыхать. Неожиданно послышались голоса. «Почта», — первым догадался Дядюха и ринулся на палубу, откуда уже слышались команды. Подходил СРТ-26, только что сдавший рыбу на плавбазу. Венька в момент исчез, а Санька, заметив, как переменился в лице капитан, остался сидеть, точно завороженный. Наверное, надо было встать и уйти — может быть, и ему пришло письмо. Не торчать же перед глазами, пока Иван Иваныч будет читать свое. Нехорошо. Он уж было поднялся, но капитан обронил: — Погоди, может, и нет никаких писем. И Саньке подумалось, что без письма капитану, наверное, будет худо, и тогда, чтобы отвлечься, станет ему рассказывать про свои плавания. Много их было, самые первые на север за рыбой, на парусниках — тогда еще не было траулеров. Но письмо пришло — боцман принес сразу два: одно Саньке, судя по почерку, от Лены. Он его сразу спрятал, но с места не встал, остался, как привязанный, следя за жесткими пальцами капитана, неровно надорвавшими конверт. Лицо его было обычным, только губы плотно сжаты. Потом он сложил и спрятал письмо, взглянув на Саньку своими прозрачными глазами как на пустое место. Саньку точно дернули за язык: — Плохие новости? — Да все прежние. — А показалось — переживаете… Взгляд капитана, словно вернулся издалека, стал осмыслен, но все еще смотрел мимо штурвального: — Ультиматум поставила: или я, или море… Конечно, нам нелегко, а им потяжелей, — все так же задумчиво ответил капитан, глядя в пространство, на нервно мигающий в тумане маяк, будто разговаривал сам с собой. — Якорь поднял и ушел. А ей оставаться… Одна… Во всем мире. В первые минуты — как птенец, выпавший из гнезда. Так у иных бывает: полная беззащитность и поиск привычного крыла. А его нет, пусто… Тут не совсем то, что ты думаешь, — торопливо уточнил он, перехватив Санькин взгляд. — Измены, ревности, это все пошлость. Любящая душа не изменит, разве что сама себе. Вот и болеешь за нее, как за малого ребенка. Когда-нибудь, вырастешь, поймешь, если придет к тебе настоящее… Похоже, он отводил душу и, наверное, чего-то ждал от Саньки, но тот лишь кивал согласно, испытывая неловкость, и думал о том, как же нужно любить человека, чтобы вот так жалеть его, и каким сильным надо быть, с каким крылом! Ему вдруг захотелось быть таким, как капитан, чтобы иметь право дарить тепло. Наверное, это не просто, не каждому дано. — А почему Иванова Таня, — обронил Санька, покраснев, — вопрос был неожиданным для него самого. — Чудно́ подписывается. — А она и есть Таня. Девятнадцать ей. А я вон старик уже — и за мать, и за отца, и за мужа… Родителей война, блокада взяла. — В каждой семье кого-нибудь… — вздохнул Санька, — Сколько ж это по всей стране? — Подсчитывают. Все поставят в счет. Казалось, капитан обрадовался, свернув разговор на другое. А Санька вспомнил Венькину исповедь, сжигавшую его месть. А можно ли мстить мирным людям за зверства их земляков. Он бы не смог, хотя тоже натерпелся в оккупации, — так и сказал капитану. — Они всей страной воевали, — буркнул капитан. — Но были же люди! Ответ капитана таил для него сейчас какую-то необратимую жестокость, почему-то возможную в этом мире. Это потрясло его, хотя и далек он был от тех страшных дней войны и оккупации. — Были люди… По лагерям и тюрьмам. — Капитан пристально, с неожиданным участием взглянул на Саньку и отвернулся к окну, уже плотно зашторенному клубящимся туманом, проглотившим и море, и маяк. — Все это очень сложно, и Веньке ты не судья… Конечно, были. Но и зараза эта была, леший их подери, бюргеров этих. Расовое превосходство со всеми полагающимися благами. Вот что страшно! Стадность! У меня лично даже не злость к ним, а отвращение к самому явлению, такая подверженность психозу… Хотя тоже мог бы бить себя в грудь и требовать отмщения без разбора: дважды на их минах грохался, на тральщике. Столько их в море было, что костей в ухе… Как-нибудь расскажу. Пора было уходить. В кубрике было пусто. Дядюха стоял вахту. Венька наверняка, получив письмо, приткнулся где-нибудь на палубе и мечтает в одиночку, а Юшкина, видно, заставили чистить форсунки. Вернется и будет в сердцах облаивать всех и вся. И чего он такой озлобленный? Капитан вон даже на немцев зла не держит, ко всему — с понятием, а этот на своих взъелся, мало ему чести быть механиком. А что ему надо, чего такие люди, как он, хотят от жизни? Санька прилег на койку, закинув руки за голову. «А мне чего надо? Чего я хочу?» Он впервые подумал об этом серьезно, по-взрослому и даже слегка оробел от четко возникшего вопроса. Радужные мечтания обернулись тяжкими буднями, сулившими хороший заработок. Ну отхватит он деньгу — это не лишне. Потом опять в рейс, и еще, и еще. А дальше что? Не ошибся ли капитан, в чем его призвание? В чем смысл? Что он знает о себе, что может сказать, если вдруг поставить его перед людьми и спросить. Единственное то, что его всегда тянуло к людям — разобраться в сложности человеческих отношений, понять их. Всегда старался объяснить их неожиданные поступки, движения души, мысли. Но понимать необходимо любому. Это ведь не профессия — понимать человека. Или, может быть, следовало идти в учителя, воспитатели? А как можно учить других без житейского опыта. И потом, опыт можно обрести и на суше, не в море же за ним ходить… А почему бы и нет? Прав капитан: нигде так не обнажается натура, как в таких тяжких, сопряженных с постоянным риском морских буднях, совместном бытие на этой брошенной в стихию посудине. Когда все время чувствуешь — под ногами, под железной палубой пропасть. В шторм все трещит. Только и положиться на тех, кто рядом. А им — на тебя. Вот тот же Венька как-то признался, что был скуповат — стал бессребреник. Чего и кому жалеть, если неизвестно, что с тобой завтра будет, а скорей всего очень даже известно — схватка с разъяренным морем, которая потребует всех сил, всех и каждого, такая судьба — одна на всех. И выходит, что море хоть и жестокая, но верная наука жизни. Как сказал капитан? Один за всех, все за одного… Слова эти, не раз слышанные, открылись ему так, будто сам их придумал. Прав-то он прав, неожиданно шевельнулось в душе, точно заноза. Смел, море ему нипочем, а вот Юшкин папа — почем. Может такое быть? И ведь вертелось на языке, хотел ведь спросить после занятий, да вот письмо помешало, расчувствовался… С шумом ввалился Юшка, таща под мышкой посылку, видно, дома не забывали сыночка, пользуясь оказией. Вслед за ним как-то робко, бочком пролез в дверь боцман, последним вошел сменившийся с вахты Дядюха. Юшкин открывал объемистую посылку прямо на постели. Боцмана пригласил сесть, и тот, помявшись, искоса поглядывая на прилегшего Дядюху, оседлал табурет, зачем-то снял фуражку, обнажив высокий, удлиненный, словно пень, лоб в оправе редких волос. Чего только не было в этой посылке, похожей на чудесный сундучок из детской сказки: завернутое в пергамент копченое мясо, коржики с коричневым притрусом, свежие яблоки. Но боцман пропускал мимо глаз богатую снедь, точно ждал еще какого-то чуда. — Ты ешь, нажимай, — подвинул ему Юшкин газету. — Навались, братва. Боцман машинально, чуть ли не в один прием сглотнул пирожок, все еще не спуская глаз с посылки. Саньку Юшкин почти силком усадил рядом, пододвинув газету с коржиками. — С орехами, тебе такие и во сне не снились. После такого вступления что-то расхотелось есть, но Юшкин был настолько радушен, что отказать было нельзя. Дядюха отнекался было тем, что не любит сладкого, но Юшкин так обескураженно развел руками: «Чем могу, не обижай мамашу», что Дядюха тоже пристал к «столу», только попросил, чтобы Веньку не забыли. — А то мы в три рта мигом подметем. Юшкин ударил себя по лбу и, завернув кулек, сунул Веньке под подушку. — Придет радист, уснет — проснется, а ему от родного боженьки подарок. Давайте, братцы, подчистую — подлежит уничтожению, холодильников нет. — Ну и закусь, — вздохнул боцман, уминая давно забытый окорок, — сирота закусь. К ней бы портвейнца на худой конец. — Есть кагор, будешь? — спросил Юшкин. И, сунув руку в, казалось бы, пустой уже ящик, достал обернутую тончайшей бумагой высокую бутыль. Не зря боцман гипнотизировал посылку — нюхом чуял. А Юшка, снимая бумагу, усмехнулся: «Вот, как любимую раздеваю». Лицо боцмана слегка вытянулось. — Фу-ты ну-ты. Матросу, а что шлют? Кагор… — Это мамаша. Так будешь? — Можно, конечно, — погладил лысину боцман. — А не стукнешь капитану? — С кагору? Это же детский сироп. Раньше младенцев причащали… — Отпил полстакана, причмокнул: — Хорошая, видать, мама у тебя. Они кто же, твои родители? — Много будешь знать — состаришься. Боцман хихикнул, не зная, обижаться ему или пропустить мимо ушей. Пропустил — бутылка только еще начата. А Санька, заминая неловкость, спросил — не прислали ли бритву? Юшкин только по лбу себя хлопнул: — Писал же, а напомнить про бритву забыл. Ну ничего, Венькина не ступится. Давай, Сань, нажимай. А ты что, Дядюха? Но тот вежливо чиркнул по горлу — мол, хватит, хорошего понемножку. — А ты зря, смотри, заведешься… — Это он намекнул на шлюпочный анкерок с выпивкой. Боцман, тотчас смекнув, призывно подмигнул Юшкину, дескать, хорошо бы завестись, разок можно. Однако Юшкин будто не заметил, даже не взглянул в его сторону. Боцман отрезал ломоть мяса, сказал участливо: — Славный ты мужик, только хлипок характером, малость без стержня. — Будет жизнь — будет и стержень. — А жизнь-то строить надо. — Ладно, давай без морали. Оставь на десерт. Здесь, конечно, была ему не жизнь, а только пересадка перед дальним рейсом — в мореходку. Саньке почему-то стало обидно за него перед боцманом, так неуклюже затеявшим свои попреки за чужим столом, и он сказал насчет Юшкиной перспективы. — Ого, — как будто удивился боцман, утерев горстью жирные губы, — это значиться, еще мной покомандуешь. — Точно, — мутно усмехнулся Юшкин, вино на него что-то быстро подействовало. Или он уже успел заглянуть в свой анкерок. — Из таких, как ты, и подберу команду, чтоб все друг на дружку оглядывались, как бы кто не продал, — тогда порядок. Боцман снова хохотнул, как бы по инерции, но на этот раз явно обиделся. А у Юшкина под соболиной бровью сузились глаза, и лицо в усмешливом оскале стало некрасивым, злым. И Санька с удивлением подумал, как это в человеке сочетаются щедрость и презрение к людям, хотя боцман своего, конечно, заслуживал. — Ну ладно, — вздохнул боцман, поднявшись и натянув кепку, точно ничего особенного не произошло. — Спасибо, механик, за хлеб-соль… Пора и честь знать. — Спасибо и вам, — в тон ему ответил Юшкин, — желаю вам этой чести побольше. После выпуска в капитаны прошу на банкет. И оба рассмеялись, Юшкин — весело, боцман — сдержанно, одним ртом… Он ушел на вахту, Дядюха улегся и тут же захрапел. А Саньке не спалось. Только сейчас вдруг вспомнил о Ленкином письме — как выпало из головы. Достал конверт. В тусклом свете плафона запрыгали перед глазами строчки в косой линейке — крупные, растянутые, как в школьной тетрадке.«…Уважаемый Саша… В первых строках сообщаю… А мастер наш, Федот Федотыч, я тебе говорила о нем?.. Дала отворот, как мы с тобой подружились, и вот опять проходу нет. Вчерась сделал предложение. Надо же, черт настырный… Ну что с ним делать, посоветуй срочно…»Ни о каком Федотыче он знать не знал. Чуть защемило сердце — и прошло. Что он должен ей советовать? Повертел листок и спрятал его почему-то не в карман, а под матрац, с глаз подальше. Долго ворочался с боку на бок, потом все-таки поднялся, положил на Дядюхина «Жизнь растений» чистый лист бумаги и долго прицеливался пером, не зная, с чего начать, а когда все-таки начал, долго не мог сложить первую фразу, будто кто за локоть придерживал. Слова Лены как-то запоздало откликнулись в душе брезгливой обидой, неуверенностью — сам-то он даже не помышлял о женитьбе, надо было найти себя, встать на ноги — там видно будет, а Ленка — на тебе! — заспешила как на пожар. В девятнадцать-то лет! И словно тыча ее в ее же послание, тоже начал с такого же обращения: «Уважаемая Лена», похожего на глупую игру. Зачеркнул и наново вывел по-человечески, — чего-то жаль стало, — написал о себе, о трудностях рейса, о соседях по кубрику и, конечно, о капитане — щедрой души человек, приучает его к морской науке, которая пригодится ему в мореходке, не век же рыбу солить. Но под конец все же приблизился к ее докуке и попросил, чтобы она там не маялась зря, а работала, как все порядочные девчонки, он вернется, и они обо всем поговорят. А пока он также будет вкалывать на совесть и ждать от нее писем.
ПРИЗНАНИЕ
Столовая на судне была небольшой, одновременно она служила красным уголком и залом для показа кинофильмов. Туда-то и позвал Никитич Саньку после обеда, там находился уже комсорг Мухин, маленький, шустрый, с вечно озабоченным взглядом. Он сидел за столиком, на котором был прикноплен свежий номер почти готовой стенгазеты. У Мухина был хороший почерк, и он переписывал все материалы от руки: и передовую из последней областной газеты, состоящую из одних почти цифр и цитат, и матросские заметки. Никитич сухонькой рукой пригладил огненно-рыжую бородку и тоже присел, глянув на Саньку снизу вверх, с каким-то странным, поощряющим удивлением, собрав в улыбке белые лучи морщин. — Оказывается, среди нас поэт! И вынул из кармана все тот же листок со стихами — вот зачем капитан оставил его у себя. Этого еще не хватало. У Никитича в эту минуту был вид любознательного школьника, которому встретился человек редкой, непостижимой для него профессии. — Ну… какой там поэт. — Не скромничай, сам читал. Санька молчал, весь пунцовый, он уже догадывался, зачем вызван, и всем своим существом противился затее Никитича. Слабые же стихи, пустые, он давно это понял, зачем же выставляться на смех. А Никитич между тем раздумчиво заговорил о таинстве таланта — об одаренности людей, об их непременной общественной активности и ответственности перед общим делом и людьми. — Согласен? Санька кивнул. А Никитич, радуясь возможности побеседовать, продолжал развивать, очевидно, давно увлекавшую его мысль о рождении стиха. — Я вот что думаю… Извини, конечно, сам-то я не пишу, но читаю. И много! Особенно на берегу. И вот мне кажется, дай, скажем, ста поэтам одну тему — будет сто разных стихотворений, и неплохих, допустим. Но только одно из них шедевр! Я вот Пушкина люблю… Онегина на память знаю. Ну и лирику… Так мне порой кажется, что шедевр существует в самой природе, и настоящий гений берет его не то чтобы готовым, но как бы угадывает единственно верный вариант! Смешно рассуждаю? Ничего смешного не было. Немного, правда, неожиданно, никогда над такими вещами Санька не задумывался. И сейчас согласно помалкивал, не желая обижать Никитича сомненьями, может, старик и прав. Но к чему все это — понять не мог. — А при чем тут ответственность? — спросил он, наконец. Слово это зацепилось в мозгу, наверное, не зря было брошено. — При том! Нужна сатира в стихах на этого шалопая Юшкина. Ты поэт, тебе и карты в руки. Санька даже вспотел, украдкой утер лоб. Вот оно что. Выходит так: живут в одном кубрике, мало ли что там меж собой, а ему выносить мусор? А как бы на это посмотрел Дядюха? Нет, не похвалил бы, — это было первой отрезвляющей мыслью. Дядюха на худой конец дал бы Юшкину по роже… — Странно, о чем тут еще думать?! — встопорщился Мухин. — Печать — выразитель общественного мнения! А ты — в кусты? Возьмешься или струсил? — Нет… — Что — нет? — Не возьмусь, — выдавил из себя Санька. Такое было чувство, будто его живым топят. И вдруг, вспомнив, ухватился за соломинку: у него благодарность за швартовку. От капитана! «А что, если капитану-то и понадобилось общественное мнение, чтобы отделаться от Юшки, на себя-то не надеется, вот и копают скоком». Мысль была настолько нелепой, ни с чем несообразной, аж себе противен стал. — Он уже после швартовки дважды нализался. В машинном он пустое место. Разгильдяй, выпивоха! Глупо, — вконец разгорячился Никитич. — В тебе говорит ложный стыд! Он себе позволит, на него глядя, другой, третий: «Мы что, хуже», и лопнула работа. И уже есть случаи. Это надо предотвратить! Понял ты, наконец! Он, конечно, все понимал, не дурак. А решиться не мог. Рассудок говорил одно, сердце — другое. — Так понял или нет? — Понял. — Значит, договорились. Даю на работу два часа. — Нет… Впору было исчезнуть, раствориться, так невмоготу ему было перед Никитичем. «А для тебя — неважно? А еще рассуждал, сопли размазывал: морское братство, все за одного. Все порядок ладят, один портит, а ты в сторонке зад греешь, деликатная душа, будь ты проклят… Вот когда самого заденет, а ведь может… Юшка тебя спасет? Черта с два!» — Да ты просто малосознательный человек, — тяжело вымолвил старик, розовея от гнева, так что острое его личико стало под цвет бороды. — Ты хоть Ленина читал?. В школе? Значит, плохо читал. Я тебе покажу, что надо прочесть. Там у него ясно сказано, что без дисциплины и ответственности каждого — заметь, каждого трудящегося — социализм невозможен… Вот так. Придется заняться твоим воспитанием, товарищ комсомолец. Мухин молчал, потупясь, будто не Саньке, а ему выговаривали, — стыд и позор. И Санька почувствовал, что дело сейчас уже не в Юшкине, а в нем самом, и это для Никитича очень важно. — Ладно, — неожиданно оттаял Никитич, — такие вещи под нажимом не делаются, еще поговорим. А пока вы тут подредактируйте твое стихотворение и печатными буквами на всю колонку. Я пошел… Они остались одни. Мухин придержал отколовшийся угол газеты. Видимо, пошла крупная зыбь, судно качнуло, слышно стало, как бьется о борт волна. — Замечаний немного, — сказал Мухин, — надо бы дать примету времени. А то моряк и моряк. Какой моряк? И тыщу лет назад моряки были. — Ну наш, — сказал Санька, уже смирившийся с грядущей «славой» — что-то она принесет? Мухин оживился и тут же скис: — Наш — слишком в лоб. Нужна тонкость, ньюанс, но чтобы чувствовалось… В общем, подумай. — Слушай, я не знаю, как это делать, что я, Пушкин? Ньюанс… И откуда ты такой грамотный? — Я с третьего курса института, — серьезно ответил Мухин, — с литфака. В другой раз Санька не утерпел бы от любопытства: почему из института — в море? Не похоже, чтобы такого вытурили, но сейчас, после пережитого с Никитичем, ни о чем не хотелось спрашивать. Еще неизвестно, что ему принесут эти стихи? Может, дать без подписи? Но стоило заикнуться — Мухин округлил глаза. — Это что, анонимка — за псевдоним прятаться? Пройдешь у меня в отчете как участник литсамодеятельности! Вот так. Тут еще боцман «матом кроет»? Может, наш и кроет, а зачем обобщать? — Ну да, — воспротивился Санька ревниво, эта строчка ему как раз нравилась. — На других суднах они матросам детские песни поют. Мухин фыркнул и неожиданно уступил. Но зато на последней строфе стал как вкопанный. — При чем тут Лена? Личные стихи, ненужная альбомность, надо Лену обобщить, типизировать! Санька устал спорить за стихи, которые не намеревался вообще печатать. А тут еще сиди переделывай. — Не нравится — снимай, ты редактор. — А что останется? Одна первая под вопросом и еще про боцманский мат? — А нужно, чтоб что-то осталось? — Ты шутки здесь не шути, — взорвался Мухин. — Мы дело делаем или в поддавки играем? Остался час — и вывешивать. Давай садись, ты — поэт, тебе и перо в руки. К вечеру газета запестрела на стене в столовой. К удивлению Саньки, никто не насмешничал, напротив, с ним стали здороваться уважительно. А матрос Бурда, длинный, как жердь, парень с печальными глазами, спросил его, поймав за рукав у трапа в рубку: — Правда, сам написал или содрал с журнала? — Правда… А что? — Понимаешь, это ж здорово, я сам с вагоностроительного, вот пошел в рейс, — жарко зашептал палубный, почему-то оглядываясь, — а у меня там зазноба, Гликерией звать. Такое, понимаешь, нескладное имя. Нет, сама она первый сорт, с характером, а вот имя как козе хомут, ни с чем не рифмуется, сам пробовал. Ни в какую… — Ну и что? Санька торопился на вахту — Дядюхина шла к концу, а матрос продолжал долдонить непонятное, с печальной просьбой в глазах — все про рифму и про то, что хорошо бы послать Гликерии письмо в стихах, ну хоть на страничку. Только она книголюбка несусветная, много стихов знает, и надо бы свое, не чужое… Пусть почешется, а то знай нос дерет, грамотная, такую просто так не удержать, да еще на расстоянии, а мне без нее пропасть. — Ну и что? — Что ты заладил — «что да что»? Помоги, будь человеком, что тебе стоит? У меня ракуха еще с прошлого рейса, подарю. Пошлешь своей крале. Возьмет к уху — море слышно. А в море — ты. От ракухи Санька отказался, не хватало еще прослыть хабарником. Вдруг посерьезнев, объяснил, что стихи святое дело и он постарается, хотя понятия не имел, о чем писать Гликерии, чтобы сохранить ее верность. Но уж очень жалко стало Бурду. — Сказал, попробую без ракухи. — Не обижай. — Сказал! Только никому ни слова. — Ты что? Могила!.. Век тебе не забуду. Но слух о литзаказе на письмо с быстротой пожара разнесся по судну, и матросы повалили валом — каждый со своей просьбой и разными женскими именами, требующими рифмовки, так что если каждому обещать, не хватило бы суток на одни письма. Обалдевший от этого нашествия Санька, посоветовавшись со всеведущим Дядюхой, поставил матросам условие: он напишет одно для всех, без конкретного имени, но, конечно, о любви и верности. И каждая подружка примет его на свой счет. Матросы повздыхали и согласились. Пусть без имен, только бы за душу брало. — Возьмет, — пообещал Санька. А в следующую отправку морская почта приняла сразу двадцать писем с вложенным стихотворным листком. Там были строчки, которые сам автор не мог читать без душевного волнения:КИНО С ОБСУЖДЕНИЕМ
Это все Мухин затеял — обсуждать… Раньше, бывало, прокрутят ленту, перекинутся рыбачки словцом-другим и разбегутся — у каждого дела. А тут, значит, встань перед братвой, как лист перед травой, и в тишине, под шум волны, отстаивай свое особое мнение. Мухин так и сказал: «Спор расширяет кругозор! И приобщает к искусству!» Матрос, мол, не пассивный зритель, а как бы соавтор создателей фильма. Вот и сообщи, что видел и как понял. А что тут понимать, когда и так все ясно? Кино как кино. Про гулящего мужика — крупного инженера. И не то чтобы он загулял, по душевному влечению стал от жены к другой похаживать. Хотя жена была что надо, умница и при том блондинка, покрасивше любовницы, так что даже непонятно, чего его в сторону повело. Такую бы красотку любому матросу, грыз бы палубу в вечной любви и верности, а режиссер, тот решил иначе, ему видней. Вот и соавторствуй с ним? Что он хотел сказать активному зрителю, который за два месяца только и видел женский лик на экранной простыне. А там между тем такое завернулось… Жена интеллигентно страдает, ни тебе ни скандала, ни драки, только в глазах ее крупным планом немой упрек и блеск слезы, а любовница знай пилит немолодого крупного инженера, требуя определенности, — и опять глаза, и опять слеза, только злая, ревнивая. А ему и ту жалко, и с этой порвать невмочь. И в какую-то минуту такая муть скрутила всю сочувствующую жене судовую команду — впору завыть. Но режиссер на то и режиссер, чтобы найти выход, и вот под общий вздох облегчения услал он крупного инженера на Кольский Север восстанавливать порушенную войной электростанцию. А там пурга, морозы, со стройматериалами чехарда, одним словом, работенка такая — любую блажь собьет. Только руки героя командно мелькают в метельной тьме, да что-то кричит в пургу заиндевелый рот под съехавшим башлыком; и растут трубы все вверх и вверх, несмотря на сбои в доставке бетона — его тут же научились греть на кострах по совету инженера. И так все славно — под грохочущую музыку пурги, под невидимый симфонический оркестр, жаль только — от любовницы ни одного письма, лишь стороною пакостный слушок: мол, не выдержала разлуки, с горя вернулась к прежнему ухажеру, нелюбимому — ради спокойной жизни и здоровой семьи. А жена осталась верной и под занавес, запорошенная снегом, прижалась к поседевшей от инея мужниной бороде, что и требовалось доказать. Тускло зажглись плафоны. Команда молчала. Лишь боцман, сидевший нога на ногу особнячком и отрешенно крутивший большими пальцами сцепленных на коленке рук, словно очнувшись, бросил реплику: — Учтите, товарищ Мухин, у нас починка сетей, приказ капитана. Так что постарайтесь в темпе провернуть свое мероприятие. — С капитаном сам договорюсь, — нервно огрызнулся Мухин. — Потрудитесь не отвлекать! Ну, кто первый? Первых по-прежнему не было. Тишина, нарушаемая гулом машины и палубной дрожью, становилась тягостной. О чем говорить, никто не знал. Если б еще обратная ситуация, то есть все наоборот: с женой непорядок, тут бы, конечно, высказались, у всех наболело за время разлуки, а так что же… — Мужик и мужик, с кем не бывает… Это обронил бондарь Сысой, чья фотография — нос кверху, рот до ушей — уже с неделю маячила в дальнем углу на стенде передовиков. Сидевший рядом с бондарем рыбмастер Елохин громоздко поднялся и пошел к трапу, отмахнувшись от мухинского: «Вы куда?» — «За кудыкину гору в детский сад». И Мухин, прикусив губу, снова уставился в бондаря. Вид у него был непривычно хмурый, напряженный, точно он готовился к бою — один против всех. — Что вы хотели сказать, Сысой Исаич? Давайте с места. Тот смущенно скомкал кепку и улыбнулся беззубо, точь-в-точь как на портрете, в его уклончиво косящих глазах жила растерянность: как бы чего не ляпнуть невпопад. — Ну-ну, смелей, — подбодрил Мухин. — Речь идет о художественной правде: насколько верно отражена жизнь в воспитательном плане? — Дак все верно, все по правде, — с готовностью отозвался бондарь. — Все как есть на самом деле… — Какая же это правда? Чему она учит? — сдержанно заметил Мухин. — В чем смысл фильма? Важно ваше мнение, а не режиссера в данном случае. Бондарь мялся, пожимая плечами, и все старался обезоружить своей благостной улыбкой непонятно от чего расходившегося комсорга. Но тут поднялся, кажется, тоже собравшийся улизнуть скучающий Юшкин. Мухин тотчас его одернул и приказал сесть и слушать, что люди скажут, а не увиливать… Юшкин сел, проворчав довольно громко: — Тебе «галочка» в отчет нужна, ты и слушай, а у меня дело горит. Устроил цирк… — Твое дело давно сгорело, — вспылил Мухин, накаляясь, боясь упустить нить беседы. — Мы еще будем слушать тебя на собрании, работу твою. И при чем тут цирк? — А при том! Мнения… Соавторство… От того, что мы согласны или нет, ничего не изменишь. Даже если в стенгазету протокол тиснешь. Мухин загрохал кулаком по столу, стараясь унять поднявшийся галдеж, вскинул руку, выдерживая наплывшую паузу. Сказал уже спокойней, переводя дыхание между фразами: — Правда бывает всякая, иную правду можно и в помойке раскопать. А вам лично, товарищ Юшкин, как человеку грамотному, скажу, но так, чтобы все было ясно. Искусство должно типизировать, то есть брать положительное явление и на нем учить людей… — А куда девать отрицательные? — …учить отношению к жизни! А этот фильм-фотография единичного случая. Без обобщения! — Голос его зазвенел в попытке убедить в том, что ему никак не удавалось высказать до конца понятно. Он это чувствовал и от того еще больше волновался. — На наших глазах рушилась семья… Ячейка государства, как всем известно. Разрушил ее — всему конец. Изменил жене — значит, ты в принципе морально неустойчив. А где выводы автора? Нет их! Значит, гуляй, расшатывай, а нам и дела мало! Общественность в фильме молчала, с режиссером заодно. Это называется гражданской позицией?! Мазня! — Ну, — обронил кто-то, — ихняя жизнь для всех не указ… — Вот именно! — А потом они же помирились, — елейно вставил Юшкин. — Благодаря жене, — отрезал Мухин, — олицетворяющей покорность и терпение, причем неизвестной рабочей принадлежности, так — домашняянаседка. А где женская гордость? Где равноправие? — Вот, юноша, вот оно и есть! — вдруг поучительно произнес бондарь, в котором справедливость взяла верх над робостью. — Нет его, равноправия, и не надо… Скажем, выбилась она в служебные начальники и дома почнет права качать. И пошла борьба, вроде как соревнование — кто кого. И уже она не жена, а вроде старшина, как с ей в постель лягать? По стойке «смирно»? Не-ет, женщина должна быть женщиной… В поднявшейся разноголосице бондарь сел на место, уважительно при этом глянув на комсорга, как бы испросив его разрешения, и Мухин напрасно стучал по столу, стараясь унять матросов. Санька даже подивился его запалу: чем его так проняло, Мухина? А рыбаки шумели, каждый доказывал свое. Одни — что от бабьей гордости один вред, другие, неженатые, почему-то ратовали за женскую свободу и независимость. Двое молодых матросиков едва не сцепились, сводя какие-то старые счеты. Спор, точно телега, свернувшая с накатанной колеи, загрохотал по кочкам, куда-то в сторону от заданной темы, и Мухин тщетно пытался успокоить людей. Но тут вскочил боцман и пронзительно крикнул: — Молча-ать!.. Кончай базар! Тут что — травля на баке или сурьезное собрание? — Шум постепенно улегся, как волна под дождем, а боцман, преданно косясь на Мухина, все так же резко отчеканил, рубя воздух толстой ладонью: — Моряки! Товарищ комсорг прав, кино игде делали, там люди не дурей нас. Как было, так и сняли. Все как есть, чтобы, значит, упредить других от такой нервотрепки. А сейчас, с позволения товарища Мухина, все свободные к сетям. Пять минут перекур! Матросы тут же задвигались. Мухин окаменело смотрел им вслед, точно древний мудрый полководец, которого на свою беду покинула неразумная армия. Даже жалко его стало, когда он присел в опустевшей комнате за столик в углу, уткнув локти в чистый ватман будущей стенгазеты и обхватив руками впалые щеки. Санька присел рядом, выждав, спросил сочувственно: — Чего так переживаешь, Мухин? — Того, — сипло, с каким-то странным всхлипом буркнул Мухин и отвернулся — только желвак заходил под виском: неужто плакал? У Саньки вдруг ни с того ни с сего тоже защипало в носу. Вот уж не представлял себе плачущего комсорга. Но, видно, Мухин был не из тех, кто способен поддаться слабости. Убрав с лица ладони, вымолвил глухо, глядя перед собой: — У нас дома схожая история… Батя другую нашел, мать не стерпела, сказала: «Уходи». Он и ушел. Ты, говорит, сильная женщина, а та как дитя, и у ней ребенок будет… И пусть… И правильно мать сделала! — Ну ладно, — сказал Санька, давая Мухину прийти в себя. — Правильно и правильно. У ней своя голова, сколь голов, столько решений. А ты хочешь, чтоб кино всех одному учило? — Не одному, а ответственности за свои поступки! — По-твоему, что же, если в книге или в кино все хорошо, то и в жизни так будет? — Должно быть!! На мгновение Санька ощутил беспомощность перед такой железной логикой и свое бессилие что-либо возразить, да и опыта не было — как тут рассудишь? Он даже чуть вздрогнул под посыпавшимися на него резкими доводами Мухина. Тот выплескивал их из себя с неимоверной силой, рубя ладонью по столу: должно быть! Иначе зачем искусство?.. Как же тяжко было, когда отец ушел, но тут ему попался Корчагин, и такими никчемными показались собственные невзгоды. Прочел — и откуда сила взялась… Или вот, скажем, злость тебя мучит, а прочел книгу и чувствуешь — добрей стал. Конечно, все это не сразу, постепенно. Накопление душевного добра. Люди века жили как чужие, в темноте, в жестоком невежестве. Как быть, как себя вести, что есть нравственный кодекс? А ты — художник, ты — учитель. Так имей твердость — воспитывай, а не как в ином фильме — сунут двусмыслицу, а простой человек переваривай, хоть подавись… Черт его знает, в чем-то он был прав, но уж очень все просто, по-мухински, будто разговор шел не о душе человеческой, а о том, чтобы прочистить трюм для новой бочкотары — вложи ее туда, и порядок. Но убежденность его, как и тогда, на собрании, была искренней, и речь теперь шла уже не о конкретной семейной истории, о чем-то большем, принципиальном, важном, и это сбивало с толку. И от того, что со всем этим как бы соглашался, Санька кивал, будто подлаживался, стало и вовсе не по себе. И вообще, если Мухин прав насчет литературного учительства, то сколько же надо прочесть книг, чтобы научиться понимать друг дружку. И ведь для этого надобно мыслить одинаково, всем стать как один, как рогульки на штурвале, которым вертишь так и сяк, чтобы выдержать курс… А ведь без курса все-таки нельзя, без движения жизнь невозможна. Но что означает правильное движение, как его определить, его истинный смысл, если мир бесконечен. Стоп! Кажется, его опять занесло в облака, где конца не найдешь. Санька мотнул головой, стряхивая наваждение: — Наверное, ты прав, Мухин, что за землю держишься. Но с искусством у тебя накладочка. Простые люди… учить, воспитывать… Вроде малых детей манной кашкой кормить, постепенно. Но пока они есть будут да расти, что взрослым-то делать? Отдыхать от сложностей? А как же общий прогресс? — А что плохого? И отдыхать! — натянуто рассмеялся Мухин, озадаченно глядя куда-то мимо Саньки. — Конечно, — вздохнул он, — не все так просто, сам иногда задумываюсь, вроде тебя… А все же земля вертится, а не шастает туда-сюда. Во всем есть закон! Обмозговать бы это на досуге, подпереть классикой, а когда?.. Работы под завязку. — Мозговал бы в своем институте. Или кушать надо, так отец бы помог. — Никогда! Мать завателье, нам хватает, обойдемся… А в рейс я пошел для закалки! Да! — Помог бы, помог, — повторил Санька, — отец есть отец. Зря заносишься. Не веришь, спроси хоть Никитича! Отцу тоже нелегко! — Санька даже подивился своей поучающей горячности. — И за ошибки человек платит. Во что они обходятся? Разве учтешь, чего ему все это стоило. Вот о чем говорить бы надо. Но в кино об этом ни гу-гу, да и ты затеял: ячейка, измена, а ведь вроде бы умный… — Да, для закалки, — как бы не расслышав, хрипло повторил Мухин. — В мореходку пойду. А там, говорят, экспедиции бывают научные, новые районы открывать. Глаза его колко смотрели вдаль, серые, с острым зрачком, и немного жалкие на худом лице, аж сердце сжалось. Будто и не он, Мухин, минуту назад несгибаемо наседал на Саньку со своими истинами… — И дальше за экватор… — Мухин неожиданно засмеялся. — А мы с тобой, может, и подружимся, у тебя голова светлая. — И так друзья до гроба, — отшутился Санька, — вместе газету стряпаем… Не под ручку же по палубе проминаться. Что-то и его влекло к Мухину, а чему-то внутренне противился. Какой-то он очень уж правильный, вроде струганой палки. Капитан тоже правильный, но по-иному — живой человек. Или это у Мухина по молодости, жизнь еще не потерла. А он, Санька, старик, что ли… Да нет, годки они, только повидал он на своему веку — Мухину и не снилось… Почему-то снова вспомнился тот немец, что зарылся в сено, — одна голова лохматая снаружи, голодный, собачий взгляд и палка, зажатая у Саньки в руке. Железная палка, шкворень. Стукнул бы раз — и готово. Не стукнул — не смог… — И то верно, — сказал Мухин, — досуг урезан. А поступать нам в мореходку вместе, так вместе и готовиться надо. Если ты не против?БЕДА
В полночь налетел шторм. Загрохотало так, будто рядом рвались пушечные залпы, глохло в ушах, выворачивало наизнанку… Море, зверем вцепившись в траулер, швыряло его вниз, и он, жалобно скрипя, летел в разверзшуюся пропасть. Вставшая над ним стена рушилась точно с неба, казалось, вот-вот раздавит и погребет в этом ревущем аду. Потом судно взлетало до нависших, клубящихся туч и снова летело в бездну. И все повторялось… Капитан принял штурвал, Санька стоял позади, ухватившись за поручень, и каждый раз сердце уходило в пятки. Так тянулось и час и два — бесконечно, и каждая секунда казалась последней. Сорвало шлюпку, смыло часть пустых бочек занайтованных у трюма, и трое матросов, обвязавшись тросом вместе с боцманом, кинулись туда, под водопад, волна вернула часть бочек, и они грохнулись на палубу, контузило боцмана, его тут же утащили, остальные бочки удалось спасти, накинув и закрепив сеть. Ближе к рассвету разверзлась серая муть, хлынул ливень, прожигающе холодный, сплошной, будто само небо, черное, клокочущее, обрушилось сверху, подавив взбунтовавшееся море. К полудню чуть поутихло, но море еще долго огрызалось спадающей волной, длинный, с оттяжкой накат грохал в левый борт. Вечером, на полпути к плавбазе, когда Санька снова встал на вахту, капитан скомандовал — готовиться к постановке сетей, хотя самописцы ничего не показывали. Но уже спустя полчаса, точно повинуясь команде, лента выдала несколько зигзагов, и вдруг торопливо задергалась зубчатая кривая. — Сети в воду! — Метать се-ети! — тонко, в раскат, повторил команду заменивший боцмана Никитич, маленький, в кургузой робе и плоском картузе, похожий на гриб-дождевик. Все шло как обычно — скрежет лебедки, перекатистый горох поплавков, короткие, вполголоса, капитанские команды, пойманные Санькой на лету, но вот судно стало под ветром, оттянув коренной конец сети. Море утихло, и лишь покатая гладь его до горизонта мерно колыхалась, вспыхивая огненными бликами заката. Капитан сказал — к погоде и вызвал старпома — сдавать вахту. Тот весело кивнул Саньке, Дядюха уже стал к штурвалу. Санька на всякий случай пожелал ему ни пуха, ни пера и, получив в ответ «К богу, спи, как в раю», спустился в кубрик. Сон был совсем не райский, снилась какая-то чертовщина. Будто лежит он привязанный на скамейке в сельской церквушке, никогда там не бывал, попа боялся, а сейчас перед ним, длинноволосым, Ленка в белой фате. Она что-то говорит Саньке, зовет, он хочет подняться и не может, чьи-то руки крепко вяжут его, молотят в плечо, а перед глазами рожа в усах, с белыми от злости глазами — тот самый, жених ее, каменщик, ну точно, хотя ни разу его не видал. Кому же еще? И кулаки его, и ярый оскал, и глаз подмигивающий. «Ну что ж ты, студент? Вставай? Попробуй! Женихался, а сам лежишь? Авра-ал!» А он все рвется, а Ленка плачет и тоже кричит «аврал!», и он пытается сказать ей, что не виноват, сама она поторопилась, а слова застряли в горле беззвучным комком. Он очнулся, в кубрике было пусто, лишь Венькина сутулая спина вполоборота в дверях. «Ну наконец-то! Спишь, как мертвый, айда!» И палубный, истаявший в ушах крик: — Авра-ал! Он натягивал робу, путаясь в рукавах, никак не мог застегнуть ремень, все мимо пряжки, наконец выскочил наружу в палубный топот и гомон, захлебнувшись терпким с солонцой, морским ветром. Небо затянуто белесой марлей, судно покачивалось на зыбкой, словно набиравшей силу волне, и он понял, отчего такая горячка: видно, капитан решил выбирать, пока не разгулялось море. Через минуту он уже стоял у руля, чутко ловя негромкие команды капитана, весь охваченный нетерпением, передавшимся ему этим сдержанным голосом, суетой у трала, ожиданием сети — пролов или с вершком? — долгожданные, изматывающие минуты, венец стараний, пан или пропал, капризная удача… В голове все еще мутились остатки сна, сжимая душу каким-то щемящим предчувствием, и он нет-нет и забывался, машинально перекидывая штурвал. — Полборта влево. Чуть правей. Так держать… Выбирай! — Сеть на борт! Выби-ра-ай! Бригада скучилась у рола, видны были спины в робах, хватавшие сеть рукавицы. Натужно взвизгивал шпиль, скрипела лебедка. Капитан нет-нет и ронял в машину, сжимая ручку телеграфа: — Средний вперед… Самый малый. Полборта право… Правей!.. Он по-прежнему действовал с привычной точностью, взглядывая на сеть и чуть упреждая команды, будто читал мысль капитана. Судно слегка накидывало на коренной конец. И сейчас, по команде «правей!», крутнул штурвал резче обычного, почти одновременно услышав истошный елохинский бас: «Сеть на винту!» — успел его вывернуть, бортом наехав на притонувшую ячею. Еще было мгновение, как спасение, еще была надежда — авось не прихватило. Капитан дернул ручку телеграфа. — Стоп машина!.. Задний ход! Но вместо заднего хода машина выдала холостой, выхлопнув в трубу облако черной сажи. Лишь через минуту двигатели, взревев, кинули судно назад, но было уже поздно — сеть намотало теперь уже наверняка, и капитан, кажется, впервые выматерившись, снова скомандовал: — Стоп машина! Стармеха ко мне! А сам, деревянно стуча по трапу, сошел вниз. Судно качалось в дрейфе с заглохшим дизелем. Грудясь у рола, поникшие сидели матросы. Санька, чуть перевесившись в окно рубки, боясь показаться на глаза капитану, видел, как подошел к нему стармех, видел его округлые со скобками бровей глаза, трясущийся в руках блокнот, а потом уже только склоненную лысину, потно блестевшую прямо под окном рубки, и рядом — надвинутую на глаза фуражку капитана. Море скрадывало слова, но можно было догадаться, о чем речь… Что с машиной, почему холостой проскок! И в ответ растерянно разведенные, в мазуте, руки стармеха. Он что-то сбивчиво говорил: цилиндры… сальники… А сменный подвел. — Какого черта! — на этот раз голос капитана гаркнул так, что сразу стало слышно каждое слово. — Что вы мне толкуете насчет обязанностей? Кто хозяин машины в конце концов?! Бардак в машине! Ясно было, что сменный, стало быть, Юшкин, опять что-то напортачил или сачканул. Стармех в ответе, но и Юшке в этот раз не отвертеться, как пить дать. А что будет с ним, Санькой? Неумеха проклятый. Конечно, не случись его ошибки, все бы обошлось… до следующего раза. Поднимись сейчас волна — и можно посылать СОС! Это он уже знал из рассказов ребят. Капитан что-то сказал Веньке, и тот помчался в рубку, должно быть, сообщать флагману о бедствии. В открытом море снять с винта намотавшуюся сеть было невозможно, и, значит, надо буксировать судно в чужой порт, договариваться с водолазной службой, а это грозило потерей дорогого времени и средств. Когда капитан поднялся в рубку, Саньке хотелось провалиться сквозь палубу. Умри он сейчас — и то было бы легче. Но такой милости ждать было неоткуда, он омертвело глядел в мелко кипящее море, боясь обернуться, встретиться глазами с капитаном. Тот какое-то время стоял молча, о чем-то размышляя и держа в руках наушники с микрофоном. Потом вдруг произнес, точно впервые заметил Саньку: — Ну, что нос повесил? И на старуху поруха. — Нет мне прощения, нет! — вырвалось у Саньки с горловым всхлипом, но глаза были сухие, так он ненавидел себя в эту минуту, таким стыдом, позором на всю жизнь впечатался в душу несчастный этот случай. Какого черта несло его в море — мечтатель дерьмовый, всех подвел. — Ты-то при чем? — сказал капитан. — Надо бы мне уточнить команду — отвернул бы полегче… А этот паникер Елохин, дернуло его орать, всех с толку сбил… Ну, конечно, Елохин паникер, почудилось ему с сетью. Но ведь торкнулась в винт, не молчать же ему. А он, Санька, крутанул с перепугу, и ни к чему сочувствие капитана. Что ему остается, раз все пропало и делу не поможешь. А что у него на уме? Ничего, кроме злой досады и презрения. Это как дважды два… В динамике пискнуло, затрещало. — Включаюсь, — сухо обронил капитан и некоторое время, морщась, слушал рокотавший голос. — А почему бы и нет? — вдруг оборвал начальство. — Возьму да попробую. Тем более, по вашему прогнозу — штиль. — Корчишь из себя героя? И, переждав забурливший в наушниках голос, снова сказал так же ровно и жестко: — Нет, не корчу… Но раз уж герой, так я и отвечу. Отвечать мне по штату положено. И прошу со мной в таком тоне не разговаривать. Радист, отбой! Санька даже не сразу сообразил, что к чему. Закрепив руль, выскочил вслед за капитаном на палубу. И лишь несколько минут спустя по отрывистым командам и суете на корме окончательно стало ясно, что задумал капитан. Он стоял у фальшборта и о чем-то переговаривался с парторгом. Тот улыбался — как всегда, деликатно. Наверное, грянь шторм — он не стер бы улыбку с его прокаленного ветрами острого личика с рыжей щеткой усов. Старые моряки, хлебнувшие лиха на войне, совещались между собой, негромко, с полуслова понимая друг друга, а судно дрейфовало по зыби, с затопленной сетью. К капитану подошел рыбмастер Елохин, потом куда-то исчез на время и вскоре вернулся с простеньким аквалангом — маска и ласты, в руке его высверкнул трофейный кинжал. Санька, еще не сообразив, что с ним творится, подбежал к капитану и, зажмурясь, точно в ожидании удара, произнес хрипло: — Иван Иваныч, разрешите мне… Плаваю хорошо… Капитан задумчиво взглянул на него, сказал просто, будто у него попросили закурить: — Можно. Сменишь меня… И Санька, став рядом, посмотрел вниз, в пенистые буруны под кормой у винта. Капитан разделся до плавок, худощавый, с литой загорелой грудью в холодных цыпках, торопливо надел свитер, шерстяные тренировочные брюки, обвязался канатом и, зажав в руке кинжал, крикнул Елохину: — Трави! И скользнул вниз, перебирая по борту белыми кедами. Снизу с плеском донеслось что-то аховое, озорное, и капитан исчез под водой. Казалось, прошла вечность, Санька до ряби в глазах, до головокружения вглядывался в брызжущую внизу пену, вцепившись пальцами в фальшборт. Что-то похожее он испытал в сорок третьем на столе у сельского фельдшера, куда мать принесла его на руках с приступом аппендицита, — больницу немцы сожгли… Фельдшер долго возился, вдруг дернул его за кишки, сдвигая их вниз, — раз, потом другой, с промежутком, и этот сжатый комок времени был как ожидание взрыва, после которого все должно исчезнуть: люди, белый свет и он сам, беззащитно лежавший на твердой доске. …Капитан вынырнул, отфыркиваясь, ругаясь напропалую — сверху было не разобрать, — снова нырнул, теперь уже не так надолго, и с каждым разом интервалы были короче. Лицо капитана стало серым под цвет воды. У борта столпились матросы. О чем-то переговаривались Никитич с Елохиным. Рыбмастер выглядел мрачней обычного, тяжелый, с набрякшими темными веками. — Пустое дело. — Не скажи. Смотря сколько намотало. И то, что капитан все еще не просился наверх, как-то обнадеживало — может, и впрямь есть шанс, и тогда все еще возможно, рейс спасен. Наконец, сигналя, трижды дернулся трос, подняли. Елохин сунул ему фляжку, а сам помог сорвать свитер и какое-то в капитана ремя жестко, льняным полотенцем, растирал вертевшегося вокруг собственной оси капитана. Тот, подхватив одежду, бросился в камбуз, а Санька молча стал натягивать на себя запасную пару. Волна приняла его, оглушив холодом, свернула в жгут, и лишь страшным усилием, почти теряя сознание, он поднырнул поглубже и схватился за лопасть, обвитую тросом, лишь слегка растрепленным в одном месте. Попробуй отыщи его всякий раз, а иначе все впустую. И сколько таких намотов… Его охватило отчаянье. Он полоснул ножом раз, другой, вслепую, с тупым упорством, стараясь попасть в одну точку. Легкие расперло до темноты в глазах, на мгновение сняв ощущение холода, он всплыл, хватанув воздуха, еще услышал донесшееся сверху: «Не пори горячку!» — снова провалился вниз, в леденящую муть, наотмашь чиркая ножом — неистово, нацеленно, стараясь сберечь силы. Волна то обнажала винт и тогда он успевал рубануть посильней, то скрывала его с головой. В ушах стоял звон, он уже не чувствовал онемевшего тела. И опять повторилось то же — подъем, нырок, железная лопасть в мертвой руке и удары, удары по сетям, по тросу, который едва поддавался. Он уже потерял счет ныркам, дважды захлебывался, его вырвало, и уже не помнил, как очутился на палубе. Его сменил капитан, а он сушился в камбузе, одежда не успевала просохнуть, только становилась горячей и тяжелой от воды, сам он весь горел как в лихорадке — не то от спирта, не то от пережитого. Потом в его руках очутились зубило и молоток. Это придумал капитан. И Санька каким-то притухшим подсознанием понял, что так будет способней. Способней действительно стало, а вот скорей ли… Держаться за лопасть было уже нельзя — руки заняты. Едва успевал ударить по зубилу, как его выталкивало кверху, и он, обдирая пальцы, старался удержаться. Бить молотком в воде было трудно, быстро терялись силы, зато и трос стал поддаваться. В очередной раз вытащенный на палубу, услышал, как сквозь вату, голос капитана: — Все, хватит! Давай-ка, Елохин, авось напоследок. Не слажу, сам полезешь.…Санька не слышал данную машине команду, не чувствовал, как рванулось носом на волну, точно сорвавшееся с цепи судно, как выбирали новую сеть. Венька с Дядюхой, отнеся его в кубрик, целый час растирали спиртом, потом Дядюха, отстранив старичка врача, вершил над ним какой-то особый морской массаж, после которого он не мог улежать ни на спине, ни боком, точно под ним рассыпали раскаленные уголья. Дядюха сказал: — Зато спиртик сэкономили, давай, Венька, за его здоровье. По такому случаю сам бог велел. Санька проспал до рассвета, без него взяли хороший улов, море словно отплатило матросам за пережитое. Проснулся он внезапно, как от толчка, и увидел капитана. В кубрике, кроме него, никого не было — Венька с Дядюхой, должно быть, несли вахту. Капитан присел на койку, лицо его было черным, челка — белее сахара. Какое-то время он рассеянно смотрел на Саньку, который все пытался подняться, но, видно, дядюхинский спасительный массаж все еще давал себя знать. — Наша вахта через час, сможешь? Санька кивнул. Капитан так и сказал — «наша». И еще добавил, кашлянув: — Ну что, объявляю нам с тобой благодарность. Большего пока не заслужили. Правда, еще характеристику тебе написал. — Какую характеристику? — спросил Санька чуть слышно. — В мореходку, — сказал капитан как нечто само собой разумеющееся. Санька так и воспринял его слова, понял, что крещен морской купелью и самим капитаном, посвятившем его в моряки. Стало быть, так и надо. — Вернемся в порт, выдам на руки.
СПИСАТЬ НА БЕРЕГ
А Юшкин доигрался-таки со своим подпольным анкерком… В конце августа, когда трюм уже был забит бочками и пора было снова идти к плавбазе, капитан объявил большую приборку, и каждый занял свой участок по указанию боцмана. Сам боцман, оправясь от контузии и став еще толще на походных харчах, суетился тут же, переходя с кормы на нос, придирчиво следил за уборщиками. — Не вижу блеска, медь в зелень отдает! — Эй, на баке, не спеши со шлангом, возьми скребок, а водой под шлифовочку! — Ну кто так краску замешивает, кисель молочный, а не белила! Судно шло малым ходом, над морем стоял светлый туман, точно раздутый ветром дым от листвяного костра, только без запаха. Он обволакивал палубу и тянулся косами к смутной полоске норвежских берегов. Дядюха объявил перекур, Санька с Вениамином и приданный им Бурда, отложив швабры и скребки, отошли на шкафут, где было затишно и не так сыро. — В районе полно судов, а такой туманище, — посетовал Бурда, закуривая. Он присел у борта, сломавшись, как складной нож, и колени его торчали выше распатланной головы. — И откуда прет… — От разницы температур, — сказал Дядюха. — Обычное явление природы. К обеду сдует… — Ясно. — В Северной Атлантике еще хлеще, там как накроет — и сиди, как кот в мешке, а кругом айсберги. — Откуда только набрался всего, — вздохнул Бурда. — Прямо академик. — Из книг, — ответил Дядюха. — Книга — друг человека, и притом общедоступный, не веришь, спроси вон хоть у Веньки. Еще Дидро сказал: люди перестают тумкать, когда перестают читать. Да ты наверняка и Дидро не знаешь. — А он меня знает? Венька фыркнул, схватившись за голову, но Бурда не обиделся, а Дядюха добавил: — Тебя он не знает, это точно. Ты вот лучше скажи, чего тебя в море понесло? Бросил свой токарный и айда кувыркаться. Зачем? Ну загребешь пяток своих зарплат, пошикуешь. А настоящей женщине нужен не шик, а солидность. Чтоб она человека уважать могла. Тебе бы, пока молод, квалификацию поднять и учиться без отрыва. И расти над собой. Бить в одну точку, а не пятерней размазывать судьбу по морям, по волнам. Иначе так и останешься нолем при своей печали. — Точно, — сказал Венька, — рациональность женского чутья, порой даже подсознательная. Бурда слегка переменился в лице, мельком окинув всех троих, не розыгрыш ли затеяли. Нет, вроде бы не похоже. — А ты зачем, — все-таки огрызнулся он, — ты-то зачем в рейс? — Я другое дело, — вздохнул Дядюха. — Двое пацанов у меня: один с партизан, другой мирный, и баба неграмотная, зато хозяйка. Мне одеть их надо и хату поставить. А потом сяду на свой трактор, на довоенный, и как вколю — первый на весь район, а то и область. Я могу, я себя знаю, может, еще на героя вытяну. Героя только таким и дают, которые умеют на всю катушку. — Какого еще героя? — Труда! Какого… Это у меня цель — труда! В эту минуту и возник Юшкин собственной подвыпившей персоной. Он шел, чуть покачиваясь, с глуповатой усмешкой на тонких губах, и то и дело задирал уборщиков. Услышав конец фразы, он дурашно округлил глаза и, выставив палец, пошел на Бурду. Тот отступил с опаской — Юшкина он знал плохо. — Вот именно — труда! — покачал Юшкин пальцем перед носом Бурды. — Труд, моя детка, как небесспорно доказал великий Дарвин, превратил обезьяну в человека, о чем свидетельствуют у некоторых наличие удлиненных конечностей. — И он снисходительно потрепал Бурду по плечу. — Хомо сапиенс! — Не приставай, — сказал Венька. Юшкин угрожающе выдвинул подбородок и, обернувшись к Веньке, рассмеялся, раскинул объятья: — Кого я вижу?! Исус Христос со шваброй в великий день субботы? А что мы имеем на этот день? Мы имеем Дерибасовскую и на ней медичку под ручку с интересным каперангом. Вариант возможный? Саньку почему-то затрясло, он сжал кулаки, но его опередил Дядюха, рывком сгреб Юшкина за грудки и процедил в лицо: — Еще раз гавкнешь — выброшу за борт, понял? — Юшкин захрипел, брыкаясь. — Понял, тебя спрашиваю? — Отпусти! — Я спрашиваю — понял? — Понял… — Он вырвался, наконец, часто дыша, не сводя со штурвального шальных цыганских глаз. — Ну… Дядюха… — Дядюхин мое фамилие, — гаркнул штурвальный, — пора бы запомнить, школу кончил, не маленький. — Ну, Дядюха, — губы у него дрожали. — Мы еще столкнемся, поимей в виду… — Можно, только не советую. А свой анкерок промой, заполни водичкой и поставь на место. Я проверю. Юшкин вдруг отчаянно взвизгнул и бросился на штурвального. И замер — позади с мостика резанул спокойный голос капитана: — От-ставить! Старпом! — повернулся он к Никитичу, возникшему точно из-под земли. — Списать на берег! И, коснувшись виска, будто козырнув на прощанье, ушел в рубку. — И правильно, — буркнул Дядюха, — туда ему и дорога. К ним подошел бондарь Сысой. Долгое время все молчали. — Ну язви тя, — вздохнул старик, потирая серебряный ежик. — Легко сказать — на берег, а что он в клюве в избу притащит? — У него изба, как твоих три, и папа накормит, — заметил Венька, все еще бледный от пережитого волнения. — Да еще в клюв положит, на веселую жизнь. — Какая там жизнь, — сердито махнул рукой Дядюха. — Видать, у папаши с мамашей вже и руки опустились и душа в крови. Нам его сбагрили на перевоспитание, а мы назад футболим. — Ну, Дядюха, тебя не поймешь, — засопел бондарь. — Ты как та Никишкина лошадь, которую задом наперед запрягали. Дергаешься туды-сюды… Сам же его чуть не ухлопал. Дядюха повернул голову, смерив бондаря взглядом. — Я не дергаюсь, а рассуждаю — по диалектике! Надо всесторонне подходить к любому явлению. Усек, добрая твоя душа? — Ты мне в душу мудрость свою не суй, сам грамотный, газеты читаю. — Читаешь ты их, как твоя лошадь, с заду наперед. — Тьфу на тебя, — разобиделся Бондарь и, схватив шланг, пошел к вентилятору. — Умники все, а порядка на судне нету. Поработали еще с полчаса. Санька все еще не мог опомниться от случившегося. И надо же было пьяному дураку выползти на палубу на виду у всех… Теперь все, закроются перед Юшкой все дверки. Он и сам не понял, что его подтолкнуло. Отложив швабру, посмотрел на ребят и не спеша спустился в кубрик. Юшкин лежал, уткнувшись в подушку, спал или делал вид. Трудно было представить, чтобы в такую минуту мог спокойно уснуть. — Юшка, — негромко позвал Санька, присев на свою койку. Подходить к механику близко почему-то не хотелось, и так полез не в свое дело. — Слышь, ты сходи к капитану, повинись, может, еще уладится. Сгоряча… И вдруг увидел вскинутое, в красных пятнах, искаженное ненавистью лицо механика. Даже весь внутренне сжался, глядя в чужой, брызжущий слюной рот. — Плевать я на него хотел, на твоего капиташку! Ах, он сильный, ах, он смелый, ах, его ценят на флоте, — рычал Юшкин, словно повторяя чьи-то слова, может быть, бросившей его зазнобы — Тани Ивановой. — Девчонку схватил вдвое моложе, сторожем ее домашним сделал, князек рязанский!.. И никто ему не указ. Погоди, он еще поскользнется, уже ручку приложу, еще локти грызть станет. Хам, деревня… — Ну и что, я тоже деревня, — сдавленно обронил Санька. И то, что Юшкин продолжал поливать капитана, даже не ответив на реплику, задело Саньку за живое. Но он молчал, подавленный чужой, неуемной злобой. Юшкин затих так же внезапно, как и начал, уткнувшись в подушку. Санька поднялся и медленно, словно с гирями на ногах, вернулся на палубу. К вечеру вызвездило, море, словно скованное внезапно наплывшим с севера холодом, слегка поутихло, судно шло, разваливая с шорохом волну, обтекавшую нос, точно черное расплавленное стекло. Вахта кончалась, а капитан все еще торчал у эхолота — рыба не шла, точно ее сглазили новой сетью. Третьи сутки не шла… Санька стоял у штурвала, пряча в капюшон занемевшие щеки. Лениво текли мысли, он размышлял о таинствах рыбьих путей, вечных, нескончаемых, повинующихся еще неизвестным законам стихии. Она была под ногами, эта стихия, огромная толща воды — бездна, о которой лучше не думать. А для рыбьих косяков — родной дом… Как там дома, должно быть, сели чаевать и, может быть, вспоминают о нем. Скоро получат письмо — решился, наконец, намекнуть насчет ожидавшей его мореходки. А что, если зря? Ничего еще неясно. Человек предполагает… Юшка тоже предполагал, а чем кончилось? Мысль его невольно вернулась к тому, что мучило с утра. Не жестко ли решил капитан с Юшкой, или все же сыграла роль неприязнь к бывшему сопернику, если только все это не треп. Нет, судя по тому, как орал механик, — правда. Да какой он соперник, шалопай, черт его дери с его самомнением. Понес на капитана, а сам? Тоже в князьки метит, спеси полна пазуха. Ужасно это, когда люди не могут быть объективными, честно судить о себе. От этого все зло на свете. Человеческая стихия куда жестче морской… Рядом раздался глуховатый голос капитана: — Ну что, Александр, тебе пора, а я еще постою… Он не ответил, все еще занятый своим. — О чем задумался? — Все о том же… — А, ну ясно. — Капитан точно догадывался о его докуке, Санька уже не раз поражался его проницательности — людей насквозь видел. — Иван Иваныч… — Будто кто другой выхрипнул за него. — Юшкина бы надо вынести на собрание… — Даже не видя капитана, почувствовал, как построжал его взгляд. Казалось, ответ так и застрял у него на языке. — Вы спросили, я сказал. Он по-прежнему робел перед этим, ставшим ему родным человеком. — Сам надумал, или парторг подсказал? — Все-таки в коллективе живем. Капитан беззвучно и как-то участливо хохотнул. — В вашем коллективе, в данном случае, я, может быть, самый терпеливый. — Я знаю. — Что ты знаешь? Покосившись, он увидел суженные глаза капитана, почти прозрачные в лунном отблеске. Что-то в них тихо и грустно оттаяло. — Все знаю! Капитан произнес, помедлив: — Ну и подонок твой Юшкин. — Не мой он… Тут важен принцип. Общее мнение. Для вас, наверное, тоже. — Ну-ну. — Капитан теперь уже с любопытством оглядел Саньку. — Тебя, кажется, не в штурманы надо готовить, а в замполиты… Но учиться все равно надо. Без знаний никому ты не помощник. А сейчас ступай отдыхать…СОБРАНИЕ
Последние две недели рейса работали как черти, наверстывая упущенное, но так и остались с проловом. Не повезло с погодой, как назло, зарядили циклоны. Люди вымотались в сплошных авралах, выгадывая короткие часы для заметов, часто ничего не приносивших. К тому же аврал в машинном, назначенный капитаном после ЧП с сетью, украл три хороших дня, а потом зачастили шторма. Можно было бы обойтись мелким ремонтом, чисткой, смазкой, так всегда делалось, по словам старых рыбаков, только бы добрать план, но капитан будто решил наказать сам себя, велев привести машину в порядок, вопреки настойчивым требованиям начальника экспедиции — выдать план. Ходили даже слухи, — от матросов разве утаишь, — будто один из капитанов, друг Ивана Иваныча, шедший с плюсом, предлагал, и возможно не без ведома начальства, одолжить до будущих времен часть своего улова, тогда бы средняя цифра была в порядке, но капитан отказался — это уже Венька, сидевший на рации, сообщил по секрету — и лишь зло отрезал: — Средняя и так будет, а показуха мне не нужна. Кого обманем? Государство? — При чем тут государство. Для тебя же стараюсь. — А я и есть государство. Ох ты, господи, никак ему вожжа попала, как выразился тайком боцман во время перекура на палубе. Сейчас они шли с неполным трюмом на последнюю сдачу перед обратным рейсом, пяти процентов не хватало, как значилось в сводке плавбазы. Капля в море, капля в плане, но общая картина смазывалась, общий прекрасный вид из крохотных деталей — судов, точно кто-то испортил одним черным мазком благостный пейзаж. Как ни странно, к стармеху Сазонкину, почти не вылазившему последние дни из машины, исхудавшему, с обвисшим брюшком, команда относилась нейтрально — так, слегка поругивали. Юшкин был как бы окружен стеной молчания, и однажды он даже явился в кубрик с фонарем под глазом и молча улегся спать. А вот капитана, как понял Санька по разговорам, почему-то жалели, хотя, отказавшись от помощи друга, он фактически отнял у них часть заработка и премию. Сейчас этот друг сидел рядом с капитаном в президиуме, симпатичный такой коротышка с веселым, пройдошистым взглядом, по виду — рубаха мужик. Он прибыл на судно как представитель начальника экспедиции — присутствовать на собрании, чего прежде не бывало, и, если верить матросскому телефону, а это было похоже на правду, уломать капитана изменить приказ о списании Юшкина. Одним словом — на выручку. Где-то кто-то «посоветовал», «выразил пожелание», а может быть, и без всякого совета и пожелания — просто на плавбазе решили не ссориться с высоким управленческим начальством — там тоже не дураки, — приказали замять конфликт, тем более что рейс подошел к концу, капитан сдаст судно в порту своему сменщику и уйдет в отпуск. Ох, как бы этот отпуск не затянулся, а самого капитана не засадили в конторе на берегу, где он превратится в канцелярскую пешку — среди многих других, ожидавших командирского мостика. Вот о чем ходили вполне похожие на правду слухи среди всезнающей матросни. Капитан же выглядел так, будто ему начихать на все эти страсти. Как всегда, чисто выбритый, собранный, — разве что сжатые на столе кулаки выдавали волнение, — повел собрание в деловом, слегка даже ироничном тоне, подстегивая выступавших говорить откровенно, критично, невзирая на лица. А матросам того и надо. Боцману влетело за шлюпочные анкерки с брагой вместо НЗ воды, припомнили вовремя не заправленный маслом шпиль, в котором подгорели подшипники, отчего он визжал в работе, как резаный петух, и прочее — по мелочам. — Точно, точно, — поддакивал капитан. Однако когда боцман вскочил, как ужаленный, — анкерки, правда, принял, а шпиль решительно отвел, как объект второго механика, — капитан снисходительной репликой поддержал его и даже отпустил пару слов насчет того, что в хозяйстве боцмана сейчас порядок куда лучше прежнего. На что боцман ответил преданным взглядом круглых глаз, в то же время зорко следя за пишущим протокол Никитичем — не забыл бы зафиксировать похвалу… — И задрайки наконец расходили, — добавил капитан, — теперь хоть иллюминаторы можно открыть, а то вовсе прикипели. — И на улицу поглядеть, — кто-то подал реплику со смешком, — на проходящих акул. — А вот с бочкотарой на палубе опять фигня, крепеж слабый. — Не может быть! — вскинулся притихший было боцман. — Шторм покажет — может или не может, — согласился капитан. — Впиши ему, Никитич, он бумагу уважает. А я проверю лично. И снова приглушенно рассмеялись, глядя на поникшего боцмана… Веньку старпом похвалил за четкую работу на ключе, тут же записали требование насчет запасных батарей. На всякий пожарный случай. Слово «пожарный» зацепило многих, и посыпалось со всех сторон — по мелочам, казалось бы, но в сущности очень важным, не миновавшим матросского глаза: расшатался крайний рым, пора борта подкрасить, а вчера загорелась ветошь от чьего-то окурка — огнетушитель не сработал. Сеть чинили, снова прорвалась — там нужны умельцы. — Ты пиши, пиши. Это про тебя, — крикнул боцман, затаивший обиду на Никитича. — Любишь критику, пусть и она тебя полюбит. — А что, верно, — хмыкнул капитан рассеянно, — взаимность великое дело. — Я тут вот насчет чего… чтоб не забыть, — вклинился молодой матросик по фамилии Кукушка с бегающими, как у птицы, глазами. Выступал он, видимо, впервые и сильно робел. — В смысле техники безопасности. У нас на заводе и то глаз да глаз в этом плане, каждый отвечает за свое, а тут море, а в кубриках проводка обтрепалась… Вот! Не дай бог… — Это не в божий адрес, — заметил помрачневший Никитич, — а в электрика. Где электрик? — Вахтует. — Ладно, я ему протокол покажу. Но все это, как понимали матросы, была лишь раскачка, все ожидали главного — разговора о машине, о виновниках ЧП с сетью — барахлит сердце судна, это не шутка — а значит, о Сазонкине и втором механике Юшкине. Но капитан что-то не торопится, помалкивает, может, и впрямь решил не ставить их в повестку дня, чтобы обойти вопрос о собственном приказе. Не зря ведь представитель рядом — что-то они скумекали меж собой. Неужто сговорились? Кое-кто — Санька это заметил — уже поглядывал в их стороны недобро, нет-нет и пускались заглушаемые выступлениями недвусмысленные реплики. Стармех затаился в дальнем закутке — не как бывало, под носом у президиума, — и вид у него был как у выдохшегося боксера, силком выпихнутого на ринг, где ему предстояла трепка. Но вот капитан поднялся, и все головы на мгновение повернулись вслед за его взглядом в сторону Сазонкина. Капитан кашлянул, точно ему стоило труда заговорить. В рядах поднялось легкое шушуканье и постепенно замерло. Капитан заговорил о хозяйстве старшего механика, самом узком месте на судне. Припомнил стармеху забитые форсунки, укравшие у рейса сто часов скорости, и затяжку с ремонтом насоса, и недавний случай с намотом сетей на винт. — Ребенку понятно — заело клапана в пусковых баллонах, — вода попала, их вовремя не продули, в результате не сработал реверс! Это все определяется одним словом — безответственность! Нетребовательность к подчиненным, в частности ко второму механику, — фамилии Юшкина он почему-то не назвал, — который к тому же оказался слабо подготовлен как специалист, но вместо того, чтобы принять меры, вы всякий раз пытаетесь оправдаться, товарищ Сазонкин! Вот… Капитан поднял тонкую брошюру и объяснил, что в этой книжке изложен опыт знатного механика порта Георгия Ефремовича Ксендзова. Неоценимый почин — профилактика своими силами. Человек сломал бытовавшие нормы: вместо трех лет без капремонта — шесть! И доказал на деле, хотя никто не верил в такую возможность. А она реальна. Главное — бережная эксплуатация машины по науке! Формуляры на основные узлы, регулярный уход. — А мы жмем на износ! И пора закрепить каждый участок судна за ответственными лицами — прав товарищ Кукушка. И взять всем за правило отчет о состоянии каждого участка, каждого узла! И ввести этот пункт в соревнование. Не формально, а конкретно — по делу! Санька слушал, удивляясь спокойствию и деловитости капитана, особенно сейчас, когда судно без плана и ему грозят неприятности. Попер на рожон, отказавшись от помощи… и от совета изменить приказ о Юшкине. Или приказ уже отменен? Наверное, не он один подумал так. Вскочил Мухин и, как всегда запальчиво, выговорил: — Соревнование — это дело, выложимся, а поднимем на должный уровень. Слово комсорга! Но как все-таки с виновными за все ЧП — есть они или нет? Или все дело в одном стармехе? Намек был ясен. Зал зароптал, в реакции людей не приходилось сомневаться. — Вот именно, — огрызнулся вдруг забытый стармех. — Вы-то сами, товарищ капитан, много добились от второго механика? Теперь все грехи на мне, а он отплевался? — А вы потише, потише, — полоснул неожиданно тонкий голосок представителя, округлое лицо его вмиг преобразилось, стало жестким. — Не валите с больной головы на здоровую. Вы стармех — с вас спрос! — Насчет отплевался еще неясно, — поморщился капитан. — А какие меры приняты? — не унимался Мухин. — Люди знать должны! В комнате повисла тишина. Как понять капитана, в самом деле списан второй или его оставят, ограничась выговором? Ведь приказ официально не объявлен? В другой раз многие, может, и рады были бы смягчению наказания, примеряясь к собственным грехам. Но на судне никому ничего с рук не сходило, даже в мелочах, а тут?.. Само по себе отступление капитана от данного слова в этой деликатной ситуации в присутствии прибывшего «защитника» — теперь уже было ясно — защитник! — как бы рушило представление о справедливости, чего никто простить не мог, и это было ясно видно в глазах команды, хмуро глядевшей на капитана: «Что же ты, орел наш? Крылья к небу, а сам в кусты?» И Санька вдруг понял, что это и есть главная сила жизни — суд совести, перед которым не устоишь. Иначе сломался в собственных глазах и никогда себе не простишь. При всем сочувствии к капитану, есть вещи посильней личной привязанности, благодарности, дружбы… — Тут есть мнение выслушать коллектив, только и всего, — совсем тихо вымолвил капитан, с улыбкой глянув на сидящих. — Бесполезно! Саньку будто кто подтолкнул — словно вырвалось само собой, еще до того, как он поднялся, встретив взгляд капитана, в котором ждущая открытость сменилась легкимнедоумением. И Санька повторил, не поднимая глаз, упершись ими в капитанский китель. — Бесполезно, Иван Иваныч, я сам просил за него, а потом понял — попусту. — Как попусту, что ты мелешь? — снова не выдержал Мухин, видимо не знавший подоплеки событий, зачастил в юношеском своем азарте: — А коллектив, по-твоему, ноль? Важно чтобы он понял свои ошибки… — Дело не в ошибках, а в натуре. Мы для него так, поросята, а он — гусь. У него свой язык, общего не найдем. Так уж он воспитан — по-барски, все ему позволено. В комнате одобряюще зашумели, послышались выкрики: «Верно, валяй, штурвальный!», «Взяли сачка на судно!», «Сынок папкин!» Мухина потянули за робу, силком усадив на место, — он все рвался досказать свое. Но тут вскочил «защитник», подняв обе руки, и весь вид его был таков, словно он собрался гасить непредвиденный пожар. Он солидарно кивнул растерявшемуся Мухину, а в Саньку гневно ткнул пальцем: — Вы… не знаю как вас, много на себя берете! Комсорг прав, и нечего коллектив баламутить. Может, у вас личные счеты — свести решили под шумок? А кто дал право? Ишь, судья верховный, шустряк… У Саньки даже горло перехватило от обиды, впервые так больно ощутил чужое лицемерие, грубость какой-то нечестной игры, родившую вдруг острую, граничащую с ненавистью беззащитность. — Какой я судья, — с трудом вымолвил в упавшей тишине Санька. — А ваш подзащитный даже на собрание не явился, привык за дядиной спиной. — Точно, — вдруг поддержал его голос Мухина, — тут ты прав, и нечего старшим товарищам заниматься демагогией. Но выслушать мы Юшкина должны, потому что… — Согласен, полностью согласен с вами! — перебил его представитель. — Только прошу учесть необходимость объективности. Лично я давно Юшкина знаю, парень как парень, может быть, слегка заносчив, но мы и не таких перековывали, тем более что «барское воспитание» и вовсе неуместно. Отец его ветеран флота, заслуженный фронтовик, и не хотелось бы его огорчать… — Это к делу не относится! — резко вставил капитан, и лицо его стало багровым. — Речь о сыне, а не о заслугах отца. Сам взрослый. Представитель осекся, растерянно косясь на капитана — не ослышался ли. Но капитан не дал ему времени на размышления, поднявшись над столом и всем своим видом показывая, что он намерен продолжать. Голос его снова стал тих и четко слышим в упавшей тишине. — Вам, Стах, даю справку. Во-первых, я имел в виду не ваше… не только ваше мнение, а также и других товарищей, но прежде всего свое собственное. Я пока что капитан и отвечаю за свои действия. Во-вторых, приказ о Юшкине не отменен. Но поставить его перед лицом коллектива мы обязаны, независимо от того, считается он с нами или нет. Это его дело. Здесь не детский сад — нянчиться с ним. Слишком накладно. Где он, кстати? Или тоже в смене? — А что ему смена? Он уже почти дома. — Его ж от работы отстранили. — Кто там ближе к дверям? — спросил капитан. — Елохин, сходите-ка, будьте добры, за ним в кубрик. Елохин тотчас вышел. Санька сидел, потупясь, с горячим лицом, боясь поднять глаза на капитана. Как он мог усомниться в его принципиальности? Сейчас он чувствовал себя так, будто сунул человеку руку в карман и вытащил на свет божий ворованный рубль, который сам же и подложил, будь оно все проклято. В эту минуту он ненавидел себя — не простит ему капитан и будет прав. Нет, не последствий для себя боялся, думал лишь о том, как воспримет капитан сомнение в его честности. И ведь оправдаться нельзя, слов не найдешь, и это было самое ужасное — потерять себя в глазах капитана. То просил за Юшкина, либеральничал, тряпка, то запел по-иному, поддавшись минуте, мать твою так… И не виноват вроде бы: сказал, что думал, а вот как обернулось — стыдно человеку в глаза смотреть. Но все же тайком поймал взгляд капитана и ничего в нем не прочел, кроме раздумья, обращенного ко всем сидящим. А Елохина все не было. И капитан, не желая, видимо, терять время, обратился к матросам с предложением: записать в соцобязательство поддержку почина Ксендзова — ответственность каждого за порядок на судне, стармеху составить график профилактики, к утру представить свои соображения на бумаге. И еще раз все обсудить сообща. Слова его были встречены одобрением. И Санька с каким-то смешанным чувством горечи и удовлетворения подумал, что по пути домой многое будет сделано и сменщик примет судно как картинку. А вот примет ли его снова капитан и когда — это еще вопрос. — Еще хочу напомнить, — сказал капитан, точно отвечая на его мысли, — соцобязательство — это честное слово моряка. Попробуем добиться материального поощрения для передовиков. Делить нам нечего — государство одно, докажем, что мы его верные сыновья. В зале гулко, враз, раздались аплодисменты, и это было, пожалуй, самое важное — искренняя, единодушная поддержка. Санька тоже хлопал, до боли в ладонях, скажи ему сейчас — кинься за борт ради общего дела, ни минуты бы не раздумывал, такая чистая радость полыхала в груди. Вдруг все затихло — в дверях выросла громоздкая фигура Елохина. Был он угрюмей обычного, смотрел исподлобья, словно поверх очков, крупными, как каштаны, очами: — Ну что там? — спросил Никитич. — В лежку, — односложно баснул рыбмастер. — Сам себе прощальную устроил. — Ты хоть ему объяснил? — пробормотал Никитич, словно все еще не веря. — Судьба его решается, сам же он меня просил, а теперь… — А теперь послал. — К-куда послал? — В нецензурное место. Всех… Что ты меня, Никитич, пытаешь. Если неясно, обратись к капитану, он тебе расшифрует. Елохин сел. Кто-то фыркнул, смех потонул в тяжелой, сгустившейся тишине. Казалось, брошенная невидимым Юшкиным фраза обрела свой обидный смысл в набитой людьми комнате, и теперь каждый принял ее на свой счет. — Ну что ж, — сказал капитан, искоса глянув на понурого представителя. — Послал, значит, пойдем. Стройными рядами. — И неслышно опустил кулак на гладь стола. — Так тому и быть.Гость оставался на судне до вечера, и у них с Иваном Иванычем, как сообщил Венька, забегавший к капитану с телеграммой, был «большой бенц», то есть крупный разговор: о чем-то спорили, вернее, говорил представитель, а капитан молчал, потом сказал: «Все, кончим эту возню». Последнюю фразу и уловил Венька. А телеграмма приказывала — сдать груз, обратный рейс через двое суток. Гость отвалил от борта уже в полной темноте, прихватив с собой второго механика. А судно взяло курс на запад и еще все двое суток, меняя по пути к базе курсы, бороздило неспокойное море, стараясь заполнить резервную бочкотару на палубе. Но, как сказал Дядюха, всякому овощу свое время, погода портилась, сезон был на исходе, и то, что взяли за два заброса, лишь немного наверстало нехватку в плане. Настроение у всех было пасмурное, но Санька не слышал ни единого слова упрека в капитанский адрес. На палубе и в машине работали четко, приводя судно в порядок, красили, чистили, драили, а в машине стали работать с новым графиком ремонта, и Сазонкин каждое утро поднимался в рубку и обо всем докладывал до мелочей. Он опять обрел прежний степенный вид, лишь глаза его под круглыми бровками глядели жестко и блокнот, исписанный цифрами, уже не трепетал в руке. — За время дрейфа разобрали насос, сменили сальники. Но должен сказать, при таком графике нужны запчасти. — Постараемся. В новом рейсе будут. — Квалификация низкая. — И об этом подумаем. Говорил капитан спокойно, был, как всегда, бодр, подтянут, разве что стал еще молчаливей, и у рта залегли две резкие складки. Отношение к Саньке нисколько не изменилось, тот стоял на руле, выполнял команды, дело есть дело. По-прежнему шла в свободный час штурманская учеба троих добровольцев, и Санька, чтобы лишний раз не тревожить капитана вопросами, выкручивал себе мозги, стараясь в иных случаях до всего дойти самостоятельно, а уж если не клеилось с расчетами, просил Веньку или Дядюху помочь. В одну из таких минут поймал на себе усмешливый взгляд капитана, но так и не мог понять, что в нем — понимание или укор. Наверное, все же догадывался Иван Иваныч, что с ним творилось на собрании, а может, и не совсем. И однажды, устав от официальности в отношениях и всяких догадок, задержался и напрямик спросил капитана: — Иван Иваныч, я виноват? Тот внимательно глянул на Саньку и не сразу ответил: — Совсем ты еще мальчишка. — Мальчишкой жить легче? — Не знаю, не пробовал. — Он полистал штурманский дневник. — С пяти лет взрослый, сначала пастушил, на школу зарабатывал, потом война… Море. — Море… — запнувшись, Санька все же спросил о том, что мутило душу: — А если не дадут судна? — Ну и что? — капитан беззвучно засмеялся. — Как сказал поэт: «И в счастье и в горе остается лишь море…» От этих слов, прозвучавших как безобидный упрек, стало горячо щекам. Вдруг вспомнил ультиматум Тани Ивановой. И подумалось невесело: море-то не уйдет, а жена — наверняка. А может, оно и лучше, если кто-то с недобрым умыслом отыграется на прогоревшем капитане — сиди себе спокойненько в конторе от и до, по вечерам кино и сытый ужин… Вот уж чего не мог себе представить. Что-то было до слез обидное, не вязавшееся с обликом капитана в этой мирной картине. Точь-в-точь как на копии в «Огоньке» — Меншиков в ссылке. Живоглот был, этот граф — и то жалко, а капитан же какой человек — честнейшей души, работяга. — И потом, — задумчиво вымолвил капитан, — почему обязательно судно? Можно и в старпомы. Скверное дело — играть в обиженного. Учти для себя, на будущее — никогда не искать виноватых. А правда свое возьмет — закон времени. Это было даже не благородство, а какое-то жесткое жизненное правило, подумалось Саньке, все равно как бриться по утрам, чтобы сохранить достойный моряка вид. Вот так… И еще улыбается, как ни в чем не бывало. — А если бросит жена? Даже вспотел от собственного нахальства, — имел ли он право на такие вопросы, — а не мог сдержать себя, слишком дорог ему был этот человек — и каждый его поступок брался в память как зарубка. Но все же добавил, оправдываясь: — Сами же говорили про ультиматум. — А так и условились в письмах, — уже открыто рассмеялся капитан, — если придет встречать, значит, сдалась. А наше дело тактично принять капитуляцию. Но была в этой его веселости, в сощуренных глазах какая-то горчинка, будто вглядывался в неверный проблеск маяка, сжимая штурвал, боясь наткнуться на мель… — Слишком долго тянется, — как бы про себя, тихо сказал капитан. — Какой-никакой должен быть конец.
К РОДНОМУ ПРИЧАЛУ
На балтийском рейде стояли около двух часов, туман заволакивал берег, легкая зыбь качала судно, никто не мог уснуть — последние часы ожидания самые тягостные. Возбуждение последнего дня перехода спало, матросы ходили притихшие, подолгу стояли у лееров, вглядываясь в полумрак, каждый думал о своем. У Саньки на душе было грустно, до мелочей вспоминалось пережитое в рейсе, даже самые тяжелые минуты казались сейчас невозвратной утратой. И то, что каждый сейчас, в преддверии дома, как бы замкнулся в себе, тоже ощущалось как некая потеря. Будет ли новый рейс, и когда, и в том ли составе? Стоило ли об этом гадать, если его, Саньку, будущий рейс не мог касаться — с поступлением в мореходку было решено. Да у любого свои мысли, свои планы — о чем же ему жалеть. Резко задуло с севера, раскачивая судно, разогнало полумрак — чуть развиднелось в серой предрассветной мути. Он не расслышал шагов за спиной и, лишь покосившись, увидел капитана, ставшего рядом. Иван Иваныч не то спросил, не то посетовал: — Не спится… Санька увидел в его протянутой руке конверт, понял, что это и есть то самое, заветное. Он принял конверт — на ощупь почувствовал, что он не запечатан, и, сказав спасибо, аккуратно сунул в карман — не читать же сейчас, да и темновато. — Помнешь, — сказал капитан, — вложи в книжку. Санька молча кивнул и не без страха подумал о том, что предстоит капитану… Прежде всего — встреча с женой. Со строптивой и беспомощной Таней. Если только встреча здесь, на судне, состоится — тогда порядок, сложила Таня свои знамена. Таков уговор. А если нет?.. Снимет капитан комнатуху на берегу: лучше одному скука, чем вдвоем мука. А он такой, железный, таким-то тяжельше всех… Взглянуть бы на эту Таню. Он тут же мысленно одернул себя, чертово фантазерство опять заносило его неведомо куда, в чужую жизнь, которой он не знал и не мог знать, по своей мальчишеской глупости нагромождая бог весть что. Оставив капитана с его заботами в покое, он переключился на себя и Лену. Слишком много уже раздумывал об этом, был готов ко всему и теперь лишь удивлялся этой своей способности к трезвому размышлению и самозащите. — Иван Иваныч, — донесся голос Веньки, — дали добро. Капитан поспешил в рубку, судно вздрогнуло от гула машин, словно живое, затомившееся в ожидании дома существо, и, развернувшись, пошло в сторону канала. Солнце еще не взошло, но край моря был уже окутан розоватой дымкой. По берегам канала вскоре поплыли отдельные домишки, поблескивая черепичными крышами, потом потянулись темные гущи парков, неожиданно высверкнул вдали бок торопливого трамвая и исчез меж домами. Судно, разрезав тяжелую, маслянисто черную воду порта, стало швартоваться у первого причала, на котором застывше стояла толпа женщин. Уже были видны сияющие улыбками лица и платочки, точно птицы, зависнув в воздухе, трепыхались вовсю, а с палубы махали руками матросы, что-то кричали вразноголосицу. Еще рано было сходить на берег, предстояло оформление прихода, и с берега никто не мог попасть на борт — таков закон. Но вот по сброшенному трапу устремилась тоненькая фигурка в синем плаще, с гордо поднятой головой и струящейся на ветру светлой гривой волос. И глаза у нее были цвета синей северной волны, чуть подкрашенный рот жестковато сжат. Санька разглядел всю ее до мелочей и понял, что это и есть она, жена капитана. И вахтенный у трапа, который этого не знал, замер и, вопреки правилам, посторонился, пропуская ее, легкую, стремительную, точно нарядная стрела, пущенная из невидимого лука. — Куда смотришь? — заорал было возникший на шкафуте боцман, но тут же замолчал, видно, тоже понял. Женщина уже была возле каюты капитана — и разом исчезла, точно сгинула. Санька отвел взгляд и стал смотреть на толпу, будто все еще надеясь отыскать в ней знакомую кумачовую косынку, но не слишком пристально — не хватало еще, чтобы кто-нибудь со стороны догадался. А он не любил жалости. Самому бы впору кого пожалеть, вот тогда бы отлегло на душе. Но жалеть было некого. Он еще ждал спиной дробно и пусто цокающих вниз по трапу каблучков. Застучат — значит, дело плохо: гнев выплеснут и — здравствуй и прощай. Но не было этой отчаянной дроби, вокруг царила палубная суета с веселой и злой перекличкой, какая бывает у желанного дома, где тебя ждут, а кто-то досужий перехватил у самого порога, отвлекая по пустякам; в эту разноголосицу неожиданно врезался голос капитана, распоряжавшегося возле трюма. Он, значит, был тут, а она там, в каюте, покорно ждала. Санька вдруг вспомнил о конверте, который надо заложить в книжку, вынул его, нетерпеливо развернул листок с четко отпечатанными на машинке строчками.«В море работоспособен. Дисциплинирован… Отличный штурвальный с ярко выраженной склонностью… и тягой к знаниям… Без пяти минут штурман».Так и сказано было в этой официальной бумаге, в строгом тексте, как бы осветленном простой человеческой фразой:
«Без пяти минут…»
МАГИСТРАЛЬ
Подъезжая к Коломне, я слегка волновался, как это обычно бывало перед встречей с незнакомым человеком, да к тому же не совсем обычным, Героем, а регалия порою откладывает в натуре свой отпечаток, лишающий отношения необходимой им простоты. Оказалось — ничего необычного, если не считать двойственного впечатления, рождаемого внешним обликом: ясно ощутимая легкость в небольшой, тяжеловатой фигуре; мягкий взгляд серых глаз, сообщавший твердому, в смуглоту, лицу некоторую застенчивость. Казалось, он прислушивается к себе самому, не то вглядывается в тебя издалека — сосредоточенно и умно: мол, что ты за гость такой и что я должен тебе рассказывать, живу как живу, работаю. Ничего особенного. …Николай Иванович Дашков. Токарь с сорокалетним стажем. Честно говоря, я и сам не знал, с чего начинать, о чем писать? Ну прожил жизнь человек: армия, война, завод. В самом деле, ничего особенного, знакомая биография. А что, если просто потолковать по душам, побеседовать — чем жив человек, что его волнует. Глядишь, и всплывет нечто поучительное. Жизнь — всегда загадка. Открываешь для себя человека, словно некий незнакомый мир, где даже пустяк вдруг оказывается неожиданным, весомым, а привычная на первый взгляд ситуация таит новизну, как все, что пережито не тобой, другим. Так оно, собственно, и вышло. Я обосновался во дворе, в беседке. Неприхотливый гость, наотрез отказавшийся от цивилизованного уюта в доме, благо была июльская пора, духота спадала лишь по ночам, и тогда земля начинала дышать прохладой, в которой мешались запахи огородной зелени. Засыпающий городок. Тишина окраины, непривычная, густая, перехватывающая дыхание, точно рождала в теле невесомость, подымая к неестественно близким звездам. В беседке этой и потянулись наши вечерние беседы под цвеньканье птиц и неистовые вскрики соседских петухов. Разговор завязывался как бы сам собой, и постепенно один за другим возникали клочки, осколочки жизни, из которых складывалась некая мозаика, и рисунок ее то радовал, то огорчал. Мы все больше свыкались, понимая друг друга с полуслова, и уже на второй день, отбросив пустые условности, Дашков стал называть меня Семенычем, я его — Иванычем. Это все-таки чудо — человеческое общение, когда сходятся родственные души, до того не подозревавшие о существовании друг друга, и чужие прежде люди становятся друзьями. А может быть, помогло то, что оба прошли войну, не всю, половинку, а все же задели, да так, что и до сих пор помнится; или то, что в частых моих командировках приходилось подальше откладывать блокнот и ручку и работать заодно со всеми — и точить, и сваривать, и мосты строить, ну и конечно, жить под одной крышей в общежитии, в палатке, в вагончике — одним словом, вписываться в коллектив, как сказал один мой шеф, сам никогда не пробовавший, что это такое — вписаться.ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
— Здоро́во, Семеныч. — Привет, Иваныч. — Ну что у нас сегодня, тары-бары? — Надо бы… — Светло еще, хорошо бы огурцы окучить маленько. Вот возьму тяпку. — Тогда бери и на мою долю. — Вольному воля. — А что ж, после смены сразу копать? — А вот я недавно читал. Кажется, Белинского слова: перемена занятий — отдых. — Чернышевский. — Все равно, дельно сказано. Ну давай, пошли, а Надя нам кваску поднимет холодного. Знаменитый этот, нескончаемый квас жена Дашкова — Надя готовила каким-то особым способом, выдерживая в погребе, во дворе. Он пахнул свежей рожью, хмелем и еще чем-то непередаваемо домашним: хватишь кружку — дух захватит. Трехлитровая банка была неизменной спутницей наших бесед. Поначалу Иваныч, как полагается — гость в доме, — выставил пол-литра белой. Да гость оказался непьющий, и хозяин тоже: вот была потеха, когда оба, сморщась от глотка, соблюли этикет и отодвинули зелье подальше. А Надя-то как была рада — трезвые мужики! Я спросил его, что он больше всего ценит в человеке. Шаблонный, заученный вопрос, какие задают телерепортеры прохожим на улице, задают впопыхах и, должно быть, сами краснея при этом, хотя точно утверждать не могу, телевизор у меня черно-белый. — Не знаю, — пожал он плечом, видимо, испытывая затруднение от невозможности высказать одним словом то, что неохватно мыслью. — Мать считала — доброту… Ты у меня, Коленька, добрый… Потому что вечно мне нагорало из-за других. Особенно из-за Вальки, старшего брата. Нас в семье было трое. Валька — старший и озорник не дай бог. Однажды, помню, сломал отцов меритель. Ценный инструмент, очень им отец дорожил, как всякий хозяйственный токарь. А Вальке захотелось узнать, как он сделан. Разобрал, а при сборке то ли одна деталь оказалась лишней, то ли чего-то не хватило. «Кто напакостил?» Все молчат: отец суров, и ремень у него несладкий. Я и вызвался — пожалел братца, ну мне и влетело. Еще помню, тятя приговаривал: «Добренький! Не в доброте правота, а в правоте доброта». Видно, понял, чьих рук дело, а мне, стало быть, поделом. Не играй в благородство. Ты сыграешь, а другой плясать пойдет. Так всю жизнь и пропляшет. А что? Я тогда много думал, кто прав? Отец меня учит уму-разуму за Валькино любопытство. Любопытен, а не признался, струсил, а я, выходит, труса защитил. Вот тебе и доброта. Да, учитель мой первый… Иван Евтеич. Это он отца назвал — по имени-отчеству, с уважением в голосе — и на время замолк, знакомо, с какой-то отрешенностью, словно бы вглядываясь в даль, в далекое свое детство… Домишко под Коломной, в стайке корова, десяток ульев во дворе, выходившем к кустарникам, к речке Коломенке. Здесь он родился. Об этом я узнал еще утром, когда Николай Иваныч, решив проветриться перед сменой, показывал мне окрестности, поля, песчаные отмели Москвы-реки и Оки и травяные берега этой самой Коломенки. Прежде, еще при хозяевах, рабочие Коломенского завода селились в деревнях. На жизнь не хватало, и то, что давал клочок земли, было им приварком. Дом с усадебкой остались от деда, привычка ковыряться в земле да нянчить пчел — тоже от него. Детишкам — лакомство. А в тяжелое время семье подспорье. — О чем задумался? — спросил я Николая Иваныча. — О пчелах. — Он усмехнулся как-то невесело, отхлебнул квасу, точно залил им горчинку. — Пропали пчелы, еще в зиму сорок первого. — Замерзли? — Наоборот… Понимаешь, в такой строгости при отце, все ж не выросли сухарями, жмотство тоже нам было чуждо. Но цену копейке знали, как нормальные рабочие люди. Нелегко она давалась, трудом. А тут война пришла, наши отступили к Кашире, у деревни стали рыть окопы, огневые позиции, ну, солдат по хатам определили. Обогреть их надо, значит, топи жарче, а пчелы-то в подполе, в самой своей температуре. А тут стирать, портянки сушить, топи и топи. Мать говорит: «Коль, задохнутся пчелки. Может, сказать солдатам, поймут». — «Поймут, а говорить не надо». Наверное, я к тому времени сильно повзрослел, ежели так рассудил, ну и то сказать — братья в армии, я за старшого, отец со станками в Сибирь укатил, в эвакуацию… Ну, словом, ночь напролет топили, а утречком, чтоб никто не видал, улья те выкинули. Задохлись пчелы. Жаль было, а ничего не поделаешь… Надо. Вот так, — сказал Иваныч, словно удивившись своему откровению — опять доброта. — А на чем, бишь, мы остановились? — На отце. Первый учитель… — Смотри, память у тебя. — Ничего не поделаешь, надо. Он коротко засмеялся, поднял глаза. У беседки стояла Надя. Маленькая, аккуратная, чисто одетая, точно и не дома, а сама в гостях. Была она хлопотуньей, то и дело навещала нас, беспокоилась: может, лучше нам под крышей сидеть, беседовать, кто ж так гостей принимает, по-бродяжьи? И Николай Иваныч тотчас становился на ее сторону, в дом тянул. Это я уж потом, погодя, понял, как он с ней во всем считается. Ей, наверное, очень хотелось послушать, о чем мы толкуем, вдруг да не то скажет ее Коля. Или чего недоговорит, так она рядом, поможет. И он всегда шел ей навстречу, добродушно подчиняясь. Трогательное такое единодушие. После завтрака она его до калитки провожала на смену и встречала у ворот, точно вчера поженились. А у них уж дети были — две дочки, Оля и Лена, обе взрослые. Оля, старшая, замужем, с ребенком. — Ну ладно, — сказала Надя, — пойду я. Это, конечно, была жертва, и мы с Иванычем ее оценили. — Да, — сказал Иваныч, — учитель. Первый… Вот говорят — яблоко от яблони… Знал я одного умнейшего человека, с большой должности, у которого сынок лентяй и пройдоха. Нет, с яблоком верно только в том случае, когда тебя, пацана, не балуют и ты сызмальства ощущаешь ответственность. А я ее ощущал, еще как! Отец-то при всей своей заводской закалке вполдуши крестьянин был. А точнее, колхозник… Жить, говорил, на общественной земле и колхозу не помочь — это надо быть последним прохиндеем. И помогал. И меня с собой брал по выходным на машинный двор. Чинили с ним сеялки, веялки. Бывало, даст мне кривой болт — исправь. А как исправить, не скажет. И ведь если спортачу, доделывать приходится, мудрить, время тратить, а ему времени на это не жаль. Время, дескать, дорого не само по себе, а по тому, что успел сделать, чему научился. Он и потом меня учил, когда я за станок стал, хотя и ростом не вышел. Иной, мол, весь в поту, а толку чуть, а другой вроде и не торопится, а все у него с иголочки. Стало быть, подготовил чертеж на зубок, инструмент в порядке, мелочей тут нет, из мелочей большое складывается. Победа, она тоже из тысяч наших усилий, всего народа… Словом, старайся. Я и старался — в семи потах, в десяти слезах… Возьмет болт, скажет: «Ну и умеха, тут нарезка неточная, там заусеницы, а кому-то работать, значит, потом снова чини? Да он тебе за такую работу вслед плюнет, а мне вот за мое спасибо скажет. Знаешь ты цену человеческому «спасибо», охламон этакий! Шабри, чтоб игрушка была! И меряй до миллиметра». Потом уж и к станку приучал, с инструментарием познакомил. В десять лет — я на все руки мастер, так-то. И знаешь, за трёпку не обижался. Может быть, потому, что любил он меня — это я чувствовал мальчишеским своим сердцем. Иногда шлепнет, а сам расстроится, хоть самого утешай. Нет, не помнил я зла, ничего, кроме благодарности. — Так и должно быть. — Не всегда… Вот был у меня второй учитель, это уж после войны, когда я в цех пришел, Кузьмичом звали, из бывших мастеров старичок, прижимистый. Так тот меня и пальцем не трогал, близко не подходил, а так со сторонки объяснит по верхам, скосит глаз, как петух на зерно, — и работай. А на станке не болты точить — тончайшие операции… Запорешься — весь вал пропал. Но я это не сразу понял. И вышла у меня со старичком история. Между прочим, — перебил он себя, — коленвал в обработке — сложная вещь. Станок огромный, старый, и все вручную. А точность требуется микронная. Я уж не говорю о физической силе, сноровка нужна. А у меня страх перед точностью. Новичок же… Я ведь еще в армии мечтал — получить такую работу, а сумею ли, как отец? По ночам лежу на нарах и думаю, примеряюсь мысленно. В мыслях-то нелегко, а на деле? Потом, вскоре, я уж по два вала выдавал за день при плане три, но старший мастер подойдет, бывало: «Молодец!» И то сказать, с таким делом не каждый сдюжит… За деньгами тогда не гнались, главное — качество. Он говорил непривычно торопливо, перескакивая с одного на другое, и все на одном дыхании, волновался, должно быть, переживая былое, первые свои шаги. А я все держал в голове старичка мастера: что там за история с этим старичком, но боялся вставить слово, сбить его скачущую речь. — Помню свой первый вал. Старший мастер сказал вечером: «Завтра в смену выходи самостоятельно». Это уж после того, как присмотрелся ко мне, рискнул. А без риска не жизнь и не работа. И радиуса в чертеже такие фасонные попались, сам резцы доводил, по шаблончику. А все одно — включил станок и чуть не запоролся. Задел лбом за суппорт, станок как загудит, хорошо, резец уже на выходе был, а то бы — пой, мальчик, отходную своей самостоятельности. Зато уж кончил — рубашку хоть выжимай, весь в мыле… Да, непросто было пройти резцом две десятки, а резцы были тогда слабые, не то что сейчас — подгорит, и не заметишь. А то песчинка попала… Дашков только рукой махнул и, достав платочек, утер лоб. — А что со старичком-то? — А, да… Старичок-боровичок, кепочка на нем блином, от царя-гороха. И нутро трухлявое. К нему меня и прикрепили за месяц примерно до первого моего коленвала. Ну, показал, какой резец взять, как в суппорт вставить. Все было знакомо, я ведь еще в начале войны токарил; правда, станочек был маленький, сам тоже кроха, на подставке, как все пацаны… Ну вот, а суппорт он мне все же сбил, старичок. Нарочно, что ли, прошел для показу конус и сбил. Я думал, он меня пробует на смекалку, взрослый же человек, а я взрослых уважать привык… Ладно, испытывай, проверяй, и я проверю. Тронул конус резцом — в начале, в конце, — вижу, не совпадает. Отладил и пошел, пошел срезать. Аккуратненько, хотя чувствую — резец что-то не того, то и дело менял, намаялся. А все же дала себя знать отцова наука. Освоился постепенно, дух перевел и уже не боюсь станка, чувствую; мой он, послушный, и мы понимаем друг дружку. К вечеру ушел мой старичок, словцом не подарил, едва кивнув на прощанье… А к утру что-то запоздал. И весь какой-то мятый, в сером поту. — Что, — спрашиваю, — Кузьмич, никак, прихворнул? — Не я, машина моя, хвороба ее бери. Машиной он назвал мопед, вернее, велосипед с мотором. За километр от завода слышно было, ребята бывало, говорят: «Кузьмич едет», — так он тарахтел, окаянный. Вроде самолета на бреющем, все нутро выматывал. А в это утро прибыл в полной тишине, педали крутил. С его-то сердчишком. Жаль мне его стало: не зря добреньким с детства прозван. После смены прочистил ему мотор, зажигание поставил. Он сел, закурил, вздохнул этак печально. — Завидую, — говорит, — на тебя, парень. Редкий талант к металлу. И дом на себе тянешь, и тут молоток. А у меня, слышь, два лба, и те непутевые. В кого пошли? — Покряхтел, хлопнул себя по коленке. — Ладно — я тоже добрый, завтрева в смену покажу, как резец заточить. И ушел, потрусил к выходу. А меня будто по башке стукнуло. Стало быть, он мне за услугу отплачивает. Так за так. Я ему мотор, он мне заточку? А если б я вал угрохал, такой убыток заводу — это ничего? Свалил бы на меня вину, и баста. Накладка в ученье, и все концы. Не свое, не жаль… Нет, не успел я ему плюнуть вслед. А и плюнул бы, что толку… И знаешь, — произнес Иваныч чуть погодя, — что-то после того во мне перевернулось, никогда я с такими людьми не сталкивался. Сам был открыт, думал — и все такие. А он, кулачок, будто в чистый колодец плюнул. И пошли круги. Долгое время еще приглядывался к людям, за каждой улыбкой ждал подвох, осторожен стал, недоверчив. Вроде болезни какой, такое он в меня заронил недоверие… Тоже наука, будь она неладна. — Сам-то других учил? — Пришлось. Только не сразу. До учительства длинная дорожка была и не совсем гладкая. Вернее, совсем негладкая, ямы да рытвины. Только об этом после, давай-ка отложим на завтра, а то Надюха моя нервничает. Я оглянулся, проследив за его взглядом: в светлом квадрате окна рисовался склонившийся над вязаньем хрупкий силуэт Нади. Не ложилась, Колю ждала. Наверное, нечасто они были порознь такое длительное время — целых полдня… Стало быть, завтра. Но тут я вспомнил, что завтра наметил сходить в партком, и тут же сказал об этом Николаю Ивановичу. Похоже, он даже обрадовался передышке: с непривычки длинные разговоры давались ему нелегко. — Ну и ладно, — сказал он с готовностью, — а я пока с мыслями соберусь…ДЕНЬ ВТОРОЙ
Сказать, что день второй провел без Николая Иваныча, было бы не совсем точно. Он как бы присутствовал незримо. Это стало понятно потом и несколько неожиданным образом, а вначале было знакомство с заместителем секретаря парткома Игорем Сергеевичем Кисленко, на котором, в числе других обязанностей, лежала связь с печатью. Связь эта в данном случае представлялась довольно расплывчатой — мне хотелось узнать, в чем суть проводимой реконструкции старейшего в России завода, и тут скорее к месту был инженер. Но секретарь парткома Владимир Михайлович Костин, которого я знал прежде, в ответ на мои сомнения лишь загадочно усмехнулся: — Ступай к нему, не пожалеешь… В конце коридора налево, там его кабинет. Честно говоря, всегда испытывал некоторое предубеждение к молодым обладателям отдельных кабинетов, а он оказался именно таким: молод, щеголеват, с исчерна-волнистой модной прической и вежливой сдержанностью жестов. — Слушаю вас… И выжидающе постучал пальцами по столу. Но поняв, что мой интерес к заводу связан с Николаем Иванычем Дашковым, вдруг весь преобразился в доброй улыбке, снявшей отчужденность, точно солнышко проступило сквозь хмурь озабоченности. — Так вы знакомы? — прорвалось в нем совсем по-мальчишески. Казалось, одно только имя Дашкова мгновенно сблизило нас. — Больше того, — сказал я. — Как-то мы с ним сразу подружились. Бывает так… — Точно! По себе знаю. Прекрасный человек! — В смысле — работник? — В смысле — активный. Мы же вместе все время в общественных делах, — проговорил он все так же торопливо, с каким-то радостно-вспоминающим выражением на лице. — Без него ведь ничего не обходится! Посвящение в рабочие: Николай Иваныч. Семинар — он готов. Выступить в школе перед выпускниками — опять он. И говорит здорово о своей работе, интересно, потому что отлично знает дело. Позвонишь среди дня — он тут как тут, успел и домой съездить, переодеться. А после выступления, хоть полчаса до смены, опять к станку. А уж что не доделал — в субботу явится, наверстает. Не зря его начальник цеха так охотно и отпускает, за таким не пропадет. Оч-чень, очень обязательный человек… Прямо на редкость! В устах Игоря Сергеевича это звучало как высшая похвала, может быть, потому, что сам он был такой, хотя, казалось бы, и не имел непосредственного отношения к производству. — Минутку, — остановил я Игоря Сергеевича, зацепившись за смутившую меня мысль о действенности этих запланированных мероприятий с подростками. — Ну, выступили в школе, и что дальше? — Должно быть, он уловил прозвучавшее в моем голосе сомнение. — Послушают вас парни, мечтающие бог весть о чем, и сразу хлынут на завод? Кисленко стукнул ладонью по столу: — Еще как! Они же дома только и слышат: институт, институт, институт! А тут им глаза открыли на профессию! На десятки интереснейших вещей! Энергетика, механика, электроника. Вы думаете, после школы сразу сядешь на ЭВМ?! В вечерний вуз! Пожалуйста, учись, дверь открыта, я сам… И тут выяснилось, что Игорь Сергеевич не так давно закончил вечернее отделение института, заведовал отделом технической информации, прочно в курсе всех заводских дел, а в партком его избрали как неутомимого общественника, без которого не обходилось ни одно важное мероприятие. Передо мной сидел человек, в котором счастливо сочетались производственник и организатор. Еще утром, разглядывая в коридоре стенд с расписанием лекций, я подивился широте их диапазона: тут была и экономическая учеба, и международное положение, и встречи с артистами, и даже лекции на тему семьи и брака в советской литературе… Игорь Сергеевич то и дело отрывался к трещавшему телефону и, судя по его коротким, четким репликам, занимался всем, что ставила в повестку дня сама жизнь: от реконструкции завода до торжественного вручения свидетельств о рождении. Молодых пап и мам поздравляли и медики, чьей заботе вверялись малыши, и учителя, которые когда-то еще будут учить их уму-разуму. И все это надо было успеть, утрясти, согласовать — время было четко расписано в специальной тетради Кисленко по часам и минутам, и я, слушая его переговоры, невольно переживал вместе с ним всевозможные спотычки и неувязки, вдруг почувствовал, что постепенно как бы втягиваюсь в ритм какой-то особой, деловой жизни, спешки. И когда Кисленко, созвонившись по моему делу с заместителем главного инженера Бережковым, сообщил мне весело, довольный, что тот примет нас от десяти до десяти тридцати — «Час в вашем распоряжении, а пока — гуляйте», — у меня было такое ощущение, будто нас обоих остановили на бегу: целый час гулять! — Между прочим, Дашков имеет к реконструкции завода самое непосредственное отношение, — Кисленко произнес это со значением, как-то загадочно при этом улыбнувшись. И, перехватив мой вопросительный взгляд, только рукой махнул: «Потом объясню». — Вот вам газеты, отлучусь по делам. Потом сходим вместе, покажу завод, чтоб вам потом в другие дни не заплутать. Завод-то большой. — Знаю, бывал уже, да и вас отвлекать… — Ничего. Костин дал мне время до обеда. Я взглянул на часы — до обеда оставалась уйма времени — и в душе поблагодарил Владимира Михайловича Костина.Заместитель главного Бережков принял нас минута в минуту. По-юношески худощавый, в строгом светлом костюме, он то и дело поднимался из-за стола, отмахивая спадавшую на лоб прядь волос, и ходил взад-вперед, изредка касаясь наваленных бумаг, когда ему нужен был тот или иной документ. Он говорил о реконструкции завода с той особой краткостью, которая вырабатывается годами, осмысливая каждую деталь, точно заново проверяя верность осуществляемых вариантов. В иных местах он как бы советовался взглядом с Кисленко, и тот дополнял и расшифровывал картину, стараясь, чтобы гостю все было понятно. Ну, разумеется, он ведь не просто замсекретаря — инженер. И чувствовалось, что реконструкция отложила свой отпечаток в душе обоих, это было их детище и они гордились им так же, как сотни других инженеров, рабочих, мастеров, потому что перестройка задела здесь каждого. — Чтобы все стало ясным, приведу один только факт, — сказал Бережков. — К девяностому году мы должны вдвое увеличить выпуск дизелей и поставить на поток новые, мощные пассажирские тепловозы. И все это без отрыва от производства. — Причем от растущего и совершенствуемого, — уточнил Кисленко и пристально взглянул на меня, как бы желая подчеркнуть важность сказанного, а Бережков лишь согласно кивнул. — А еще жилье! — не успокоился Кисленко. — Тоже вдвое… Тут мне вдруг вспомнилось все прочитанное и услышанное об этом удивительном заводе, который еще до войны славился передовой технической мыслью. Это была какая-то особая чуткость к потребностям времени, рожденная раскованной творческой мыслью в дружном, давно сложившемся коллективе. В довоенные пятилетки Коломна дала стране мощные паровозы и самый сильный в Европе электровоз. Пришла война, и завод переключился на спецзаказы — поезда оделись в броню. Страна восстанавливала разрушенное войной хозяйство, железной дороге понадобились могучие тягачи — и за ворота завода вышел первый опытный паровоз «Победа», а в первый год семилетки за 16 месяцев был сконструирован универсальный ТЭП-10, развивающий скорость до 160 километров в час. Крепла страна, стремительно росли грузовые, пассажирские перевозки, и по магистралям Севера и Востока помчались большегрузные составы — их вели мощные, экономичные коломенские тепловозы. — Сейчас мы в основном выпускаем дизеля, пассажирский тепловоз поднимем до четырех, потом и до шести тысяч лошадиных сил… Голос Бережкова звучал спокойно, чуть приглушенно, реплики Кисленко взбадривали беседу, и мне было понятно состояние этих людей, в который раз с замиранием души заново раскрывающих картину, творцами которой были они и их товарищи. В самом деле — вдвое увеличить производственную площадь без увеличения числа рабочих, то есть внедрить новейшее оборудование, технологию холодной штамповки, точного литья, поставить механизированные линии, построить очистные сооружения, чтобы сберечь окружающую среду… Между прочим, как заметил Бережков, реконструкция коснулась впрямую и цеха Николая Ивановича Дашкова. Имелась в виду вертикальная азотация коленвалов до обработки. На горизонталях они коробятся, потом их правь, выдавай токарю большие припуска — сколько это металла уходит в стружку. Стало быть, это и есть та самая «непосредственная связь» Дашкова с перестройкой? Улучив момент, я спросил об этом Кисленко, он лишь покачал головой, усилив мое любопытство, а я извинился перед Бережковым, что невольно перебил его. Но Бережков, точно и не заметив заминки, продолжал свой рассказ, а я попытался охватить всю эту заводскую эпопею, где каждое начинание таило в себе поиск оптимальных вариантов, создания собственной стройбазы, когда с кадрами совсем не густо, да еще освоение новых строительных профессий, — и все это, как говорится, не отходя от рабочего места. Каким же гибким и напряженным должен быть план и десятки его взаимодействующих составных — снабжение, транспорт, энергетика! Какая тяжесть легла на плечи этих людей, и в частности генерального директора Валентина Павловича Стрельникова? — Нелегко все это выдержать? — Ну, Валентин Павлович у нас мужик крепкий, — улыбнулся Бережков, явно отводя разговор о себе. — У него закалка… — А закалка откуда? — Так он же наш, заводской, с мастеров начинал, — заметил Кисленко. — У нас все свои, варягов нет, — добавил Бережков, — тут выросли. — А вы? — спросил я все же Бережкова. — Вячеслав Александрович тоже. Из технологов, — сказал Кисленко. От меня не укрылось то, как Бережков отвел глаза, неуловимо поморщась. Он тут же занялся бумагами, сказав: — Так на чем мы остановились?! Положительно не терпел саморекламы. — Энергетика… — Да, — сказал Бережков, — усилить вспомогательные цеха, в частности энергобазу, — это азбука дела… Но каково в данном случае строителям? Завод старый, начнешь рыть траншею — наткнешься на старый кабель. Значит, надо было иметь под рукой архивы, документацию, часть ее давно утеряна, да и была ли. Вот где голову поломали, не дай бог… И вдруг засмеялся, прикусив губу, как человек только что испытавший пережитую опасность. — Нам ведь в решениях съезда было уделено особое место, так сказать, персонально. Так что на минуту опять вернемся к началу. — Достал из стола брошюру и внятно прочел: — «Увеличение производства дизельных двигателей с высокими технико-экономическими показателями». И вот еще: «Организовать производство более мощных магистральных и маневровых тепловозов…» А для этого нужны были фонды, проекты, а проекты не были еще утверждены министерством. Знаете, как это бывает трудно с места стронуться, машина громоздкая — вот тогда мы и обратились в «Правду», и газета помогла… — Он на минуту замялся, явно чего-то недоговорив, и, как бы пресекая мои расспросы, добавил: — Так что строить мы начали без утвержденных проектов, редкий случай, но нам позволили, в виде исключения… Кисленко нетерпеливо заерзал на месте, но Бережков, опять-таки не обратив внимания, сказал, закругляя беседу: — Бывали у нас? Давно? Ну теперь у вас хорошийгид. — Я снова хотел отказаться, мало ли у Кисленко забот, но Игорь Сергеевич не был бы самим собой, если бы упустил такой случай — показать завод: — Вместе пойдем…
Всякий раз, ступая на территорию завода, расчерченную асфальтом дорожек, в гущу тополей и сиреневых кущ, захлестнувших стены цехов, как бы невольно прикасаешься к старине, к тем, не таким уж далеким временам первых стачек и митингов, когда истерзанные непосильным трудом во главе со своими вожаками столяром Соколовым, агитатором Сапожковым дрались коломенцы за свои человеческие права… И наблюдая за тем, как под развернутым знаменем счастливый Дашков вручает молодым рабочим сувениры, посвящая их в новую профессию, а тот же Игорь Кисленко агитирует ребят поступить на вечернее отделение института, думаешь о тех десятилетних мальчишках, что глохли в чаду и грохоте старых цехов и после даже не могли расписаться в ведомости, которая обкрадывала их штрафами. И уж вовсе не помыслишь о том, что люди, таскавшие под хриплый распев «Дубинушки» тяжелые котлы и цилиндры, выжатые трудом и выброшенные за ворота, могли представить себе врача в прекрасно оборудованном заводском медпункте, озабоченного тем, чтобы все до одного прошли обследование, а захворавшего отправить в профилакторий или пансионат на Черноморское побережье. Нет, не зря после гражданской войны, когда завод тяжело подымался из разрухи, после смерти Ильича, потрясшей рабочих, гостившие на заводе американцы, как описывается в истории завода, так удивлялись тому, что в партию вступают целыми цехами, — ведь все вокруг голодают. Им отвечали коротко — для того и вступаем, чтобы победить голод и разруху. Завод чтит свои традиции. Здесь помнят и организатора первых марксистских кружков Литвина-Седого и старого партийца Георгия Васильевича Елина, слесаря, пригнавшего к площади Финляндского вокзала три сработанных заводом броневика — с одного из них выступал Владимир Ильич; и первого красного директора Е. Е. Урываева, чей организаторский талант выводил завод на новые рельсы, и самородка Пастухова, сельского паренька, ставшего начальником машиностроительного цеха, и создателя совершенных дизелей инженера-практика Н. М. Урванцева. А сколько сделали за войну вернувшиеся в цеха старики? Кто подсчитает вклад в победу строгальщика Н. И. Шатилова, фрезеровщика А. М. Юсова, изобретателя А. Я. Буфеева, подавшего только в одном сорок четвертом году 79 рационализаторских предложений; женщин, сменивших у станков мужей — в Бресте дрался бывший кузнец капитан Н. Зубачев, в небе над Смоленском и Ленинградом били фашистских асов Герои Советского Союза летчики Зайцев и Захаров. Захаров бомбил Берлин и Кенигсберг, взвод лейтенанта Исаева первым форсировал Днепр, а молотобоец Лев Сушкин, легендарный командир подводной лодки С-55, совершил беспримерный в истории подводного плавания переход: от Владивостока — через Панамский канал — до Полярного. И сколько нынешних мастеров-умельцев благодарны своим учителям, таким вдумчивым мастерам-универсалам, как токарь Николай Алексеевич Маслов и Юрий Иванович Краслов, фрезеровщик Вадим Томашевский и многие другие. И то, что сейчас делается на заводе, то, что мы видели с Игорем Сергеевичем в пролетах просторных зданий со стеклянными «фонарями» крыш: электродуговые печи вместо срытых мартенов, манипуляторы, облегчающие труд слесарей, суперфинишные шлифовальные станки, новые компрессоры и газовые коммуникации, порошковую металлургию, ультразвук, контролирующий качество литья, автоматику на испытании дизелей, вычислительный центр… и наконец, удобные бытовки, вентиляцию, цветы на подоконниках и цеховые скверы, — все это плоды и приметы времени. Сухой пересказ технических новшеств вряд ли заденет некомпетентную душу. Но стоит увидеть стоящих за реконструкцией людей: того же Вячеслава Александровича Бережкова с его жестко прикрытым внешней сдержанностью беспокойством; или вдумчивых творцов новой технологии Бориса Андреевича Стрюкова и Льва Васильевича Турукина; одержимых конструкторской мыслью Юрия Герасимовича Толстого и Гурия Александровича Перышкина, создавших испытательную станцию дизелей; или старейшего ветерана Игоря Александровича Холодилина, у которого в голове сотни архивных строительных схем и новых оригинальных решений по сложнейшей переделке завода, — стоит ощутить их живую творческую мысль, чтобы понять ее главное, магистральное направление: оптимальность и перспектива! В самом деле, на испытательных стендах, скажем, использованная энергия уже не уходит в воздух, как бывало, а возвращается в заводскую сеть. А ведь четыре часа гонять дизель — это три тысячи киловатт!.. Очистные сооружения — не только найденный вариант многократного использования отработанной воды, но и забота о будущем природы… Собрать всю холодную штамповку в один цех — это централизация с огромной отдачей… Улучшение транспортных связей скажется на четкости цеховых графиков. Наконец, реконструкция означает — не просто поставить новое оборудование, но во многих случаях сделать его самим, нестандартно, приспосабливаясь к нуждам завода. Иными словами — работать с умом, с загадом на будущее, с той подлинно инженерной смекалкой, когда, конструируя частность, имеешь в виду общее — на долгие годы вперед. Обо всем этом говорил мне Игорь Сергеевич Кисленко, пока мы ходили по цехам среди жужжащего пламени сварки, грохота отбойных молотков, взламывающих старый асфальт, шума кранов, несущих прогоны новых поточных линий, — среди всего этого кажущегося хаоса, в котором уже проглядывал новый облик предприятия. Игорю он был видней, и люди, с которыми он поминутно здоровался, на ходу решая будничные свои дела, были родные и близкие, и он тут же мне говорил о каждом, ревниво следя за бегавшим по блокноту карандашом — как бы кого не упустить, о каждом сказать доброе слово. В десятом цехе, в его голубоватой от «фонаря» дали, он долго вздыхал, оттого что не мог показать мне контактно-сварочную машину — дверь отсека была заперта на время обеда, — но зато, обнаружив стальной остов картера, который пойдет на сварку, с присущим ему азартом стал объяснять, как трудно было такую махину сваривать вручную по всем пяти плоскостям — попробуй просунуть внутрь электрод. Сейчас, конечно, нужна иная точность, но зато и прочность какая, без брака. А производительность прыгнула в семьдесят раз! Представляете? И тут же с торжественными нотками в голосе заметил — машина сделана в содружестве с институтом Патона, а работники завода Филиппов, Энтин и Мартынов стали лауреатами Государственной премии УССР. Сказано было так, будто он сам стал лауреатом. И тотчас что-то записал в свою тетрадь. Может быть, ему пришла мысль об укреплении связи с наукой, для очередной его лекции. А мне вдруг подумалось, что ведь лекции — после работы, а приходит он на завод за час до начала, чтобы обдумать план дня. Когда же возвращается домой? И как часто видит жену и дочь? — Да вроде бы вижу по вечерам, — засмущался он, пряча тетрадь. — А вот с утра убегаю затемно. Надо день расписать. Иначе все рассыплется. Потому и тетрадь завел. — Ну и как? — Порядок. — Я говорю — как жена? — А, бунтовала уже. Когда эта карусель кончится?! — Ну ясно. На личную жизнь времени не остается. Он взглянул на меня, пожав плечами: — А это и есть моя личная жизнь. — Он просто не мыслил себя без «карусели», без этого привычного ритма. Вдруг рассмеялся, сообразив что к чему: — Вы, наверное, имеете в виду отдых? Так будет же отпуск. Поедем в пансионат, в свой, всей семьей. От него просто нельзя было не заразиться оптимизмом, уверенностью, какой-то особой прочностью души, которую, чего греха таить, мы часто теряем в будничной суете, сталкиваясь с житейскими неурядицами. Пустяки все это, если есть в твоей жизни главная линия — магистраль. Уже далеко за полдень мы добрались до шестого машиностроительного, дашковского. Просторный цех, с колоннами в пролетах, между которыми гудели гигантские станки, с медленно движущимся под потолком краном, несущим в клюве стальные коленвалы. — Еще недавно были чугунные. Сложности, конечно, прибавилось, но зато и качество! Валы привозные, но скоро начнем штамповать сами, по-новому методу… Это я уже знал и тем не менее слушал внимательно, словно попал сюда впервые, заново ощущая величие и точность работы. Люди, такие маленькие рядом со своими великаньими станками, казались умельцами-волшебниками. На минуту Кисленко отвлекся, о чем-то заговорив с парторгом цеха, и, вернувшись, сказал с хозяйской удовлетворенностью: — С перевыполнением идут. Между прочим, по технике и качеству — лучший цех в отрасли. В ГДР есть такой же, но наш, пожалуй, получше… Я взглянул в сторону дашковского угла. Николая Иваныча не было — должно быть, уже сменился. Вдруг слева открылись взору два не похожих на другие станка, закрытые точно броней с множеством кнопок. Это были новые станки с программным управлением. Кисленко погладил станок по кожуху, как живого: — Все делает сам, полная фрезеровка. И производительность — в семь раз… А я подумал о Дашкове, о его золотых руках, интуиции, смекалке. Все эти качества умельца заменит электронный мозг машины. И, разумеется, уйдет в небытие тяжкий его, напряженный труд. Вместе со сноровкой умельца? Была в этом некая грустная радость. Конечно, оператору тоже потребуется и ум и сноровка, но уже иного рода… Я сказал об этом Игорю Сергеевичу, прекрасно понимая, что не найду в нем сочувствия, — прогресс не остановишь, да и глупо было бы… Но Игорь Сергеевич кивнул согласно и тут же, поразмыслив, покачал головой. — Нет, почему же. Самая тонкая доводка — шлифовка останется за ним. Последние сотки всегда требуют точности и опыта. Определить по искре, не много ли взял, нет ли перегара… Нет, нет, тонкость — как высшее умение останется. Он окинул взглядом цех, а я, вспомнив утренний разговор, спросил, не эти ли новшества он имел в виду, когда говорил, что реконструкция коснулась Дашкова? — А… нет, не только это. Имелось в виду наше письмо в «Правду». Среди авторов были и Бережков, и Дашков… Мы ведь давно заболели реконструкцией. Пришлось толкнуть министерство, ждать было нельзя. — А министерство обиделось. — Кому охота слушать критику? В общем, сдвинулись, и пошло. Но кое-кому влетело, Бережкову в частности. — Кисленко даже губу покусал, сдерживая улыбку. Неприятности, связанные с письмом, и болезненная реакция наверху сейчас, должно быть, казались смешными. — А Дашкову? — Что — Дашкову? — Тоже наподдали? Кисленко рассмеялся: — Чихать он хотел, Дашков. Чего ему бояться? Таких, как Николай Иваныч, на заводе раз — два и обчелся. Вот так, со всеми вытекающими обстоятельствами…
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Он вернулся с завода свежий, смугло раскрасневшийся после крепкого душа, все такой же неспешный, ловкий в движениях. Серые, казавшиеся прозрачными на заветренном лице глаза смотрели добро, проясненно. Машину в гаражик ставить не стал, предстояло ехать хлопотать насчет телефона. — Ну как ты тут? Не скучал? — Ничего, терпимо. Точно встретились после долгой разлуки. — Ну потерпи еще маленько, мне в АТС надо. Телефон ему необходим: Дашков — член горкома, заводского парткома, его часто вызывали по общественным делам — то прочесть лекцию, то на встречу с «петеушниками», которых он опекал, участвуя в конкурсах, то срочно подготовить отчет о работе товарищеского суда, председателем которого он был, да мало ли дел к такому человеку. А то вдруг заавралят в цехе, срочный заказ — кого звать? Дашкова. Уж кто-кто, а он не откажет… Обо всем этом я уже знал. Телефон позарез нужен был и Наде, работавшей медсестрой в больнице. — Ну как же так, — жаловалась она, — я там, он тут. Надо же позвонить, справиться, может, он обедать не стал, меня ждет, с него станется. Тоже, конечно, серьезный довод в пользу телефона. Однако вечером, как человек обязательный, он явился к месту встречи, в беседку, знакомо усмехаясь, покачивая головой: вот, мол, придумал ты мне нагрузку. Охота мне старое ворошить? Ну раз уж тебе приспичило, что делать. Надо так надо, у каждого свое. Что-то в этом смысле можно было прочесть на его лице. И неизменная банка с квасом была рядом — для утоления жажды, в горле у Иваныча сохло от непривычно длинных бесед. — Так на чем мы, Семеныч, споткнулись… — На дорожке. Длинной, с ухабами. И на твоем учительстве… — Ну, до учительства еще далеко, всякое бывало. И надолго замолчал, собираясь с мыслями. Что-то его тревожило, что-то было такое, что не хотелось вспоминать, копаться в неприятных мелочах. Он даже взглянул на меня этак просительно, как бы спрашивая: может, не стоит? Но я стойко выдержал взгляд, сказал примирительно: «Иваныч, жизнь есть жизнь», и он только вздохнул, приложившись к запотевшему стаканчику. — Так, понимаешь, получилось, что воспитательная моя деятельность началась с моего сменщика, его-то первым и пришлось учить, что такое работа и как к ней относиться… Он снова задумался, подбирая слова. — Тяжелый был человек, самолюб. Это мне позже стало ясно, после одного случая. А до того мы вроде бы даже дружили, домами даже. Он ко мне, я к нему. Правда, что-то не складывалось, без выпивки компанию он не мыслил, а я ж непьющий… Да и неряха он был порядочный. Вечно инструмент ищет, прокладки там, кулачки, где что — все поразбросано. Ну, скажешь ему, обидится, и опять все по-старому: какой я был ему указ, на равных мы. Такой, значит, у него стиль, ничего не попишешь, а в конце месяца перед мастером знай ноет: мало получил… Но вот однажды обошлось без нытья, довольный ушел. Да только и дружба наша лопнула. А случилось так, что я захворал, редко со мной такое бывало, а тут, как назло, грипп схватил. Тяжеленный. Возвращаюсь, а у нас выработка с гулькин нос. Часов много, а готовых валов раз — два и обчелся. Чем уж он занимался, детали какие-то химичил велосипедные, я потом их под станком обнаружил… Ну вот взялись вместе, наверстали, а расчет подошел, мастер у него и спроси: как делить? Без меня было, он и ответил: по часам. Куш почуял? А я в кассу пришел — одна мелочь. Я — к нему, думал, пристыжу, поймет. Куда там, раскричался, слова не вставь, аж слюной брызжет. И такой я, и сякой, и скупердяй, и стяжатель, а он добренький, поровну разделил: себе пыж, а мне шиш. Прав, мол, и никаких гвоздей, хоть кол ему на голове теши. Ну, махнул я рукой, ладно, думаю, — непонятна тебе рабочая честь, так я тебя научу. Стал присматривать, как же он работает. Честно говоря, и раньше замечал, да как-то не считался. А он, значит, в свою смену что полегче сварганит, щечки на валу подрежет, а шейки — самое сложное, трудоемкое — мне оставит. Тут такое дело, особенно, когда новый заказ, — расценок нет, пока туда-сюда разберутся, он свое выгонит. И рад. Вот взял я новый заказ и разбил его на операции, и чего каждая стоит — уточнил, берись — обтачивай… Он на дыбы и к начальству — жаловаться. Ну, люди у нас в руководстве тоже не лыком шиты, знают что к чему. Он-то сгоряча и не подумал об этом, знай, свое твердит: «Дашков, мол, частник, все разделил на свое и мое»… Додумался, голова садовая. Ничего у него не вышло, но тогдашний мастер Тихонов все же вызвал меня на беседу. Хороший был мужик, хорошо знали друг друга, он еще с отцом моим работал. Я ему про обезличку, дескать, нельзя так работать, каждый должен за себя отвечать. А он молчит, брови насупил, усмехается чуть приметно. — А получать, — спрашивает, — тоже соответственно? Тут я вскипел, не выдержал, хотя о деньгах в ту минуту думал меньше всего. И неловко мне, и зло берет, однако дело прежде всего. А у мастера вид какой-то неуверенный. — Выходит, бригадный метод побоку? А как же соревнование, колдоговор? Опять же разница в зарплате… Чувствую, не может смотреть в корень или не хочет. Главную суть привычными словами подменяет. Но и я терпения не теряю. — Бригаду, — говорю, — никто не рушит. Трое нас, один, правда, болеет. Но все одно — бригада это ж как одна семья, так должно быть? А в семье каждый должен знать свое дело. Взаимопомощь остается, а ответственность каждого возрастает!.. Насчет разницы в зарплате сомневаюсь. Сейчас мой сменщик может и отвлечься. А тогда уж придется себя показать — на что способен. Он теперь еще поразмыслит, как ему минуту — другую сэкономить. Потом стимул появится. И честь дорога! При подсчете все как на ладони: раз меньше заработал, стало быть, раньше за других прятался. Нет, он на такой позор не пойдет. Да и с качеством иной оборот: ты напортачишь, с тебя же и спросят. Вот тут и пойдет соревнование, по-настоящему. Кто же в выигрыше — Дашков или государство? Мастер молчал, слушал. Мужик с опытом, понимал — прав я. С другой стороны, как-то непривычно. Бригада — это звучит? Звучит… Кругом — бригады. Но, с другой стороны, бригады эти работают на малых операциях, а тут одна, крупная. Почему бы в самой деле ее не разделить, обозначив работу каждого. Это же явный выигрыш. Ну, усмехнулся старик, покачал головой: интересно, говорит, что бы сказал на это твой батя? Вспомнил и я отца в ту минуту — человек всю жизнь заводу отдал. Сколько людей выучил ремеслу, не считаясь со временем, какой вклад внес в Победу! — Да, — отвечаю, — отец сперва бы подумал, взвесил, потом сказал. Вот и вы подумайте. Пока он думал, я еще раз со сменщиком поговорил. Он ни в какую. — А если я не согласен? — Я, может, тоже не в восторге от тебя, а терплю. — А если я лучше не могу работать. — Не сможешь — помогу. — Не хочешь — заставлю. Как в армии? А я про себя думаю: пройди ты, гусь, с мое, легче было бы нам договориться. Давно уже заметил: есть у фронтовиков особая черта — надежность. — В общем, — говорю, — как в армии — это не худо. Мое дело — предложить, а там решат. Через два дня подходит Тихонов. Мол, доложил начальству, убедил. А я ему — пока не совсем, мол, договорились, пусть время покажет. И, действительно, пошло на лад, выработка поднялась, а тут вскоре мне ученика дали, молодого, только-только демобилизовался. Соколов Борис. И тут мой сменщик опять себя показал — вспомнить стыдно… Сперва-то все шло нормально, ученики эти, молодежь нынешняя, они сложные, не всегда и поймешь, что за парень. Одного раскусить легко — с ленцой, нет-нет и пошел с дружками треп заводить, а то в курилку. Такого строжить надо, подталкивать. Иной раз и прикрикнешь. Токарь, да еще на таком станочище, как мой, — это прежде всего терпение и сила. Старательность нужна… Другой серьезен не по годам, науку хватает, как пчела с цветка, но характер у него такой — не знаешь, как подступиться. Вот таким Соколов этот был. Вроде бы ничего от тебя не требует, все сам, а ты все равно возле него как привязанный. Объясняешь, как резец наладить с учетом металла, какую наковку дать, чтобы не давил, а резал, и стружка не крутилась, а ломко шла, не мешала. Толкуешь, а он молчком свое делает, вроде и без моей помощи, все сам понимает, только, знай, усмехается. Но все равно объясняю, а у самого кошки на душе скребут. Ну, думаю, и парень! Здравствуй, племя молодое, незнакомое, — новой чеканки. Как-то я спросил его, почему он ко мне попросился, бирюк этакий, с апломбом. — Вы, — говорит, — с именем. Посоветовали — в хорошие руки попадешь. Видал? Свою пользу понял. Правда, об деньгах не заикался. Ждал, что дадут как ученику. А я сказал старшему — все поровну, на троих. Вот когда мой сменщик взвился на дыбы. Паренька не постеснялся. — Как же так, что за глупая доброта? — А что, — говорю, — бывает умная? Как у тебя со мной в прошлый раз! — Так то я, а он же — новичок. Дурацкая твоя политика. — Тем более, — говорю, — первые шаги. Поддержать надо, если ты хоть чуток разбираешься в нашей политике. Вот так… А Бориса вскоре на ответственный участок перевели. Уходя, сказал спасибо. Ну и хорошо — спасибо за спасибо. А бывало и хуже. Все-таки коленвалы эти, точнейшие громадины, особого призвания требуют. Не каждый справится… Прислали как-то одного мужика с ДИП-200, с малого станка. Три месяца учился, не тянет. То у него переходы неточные, то коренные шейки бьет, с индикатором нелады. Никак не мог приспособиться. Вижу, плохо дело, остановил его раз — другой, втолковывал что к чему, опять все то же, маета. Ну, помучились, помучились, не выдержал он, сам догадался, ушел. Без обиды. Еще брата своего младшего Витьку натаскивал. Тот нашей породы, мастак, но больно обидчив. Он думал, я с ним по-родственному, потачку дам. А по-родственному, по-отцовски, как раз наоборот: со своего двойной спрос — за мастерство и за родственность. Это он не сразу понял. Гонял его, беднягу, весь в мыле был. Потом, правда, потянул без всяких скидок. — Тоже спасибо сказал? — Сказал — ну тебя к черту с твоим командирством. Ушел на другой участок и работал там хорошо. Были и такие, что вообще исчезали, отработает годик — и в вуз. Вдруг подумалось не без сочувствия, что Иваныч со своей головой тоже мог бы в вуз, в свое время. Какой бы из него инженер получился! А вот не пошел. Инертность сказалась или материальные обстоятельства? Он как будто даже не понял вопроса. — Да я тридцать лет учусь! Тридцать лет и каждый день… Хотя однажды попробовал. Поступили с одним приятелем в вечерний техникум. Оба ни бельмеса, школа давно забыта, но раз уж взялся, как всегда, стараюсь. Но чувствую — устаю, не могу пополам рваться. И финтить не умею. Он, бывало, все тройки вымаливал, педагогов задабривал, а я понял: или там и тут халтурить, или вернусь к станку. Каждому свое, если, конечно, дело любишь, я — люблю… — Иваныч помолчал, явно волнуясь. — Ты пойми: каждый раз новая задача, новый чертеж, изучи его, прикинь, что и зачем, и обороты учти, и конфигурацию. Как тот артист по телевизору сказал: «Каждый раз выхожу на сцену будто впервые». И у меня так. Думаешь, кумекаешь… Когда-то простыми резцами работал, теперь победит, скорости дикие. Вот и смотришь, что у тебя в чертеже и как резец направить. Чуть промашка — зарежешь вал, а это сорок тыщ рублей, не в кулак высморкаться. Вот и ищешь угол заточки, чтобы тонко брал и удар выдерживал. Однажды хрупнуло, хорошо, успел отключить, так, наверное, в тот миг поседел. Оттого и следишь — глазам больно, ноги гудят. Попрыгаешь с боку на бок, как медведь, разомнешься малость, а глаз не сводишь — там подожми, тут отпусти. А все равно доволен. И если кругом в порядке, чувствуешь себя именинником, сам себя поздравляешь. Веришь, за тридцать лет ни одного случая брака, ни миллиметра отклонения!.. — Он внезапно умолк, должно быть, сраженный непривычным для него словоизвержением, утер вспотевший лоб. — А что с тем приятелем из техникума? — Бог его знает, как-то выполз на шпаргалках, где-то в технологах ходит. Да толку-то с такой науки? Как был дурак, так и остался, только с дипломом. Нет, — вздохнул Иваныч, — не дело это. Каждый должен знать свое место… Слушай, а что бы нам завтра съездить на Коломенку. Выходной же, покупаешься. Он взглянул на меня с такой надеждой, аж смешно стало — видно, в тягость ему были наши непрерывные беседы. Вроде бы и нажима никакого, а сиди, исповедуйся. В то же время понимал, что у меня выходных нет, и потому, смягчаясь, добавил: — Ну хоть до полудня, а? Полный день ему явно был не под силу: при одной мысли о полном дне ему, должно быть, не терпелось бухнуться в прохладу реки. Однако ненадолго его хватило и с Коломенкой…ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Есть люди, которые просто не представляют себе привольного времяпровождения. Свободного, ничем не занятого, кроме чистого отдыха. Надя мне жаловалась: дважды ездили в санаторий, примерно на третий день Коля начинал томиться и под всякими предлогами упрашивал смотаться домой, благо машина своя на приколе возле корпуса, — то ему надо водопровод починить, то довести до дела какую-то «вилку» для окучивания грядок. Но уж если Надя, мол, против, так они эту «вилку» захватят с собой, он ее тут доделает, в санатории, инструмент же в багажнике. А еще крышу покрасить бы, давно облупилась. Представляешь, мамуля, новенькая крыша, идешь домой, глянешь, и душа радуется. Терпел он отдых только ради нее: процедуры она принимала. Но в конце процедур Надя уже не в силах была сдерживать натиск затосковавшего по делу Коленьки, сдавалась, и они, так и не дожив срока, уезжали. Дома их встречала любимая внучка, дочь Оли. Издали вскрикнув: «Деда приехал!» — мчалась к калитке к деду на подхват, и начиналась нормальная жизнь. И уже звонят с завода — новый заказ пришел, посоветоваться бы. И он, наскоро переодевшись, мчался в цех. Это я все потом узнал и увидел. А в тот воскресный день, ничего не подозревая, сел в машину, где уже расположилась Надя со свертками снеди и неизменной банкой кваса. День выдался как на заказ, солнце жарило вовсю, за окном проплывали колосившиеся поля, рощи, сквозные березнячки, и я, томясь в душных «Жигулях», уже предвкушал студеную воду Коломенки. Все это были родные с детства места, где Николай бродил мальчонкой, собирал грибы, а вон по той тропке от села, должно быть, ходил с отцом в колхоз «на помочь». Лицо Николая над рулем было сосредоточено, не выдавая признаков волнения, какое обычно владеет человеком при встрече с родиной… На бережку Надя расположилась со своими закусками. Николай, обстукав носком шины, разделся до плавок, крепкий, по-юношески мускулистый, поджарый. Присел на бережку, на прогрев, обхватил руками колени, глядя в почти неподвижную воду речушки, с вытянутыми на стрежне волокнами водорослей. Вдруг сказал со смешком, удивленно: — Неужто целый день так и просидим? — Ну, Коля, ну, Коля! — Надя стрельнула глазом в мою сторону. — Сам же пригласил! Он виновато глянул на жену: — Извини, сорвалось. Но и отдых наш тоже сорвался. Не то чтобы окружающая природа — зелень, кустарники, лезвисто полыхавшие на солнце, таинственные чащобы на излучинах крутого бережка, сама речка, навевавшая тихую грусть, вдруг потеряли прелесть. Но что-то занозилось внутри, заворошилось этаким червячком. И вспомнилось, что командировка коротка, а работы куча и дома ждут. У хозяев тоже хлопот полон рот: Оля там с мужем прибираются, а Наде надо поспеть с обедом. Чужие и свои заботы перемешались, и когда Надя позвала нас от прохлады реки — «к столу», оба выскочили, как ошпаренные. Поели, еще посидели, еще раз я искупнулся, надо же оправдать дорогу, и стал одеваться. — Ты чего? — спросил Коля, и в голосе его прозвучала плохо скрытая надежда. — Неужто домой? — А ты не хочешь? — Да нет, что ты, я готов! — Эх, — сказала Надя, — несчастные люди, не умеем мы отдыхать. Но сказано это было весьма беспечально, я бы даже сказал, весело. Мчалась наша машина обратно, точно добрый конь, учуявший дом. Где-то уже на окраине, когда показались старые белостенные дома, Надя вдруг тронула меня локтем и умоляюще прошептала: — Семеныч, сделай милость, поговори с Сашей… Саша был Олин муж, пару раз видел его мельком. В батнике и джинсах, ловко облегавших тонкую талию, он казался несколько вялым, инертным рядом с энергичной, темноволосой, сероглазой красавицей Олей, очень похожей на отца: тот же смуглый румянец, решительные черты лица, смягченные первым материнством. Работал он, насколько я понял, бездипломным режиссером общественных зрелищ — штука для меня далекая и малопонятная. Я представлял себе хоры под открытым небом, гимнастические номера и прочие жанры. Но какова во всем этом творческая роль режиссера — представить себе не мог. Да и он на мой вопрос, однажды заданный походя, ответил нечто невразумительное. Я только и узнал от него, что таких клубных работников готовит институт культуры и он дважды пытался поступить, да не вышло — то ли срезался, то ли не прошел по баллам. — Ты понимаешь, — тем временем горячо толковала мне Надя, и в тоне ее слышалось неподдельное расстройство. — Ну что это за профессия для мужика? Пшик! Воздух!.. Еще в театре ясно, ежедневная работа, спектакль, а он черт знает чем занят — мотается за каким-то реквизитом, инвентарем, что-то там в клубе не ладится — с него спрос, а он при чем? И вообще при чем он, при каком деле? Зарплата — гроши, а что дальше будет? Им же жить! Своим домом, семьей. Куда это годится?! — Что же Оля ему не скажет? — Любит… Это означало, что при любви поперек мужу не пойдешь. — А сам-то он что думает? — Нравится ему. — Что именно? — Да он сам, по-моему, не знает. Так, плавает, как цветок в проруби. И живет. А ты бы с ним поговорил, все-таки авторитет. Да, да, они к тебе с большим уважением, и Оля, и он. Поговори, ради бога. Учиться ему надо, образование получить, но какое-нибудь конкретное. Чтобы дело в руках. А мы бы пока помогли, пока силы есть, мы с радостью. — Может, ему и театр дорог. — Может. — Пусть во ВГИК идет. — Пусть. Куда-нибудь да идет… Дома, едва умывшись с дороги, Надя вновь заторопила меня и, видимо, почувствовав мою нерешительность, затвердила нервно, напористо: — Он тебя послушает, обязательно! В сущности, я совсем не знал парня. Как его наставлять? Никакого опыта по этой части у меня, бездетного мужика, не было, но куда было деваться от этого отчаянного, наивной убежденности взгляда. — С чего ты взяла, что послушает? — Ну как же, литератор! Я мысленно поблагодарил весь литературный клан, добившийся такого уважения в народе, и, настойчиво подталкиваемый Надеждой, вышел на крыльцо, осторожно поглядывая влево, в сторону беседки, где в зеленой тени щеголеватый Сашка в своих неизменных джинсах и майке уминал, не дожидаясь обеда, вечернюю окрошку. С крыльца я спрыгнул, точно с берега в холодную воду, и когда, поздоровавшись робко и пересилив себя, с независимым видом уселся напротив Сашки, увидел его мельком брошенный исподлобья взгляд, узкое, казавшееся бледновато-прозрачным в узорчатой тени листьев лицо, мне уже было ни жарко, ни холодно, просто никак, и в голове ни единой мысли. Было боязно, как бы он не разгадал моей деликатной миссии, а то замкнется, слова из него не выжмешь наверняка. — Как дела, — спросил я как можно безразличней, — в Доме культуры? — Нормально. — Ну-ну… И снова пауза, и пустота в голове, нарушаемая чуть слышным звоном комарья. Я точно пробирался по топкому болоту, ища опору. Сашка доел и отодвинул пустую тарелку. — Чем ты занят там?.. Режиссер, что ли? — Ага. Черт бы его побрал. И меня заодно. Почва под ногами стала и вовсе зыбкой. В конце концов, приходилось же сталкиваться с молодежью по долгу корреспондентской службы, и то ли профессиональное любопытство, а может быть, врожденная инфантильность, исключавшая какое бы то ни было менторство, но всегда находился общий язык. Особенно если разговор на равных, а похоже, что так и есть. Он, наверное, не больше моего понимал в режиссуре. В лице его неожиданно проглянул интерес, должно быть, чем-то и я его, в свою очередь, интересовал. До этого нам почти не приходилось разговаривать. — Спектакли ставишь? — Нет, праздники. — Не понял. — Ну, съезжаются хоры, певцы, музыканты — олимпиада, лучших отбираем на областную… Наверное, он все же знал, что делал. И было неловко в роли профана чему-то наставлять его, советовать. К тому же я решительно не брал в толк, к чему сводится режиссура. — Ну и как получается? — Нормально. Он слегка замкнулся. Похоже, я стал надоедать ему, и потому, отважась, открыто шагнул наобум. Что это за режиссура такая, скорее похоже на административную работу! К чему он собственно стремится в жизни, что ему дорого в его работе, без чего не мыслится жизнь? — Дети. — Как? — Детей люблю, ребятишек, девчонок, особенно талантливых. При отборе — сразу видать. В устах современного Сашки с его унылым обличьем это прозвучало несколько неожиданно, я даже слегка растерялся, но тут же снова вскочил на своего конька с призванием и пришпорил его. Что такое любить детей? Это значит быть для них авторитетом, иначе любовь окажется без взаимности. А чему ты их можешь научить? Авторитет — это знание, а ты ведь не собираешься учиться. С тебя довольно возни с праздниками, гуляй ветер, а не профессия. Детей он любит. Это прекрасно — любящий режиссер. Поступай в ГИТИС, что ли, или во ВГИК. И будешь ставить свои спектакли, хоть в детском театре, хоть под открытым небом, раз уж тебе по сердцу большие зрелища. — Я уж пробовал… А когда готовиться-то? — Некогда? В обед, ночью, в электричке — когда хочешь. Если, черт возьми, не ошибся в призвании… — А вы… пошли по призванию? — К-куда? — В литераторы. Я не знал, что ответить… С голодухи я пошел, если говорить честно, сперва в городскую газету, на подхват: с больной матерью на мою стипендию было не прожить. В пединститут же я попал, потому что демобилизованных мужиков брали гуртом, без экзаменов — по довоенному аттестату зрелости. Понятно, всю науку выдуло ветрами войны, но главный предмет — история — захватил меня целиком. Может быть, благодаря доценту Уржуру Эрдниевичу, маленькому, точно обезьянка, калмыку, фанатично преданному древней истории, — на его лекциях не было равнодушных. Я замирал, рассматривая неразгаданные письмена индейцев майя. Мне мерещились затерянные в мексиканских джунглях огромные пирамиды. Я лез по ступеням к жертвеннику под небесами, пытаясь понять, каким образом втаскивали на высоту огромные гранитные блоки, как их, вообще, доставляли, если окрест на много миль не было камня, а нынешняя техника была немыслима. Или она была и исчезла? И почему в ритуальных колодцах оказывались целые сокровища-подношения? Каким богам? Почему исчезла великая культура, откуда взялась ее схожесть на разных континентах, кто гнал людей с родных мест — голод, мор, нашествие? С какими глубинами психики связаны войны, простиравшиеся на целые миры, когда на чужих костях вздымался вершиной захватчик-победитель, а затем с неумолимой закономерностью землетрясений, расшатывавших землю, вздымались новые вершины, погребя под себя прах общественных устройств. Сколько их было, этих устройств, где концы и начала? Зажегшись памятью, забыв о своей воспитательной миссии, я рассказывал обо всем этом Сашке. Он слушал, раскрыв рот, не перебивая. А я уже перескочил к новой истории покорения Америки. Как в свое время мы зачитывались Ястребиным Глазом и Кожаным Чулком, защитником индейцев, этого древнего и гордого народа, с лицемерным участием обреченного на вымирание в современных резервациях. Мир стал тесен, с единой нервной системой — в одном месте тронь, в другом отзовется. Человек и мир как душа и тело, и потому вне исторической правды не существуют, так же как любой твой спектакль о сегодняшнем дне. Ты должен объяснить зрителю каждую человеческую роль со всеми ее истоками — она лишь капля в океане времени. Иначе режиссер невежда. А спектакль — серая плоскость, море без глубины, небо без высоты… — Начали с индейцев, — хмыкнул Сашка, лицо его было серьезно. — А куда зашли. — Вот именно, — ответил я, — потому что искусство, как и жизнь, всегда борьба добра и зла. Меня по-прежнему несло куда-то, как бывало в студенчестве, когда я брел по немыслимым лабиринтам истории, ощущая ее казавшуюся слепой стихийность. В этой слепоте было что-то ужасно оскорбительное для людей, вечно терпящих беду и как будто не знавших иного выхода, как только в драке друг с другом. А нельзя ли основательно повлиять на эту стихийную силу разумом, если только человечество и впрямь стало умней. Ведь оно состоит из отдельных крохотных, в то же время великих существ, обладающих громадным опытом. И сколько надо знать, и как надо трезво мыслить, чтобы уберечь этот живой, вечно изменяющийся и в чем-то прежний мир с его общественным разумом, яростной борьбой, неучтенными уроками, любовью, счастьем и предрассудками. — Может, и так, — сказал Сашка и вздохнул прерывисто, точно ребенок во сне. — Больше умных, скорее найдется общий язык. Это понять можно. Вам-то, наверное, все понятно? — Не знаю. Начинаешь понимать, когда уж помирать пора, — отшутился я невольно, — а молодому, чтобы понять, сколько еще трубить до старости. В том-то и беда. Мне вдруг, как никогда, остро стали ощутимы слова поэта, в котором так удивительно соединялся романтик и трезвый историк, о том, что знание сокращает нам опыт быстротекущей жизни. — Пушкин, — сказал Сашка, — в телерубрике «Очевидное-невероятное». — Вот именно, невероятное. Возможно ли передать собственный житейский опыт? А все-таки надо. Стараться надо. И потому нужны знания. — Ясно, — сказал Сашка, и в голосе его прозвучала странная горечь. — Мне уж четверть века. Много и мало, а ни черта не сделано. Мы замолчали, каждый думал о своем. Я не был уверен, что мои разглагольствования, казалось бы, далекие от Сашкиного бытия, что-то оставят в его душе. Сказал, уже не думая ни о каком конкретном призвании: — Саш, учиться тебе надо. Человеком стать. Культурным человеком, знающим свое место на земле. Я уже не говорю о том, что и семью-то кормить надо. Если, конечно, она тебе дорога, Ольга и Машка. А то, глядишь, пропоешь ты их в сводном хоре. Я и не подозревал, что именно эта тема своего твердого места в жизни со всеми его преимуществами станет предметом нашего очередного разговора с Иванычем, который в этот день так и не состоялся: все же решили дать себе роздых и покрасить крышу — тоже дело полезное… А Сашка… Забегая вперед, должен сказать, что в следующий мой приезд, осенью, Надя встретила меня радостным возгласом: — Ну, Семеныч, помогло твое внушение. Я же говорила… И как славно получилось: поступил Сашка. Здесь! В Москву не надо мотать, маяться в общежитии. Разве это дело для семейного человека… — Заочно, что ли, в театральный? — Не, в педагогический, на истфак!ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Сегодня Иваныч был явно чем-то расстроен, при его сдержанности это было трудно заметить, если бы не жесткие морщинки, досадливо возникавшие у рта. Я спросил, что случилось, он отмахнулся с видом человека, не привыкшего выплескивать на других свои переживания. Но моя дотошность, как всегда, взяла верх, а может, просто решил меня успокоить, потому что ничего такого особенного и впрямь не произошло. Просто шел из магазина с авоськой, а ему на дороге попалось сразу три просителя. — Сразу три? — Да нет, — усмехнулся он, — на разных углах… Одному телефон требуется, другая дочь в музучилище толкает, а там конкурс и всякие строгости и «возможна необъективность»… А может, эта дочка вовсе бездарь, тогда как, в каком я положении? И вообще, при чем тут я и музыка? В огороде бузина… Он-то, конечно, понимал свой общественный вес. Знаменитый токарь, уважаемый в городе человек, со знакомствами, связями — к такому ходатаю нельзя не прислушаться. Но к музыке действительно отношения не имел, если не считать баяна, который иногда брал в руки под настроение. Вот дочка, та музыкантша, и вообще в доме два баяна, рояль, не то что перед войной, балалайка в избе на липовых колышках… И у других то же. Достигай, учись. Нет, с детства приучают к иждивенчеству. — Да, знакомых много, — словно без всякой связи с предыдущим, произнес Иваныч, — а друзей что-то нет, не то что, бывало, в армии. Ну, конечно, у каждого семья, свои заботы, времени в обрез, а все же без друзей. — Что ж, и не пытался завести? — Да как сказать… Один как-то наклюнулся — в прошлом году. Ничего вроде бы человек, инженер. В чем-то я ему помог, уже точно не помню. Пару раз в Москву съездили, в театр, потом вижу — нет его, исчез. Нужды не стало… А эта будущая музыкантша, — так же неожиданно, как ушел, вернулся он к прежней теме, — ну, устроят ее, потом кончит, снова что-то понадобится, и опять вера в протекцию, опять кого-то просить. Ей помогут, она поможет, ты мне, я тебе, деловая дружба, прямо какое-то бедствие. А настоящей, которая жить помогает, нет. Настоящая-то возможна на равных. А откуда равенство, если у некоторых нет собственного достоинства? А откуда быть достоинству, если на земле стоишь как на кочке, ноги жидкие и нет веры в себя. А себя надо сделать собственным трудом. Тогда никакого холуйства: и за себя постоишь, и правду в обиду не дашь. Потому что бояться тебе нечего и некого, у тебя дело в руках. Я с любопытством следил за ходом его замысловатых рассуждений, обретавших железную логику, подсказанную жизнью… Иваныч надолго умолк, подперев кулаком щеку, думал. Потом, словно бы решившись, произнес с усмешкой: — Мне жизнь нелегко далась… Не знаю, как ты, а я невезучим был, честное слово. Ну посуди — рвался на фронт, а меня в колхоз послали: куда тебе, крохе, воевать? А я впрямь был невелик да худ, этакая щепка… Ладно, думаю, пойду в трактористы, а с трактора — на танк, это уж наверняка: военкомат тоже не дурак, пошлет, куда денется. А меня вместо трактора — в мастерскую, на ремонт. Полгода на совесть потел, добился, уважили — дали трактор. Ладно. Стал работать на пару со сменщиком, славная такая тетка, а в технике не тянула. Что-то у нее с магнето стряслось, вызвала меня из дому — помоги. У меня как раз повестка из военкомата. Ладно, думаю, помогу напоследок, память оставлю. Стал заводить, ручка сорвалась и хвать по кисти — кость наружу, открытый перелом. И вот вместо танка — больничная койка. Господи, думаю, там люди воюют, а я на койке нежусь. И сколько мне лежать — месяц, год? Наконец срослось. Вернулся домой, рот до ушей, по пути в военкомате отметился. А брат Валька с подковыркой и говорит: — Чего радуешься, с такой рукой все одно не танкист. — Ну и что, пойду в летное. — А в летное, — говорит, — тем более. — А я перелом скрою. — Не скроешь, там все увидят, они, брат, в очках… Вот разве что к пушке приставят, самой махонькой. Разозлился я, оттрепал его, а на душе гадко, хоть помирай. Тут из госпиталей стали появляться погодки — с орденами. А я все в штатских штанах, токарю на заводе. Завидно дураку, а про тех, что погибли, и мыслей нет. Но уж лучше сдохнуть, чем вот так ходить на глазах у земляков, будто порченый. И вроде бы на тебя уже глядят как-то не так. Одна старушка соседская, та сдуру приободрила. — Повезло, — говорит, — тебе, Коля. Живой, здоровый, может, и вовсе не возьмут, семья большая, ты кормилец, таких, бают, не берут. И действительно, нет повестки, хоть волком вой. Написал заявление, одно, второе, мать подписалась, мол, согласна, чтоб меня скорей взяли, невмоготу ей смотреть на мою тоску. И правда, вызвали ввоенкомат, комиссар посмотрел на меня и давай отчитывать: — Мы тут и так в бумагах зарылись, а ты добавляешь. Думаешь, ты один такой патриот, а другие мышки в норушке. Сиди, жди, надо будет — вызовем. Я говорю: — Большое спасибо, мне куда-нибудь, хоть в пехоту. — А пехота, по-твоему, что — негодящий род войск? Видали, какой барин нашелся. Я сам пехотинец! — Так я же с металлом знаком, с техникой. — И все. Больше слова не вымолвлю, только слезы в глазах. Ведь не хотел обидеть. Только ведь я тракторист, от меня при моих знаниях сколько пользы. Да разве объяснишь. Молчу, носом шмыгаю. А он обернулся к помощнику, пожилой такой дядя во френче, писарь, что ли, и коротко так приказал, как отрезал: — Запиши-ка этого металлиста в железнодорожные войска. В самый раз, и заявка есть. Вот так. И послали под Тулу вкалывать. Ну, мне не впервой, нравится не нравится, а служба есть служба. Так уж был воспитан, поставят — работаю на совесть. А работать пришлось так, что, наверное, воевать и то легче. Правда, рота была дружная… Вдруг спохватился, что-то вспомнив, порылся в папке с вырезками из газет, где были очерки о родном заводе и о нем, токаре-умельце, достал письмо из конверта и подал мне. — Вот почитай. Дружок меня отыскал, через много лет. При свете лампы, вокруг которой вилась мошкара, я прочел листок, исписанный ровным, старательным почерком.«Дорогой Коля! Пишет тебе твой старый друг Лешка Шестов… Работаю инженером в Госснабе, а до этого все годы был слесарем-наладчиком на ткацкой фабрике… А ты, значит, связал свою судьбу с родным Коломенским! Это здорово, Коля. Эх, Коля, это ж надо — сколько лет не виделись, больше тридцати пяти с полковой школы, впору заново знакомиться! Но у меня такое чувство, будто мы не расставались. Вот прочел в газете, что стал ты Героем Труда, и почему-то первое, что вспомнил, — сенокос в подшефном колхозе в те военные дни и как ты учил меня отбивать косу и налаживать ее поотложе, чтобы поболе травы захватить, быстрее кончить, — и по малину. Уже и тогда у тебя была рабочая хватка, трудолюбие, неутомимость…»Взяв у меня письмо, он аккуратно вложил его в конверт, видно, берег, как дорогое свидетельство армейской дружбы, ушедшей юности. Даже взгляд затуманился, вспоминающе уходя в прошлое. — Мастера были мы великие. Надо было и рельсы быстро восстановить и разрушить, если потребуется. Темп бешеный, солнце жарит, рубаха от соли как фанера. А немцы на бреющем нет-нет и пойдут бомбить, да еще с пулеметным дождичком, прямо по головам. Бежать некуда, кругом степь, да и некогда. Пока убежишь да вернешься, полчаса долой, а командир торопит — эшелоны один за другим: на Восток техника в ремонт, на Запад техника в бой. Вагоны с солдатами — фронт пополнения требует, и от нас зависит все обеспечение, от железной дороги. Это мы хорошо понимали. Сам агитатором был, а мне ребята говорят — сократи время на агитацию, сами грамотные, давай к шпалам. А тяжелые крестовины, шпалы на себе тащи, да уложи, да закрепи. И опять же времени в обрез… А рельсы обрезать? Пилой, ножовкой — сто потов сойдет, самая тяжесть. Ладно, говорю, сокращу. У меня уже тогда мыслишка была, я же мастер по металлу. Вспомнил, как когда-то с отцом кумекали. Правда, с железом, а тут сталь. Тем более должно получиться — ломкая штука. Взял кусок рельса, на нужной отметке с одной стороны — насечку, по другой кувалдой — чок, и как ножом — ровный срез. Показал командиру, создали звено на заготовке, веришь, втрое быстрей пошло, даже сам удивился. Меня тогда командиром отделения поставили, потом помкомвзвода, в общем, в рост пошел… Ну, расти-то расту. Война на Запад движется, и мы за ней, и уже к бомбежкам привыкли: чуть что, врассыпную по овражкам. Он еще не скрылся, а мы снова на путях. Но именно в ту пору стал подумывать о будущем. Не век же войне быть, а мне сваи заколачивать. И все чаще мысли о заводе. Отец письма слал из Сибири: мол, домой собираюсь вместе со станками, в Коломну то есть. Но стар уже, прихварываю и думаю, Коля, сменишь меня на большом токарном. Такая моя мечта. Я-то, по правде, и мечтать об этом не мог. Отец — такой мастер, такой ему почет и уважение, и вдруг на тебе — сопляка на его место, на такой станочище! А в башке одно сверлит: неужто смогу?.. Лежу после отбоя, не спится, все коленвал на станке мерещится, мысленно прилаживаюсь, как и что буду делать: за отцом-то наблюдал, и навык был кое-какой. И так прикину, и эдак, сморит сон, а явь и во сне продолжается. Но загадывать боюсь, как бы опять не сглазить. Тем более дело шло к демобилизации. Специалистам путь открыли домой, на заводы, и я уж собрался уезжать, да схватила меня ангина, ну прямо страшенная. Доктор потом говорил — какое-то мудреное название, уж не помню. Словом, вместо завода попал в госпиталь. Как будто мне черт колдовал. Отлежал я месяц, не меньше, перевели в группу выздоравливающих. Ну, я без дела не могу, не тот характер — валяться на койке да по парку бродить. Заглянул раз-другой в подсобную мастерскую, там у них станок старый пылился, наладил станок. Кое-какие поделки по хозяйству выточил, оправки для мединструментов, инвентарь. Помог навести порядок на складе. И вот заходит ко мне однажды зам по тылу, славный такой мужик, спрашивает: — А смог бы ты бричку соорудить, а то я без транспорта как без рук, ни в штаб, ни на склады. Одна машина грузовая… — Смогу. Он даже не поверил. — Сделаешь — проси чего хочешь. Ну прямо как в сказке. Вот, думаю, пофартило. Я ему бричку, а он мне выписку подчистую, и поеду я домой. Война кончилась, чего мне тут небо коптить? Сварганил ему бричку, запряг, сам за кучера и прокатил с ветерком. Вылез он, весь сияет, как красно солнышко. Заходи, говорит, Коля, ко мне вечерком… Зашел. Усадил он меня, на столе у него самовар, печенье. Стали мы чай пить. И вдруг он так торжественно вещает: — Хочу тебя порадовать. Ты ведь взводным был, а без звания. Кучером тебя держать неловко, а вот завскладом назначу и заодно заведующим мастерской, потому как у тебя руки золотые. И завтра же аттестацию подам. На младшего лейтенанта интендантской службы. Я слушаю, ушам не верю, аж в пот бросило. А он по-своему понял, ручкой меня по плечу. — Не спеши, — говорит, — благодарить. Но, думаю, у нас выгорит. И будешь ты интендантом. Парень с головой, перспектива какая — представляешь? — Представляю, — говорю, — лет через двадцать буду завхозом целой армии, а может, и округа. — Вот! То-то и оно! — Нет, — говорю, — Иван Михалыч, не обижайтесь, но у меня свои планы, меня завод ждет. Сам директор письмо прислал. — Это уж я заливаю для пущей важности. — Так что отпустите, ради бога, какой уж из меня хозяйственник. — Как — какой? Я же сам видел — аккуратен, честен, со смекалкой, что еще нужно? — Любовь нужна. А мне этот ваш склад как рыбе зонтик. Сделайте доброе дело, отчислите… Он даже запечалился. Видно, понял, не сладится у нас. Пообещал помочь. Но и я помочь должен, старик завсклада уходит не пенсию, так, будь добр, хоть полгодика поработай. — Я хоть спокоен буду за хозяйство. Это мое последнее слово. Так и терпел полгода, трудился в поте лица, раз уж взялся. Порядок навел, все в ажуре, даже во вкус вошел, но завод все равно по ночам снится, и батькин станок, и я за ним, сам себе хозяин! Расставались с Михалычем, он даже прослезился. — Может, передумаешь? — Нет, решено. — Ну черт с тобой, ты слову хозяин, я тоже. Через месяц прибыл домой. Батя стар и болен тяжело. Язва желудка, не работник уже. Опять, значит, все на мне. А я рад до смерти — завтра на завод пойду. Утром мать меня приодела в отцов костюм праздничный, нафталиновый, касторового сукна. Иду, душа поет. Захожу в отдел кадров, от счастья слова не вымолвлю, аж в горле першит. Но тут моя песенка и кончилась. Иваныч приметно занервничал, рассказывая о давнишнем, что прошло и, казалось бы, уже не должно волновать, но, видно, жила в нем активная неприязнь ко всякой несправедливости. И он продолжал торопливо говорить, как бы стараясь отделаться поскорей от этих вынужденных воспоминаний. А я представил себе сцену в тесном кабинетике, и самого кадровика, молодого, но уже значительного в движениях, и как он сказал отсутствующе, даже не взяв протянутого заявления, словно его подняли спросонку, чтобы узнать который час: «Куда учеником? Мест нет, штаты заполнены, — и еще, поскольку Коля стоял, как вкопанный: — Не смею вас задерживать», — и как неудачник шел домой, будто во сне, земля из-под ног плыла, лишь у калитки пересилил себя, приободрился, нельзя было волновать отца. А тот, выслушав сбивчивую речь сына: «Пока что не взяли, но завтра-послезавтра возьмут», — коротко спросил: — Ты в кадрах был? — В них. — Завтра иди к директору. Секретаршу не спрашивай, а прямо в тамбур, который кнопками обшит, как бронепаровоз. Понял? Прямиком. Коля кивнул и на другое утро в точности исполнил наказ отца. Секретарша ринулась вслед за ним, но только до порога, дальше не решилась. Директор, огромный мужик в генеральской форме, и впрямь был занят, что-то торопливо писал, откладывая в сторону исписанные листки. Колю он как будто даже не заметил, лишь взглянул мельком, или показалось. Тут-то Колю, пережившего бессонную ночь, и взорвало, и вместо веских, обдуманных доводов, он выложил все, что накипело: кто он, откуда и зачем пришел, а пришел он не для того, чтобы кружиться по кабинетам, как собачонка. Это он выкрикнул в запале и еще добавил, что завод ему родной и Дашковы на нем работали, когда некоторых еще и в проекте не было. Директор, так же не глядя, продолжая писать, снял трубку, сказал глуховато: — Что у вас там с Дашковым произошло? Кто болеет? Кто уволился? Это отец, а вы что, даже фамилией не поинтересовались? Впредь советую интересоваться, если вам не надоел ваш кабинет! — Бросил трубку и опять, взглянув исподлобья, обронил: — Ступай в кадры. Завтра с утра — на работу.
На этот раз Иваныч выхлебнул залпом два стакана квасу, один за другим. Все-таки нелегко ему давались такие исповеди, мне даже не по себе стало. Мы долго молчали, дымя сигаретами. Все хорошо, что хорошо кончается. Но Коля словно не расслышал моих слов и лишь погодя ответил, что никто еще не подсчитывал, чего они стоят, хорошие концы. А с ним всякое бывало и потом… — Да, всякое бывало. Не в пустоте живем. — Ты о чем? — Все о том же. Вот говорим: друзья, товарищи, моральный климат. А иной так этот климат испортит, небо с овчинку. Только не мне. Тому, кто себе цену знает, не страшно. Он произнес это с некоторым вызовом и даже обидой, похоже, возвращался к началу нашего разговора о месте человека на земле, о человеческой, духовной прочности. Только я никак не мог взять в толк, что у такого заслуженного, уважаемого человека могли быть неприятности, которые надо преодолевать. Меня прямо-таки разобрало любопытство. Иваныч продолжал усмешливо и как бы нехотя, из уважения лишь к собеседнику, так я думаю. Началось, казалось бы, с пустяка. С просьбы мастера, был такой один мастер, фамилию Иваныч из врожденного такта не назвал, не в фамилии суть, заметил он, а в том, как мы порой понимаем этот самый климат и каким он должен быть, чтобы человеку дышалось легко. Ему, Дашкову, в одно прекрасное время дышать стало трудновато. Он и прежде замечал какое-то ревнивое отношение к себе со стороны мастера. Доброго слова не скажет, а все с кривой шуточкой, с подковыркой. «Сделай, мол, то-то и то-то, давай, Иваныч, ты ж у нас передовик». Или: «Дашков, тебя к трем в партком, звонили. Смотри, не опоздай, ты хоть и персона, а опаздывать нельзя», — хотя отлично знал, что ровно в три никак нельзя, в три смена кончается. Потом, когда я записывал рассказ об этом конфликте, он мне уже не казался таким впечатляющим, каким я его ощущал в непосредственном восприятии от человека, чуть не сказал — пострадавшего. Нет, это слово Иванычу не шло, не приклеивалось, да и только. Как-то утром мастер привычно подкатился бочком к Дашкову — он всегда выныривал как-то неожиданно, точно ерш из омута — и, давая указания, в глаза не смотрел. Лишь подбородок задирал кверху и весь был как на взводе, словно опасался встретить отпор. А какой может быть отпор, если дело у них общее. Так вот, на этот раз вместо указания была обычная просьба, высказанная, как всегда, торопливо, в чуть повышенном тоне. — Поговори, Иваныч, со своим соседом, с этим демобилизованным. Молод, а нос дерет. У нас же горит, сам знаешь, а он уходить собрался. Ультиматум поставил: давай ему срочно квартиру, и баста. Он, видите ли, женился… — А сам что же не поговоришь. Ты — мастер. — Чихал он на меня. Я уж и так и сяк агитировал. А ты у нас заслуженный, тебе и карты в руки. — Ладно, — поморщился Иваныч, — попробую. И пошел после смены уговаривать соседа, хотя настроение было совсем неподходящее, работали в ночную, устал, а с утра звонили из парткома — просили присутствовать на отчетно-выборном в пожарке. Надо успеть подготовиться, не просто же «присутствовать», а в полдень опять на смену. Мастер это не объяснил звонившим, забыл. А вот когда надо токаря уламывать, тут он про Дашкова вспомнил. Так что Дашков, идя к токарю, не столько о нем думал, сколько о мастере, будь он неладен, агитатор липовый. И потому с парнем он не сюсюкал, а сразу взял быка за рога: — Слушай, совесть у тебя есть? Не дали жилье в этот раз, значит, кто-то больше нуждается, у кого ребенок, а ты в амбицию полез — красиво это? Ну давай отнимем у чужих детей — и тебе дадим. Возьмешь? — Вы-то взяли? — Я до сих пор в хибаре живу, сам строил, а тебе не советую. Стройка была такая — забудь легкую жизнь, на своих горбах с женой шлак таскали, балки на крышу. Надорвалась, до сих пор болеет. Не веришь, зайди в гости, она тебе объяснит почем фунт лиха… В парткоме я скажу о тебе, похлопочу, но и ты будь человеком, не припирай к стенке, пользуясь горячкой, нехорошо. Да и не мне тебе объяснять, сам сознательный. На удивление, парень промолчал, лишь кивнул в ответ. Прощаясь, заметил: — Ты бы мастера поучил, как с людьми разговаривать. А то от него один крик, в ушах звенит. На совете ветеранов, где говорили о взаимоотношениях в цехе, о внимательности к молодым, Дашков об этом случае упомянул. А что плохого? Мастера от критики пока не застрахованы. Сказал без задней мысли, думал, как лучше, а обернулось худо. Мастер будто с цепи сорвался: Дашков, мол, слишком много на себя берет, зазнался вконец, все «якает», не пора ли его укоротить. А то получается, все мы ровное место, а он шишка. И пошло, и пошло, как снег на голову. — Все? — тихо спросил Дашков, когда мастер выговорился. — В другой раз придется туго, ко мне не обращайся, сам «якай». — Повернулся и ушел. Тогда мастер и те, кто ему подпевать привык, осудили Дашкова заочно — за гордыню и неуважение к собранию. Пришлось оправдываться перед начальником цеха, объяснять что и почему. Мастеру тоже сделали внушение. Внешне отношения с мастером оставались вежливые, со стороны ничего такого и не заметишь. Но струна натянута, нет-нет и заденешь за нее — фальшивый звук. А время стояло горячее, план напряженный. И так уж получилось, что самую трудоемкую работу мастер подсовывал Дашкову, а что попроще на том же валу — другим. Постой-ка восемь часов согнувшись. Годы уже не те. А напряжение? Сказав это, Иваныч с некоторым смущением взглянул на меня. Может быть, впервые сорвалось с языка что-то похожее на жалобу. Никогда никому не плакался, а тут на тебе — такое откровение. Покашлял и поспешно продолжал, как бы опасаясь моего сочувствия: — Однажды не выдержал, сказал ему: «У меня что, спина оловянная?» А он мне: «Ну, брат, зато и квалификация у тебя, не можем рисковать». Вот и, поди, придерись к нему — он тебя одной рукой погладит, а другой зашибить норовит. «Не я же один, с квалификацией?» «Все работают, все», — пробубнит и пошел дальше, озабоченный. И снова на меня все валится, и опять у нас перепалка. «Давай, давай, Иваныч, не подведи». «Да уж как подвести хорошего человека». «Это ты о ком?» «О тебе. Или неправда?» Так и отделывался шуточками, сцепив зубы. Он меня хитростью давит, а я его работой. Перемалывал по две нормы — кто кого. Хоть смейся, хоть плачь. Но без брака. Никак он меня подловить не мог. А я вот мог на него пожаловаться, да что мараться, не привык я. Если уж вовсе нервы сдавали, на пять минут отключался, брал себя в руки и снова за станок. И ни спасибо от него, ни доброго слова. Чепуха получается. Ведь если ты лучший, тебя и поощрить надо, а не тех, кто так — шаляй-валяй. Ан нет, их, оказывается, поддержать следует, они ведь отстающие. Ну прямо все шиворот-навыворот… И вот удивительно: все успевал и еще выкраивал время для своих подопечных, фезеушников. Принимал у них работу, старался с ребятами помягче быть. Чем хуже самому, тем мягче с ними, понимал, что значит доброе слово, совет… А с утра снова за свой многотонный. Ну ничего, помыкался с ним месяц, потом решил: ты свое гнешь, а я сам себе справедливость установлю. Стал обрабатывать вал целиком от начала до конца: и простую работу, и сложную. Благо, у станка два суппорта — позволяют. Опять у меня норма выше всех. Но однажды утром гляжу — одного суппорта нет. В чем дело? Оказывается, у кого-то разорвало, не уберег, вот у меня и взяли. Мастер приказал. И опять, стало быть, колдуй над радиусами да полируй. Но и тут он прогадал: я и одним суппортом научился делать больше, чем иной двумя. Прибавил скорость, приспособил резцы с новой заточкой и попросил — давай валы на все операции. А он, мастер, только руками разводит — нет пока новых валов, доводи то, что раньше дали. А он их, новые те, оказывается, в других пролетах припрятывал. Ну не гнусь, скажи, пожалуйста, до чего дожил! Пришлось вызвать начальника цеха и показать ему эти художества, только после этого мастер от меня отстал. Слушая Дашкова, я испытывал смешанное чувство зависти и участия к этому человеку, твердому, молчаливо отстаивавшему себя и, может быть, поэтому ставшему мне близким. Со стыдом вспомнилось, как сам, попадая в сходные ситуации, вел себя не всегда лучшим образом. Не желая доказывать, что написал честно и хорошо (сам себя ведь не похвалишь!), вдрызг разругавшись со своим литературным шефом, уходил к чертям с работы на новое место, подальше от вкусовщины, замешанной на личных антипатиях. Тут, в цехе, о вкусах спорить невозможно, тут есть точный ОТК, и сразу видно: деталь в ажуре, не придерешься. Да и не мог он уйти, Дашков, бросить свой второй дом. — А тут еще всякие слухи пошли, шушуканья — с легкой руки мастера этого. Дескать, что это у нас Дашков — флагман бессменный. В горком — Дашкова, в президиуме — опять же он. Знамя заводское на демонстрации носит. Может, пора других выдвигать? Глупые разговоры, я на них ноль внимания. Никуда я сам не рвался, знай, себе работал, на чужое не зарился и своей чести не ронял… Понять не могу, не хватает моего ума. А все же поискать справедливости в парткоме, где его так уважали, мог? Или характер не позволял? Вот то-то и оно… Такой несчастный характер. А может, наоборот, счастливый! — Между прочим, в парткоме, — продолжал Иваныч, — секретарь не раз уж к нему приглядывался, спрашивал: «Что это ты, Иваныч, с лица слинял. Не захворал ли, часом. А то дадим тебе путевку». Дашков только отмахивался, какая там путевка. А что похудел, так худые дольше живут. Тем все и кончалось. Тут, кстати, выбрали его на конференцию, а там делегатом на съезд. Люди подходили, поздравляли. Подбежал и мастер с блокнотом в руках, дернулся в улыбке, спросил насчет задела, что-то пробормотал и заспешил дальше по своим делам. А еще через год Дашков получил звание Героя Социалистического Труда. Известие о награде было для него неожиданным. Он как раз вернулся с делегацией из поездки во Вьетнам. Еще полон был всем увиденным и никак не мог понять, отчего это Надя, встретившая его в аэропорту, все тискает за руку, будто год не видела, а у самой слезы в глазах. Думал, что худое случилось. А оно вон что — Золотая звезда. И она специально примотала в Москву, чтобы от нее первой узнал он эту весть. Жена… Мастер его тоже поздравил. Кинулся навстречу, развевая полы пиджака, хлопал по плечу, что-то выпаливал скороговоркой, ни дать ни взять — первый друг. — Ну вернулся, ну молодец. А мы тут валы заканчиваем. Два — под сборку. Не мог бы выйти завтра, без тебя зарез. Личная моя просьба. Попробуй откажи — Герой ведь. — Я и раньше никогда не отказывался, не за орден работал и в мыслях не держал, а сейчас и подавно. И при чем тут личная просьба? Что я, для себя дело делаю! И не для него, хмырь ты этакий, а для завода. Мы долго еще сидели молча. В тишине донесся издалека гудок теплохода. Подуло влажной прохладой. Вокруг сгустилась тьма, и от этого казалось, лампа горит ярче. И вспомнился почему-то рассказ Иваныча о детстве: и как он запорол болт от сеялки и мучился долго, исправляя брак, и как отец, глядя на его руки в ссадинах, сказал сурово: — Надейся на них, если хочешь твердо стоять на земле.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ
Суд идет! …Суд. Народный суд, Верховный суд. А еще есть суд товарищеский, может быть, прообраз суда будущего, когда наступит золотой век всеобщей сознательности. В жизни своей не сталкивался с судопроизводством, хотя, как всякий грамотный человек, представлял себе это производство, в основе которого лежал твердый свод законов. Но ведь недаром существуют судья и заседатели, чей приговор учитывает и человека, и сложнейшие ситуации с тончайшими оттенками, не всегда четко укладывающимися в жесткие рамки закона. И когда я узнал в цехе, что у них существует товарищеский суд, председателем которого вот уже бессменно десять лет является Дашков, услышал, как один рабочий назвал этот суд судом совести и что «лучше уж быть уволенным, чем попасть на суд Дашкова», не скрою, меня разобрало любопытство. Ничего грозного не ощущалось в этом человеке со спокойным лицом, как бы таящим улыбку. О суде мне стало известно вечером, а поутру я в который раз зашел с Николаем Иванычем в цех поглядеть его работу. Работал он артистично, да и костюм на нем был сегодня как на артисте — строгий, черный, резко контрастирующий с белизной рубашки. Я даже удивился, проводив его до бытовки, — зачем он так вырядился, праздник, что ли, какой, но спрашивать тогда не решился. Да и не до того было — захватил он меня всего своими манипуляциями. До смены еще четверть часа, а у него все уже наготове: инструмент еще раз выверил, все под рукой, каждый винтик на своем месте, с той минуты, как включен мотор, — ни одного лишнего движения… А ведь это очень непросто закрепить многотонное тело коленвала, учитывая норов станка, да так, чтобы на всех выемках, шейках был одинаковый припуск. Точность идеальная. Начиналась она с миллиметра на шлифовке, а на доводке шли уже десятые, сотые доли миллиметра. Так, не спуская глаз, кажется, чувствовал он каждым нервом этот станочище, чтобы не дробил, не грелся и вместе с тем «не гулял» в люнетах. Он выбирал уголки между щечкой и шейкой до микронной точности, снимал последние сотки на полировке! Шкуркой, в зажиме. А какой шкуркой, да сколько раз прогнать ее, чтобы лишний раз не замеривать, не тянуться к микрометру, экономя секунды! Тут было особое чутье, объяснить которое не берусь. Замирая, смотрел я на его руки и все боялся, вдруг что случится: самоход отключится — и от резца на металле останется риска. Брак! Как же это надо приспособиться, ворочая рукоятками суппорта день-деньской, какую ловкость надо иметь, какое терпение! Да, с этим станком надо быть на «Вы», иначе нельзя. И завтра будет то же самое, и послезавтра, как было вчера, год назад, всегда. Сам же мне говорил — тридцать пять лет без брака, без единого замечания… Пора было идти к Кисленко, вместе с ним посмотреть АСУ. — До вечера, Иваныч. — Ага, увидимся. И лишь часов в семь, на всякий случай заглянув в цех и уже не надеясь застать его — смена давно кончилась, — я увидел расходившуюся с шумом, разговорами толпу, Иваныча у окна и какого-то встрепанного парня, порывисто жавшего ему руку. Оказалось — кончилось заседание суда. — Что ты мне раньше ни словом не обмолвился? — А чего хвалиться, одно расстройство — эти суды. Мы шли по территории, меж цехов, утопавших в зелени аллей, так что и не заметишь сразу, что перед тобой цех. Сказывалась любовь людей к родному заводу. Вспомнилось: однажды загоревшийся Дашков, рассказывая о своем цехе, назвал его вторым домом и что он идет на работу с радостным чувством, хотя работа, как известно, у него не из легких. Слова о втором доме еще долго звучали во мне, как некое откровение, в котором в то же время чудился упрек, презрение ко всякого рода разгильдяйству… Можно было представить себе бракодела, прогульщика на суде совести, как ему нестерпимо смотреть в глаза такому человеку, как Дашков. — Ну, — сказал я, когда мы были уже дома и обосновались в беседке за стаканом чая. — Досталось сегодня бракоделу? Иваныч только поморщился, а Надя головой покачала, назвав чью-то фамилию — видно, того, над кем суд был. — Опять ты весь на нервах… Ну и что ему вынесли? Редко я встречал женщину, которая настолько была бы в курсе мужниных дел и так переживала вместе с ним каждую мелочь — до влаги в глазах. И конечно, она следила за режимом дня. Уже одно ее присутствие как бы говорило ему — пора на отдых, можно и пропустить вечерок. Он же просяще, с шутливым смешком, склонил голову: — А что бы нам, мамуля, не посидеть, подышать на воле? Это ж полезно. — Ох, не узнаю я его, Семеныч, — ревниво ответила она. — Молчун же, слова не выбьешь, а с тобой вот на-ко, разговорил ты его. К добру ли? Она ушла, а я снова спросил о парне, прощавшемся с ним у окна. Иваныч только вздохнул. — Нет, сегодня не бракодел. Того хуже — воришка. Вот уж чего не пойму, не укладывается в голове. Постановили — уволить. Он пытливо посмотрел на меня, может быть, сомневался в своей правоте, пробовал на мне. И рассказал о парне, не называя фамилии. Зачем? В общем-то парень — работяга. И потом, если уж ничего не понял на суде, то от того, что его фамилия промелькнет в моих записях, вряд ли поймет. Человек этот стащил из кладовой пачку рукавиц. То ли они ему и впрямь понадобились (но зачем так много?), то ли в кладовке не оказалось инструмента, на который зарился, — взял что под руку… Тяжелый замок еще качался на дужке, когда кто-то из ночной смены, заметив это, а заодно удалявшуюся спину парня, сопоставил… Дернул замок — открыт, только дужка задвинута. Подняли шум, вызвали милицию, составили акт. Кража вроде бы пустяковая, и передали пока дело в товарищеский суд — решайте сами. Он стоял перед судом, высокий, чернявый, с побледневшим лицом, и молчал как каменный. Он и в милиции все отрицал, и тут отказывался напрочь — не брал, и все. И пойди докажи — не пойман, не вор. Но Дашков был непреклонен. Сумел напакостить, умей ответ держать. Прости ему сейчас, он снова за свое возьмется: где гарантия, если совесть молчит? Дашков говорил с ним до суда и не сомневался, что парень виноват, да и всем было ясно. Если человек прав — это всегда видно. Да разве потерпел бы он такие обвинения — разметал бы все вокруг! А этот… Дашков смотрел в чужое перепуганное лицо с каким-то даже удивлением, ошарашенный внезапно пришедшей до нелепости дикой мыслью: мог бы он сам вот так же стоять перед товарищами, обвиняемый в воровстве? И столько презрения и гадливости было в его взгляде, что парень не выдержал — отвернулся, — понял что-то? А вот Дашков понять не мог. Сознательно, спокойно красть в родном цеху, лишить своего брата рабочего спецодежды?! В ушах еще звучали предложения помощников: «Продраить в стенгазете», «Вычесть из зарплаты», «Строгача с предупреждением…» — Ну а я ему сказал так, — произнес Иваныч и стал закуривать, ломая спички. — Ты не варежки украл, ты уважение товарищей слямзил. Как жить будешь с ними под одной крышей? Ты об этом подумал или тебе время дать на размышление, чтобы ты на досуге с невестой посоветовался? — А у него невеста? — То-то и оно. Хорошая деваха, без ума от него… Вот, говорю, и посоветуйся с ней, объясни ей что к чему: ты, мол, на меня, красавчика, молишься, а я друзьям в карман залез, втихаря. На билеты в кино заработал. Ты не скажешь — я скажу! Иваныч умолк и снова прикурил от окурка. — А дальше что? — Ничего. Его аж шатнуло, забормотал, словами давится: «Подам на расчет, сам уйду, только отстаньте!» — «Уходи, говорю, чтоб и духа твоего не было. Трус!..» Иваныч жадно затянулся раз-другой, точно ждал от меня какого-то слова: не слишком ли круто взял. Кое-кто уже бросал ему такой упрек. Но он остался при своем. Ни черта ж этот фрукт не понял. И потом у окна руку жал: я на вас не в обиде, только мусор из избы не тащите, будьте людьми. Представляешь, он на меня не в обиде! Да еще зыркнул волчонком, будто я перед ним виноват. — А что, если он и впрямь так думал. Может, стоило предварить суд разговором по душам? Иваныч только крякнул в ответ. Гнев Дашкова был понятен. Но и в то, что работящий парень неисправим, как-то не хотелось верить, вопреки факту… Эта его окаменелость, запоздалый стыд, вразрез с привычной логикой, вызвавший в нем ожесточенность, злость на вся и всех. И не мог ли быть его проступок просто озорством, которому парень по легкомыслию не придал особого значения, и лишь когда все всплыло, обернулось своим истинным лицом, которое он прежде и не пробовал разглядеть, когда он представил, как это будет выглядеть в глазах любимой девчонки, не только из цеха, впору из города сбежать. Почему-то пришла на ум схожая по реакции ситуация. Правда, не с воровством рукавиц, а с покушением на нашу студенческую нравственность. Наверное, мы себя тоже считали обворованными тогда, в те давние приснопамятные времена неиссякаемых персональных дел, юные максималисты, вызвавшие «на ковер» девчонку, изменившую одному из наших товарищей. До сих пор она перед глазами — хрупкая, с бледным, без кровинки лицом, почему-то обязанная признаваться во всеуслышание в своих грехах, которые, возможно, и вызваны были одним лишь легковерием. А мы требовали «подробностей», искренне уверенные в своей коллективной правоте, вот она и замкнулась. А потом ушла из института, и никто не поинтересовался — куда. Даже после того, как нам всыпали за излишнее усердие в райкоме комсомола. Много позже пришло сознание. Много позже, когда мы повзрослели, обзаведясь житейским опытом. У Иваныча этот опыт был, не зря он сейчас не в своей тарелке. — И часты у вас такие случаи? — спросил я, стараясь увести его от больной темы. — Нет… И не упомню ничего подобного… Кто-то с кем-то подрался или прогул — это бывало. И в каждом отдельном случае очень тщательно все взвешиваем. Мы что, не понимаем, всякое в жизни случается, тоже люди. Он словно бы оправдывался перед самим собой, занятый своими сомнениями, и как бы взглядывая со стороны на свою судейскую деятельность. — Вот недавно с одной женщиной приключилось… Попросила отпуск на два дня, родню встретить, много лет не виделись. Два дня, а третий — прогул. На четвертый день за ней послали. В чем дело? Думали, она выпивши, — нет, сидит, как стеклышко, и плачет. Ну пришла, стали разбирать. Прогул-то действительно с похмелья, а вот на следующий день ей стало стыдно за прогул, она побоялась на глаза людям показаться. И такое бывает… Но пока мы поняли, что к чему, а ведь можно было сгоряча ей влепить… — А все-таки почему этот парень сказал, что не в обиде? Как думаешь? Иваныч промолчал и стал закуривать третью. — Побереги здоровье, а то мамуле скажу. — Ни-ни, зачем расстраивать? Сам-то он был расстроен, да еще как, честный человек, превыше всего ставивший добрую совесть, как высшее качество души, — потому-то имел право судить других, и они, как правило, не таили обиды. Он откашлялся, ссыпая окурки в кулечек, и, уже поднимаясь, как бы про себя произнес: — Поговорю-ка я с этим шалопаем завтра еще разок…ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Уже не раз удивлялся и в этот, последний день пребывания в гостях не без зависти подумал о том, как дружно живут Дашковы. По старой пословице: куда иголка, туда и нитка. Причем не всегда поймешь, где иголка, а где нитка. Долгая семейная жизнь научила их понимать друг друга с полуслова, а порой, мне кажется, и без слов, так, будто они мыслят одинаково. Удивительно даже по нынешним временам. Или, может быть, мне просто не везло со знакомыми семьями, когда уже боишься верить в возможность постоянства. И если вопреки всему все-таки веришь, — без надежды нельзя, — натыкаешься на чью-то скептическую усмешку, колкий взгляд. — Ты в каком веке живешь? — Да при чем тут век? Во все века были любовь и легковерие, расчет и искренность, фальшь и верность. — Идеалист! Внутри поднималась буря — не продохнешь. — Не идеализм, а жажда цельности и красоты. Во всем. — Все проходит, старик, жизнь есть жизнь. — Нет, не все, есть примеры долгой и счастливой взаимности. И начинаешь взахлеб доказывать, и вот уже в зачерствевшей душе оппонента мелькнет сомнение и надежда. И сам все сильней веруешь в свою убежденность, в то, что все еще возможно. И для тебя самого, хотя сколько их было, возможностей, а ни одной осуществленной. А вот у Иваныча — осуществилось. И чем это объяснить — культурой ли чувств, тонкой ли борьбой двух достоинств, сумевших уступчиво и вместе с тем бескомпромиссно, не заходя за черту, сохранить себя в себе и в близкой душе, как некую непостижимую индивидуальность, к которой тянешься, пытаясь разгадать. А разгадки нет, и в этом твое счастье. Иногда просто смиряешься с мыслью — везение, судьба. Вот бы и тебе такую! Почему приходит чувство, и почему уходит, и как его сохранить? Никто не скажет, никто не знает, и вот ищешь в чужом саду цветок волшебный. И смотришь на соседа с уважением и завистью — как он его вырастил? А ему, может, и самому невдомек. Так получилось… С чего началось у Иваныча. Я уже не раз и так, и этак подкатывался, все хотел узнать, где они нашли друг друга, такие верные, любящие. Он вначале просто не понимал, чего я от него хочу. Однажды сказал без околичностей: — Где нашел? Да там же, в госпитале. Я ведь тоже ничего собой парень был, и если уж кому понравился, всегда чувствуешь. А тут, помню, танцы были. Потанцевали, откланялись. Ничего не почувствовал в праздничек. Месяц прошел и другой, встретимся в коридоре госпиталя — здрасте до свиданья. Улыбнешься, и мимо. И не понять ей, что вишу на волоске впервые, нет в себе никакой уверенности и в открытую поговорить страшно — вдруг оборвется. Лучше уж не знать. А склад мой, склад-мастерская, где я сам себе и хозяин и мастер, как раз напротив того окна, в операционной, где она сестрой работала. Бывало, уткнешься в стекло и ждешь: вдруг возникнет? Днем и утыкаться стеснялся, как бы не заметила. Из глубины, из сумрака следишь, а как зажжется свет у них, тотчас к окну прилипну. Вижу силуэт, как в том театре, где одни тени, постою, покурю, выучу наизусть, что скажу ей завтра при встрече — в открытую, будь что будет. А на завтра опять: — Здрасте, Надя. — Здрасте, Коля. И каждый своим путем. Мне уж пора к начальству идти за обещанным увольнением. А я все тяну. А он и рад, наверное. Да и как уезжать, не сказав ни слова. Вот скажу — и камень с души. И уеду… А по ночам всякая муть в голове, изведусь в мыслях, утром полегче, утро, оно как похмелье, все ясно, просто и никаких надежд. Станешь за верстак, забудешься вроде бы, а оно внутри только притаилось, нет-нет и наткнешься, как на иглу. И пошло ныть. Ну прямо болезнь какая-то. Вот однажды задержалась она после операции. Долго там свет горел, и как замелькали тени в левом углу, у рукомойника, понял — домой собралась. Выбежал, сердце птичкой, вот-вот выскочит. А потом как увидел ее в воротах, все затихло, себя не чувствую, и сердце замерло — сдохла птичка. Иду навстречу. Потом вдруг повернул назад, будто что вспомнил, и снова наискось — ее же дорогой, что к поселку, только чуть впереди. Оглянулся, удивился, словно случайно встретились. — А, здрасте. — Здравствуйте, Коля. Второй раз здороваетесь. — Правда? Совсем забыл, — а у самого ноги как гири и язык заплетается: ляпнул насчет того, что готов бы и двадцать раз… Затихла, будто стеной отгородилась, прибавила шагу. Я иду ни жив ни мертв. — Вы далеко? — спрашивает. — Да вот, в поселок… — А что за нужда? А черт его знает, что за нужда. Жил там госпитальный сторож, у него абразивы были, с довойны завалялись, давно он предлагал — забери, Иваныч, может, тебе в работе сгодится. Ну я и сказал — к сторожу, мол, за делом. Пошли медленнее. Она и говорит: — А сторож-то на посту, нет его дома, вы что, не знали? — Знал. — И, словно меня защекотали, рассмеялся, аж согнуло меня, она тоже вроде улыбнулась, а мне еще смешней. Нервы сдали. И откуда смелость взялась. Придумал, говорю, сторожа, так пройтись захотелось, вас проводить, а то ведь темно. И легонько тронул ее за локоть. Но чувствую — ушел локоток. Вежливо, но твердо. Я опять как в провал лечу. — Зря вы это, с проводами, я не из пугливых. И взяло меня зло, а, думаю, пропадай голова. — Что ж, — говорю, — вас и проводить нельзя? Что вы за царевна такая? К вам же из добрых чувств, а вы отталкиваете. Могу и уйти. Пожалуйста, не навязываюсь. Она даже остановилась, в глазах испуг. Потом-то я понял. Она ведь не знала, что со мной творится, а я — на тебе, встретил, да еще с попреками, будто ушат на голову. — О чем это вы? — Да так, простите. — Вы трезвый, Коля? — Я вообще не пьющий. Еще раз извините, наболтал я тут… Ну просто захотелось повидаться, живая ж душа. А я вас и пальцем не коснусь. — Странный вы какой-то. — Я и сам это понял. Проводил, попрощались. Я еще спросил, можно ли ее хоть иногда провожать. Замялась. Можно, конечно, а зачем — лишние разговоры. Господи, думаю, другие только встренут друг друга, и пошел крутеж, а тут рядом пройтись заказано — разговоры, сплетни. И объяснить ей ничего нельзя, не поймет, уж это я понял. Бесполезное дело. — Что ж вы, — говорю, — в дружбу не верите? Совсем? — Она переминается, молчит, а я чувствую — еще минута, выложу себя наизнанку, и все, капут тебе, Коленька, уйдешь в отставку не солоно хлебавши. Гордость взыграла. — Ну, — спрашиваю, — чего молчите? Она только плечами пожала. — А что я, петь должна? С какой радости? Ну и заноза, ну и вляпался я, и главное, нет мне пути назад, должен же я ей сказать, что у меня на душе… А дальше что? Даже если отзовется она, снизойдет, зачем мне жалость? Как мне с таким характером жить, по какой дорожке идти? Рядом не устоишь, хоть по кювету топай да гляди на нее снизу вверх. То ли поняла она что-то, то ли просто испуг прошел, смягчилась, кивнула с улыбкой: — Мне уж тут недалеко. Спокойной ночи, Коля, спасибо вам. — И вам спасибо, большое. — Мне-то за что? — Сам не знаю. Она так внимательно посмотрела на меня из-под платочка, помахала у глаз растопыренной ручкой, а что это означало, бог весть — то ли встретимся, то ли не падай духом, найдешь себе еще провожалочку. И зацокала по мостовой каблучками. Назад я шел как-то неровно. То во мне надежда вспархивала, и я будто летел, то брел, как неприкаянный. Вот ведь штука какая. Никогда со мной такого не было. У других было, слушал, не верил, а тут и сам влип. …Дня два я ее не видел. Уезжал за продуктами в армию. И рад был, что отвлекся, а вернулся, опять меня скрутило И один свет в окошке, что ее тень напротив. Провожать уже не ходил. А так — выйду, и стою, и провожаю ее взглядом, точно собака хозяина. Иногда кивнет, или мне покажется, и сам в ответ кивну… Короче, не знаю, чем бы эта маета кончилась, если бы вдруг не заболела она. В привычный час вижу — нет ее. Простоял под дождем, на ветру — нет. Кинулся в госпиталь, в операционную, закрыто. Нянька говорит, не было ее, слегла, тяжелый грипп… Вернулся в свой угол, места не нахожу. Запустил станочек, ничего не могу, все из рук валится. Чаю согрел. Сел за стол, очнулся — чай холодный. Вышел на волю, и точно меня ветром подхватило, за пять минут прилетел к дому, где она комнату снимала. Зашел, хозяйка от печи на меня выпятилась. Я говорю — к Наде, и, не ожидая приглашения, шинель на крючок — вешаю, да никак попасть не могу. — Вы что, доктор? — Да, — говорю, — терапевт. Где больная? Вошел в комнату. Надя в постели. Увидев меня, даже вскрикнула, одеяло до глаз, голову рукой прикрыла: «Вы что? Вы зачем?» Я что-то бормочу невпопад, от такой встречи сам напуганный. — Вот… проведать. — Уходите, слышите, уходите! Что вы смотрите? Я представил себе молодого парня, застывшего на пороге, глаза в сторону, ее с округленными от страха глазами, повторяющую как заклинание срывавшимся голосом одно и то же, будто он силком ворвался в квартиру среди ночи. — Да что я вас, съем?! — О господи. Я же не причесана, вид у меня. Уходи-и… Мне аж жарко стало, — продолжал Иваныч. — Обида и радость — откуда взялись? И жалость к ней, больной, которую не объяснишь. И подойти нельзя, сделал шаг, она опять в крик, в слезы. Отступил, отвернулся к стене и говорю: — Меня доктор послал, узнать. Чувствую, в себя приходит, молчит. — Да с чего бы это тебя? — И лекарства сказал — захвати, а я забыл, сам себя не помнил. Из-за твоей болезни. Сейчас вернусь, принесу, а ты пока причешись. Если это так важно. Она притихла, оттаяла. А я, так и не глянув на нее, ушел. И с этого вечера всю неделю, пока болела, ходил к ней, вернее, ездил. Исправил старый велосипед, что валялся в рухляди на складе, и на нем добирался к Наде очень быстро. Таскал ей что мог от своего пайка и лекарства. Лекарства брал не сразу все, что она заказывала. А чего-то не добирал «по забывчивости», чтобы лишний разок съездить и повидаться с ней. При мне она их не пила, лежала закутавшись, а я сидел в головах поодаль, у окна, и, не видя ее, рассказывал о том о сем, о себе, о своем детстве и о том, что вот скоро демобилизуюсь и махну на завод. Кое-что умею, а подучусь — стану большим мастером, способность в себе чувствую. Рабочий, если он мастер, дай бог живет, получше иного специалиста. — А учиться нет мысли? — спросила она как-то. — Надо будет, пойду. Я готов был пообещать ей все, что угодно, хоть луну в горсти, только бы себя показать и ее с места сдвинуть, поворотить в свою сторону. Но она была задумчива, только изредка обронит словцо — другое. Однажды спросила,почему бы мне не аттестоваться в офицеры. — Да не моя это работа — с барахлом возиться! Я рабочий человек. Она смолчала, не ответила, а мне что-то тошно стало, посидел немного, поднялся, уже в дверях сказал: — Надь. — Ну? — В общем, решай. — Что решать-то? — Сама знаешь. Нужна ты мне. — Так уж и нужна, — засмеялась чего-то, — мало женщин на свете. — Совсем нет, — говорю, — одна ты. Я вот поеду, устроюсь и за тобой вернусь. Все! И не стал ждать ответа, ушел. И чем дальше уезжал от знакомого дома, накручивая педали, тем слабее становилась моя уверенность, что все будет ладно, ниточка растягивалась, истончалась, вот-вот лопнет, все оборвется. Так уж бывало не раз — ухожу как на крыльях, а к ночи один в своей боковушке, при складе, такая пустота навалится. …Слушал я Иваныча и видел все с такой ощутимой ясностью, будто сам был на его месте. Что-то похожее и со мной бывало. Не так уж разнообразна жизнь, как кажется… Что-то Иванычу расхотелось продолжать, устал от разговоров, и я, с трудом, выцарапывая у него по словцу, сложил дальнейший рассказ… …Москва, коротенькая пересадка на Казанском, и за окном уже знакомое Подмосковье. Разноцветные дачки, красные крыши в просвете березняков, сосны на песчаных осыпях, синие излучины рек в розоватом мареве заката. Что было впереди? А было то, что было, — поступление на завод учеником, скромный достаток в семье после сытой госпитальной жизни, больной отец и грустные глаза постаревшей матери. Он послал Наде одно письмо, другое, сам уже не веря в то, что делает правильно, — ведь гол как сокол, заработки пока с гулькин нос. Вызывал ее к себе. С какой-нибудь другой, может, и не подумал бы стесняться, а вот с Надей… Одна мысль о ней ложилась такой ответственностью — ждал ее и боялся, чем же все кончится, удержит ли он ее, ученик-переросток. Нужен он ей такой? А какой ей нужен? С милым рай и в шалаше, да? Это он сам себя убеждал, на себя злился и на нее, в голове путаница, а в душе и того хуже. Он вгрызался в работу упорно, не жалея себя. На время забывался, и тогда она казалась далекой, как сон, и кажется, уже начала растворяться во времени, если бы не письма, которыми он ее воскрешал, письма без ответа. Потом пришло письмо от какой-то медсестры, в котором сообщалось, что Надя сразу после него уехала к сестре в Сталинград и там работает, кажется, в госпитале. Адреса пока нет, потому и письма его возвращает, не слать же их неизвестно куда. Она-то его адрес знала, здесь жила ее вторая сестра. Могла бы написать с передачей, да, видно, гордость мешала. Так прошло лето и осень, на душе стало потише, поспокойнее. Жил как живут все. Работал уже самостоятельно, чувствуя себя человеком. Радовался собственной смекалке, уменью токарному — коленвал не каждому поручат, ему доверили, в течение года поднял свою квалификацию до седьмого разряда. Вещь невиданная, редкая даже среди цеховых умельцев. Выходил после смены дыша всей грудью, ощущая чистый морозец, и бывало хорошо, легко, лишь где-то в глубине души, точно под первой корочкой льда, тепло мутилась горечь, да по ночам порой находило… Такая тоска, хоть на луну вой. В январе взял отпуск. Вчера еще, беря получку, ни о чем вроде бы не думал. А утром как иглой в сердце — поеду к ней! И поехал. И пока добирался, было море по колено, подъем в душе рисковый, а как прибыл, отыскал, наконец, госпиталь и присели они с ней, с Надей, в коридорчике, в уголке на диване, будто малознакомые люди для короткой деловой беседы, — он сгорбившийся, насупленно подозрительный, она вся натянутая, оторванная на минуту от дела и потому, должно быть, присевшая на самый краешек, — затрепыхалось внутри будто воробей в силках. А тут еще мимо засновали какие-то офицеры в новых мундирах, видимо с выпиской, и он впервые почувствовал себя маленьким и жалким в своем крашеном, перешитом из солдатской шинели пальтишке, тупо ощущая отчужденность и любопытство этих пробегавших щеголей в погонах, стайки сестер, шушукавшихся возле хирургической с оглядкой в их сторону, — и такое в голову полезло, взвинтив до невозможности, что уже и не помнил себя в горячем, душном запале. И что-то стал выговаривать ей второпях, злое, обидчивое, пополам с похвальбой о своих заводских успехах. Задетая за живое, она тоже что-то говорила вразрез, пытаясь его урезонить, а под конец, когда он обронил в отчаянии: «Уйду, возврата нет», — и вовсе замкнулась. Все как в тумане, закрутился клубочек, концов не найдешь, каждый прав, каждому ясно — разрыв! И только одного было не понять им в своей гордыне, что именно такая карусель и происходит у влюбленных. Равнодушные, те спокойны. — Ну, поднялся уходить. Этак рывком, — улыбнулся Иваныч своим воспоминаниям, — впору крикнуть, как тому бедняге из спектакля: «Карету мне, карету…» Словом, уехал. А через полгода, если не соврать, как раз выходной был, и мы с батей обсуждали, как мне строиться, — участок дали в городе, на окраине, думать, мол, надо и о своей семье, в конце концов. За неделю до этого прослышал: Надя к сестре приезжает… И вот стук в дверь, сестрина дочка: — Заходи, Николай, в гости. — Ну вот, — сказал отец, — а ты строиться не желаешь. Теперь-то полегче, в четыре руки… Не помню, как примчался к сестре ее, как с порога кинулся к Наде…Беседуя, мы и не заметили, как подошла Надя, только сейчас увидели ее, облокотившуюся о перила беседки, строгую, с укоризненным взглядом… — Ну что ты мелешь? — сказала. — Сам же ты мне письмо прислал — приезжай. — Правда? — смущенно отозвался Иваныч. — Запамятовал. — Да ты что? — Хотя да, может быть. Ну конечно! — А как ты вел себя в госпитале? Примчался, без предупреждения. Как барин какой в усадьбу к себе. И подавай ему торжественную встречу… Иваныч морщился, виновато кивал. Мол, да, конечно, виноват, только не расстраивайся, мамуля. А мне, гостю, и смешно было, и радостно от этой их перебранки, от воспоминаний, таких живых, острых, что и поныне заставляют обоих переживать, нервничать, выяснять отношения, будто все произошло у них лишь вчера. Счастливые люди…
ОТЕЦ ПОЛКА
Отборные части немцев так и застряли на старых рубежах, и не было уже яростных атак, когда, прорываясь к Мурманску, воздушные стервятники жгли дома, гонялись за прохожими. Выдохлись. А нам, судя по всему, скоро наступать. Выстояли, выдержали, теперь — пойдем… Замполит Проняков задул коптилку, в окне спального блиндажа тускло брезжил северный рассвет. Командира полка все еще не было, задержался в главном штабе морской авиации — значит, будет полку задание. Проняков нащупал на тумбочке тетрадь — «спутницу комиссара», как ее шутливо называли в полку, черкнул карандашом, что надо сделать завтра. Первое — открытое партсобрание, тема — требовательность и личный пример. Личный… Вот беда: после контузии он стал нелетающим комиссаром, порой начинала дрожать правая рука. Но летать-то он мог бы, наверное, не хуже других. Был бы жив Сафонов — похлопотал. С ним считались. Они с Сафоновым понимали друг друга с полуслова, и ничего не было ценнее их дружбы. С новым комполка Петром Георгиевичем Сгибневым тоже вроде бы шло на лад. Вступая в должность, тот спросил замполита: — Вас, Филипп Петрович, не смущает разница в годах? — И слегка нахмурился для солидности. Ему стукнуло двадцать два, Пронякову — тридцать два. Конечно, комполка — талантливый боец, хотя порой излишне скор в решениях. — Где ж я вам возьму молодого комиссара? — А я вам Сафонова? — Шутка была занозистой, но замполит лишь кивнул серьезно. — Каждый из нас должен быть достоин этого имени. И еще комполка спросил, правда ли, что летчики и даже сам командир образцового звена старший лейтенант Бокий вызывали на дуэль аса, якобы сбившего Сафонова. И комиссар ответил не сразу, поморщась и сдвинув брови. Он не терпел этого словосочетания — «сбит Сафонов». Звучало противоестественно. Сафонов летал на английских «киттихауках», которые прозвали «безмоторной авиацией», потому что у них вечно заклинивало двигатель. В последнем бою над морем, когда мотор вдруг стал сдавать, он угрохал на нем трех «мессеров». Последним словом по радио было — «мотор», что означало — иду на вынужденную. Ходили слухи, что его неуправляемую машину подловил на мушку этот ас с драконами на фюзеляже. Он и прежде досаждал нашим летчикам, нападая из засады под прикрытием звена. Барин со свитой! Как бы то ни было, они искали с ним встречи, не раз бросая на аэродром врага вымпел с вызовом. Надо же, рыцари. Он, Проняков, продраил их как следует. Додуматься — вызывать на дуэль эту помесь лисицы с волком. Он прилетит со свитой, и все навалятся на одного. А в полку каждый человек на счету, разве можно так рисковать?.. — Правда, — ответил он Сгибневу, — отчаянные головы. Только, знаешь, кроме романтических порывов, существует еще воинская дисциплина. Пусть ищут его в небе и бьют без предупреждения. — Тоже верно. …Шелестнула у порога плащ-накидка. Сгибнев вошел тихо, стараясь не потревожить комиссара. К чему затевать разговор, командиру нужен отдых. Но любопытство взяло верх — комиссар шевельнулся на скрипнувшей койке. — Не спишь, отец? — он называл комиссара, как все в полку, только не за глаза, а впрямую. — Завтра распишем занятия. Четко. И возьмемся за дело. Особенное внимание — мастерству и взаимосвязи. Ага, значит, он не ошибся, чья-то чуткая рука сверху тоже прощупывала ритм полковой жизни. Да не чья-то — начальника политуправления Торика наверняка. Генерал был душой морской авиации. Добрая душа — в жесткой оболочке, сразу не разглядишь. И все-таки он позвонит ему с утра. Непременно… Так или этак — выскажется, не до конца же войны быть ему прикованным к земле, а там будь что будет! Совесть замучила. — По предварительным сведениям, на подходе караван, — произнес Сгибнев. — По моим расчетам, где-то за полдень надо ждать. Думаю, пошлем вторую, дополним новичками. А то ведь немцы случая не упустят, не дураки… Второй эскадрильей командовал капитан Покровский, сочетавший в себе личную храбрость и умение руководить боем в сложных ситуациях. А легкой тут не жди. Если караван союзников большой, немцы на самолеты не поскупятся. — С новичками погодить бы. Налета маловато. Сгибнев улыбнулся в темноте, комиссар понял это по голосу: — Меня, знаешь, как батя плавать учил. Кинет на середку, и выгребай, как щенок. Выгребал, куда денешься. В первый раз — сердце зашлось, потом привык. — Брать надо умением, в толкучке боя учиться некогда. — Может, и сам полечу. Он так и лез в пекло, его командир-непоседа, к которому Проняков и впрямь начинал питать отцовскую нежность. Откуда все-таки шло это простецки-уважительное «отец»? От комиссарского звания или врожденной степенности — сызмальства работал со своим отцом-каменщиком на стройках Брянщины. — У тебя и тут хлопот полон рот, — возразил Проняков. — Комполка — один. — Сафонов твой летал, да и ты — пока мог. Никак он подревновывал своего комиссара к погибшему командиру. Пронякову было и смешно и грустно одновременно. И опять защемило в груди при мысли о своем, сугубо наземном существовании, когда душа двоится: половина там, в небе, с ребятами, другая — тут, на земле. Хотя сколько он себя помнит, никогда не собирался летать, сугубо сухопутный человек. Был культпропом, мечтал стать строителем, а попал в летное, по спецнабору. Откуда она взялась, эта тяга к небу, внезапная, вихревая, все сметающая на своем пути. Когда впервые распахнулся синий простор, пронизанный солнцем, и он увидел землю с высоты, красоту ее, ощутил проснувшуюся в сердце удаль. Вначале были маленькие бипланы, работавшие на касторке: как он отскребал и отмывал их на земле! Потом скоростной одноместный бомбардировщик Р-5 и, наконец, СБ — по тем временам чудо боевой техники, со штурманом и стрелком, дававший почти пятьсот километров в час. Он летал тогда в Быхове, в Белоруссии, не забывая, впрочем, землю с массой ее человеческих бед, радостей и забот. Потому что как лучший командир звена был избран депутатом в Верховный Совет республики… Едва передохнув от полетов, занимался своими депутатскими делами — дома его уже ждали ходоки из дальних деревень: кому-то не дали телка, кого-то из солдаток обошли ссудой на жилье, в глубинке сбежал из больнички доктор, а новый все не едет. И он садился в присланную телегу — ехал хлопотать. К нему прислушивались, потому что он уже тогда был напорист, логичен и еще потому что летчик. А потом разом все рухнуло. На финской остался цел, ни одной царапины, а в перелете на Северный фронт, в тумане, без ориентиров, в обледеневшей машине сел на вынужденную, попал в госпиталь с сотрясением мозга. Хорошо еще смекнул — мотор вовремя выключил, а то бы крышка — сгорел со всем экипажем. Вот тебе и «летал — пока мог». — Не спишь, комиссар? — Сплю. И тебе советую. Завтра день трудный.Утром Проняков связался по телефону с начполитуправления Ториком и, когда услышал его добродушно-глуховатый басок, смешался, забыл о своей просьбе, с непривычной торопливостью поблагодарил генерала за кожаные куртки и брюки для полка. Неделю назад он добрался со своей докладной до самого командующего флотом Головко: без спецодежды зарез, летчики с парашютами падали в мокрый снег, болота, промоины. Кожа могла спасти, и Головко, человек редкой обязательности, зная, что на базе такой одежды сейчас нет, все же пообещал, и наверняка не без помощи Николая Антоновича Торика она была выбита где-то на тыловых складах и уже вчера, за день до обещанного срока, доставлена в полк. В трубке повисла тревожная, пугающая тишина, показалось даже — связь прервалась, но нет, Торик слушал, возможно, удивляясь звонку. Доставили, и ладно, к чему благодарности, да и не похоже на сдержанного Пронякова. И тот уже пожалел о звонке — просьба, выношенная в ночной темноте, казалась неуместной. — Насчет каравана извещен? — Так точно, — облегченно выпалил Проняков. — С транспортами был перерыв, Черчилля пугали немецкие подлодки и бомбардировщики, с полпути уже начинавшие рвать караван, как волчья стая. Важность новых грузов трудно было переоценить. — Отвечаешь головой, — все так же глухо, уже без оттенка добродушия, прозвучало в трубке. И снова, после ощутимой паузы: — И пора подтянуться с боевой подготовкой, главное сейчас — обмен опытом, повышение мастерства. — Ясно, Николай Антонович. Так и намечал. — А теперь скажи, зачем звонил? — Но ведь я… — Без «но». Куртки-шмутки, а что еще? Я же чувствую. Да, черта с два его проведешь. Уж кто-то, а Торик своих людей знал. Вот и попал ты, Филипп Петрович, в мальчишки. — Хотел просить разрешения на вылеты… Хоть изредка. Чувствую себя хорошо. — Сколько раз тебя в госпиталь клали? — Ну два. Ненадолго. — А без «ну» — три. Еще раз дернешь меня попусту — получишь выговор. Все ясно? — И смягчившись, добавил: — Удачи полку, Петрович.
…Комиссар нащупал в кармане тетрадку и вышел из полутьмы КП на волю. День стоял весенний, ветреный, лед в лужах еще держался крепко, хрустел под каблуками. Над бурым склоном сопки, пятнистой от мха и березовых ерников, густо стлались облака. Немцы в такую погоду не летали, но в небе стоял отдаленный гул барражирующих патрулей-новичков, выполнявших заодно утренний тренаж. Вчера еще вынесли решение на партбюро, комполка согласился, а сегодня уже начали — молодец все-таки Сгибнев, оперативен. И капониры замаскировали по-новому, притрусив палой листвой, даже вблизи не различишь. Он сам, бывший каменщик, помогал их класть на совесть. Летчики дежурили в готовности номер один, отдыхая прямо под крылом. Не в пример английской эскадрилье на правом краю, где обед и ужин соблюдались, как в мирное время. И сон был святым делом. А погода на севере капризна: сейчас облака, а через минуту их ветром сдует, и тогда гляди в оба. Он заглядывал в капониры — такое у него было правило, обходить их с утра, вглядываясь в знакомые, словно бы вопрошающие лица «сыночков»: «Что сегодня, отец, в каком настроении?» Он чувствовал в каждом из них свое продолжение, они обязаны были довершить то, что утратил сам в начале пути. И радовался, что все они выглядят как на подбор молодцами, хотя, в сущности, такие разные… Старший лейтенант Бокий, храбрец, задира, весь как взведенная пружина, которого не сваливали, бывало, пятикратные вылеты… Капитан Николай Мамушкин, пропагандист полка, он и по земле не ходил, а летал, успевая с политинформацией и боевыми листками после каждого боя… Новичок Василий Горишный, худенький, с застенчивой улыбкой. Пекут их в училище, а настоящая учеба начинается здесь, с первого боя. Проняков спешил к четвертому капониру, к лейтенанту Бойченко, помеченному в его тетради красным карандашом — тревожным цветом. Как всегда в таких случаях, чтобы как-то отвлечься, решил сперва заглянуть к Горишному, почти земляку, из знакомых белорусских мест, к которому питал особую приязнь — старателен, вдумчив, славный парень… Терпеливо выслушав доклад и глядя в синие, добрые глаза Горишного, он начал с короткой проверки самого важного: знание района действий, ориентировка, полет над морем, навигация. Летчик отвечал не спеша, вдумчиво, как в непринужденной беседе без нажима и поучений. — Ну что ж, молодцом. По бледноватому лицу Горишного словно бы скользнула тень. Слегка замявшись, признался: — Вчера на бреющем чуть не зарылся в волну. — Бывает. С непривычки скрадывается расстояние. И мельком пометил в тетрадь: «Оморячиванье — под начало опытных ведущих. С предварительным инструктажем». А вслух сказал: — Не стесняйся спрашивать командира звена. Ложный стыд ни к чему. Упустишь мелочь — обернется бедой. Понял? Дотошность в нашем деле только на пользу. Это мой приказ тебе. И просьба. — Ясно. Горишный взглянул задумчиво и вдруг, улыбнувшись, будто оттаяв, заговорил. Проняков даже не сразу понял, что к чему… Наши в Белоруссии, стало быть, скоро Минск возьмут, а там — первая мирная сессия, и на ней непременно будут его, Горишного, земляки-партизаны, а уж дед Толаш, командир отряда, — непременно. Так пусть товарищ комиссар ему покланяется от бывшего пастушка, а ныне летчика Горишного… У Пронякина даже дыхание перехватило. За хлопотами и думать забыл — таким далеким казалось мирное время. А ведь верно — будет сессия, должна быть! И он кивнул растроганно, весь переполненный нечаянной радостью. Во втором и третьем капонире был порядок. Оставался четвертый — Бойченко. Круглолицый, с затаенной усмешкой, в шлеме набекрень, Бойченко держался независимо. Не раз нарушал боевой порядок, желая во что бы то ни стало показать себя. Вырваться один на один — и победить. Этакий солирующий форвард. Сейчас он делал вид, будто ему невдомек, зачем пожаловал комиссар. — Отставить, — чуть резче обычного прервал рапорт Проняков. Он не терпел зазнаек, небрежная улыбочка Бойченко выводила его из себя. И, как назло, стала подрагивать рука. Он спрятал ее в карман, это не укрылось от Бойченко, и комиссар вконец рассердился. Спросил сухо, глядя в упор: — Комэска предупреждал вас дважды за лихачество. Третьего раза не будет. Вам ясно? Летчик кивнул, отводя глаза. — Славы ищете? — Все ищут. — Все — вместе. А вы всех подведете, потом они вас выручать должны? Рывком отворил кабину — проверить боезапас, и оттого, что пришлось делать все одной рукой, другая была в кармане, он и вовсе рассердился. В коробках с пулеметными лентами был непорядок: в одной явный недобор, в другой уложено наспех. Нажмешь гашетку — не исключен перекос. И смазаны плохо. — Технарь у меня отличный, — пробормотал Бойченко. — Случая не было… В рапорте комэска была упомянута небрежность летчика. Значит, ему уже делали замечание — и как с гуся вода? Сейчас и сам рапорт комэска вызывал раздражение. В конце концов, нельзя же сваливать все на комиссара, хотя, конечно, все, что делается в полку, имеет к нему прямое касательство. — Технарь, вы сказали? У Сафонова был первейший мастер-техник, доверял ему как самому себе, а боезапас проверял. Лично. А вы в готовности номер один. Или забыли? Летчик пожал плечом. И это неопределенное пожатие окончательно взорвало Пронякова. — Недостойно гвардейца, — сказал он тихо, и сам удивился спокойствию в голосе. — Ставлю вопрос о вашем пребывании в полку. Бойченко побледнел. И поделом! Возможно он, комиссар, и взял круто, иначе нельзя. Именно сейчас. Пусть будет уроком для других — отчисление из гвардии за разгильдяйство. Лицо у Бойченко было жалким, пухлые губы чуть вздрагивали. И Проняков, мельком глянув на него, подумал: то лихач, то слабак, именно таким и свойственна импульсивность — взять и рвануть из строя, — надолго ли его хватит с этими порывами… И как это вообще возможно — бросить ведущего в бою? А здесь, над аэродромом? Мысль, внезапно поразившая его, еще не совсем оформилась, но он уже зацепился за нее. А не лучше ли барражировать парами? Не облегчится ли управление боем, быстрота маневра? Непременно обсудить со Сгибневым. На этот раз рука у него не дрожала, четко записав предложение в тетрадь. Не попрощавшись, он быстро вышел из капонира.
Уже на самом конце аэродрома его догнал вездесущий Вася Жабин, комсорг полка. Он обладал счастливой способностью воспринимать каждый успех полка как свой собственный. Вася запыхался и еще издали закричал, что вернулись с задания торпедоносцы. — Все? — Да, живы, здоровы, угрохали два транспорта… Может, завернете на минутку, им приятно будет… Пронякову нужно было в мастерские, но слишком уж был взволнован комсорг, да и с «торпедниками» на прошлой неделе серьезно поговорили о тактике. Что-то у них не клеилось — броски с дальнего расстояния не давали должного эффекта. И вот на тебе — сразу два транспорта. — Пошли… В землянке эскадрильи было шумно, летчики сгрудились вокруг «именинников», один из которых — плечистый крепыш Иван Гарбуз рассказывал взахлеб, с трудом натягивая на могучие плечи чистую рубашку. С появлением комиссара все притихли. — Давайте продолжайте, — отмахнулся он от доклада комэска Поповича, — и я послушаю. — Было удивительно смотреть на Гарбуза, этого молчуна, которого точно подменили после горячки боя… Почерневшее лицо его сияло, под глазами круги: не так-то просто свободному охотнику петлять по восемь часов над штормовым морем. Уж кто-кто, а комиссар это понимал. …— ну вот, заметил их почти впритык, туман же с водой пополам… развернуться бы, а у них конвой — десять «мессеров». Ну и залез под огонь, взмок аж, глаза залило. Как сообразил — сам не пойму, взял мористей и — в облака, вроде наутек, и нет меня. Вижу, справа мелькнуло, отрезают путь к берегу, а мне того и надо, я на прежний курс и прямо к заднему транспорту, утюг тысяч на пять и лупит в упор. С полусотни метров бахнул в него, едва в трубу не врезался, и тикать… Хорошо, облака, ушел между сопок, почти вприжим проскочил, вот так-то. Но Славке досталось… Все обернулись к Вячеславу Балашову, вытянувшемуся на койке во весь свой двухметровый рост — ноги на спинке. Светлая челка опалена, красные, будто ошпаренные скулы в белых заплатах пластыря. В отличие от Гарбуза, травила и весельчак Балашов был молчалив и мрачен. — Слав, скажи слово, — подначил кто-то из дружков. — Ты что, язык потерял? — Плохо дело, ребята, — подхватил другой. — Теперь Зойку свою потеряет. Она ж его за речи полюбила. — Ничего, к вечеру заговорит. Зоя, медсестра, была подругой Балашова. Летчик ухаживал за ней всерьез и строил планы на будущее, в эскадрилье все об этом знали. Но подначки остряков потонули в тишине, никто не засмеялся, обожженное лицо Балашова не располагало к веселью. — Ты хоть комиссару расскажи, ради вас же пришел. — А что говорить, — поморщился от боли Балашов. — Говорили же, кидать надо вблизи, да я сам давно понял. Ну встретили гады в лоб, отвернешь — все одно каюк — плоскость горит… Ну и решил — на таран. Да бог миловал, сбил пламя уже над самой кормой и заодно кинул торпедку. Еле дотянул, горючее на нуле. Комиссар кивнул ему, потом обернулся к командиру эскадрильи: — Вернувшимся отдых — позаботьтесь. На летучке разобрать детально, с мелком в руках все их действия. Обеспечьте стопроцентное присутствие. И широкую гласность в масштабе полка. — Подумал и добавил: — С дивизионкой сам свяжусь, пусть пришлют корреспондента. Это очень важно, очень… — Я уже думал, все сделаем. — И представьте людей к награде. Сегодня же. Все.
И получаса не прошло, как он зашел к «торпедникам». За это время прошел снежный заряд, и уже снова, обталивая белый покров поля, порывисто дул из-за сопки по-весеннему волглый ветер — комиссар вдохнул его полной грудью. Ветер победы, так назвал его на недавнем партсобрании все тот же жизнерадостный комсорг Жабин. И это чувствовалось по редким, но все же остервенелым налетам немцев, окопавшихся у Петсамо. С затравленной наглостью слали сюда своих стервятников, словно предчувствуя страшную близость последней схватки. Их отбивали на всех участках, исподволь накапливая силы для решительного удара. И конечно, важнейшим звеном в этой подготовке была материальная база. Помнится, словно это было вчера, с каким отчаянным упорством старались они с Сафоновым пережать «мессеров» в воздухе на «харрикейнах», которые уступали немцам по своим боевым качествам. Свои «ишачки» и «чайки» были получше, но их не хватало, и мотор слабоват. А каково с таким мотором летчикам, кидавшимся, бывало, в одиночку против целой эскадрильи, — лучше не вспоминать. Вот и мудрили как могли с командиром полка. Однажды провели эксперимент: сняв с «мессера» бронеспинку, Сафонов приказал стрелять по ней с разных ракурсов, чтобы определить, как лучше достать врага в бою. А затем, с учетом слабых мест, переоборудовали и сами «харрикейны» с их двенадцатью намертво укрепленными на плоскостях мелкокалиберными пулеметами. «Пшикалки», а не пулеметы, толку от них не много, да и малый маневр уже мешал прицелу… Половину «пшикалок» убрали, заменив одной пушкой. Получилась машина более или менее. «Подковали английскую блоху», — шутили техники после бессонных ночных авралов. Теперь в самолетах не было недостатка, прибыли новые «яки», «миши», «лавочкины», отличные машины, о каких недавно можно было лишь мечтать. Куда до них «мессерам» и даже мощным, но малоповоротливым «фокке-вульфам». Тот же Як-7 свободно маневрировал по вертикалям, забираясь до десяти тысяч метров, за облака. А где высота и скорость, там и победа. Особенно если учесть вооруженность — по две-три пушки на борту истребителя! Сейчас, в канун решающих событий, технику надо было срочно привести в порядок, поврежденные машины поставить в строй — создать резерв. К ремонтникам, этим труженикам войны, и направлялся замполит Проняков. Работа шла под маскнавесом, в густом кустарнике. Он уже пробирался по вязкому грунту, стараясь не демаскировать летное поле, когда тревожно провыла сирена, и буквально через минуту с гулким свистом в небо взмыли два дежурных звена. И почти одновременно у самого основания сопки грохнули разрывы вражеских бомб. Комиссар спрыгнул в воронку меж хлестким можжевельником, чувствуя направление бомбоудара. Взрывы прошли близко, по самому краю поля, на мгновение оглушив его, встряхнули воздушной волной. Ухо успело уловить отдаленно стрекочущие в туманном небе очереди. Немцы в последнее время бомбили с больших высот — страховались. Глаз поймал дымную дорогу «юнкерса» наискось за сопки, на миг расплылось в глазах, цепко подступила тошнота. Подумал с горечью: «Слабак, а еще летать просился», — рука опять дрожала. Но мир потихоньку обретал четкость: вдалеке по краю поля пятнисто промелькнула санитарная машина. С ревом шли на посадку «ястребки». Проняков отряхнулся и пошел дальше, сдерживая ломящую боль в висках, с единственной тревожно сверлящей мыслью — цела ли мастерская? И вздохнул облегченно: навес был не тронут, техники работали как ни в чем не бывало, даже не дали себе труда попрятаться в щель, вырытую по его указанию. Навстречу метнулся главный инженер Борис Львович Соболевский, как всегда, озабоченный, деловой, совсем по-штатски взмахнул рукой у козырька. — Доброе утро, Львович. — Похоже, одного срубили, — счастливо выдохнул инженер, глядя в мутное небо с удалявшимися звуками боя. — Так что в этом смысле — доброе. — А в остальном, успеваешь? — Так сроки все равно же неизвестны, — ухмыльнулся Соболевский, намекая на предстоящие бои. — Сроки я вам поставил, хитрец. — Тогда постараемся уложиться. Комиссар прошел между машинами на дощатых настилах, вокруг которых возились перепачканные технари; комиссар знал здесь каждого и по-настоящему любил этих тружеников войны. — Здравия желаем, Филипп Петрович… От стеллажа с разобранными пулеметами глянули на него запавшие глаза техника-лейтенанта Макова, одного из сафоновских питомцев. Комиссар коснулся ствола на стеллаже. Оглядев патронник, вставил отвертку в прорезь шурупа, машинально крутнул, ощутил чуть приметный доворот. Так и есть, не почудилось: проморгал техник перетяжку, теперь шуруп стал заподлицо. И словно царапнуло по сердцу. Техник уже понял, сквозь копоть на щеках проступил румянец, и одновременно комиссар ощутил легкий запашок спиртного. Он все еще не верил, глядя на Макова. — В чем дело?! Техник молчал. И в этом упрямом молчании, во внезапно повисшей тишине, перебиваемой звуками рашпилей, таилось нечто, всколыхнувшее в нем гнев и досаду. — Виноват, — обронил, наконец, Маков, накрепко прилаживая деталь. Губы его были сжаты, на скулах вспухли желваки. Краем глаза комиссар заметил приглашающий робкий кивок Соболевского — отойти в сторонку. Вслед за ним комиссар вышел из-под навеса, тяжело вдыхая терпкий запах хвои и машинной смазки. Они снова были одни, постная мина Соболевского как бы подхлестнула комиссара. Теперь перед ним был не старый друг, а благодушный ротозей. Он так и назвал его мысленно: «Ротозей! Шляпа!» Иначе зачем отзывать в сторону? Для келейного объяснения? — Разрешил я, — неожиданно твердо вымолвил Соболевский. — Третьи сутки без сна, с ног валятся. Выдал ночью фронтовую норму. — С риском брака при сборке боевого оружия? — Мелкий брак, но я его предвидел. С утра одного выделил в ОТК. Сами понимаете, выше сил… — Докладывать надо вовремя. — Внутри у комиссара слегка отпустило. — И ОТК не выход. Не в таком уж мы аврале, чтоб так выкладываться. Лучше подумай о скользящем графике, с максимально возможным отдыхом. — Я уже думал. — Долго думал… Санчасть привлеки, там пять лбов выздоравливающих, рапорты шлют. А ты навалился на своих. Какой толк? А соображения свои представь сегодня же, к пятнадцати ноль-ноль… Ох уж эти «ноль-ноль». Он только сейчас, с какой-то щемящей остротой, ощутил сутки, идущие сплошняком, когда исчезают напрочь из обихода привычные мирные слова: утро, полдень, вечер, а есть только жесткие «ноли» в потоке времени. И люди его отсчитывают сердцем, живя в постоянном риске и напряжении. — Ладно, будь здоров. — Он молча повернулся и пошел, не желая добавлять ни слова. Нельзя его размагничивать, суетливого Бориса Львовича. Свыше сил? Да. Только на войне силы не меряны. И может быть, раздумье о человеческих возможностях заставило комиссара повернуть в столовую, хотя и так почти не было дня, чтобы он не снял пробу. Чем кормят людей, вкус, калорийность? Еще при Сафонове участилась цинга, и тогда они с врачом Усковым стали запаривать хвою и ставить графины с напитком на обеденные столы. Летчики вначале морщились, но потом привыкли и стали называть взвар «елочным бальзамом». Он многих спас. На этот раз все было в порядке. Графины стояли на столиках, отливая каким-то сложным зеленовато-розовым соцветием, — заведующая столовой Галя добавляла в напиток клюкву, которую собрала с осени, мобилизовав на это дело официанток. Комиссар тогда похвалил ее за инициативу, а доктор настоял на вынесении благодарности в приказе. Сейчас, при виде комиссара, они оба поднялись от крайнего столика, где брали пробу: заведующая, не похожая на работницу общепита, тощая, с несчастными глазами, выдававшими ее вечную озабоченность — то того ей не хватало, то этого, хотя комиссар знал, что всегда у нее есть заначка, как у всякой рачительной хозяйки, и доктор в белом халате, лысый и добродушный увалень, по возможности дававший лишний денек передышки своим пациентам. Комиссар обычно потакал медику, но сегодня, не теряя времени, приказал отправить их Соболевскому. — И без разговоров, — предупредил он доктора, пытавшегося протестующе взмахнуть короткими ручками. Присел отпробовать гречневой каши — слава богу, сменили перловку — и только тут заметил в уголке за простенком хлебавшего чай начклуба капитана Купцова. Начклуба, поджарый, вскочил, возбужденно, с южным темпераментом жестикулируя, словно только и ждал встречи с комиссаром. Проняков не сразу понял, в чем дело. А поняв, растерялся, словно школьник у доски с незнакомой задачкой. Оказывается, из ста билетов, предложенных английскому начальнику Шервуду для личного состава на великолепное зрелище с приезжими артистами, которых капитан буквально «выбил» в политотделе: Дарский, Миров и сама Шульженко! — майор взял тридцать — только на офицеров. Даже летающие сержанты не удостоились приглашения. У них так, видите ли, заведено — офицеры и рядовые не могут быть вместе. Этикет! — Да как же я в глаза теперь буду смотреть его ребятам, тем же техникам. Что же это? Кастовость вонючая! Позор! Поговорите с ним, что ли… Комиссар сгоряча и впрямь решил тотчас идти к англичанину, но, поразмыслив, лишь горьковато усмехнулся. — Оставь его в покое. — Да меня всего трясет! Это ж надо! — Надо, — отозвался комиссар, — иногда надо быть дипломатом. — В чужой монастырь со своим уставом… — Прекрати, — разозлился Проняков. — У них тут свой монастырь, и ты свой демократизм не экспортируй, пусть сами улаживают свои дела. Или живут в своем дерьмовом этикете, раз им так нравится. А про себя подумал, что этот факт надо непременно сообщить своим. Всем! Ничего, правда, не изменишь, но пусть учатся политграмоте, пусть потрогают на ощупь, что такое классовое расслоение. Больше гордости будет за себя, за свою Родину, в которой такое просто немыслимо. А может, взять да и вручить лично эти пригласительные англичанам. На свою голову! Тогда офицеры не придут. Конфликт. Ах будь оно все неладно.
Пора было возвращаться в штаб — обещал командиру полка быть к двенадцати, оставалось полчаса. И тут он увидел за крайним столиком комсорга Жабина. Видимо, за беготней тот опоздал к завтраку и теперь в ожидании каши нервно, исподлобья зыркал в его сторону. Проняков сразу вспомнил о вчерашней просьбе комсорга, раскрыл вытащенную из кармана тетрадку, улыбнулся последней записи: «Лейтенант Глушков. Суеверие. Воздействовать авторитетом». Ох уж этот неугомонный комсорг, с его наивной верой, что комиссар все может. Славный парнишка, инициативный. Воспитательная работа сроднила их, новые формы ее радовали обоих. Взять хотя бы придуманное ими торжество вручения наград и партбилетов перед строем с развернутым знаменем; помощь молодым летчикам в устройстве подчас очень сложных, запутанных личных дел; поддержка семей через налаженную связь с военкоматами; разбор индивидуальных качеств каждого. Тут нужен был личный пример и, конечно, выдержка, самостоятельность, которые комиссар старался воспитывать в своем помощнике. Случай с Глушковым вначале показался забавным — новичок лейтенант, если верить дотошному комсоргу, по тринадцатым числам отлынивал от полетов, норовил подежурить. Он хотел было возразить комсоргу: «Сам действуй, привыкай», но мысль о том, что ситуация действительно глупейшая, о чем тут говорить, как переубеждать, заставила комиссара изменить решение. Да и любопытно было взглянуть на Глушкова, что за человек… А может, комсорг ошибся? В землянке 2-й эскадрильи его встретил звонкий голос дежурного. Так и есть — Глушков. Он нарочно дал выпалить рапорт до конца, хотя помещение было пусто, лишь из дальнего угла доносились смех, бранчливое разноголосье. Спросил спокойно: — Что, лейтенант, говорят, сегодня тринадцатое? По-девичьи белое лицо Глушкова залилось краской. Еще не бреется, что ли, подумал комиссар, а душой старичок, в приметы верит. — Откуда это у вас? — От бабки… наверное, — едва выдавил Глушков и открыто улыбнулся, стараясь все обратить в шутку. — Ну что же, вечером на собрании скажете про свою бабку всем. — На миг стало не по себе, такой у Глушкова был жалкий вид. — И пусть там решат — суеверие это или, может быть, трусость. — Есть, — прошептал летчик, одними губами, — ерунда же… Нет, потакать подобной «ерунде» комиссар был не вправе. Один свихнулся на приметах, другой переймет — это как зараза. В дальнем, сумеречном углу вдруг стало подозрительно тихо, кто-то выругался. Комиссар подошел к нарам, на которых скучились молодые летчики, и по тому, как они сконфуженно спрыгнули с мест и только лейтенант Саня Звездин, интеллигентного вида юноша, нехотя, с убитым видом поднялся последним, понял — случилось неладное. Об этом летчике, еще совсем молодом, комиссар был хорошего мнения и втайне, как ко всем «зеленым», относился покровительственно. — Ну, — спросил он, — что тут у вас стряслось? Все молчали, и он повернулся к Звездину: — Может, ты скажешь, Сан Саныч? — Он нарочно обращался к новичкам по имени-отчеству, как бы стараясь утвердить их в собственном достоинстве, подчеркнуть их взрослость. Так ведь оно и было — в бою все равны. — Скажу, — буркнул Звездин, и комиссар приметил, как смутились стоявшие рядом. — Только это не жалоба, а желание внести ясность. А вы рассудите… — Он помялся, все больше мрачнея, тонко очерченный рот чуть подрагивал. — Верочка. — Он так и сказал «Верочка», и даже голос его смягчился. — Верочка ребятам не нравится. Что-то он слышал краем уха о романе Звездина с официанткой Верой и даже удивился, что у этого красавца образованного может быть общего с такой неказистой девчонкой из поморок. Явно не переоценивая себя, она была добра и услужлива с этими молодцами, не принимавшими ее всерьез. И вот нашла покровителя. Да еще какого… — Мне тоже не всё и не все нравятся, — лейтенант намекал на некоторые не совсем рыцарские истории в жизни своих обидчиков, — но у меня хватает такта не навязывать свои вкусы другим. У каждого он в меру собственной нравственности. — Ну, ну, не пересаливай. Хотя в главном ты прав, — добавил комиссар, уловив в отчаянном взгляде Звездина благодарность. Он ощущал странность их беседы, точно она шла наедине, а не в присутствии товарищей, которые должны были слышать и понять сейчас то, что не могли или не хотели понимать прежде. Кто отвернулся, закуривая, кто принялся подшивать воротничок. — У вас все? — А что еще? Впору нам с Верой расставаться. Ни лицом не вышла, ни статью, словом, кикимора, не пара офицеру. — Он явно повторял чьи-то слова, острые, как осколки, добровольно ранился от них, уже не ощущая боли. — Мне моя жена жизнь спасла, — тихо сказал комиссар, пересиливая возникшую в руке тряску, — хотя тоже не красавица. А живем душа в душу… Не по хорошему мил, а по милу хорош. Все это было не то, не те слова, единственные, нужные. Но разве то, что существует его Маша — далеко и в то же время будто рядом, ее письма, ее доброе сердце не вытянули его с того света, тогда, после падения, когда его собирали буквально по частям. А убить можно легко, одним словом. А эти, в сущности, мальчишки так легко бросаются словами, по глупости, потому что сами не пережили… — Ты меня в судьи взял, — произнес комиссар, не узнавая собственного голоса, так он был глух, надтреснут. — Я скажу. Не тебе, а вот дружкам твоим. — Он смотрел на Звездина, а все смотрели теперь на него, комиссара. — Вам воевать, в любую минуту — в бой. От взаимной выручки зависит жизнь каждого. А как же Звездин сможет выручить обидчика в небе, если тот сейчас, на земле, его оттолкнул и смертельно обидел. — Я выручу. — Верю. Чего не могу сказать о твоих дружках. Свинство это! Иного слова не подберу. Может, вы подскажете? Редко он так волновался, видно, задело за живое. Один из летчиков, плечистый здоровяк, которому комиссар помог разыскать эвакуированных родителей, обронил просяще: — Филипп Петрович, мы все поняли и приносим вам… — Вы не мне приносите, а вот ему, вашему товарищу! Только уж без меня. Всего доброго!
Комиссар вернулся на КП вовремя. Сгибнев ставил задачу на сопровождение каравана. Важность ее понимал каждый, лица комэсков были сосредоточены. Комэска-2 капитан Покровский задумчиво смотрел перед собой, прикидывая возможный бой с «мессерами». Непоседа Бокий — чуб торчком — порывался что-то сказать, но всякий раз под взглядом комполка сдерживал себя и только черкал в блокноте. Командир звена Климов, молодой, не по годам суровый, слушал, как всегда, спокойно, подперев кулаком щеку. Агитатор полка Мамушкин, цыганистого вида торопыга, и степенный, медлительный второй комиссар Федоров, такие внешне разные, сейчас чем-то были схожи, внимая рубленым фразам комполка. — Караван входит в нашу оперативную зону, — четко выговаривал Сгибнев, — примерно в 16.00, дополнительно сообщат. Для выполнения операции назначаю группу под командованием комэска Покровского. Ему придается два звена Алагурова. Бокий со своим звеном выходит на разведку за час. Обратите внимание на точное местоположение судов. Могут появиться истребители противника и торпедоносцы. Бокий, вам не сидится. Есть предложения? — Если разрешите. Человек редкой храбрости, но всегда остро переживавший малейшую потерю, Бокий вместо предложения задал вопрос: — Не мало ли «девятки» и алагуровцев? Мы сейчас не бедные! — Важно начать, потом слетятся соседи, связь установлена. — И все же, — вклинился комиссар, — надо держать наготове хотя бы пару звеньев. — Заметано, выделим. И пару новичков мы все же прихватим — для боевого крещения. Пошли дальше. Начальник штаба, Иван Федорович Антонов, отличный тактик, подробно, не спеша, как бы снимая общую напряженность, сообщил о разведданных по транспорту, направление движения, код береговых батарей, которые завяжут дуэль с немецкой артиллерией, отвлекая ее от транспортов… — Метеосводка — на руки. Бокий хмыкнул, все невольнорассмеялись. Метеосводка в этих краях, где то и дело менялись снежные заряды, была лишь предположительной, и каждый понимал, что придется ориентироваться на местности и, значит, еще раз изучить тщательно карту. Понял это и комиссар. Комполка заметил его нетерпеливый жест, спросил, есть ли дополнение по существу дела. Проняков кивнул и объявил присутствующим — к вечеру намечается открытое партсобрание с повесткой дня: повышение боеготовности. Эта же тема должна стать основой усиленной командирской учебы. А пока… — Прошу комэсков в ближайшие два часа провести тщательный инструктаж. Проиграть возможные варианты боя, особое внимание уделить осмотрительности и взаимовыручке. Помните завет Сафонова: расчет и натиск. У меня все. Летчики покидали КП, тихо переговариваясь, точно врачи перед сложной операцией, советовались, обсуждали взаимосвязь, обговаривая все до мелочей. От комиссара не укрылось, как, переглянувшись, шутливо столкнулись плечами два комэска — высокий Покровский и низенький Алагуров, переходивший на сегодня к нему в подчинение. Оба суровые, замкнутые, вдруг разулыбались, и комиссар порадовался за людей, чья неброская дружба скрепляла в бою. Месяц назад Покровский без единого патрона пошел в лоб на немца, который строчил по выпрыгнувшему с парашютом Алагурову. «Мессер» не выдержал, отвернул… Вот и сегодня они рядом. Комполка и начштаба собрались с инспектором в столовую. Поднялся было и Проняков, повинуясь кивку командира. Но тот неожиданно вернулся, и Проняков понял, что Сгибневу надо перемолвиться наедине. — С Бойченко мы поторопились… Я ведь тоже поддал ему жару. После тебя, с инспектором… Вид у командира был какой-то виноватый, тонкое нервное лицо старила надменная складка у переносицы. На этот раз она не выглядела нарочитой. В душе комиссара шевельнулось беспокойство. Комполка решил вступиться за Бойченко — это было на него непохоже, не терпел жалобщиков. — Ну-ну… Двойная накачка во время дежурства свое дала. Человек ранен в бою. Ты что, не в курсе? Так вот оно что! Вспомнился утренний налет, бой за сопкой, промчавшаяся мимо санитарная машина. Бойченко… Он, комиссар, начал, комполка добавил, не откладывая до вечернего разбора, на спокойную голову. И ринулся лихач, теряя всякую осторожность, — искупать вину. Проняков ощутил под сердцем давящую боль. Ладно, командир молод. Но он-то, комиссар, старый дурень, раскочегарился в капонире. Вот так, век живи — век учись… Он стоял сгорбясь, казнясь и не поднимая глаз. — Тяжело ранен? — В руку, может, обойдется. Уцелел чудом. Тридцать пробоин. А немца сбил. — Когда к нему можно зайти? — Завтра с утра. А теперь пошли — инспектор, неудобно. — Ступай, что-то аппетит пропал, — покачал головой Проняков. — Ступай, ступай, я загляну на инструктаж. Ровно в 14.45 в штаб 2-й эскадрильи, где проходил инструктаж, позвонили с КП: «Всем в воздух!» И еще Антонов, пригласив к телефону комиссара, просил назначить по своему усмотрению двух новичков в резерв. Первым комиссар назвал лейтенанта Бесподобного и тут же ощутил на себе горячий, умоляющий взгляд Глушкова. Он понимал, что значит для того разрешение на вылет: амнистию от собрания, где новичку придется туго. Только сейчас вдруг ощутил комиссар, каково этому человеку стоять перед сотней глаз с таким обвинением. Остряки, чего доброго, приклеят прозвище, что-нибудь вроде «суеверной бабушки» — век не отмоешь… — Вторым — Глушков, — будто кто-то за него произнес вызывающе звонко и весело. Покровский, застегивая на ходу куртку, уже командовал: — По машинам! Летчики, сыпанув к дверям, на миг образовали пробку, через мгновение их точно ветром сдуло. Комиссар вышел последним. Со стороны КП к самолетам, сдерживая бег и деликатно озираясь на полноватого, неспешного в шаге инспектора, торопился Сгибнев. И комиссар подумал, что Сгибнев не зря подгадал сопровождать инспектора ко времени вылета. На обратном пути непременно ввяжется в бой над заливом. А то, что немцы не упустят каравана, сомнений не было. Он ощутил в озябших пальцах тетрадь, с тоской глядя на исчезавших в капонирах летчиков, сложил ее вдвое и сунул в карман.
К этой-то пожелтевшей тетради, в которой кроме деловых будничных пометок были обстоятельные описания важнейших событий, я и обращаюсь много лет спустя, вместе с Проняковым заново переживаю тот памятный день. Все так живо, будто произошло лишь вчера, и мы с Филиппом Петровичем не седые дяди, а совсем еще молодые вояки, оба тридцатилетние. А тридцать лет на войне самый расцвет — помирать не надо. Итак, тетрадь:
«Первым заметил втянувшийся в Кольский залив караван Алагуров и доложил Покровскому. Караван — все пятнадцать судов — в целости, удачный рейс. Значит, вся ответственность теперь легла на прикрытие… Два огромных транспорта, остальные поменьше. Три сторожевика. Неожиданно со стороны Киркенеса из облаков вынырнула пятерка «юнкерсов» под защитой трех истребителей. То, что их оказалась горстка, насторожило Покровского, опытнейшего тактика. Он приказал Алагурову отойти северней, следить за небом, а сам атаковал «юнкерсов». В разгаре боя две машины противника были сбиты, остальные повернули назад, вскоре Алагуров доложил: «Володя! Вижу группу «юнкерсов», идут четко на залив, без прикрытия». Покровский разгадал маневр врага. Вот что я записал потом с его слов: «Немцы своей первой «пятеркой», очевидно, решили с ходу отбомбиться по каравану, внеся панику, и заодно связать руки нашему прикрытию, а тем временем в обход, основной силой, ударить по кораблям. Я сообщил в штаб обстановку, запросил резерв. Алагурову приказал атаковать истребителей во фланг, а сам с двумя звеньями тоже в обход с набором высоты встретить «юнкерсов»… Минут через десять обрушился на врага, расстроив ему порядок. Немцы были сбиты с толку внезапным натиском, в тесноте боя не сразу сообразили, что наших всего два звена. Некоторые отвернули, не дойдя до цели. Прорвавшихся к каравану встретил подоспевший комполка с Алагуровым и двумя новичками из резерва. Вместе с летчиками из соседнего полка завели карусель с «мессерами», сковав противника». Отлично дрался и сам комэска — невозмутимый Володя Покровский со своим ведомым Юдиным. Рискуя подставиться зашедшему в хвост «мессеру», атаковал пикирующего на транспорт бомбардировщика и тем спас от гибели корабль. Затем, прикрытый Юдиным, ловко развернулся, сбил вражеского истребителя. По приказу комполка, взявшего на себя руководство боем, Бокий со своим звеном пошел домой — на заправку. В это время из облаков вышла новая волна «юнкерсов», около тридцати машин. Комполка, не растерявшись, повторил знаменитый маневр Сафонова — врезался противнику в лоб, как нож в масло. Сбил ведущего, нарушив строй. С разворотом на обратном курсе сбито еще два «юнкерса». Строй окончательно распался. Прибыла в подмогу эскадрилья соседнего авиаполка. Дело пошло веселей. Сбито уже шесть «юнкерсов» и пять «мессеров». Отлетавшие для маневра машины попадали под огонь корабельных зениток. Вражеская артиллерия била редко и невпопад. За полчаса до появления каравана наши корабли и береговики прочесали их получасовым артналетом. Прямо душа радуется, в сорок первом о таком и не мечталось. Жил бы Сафонов — какой бы для него был праздник! …Еще полчаса боя. Потери каравана невелики. Два пожара, один, локальный, быстро потушен. Сбиты в упор два миноторпедоносца. Научились англичане маневру. Еще бы, при таком прикрытии можно жить. «Юнкерсы» поворачивают восвояси, кто как может, многие сбрасывают бомбы в сине море, как в копеечку. …Причина успеха — хорошая слаженность. Отметить на разборе. Ведомые, как правило, не просто отстреливались, атаковали, ни на миг не упуская ведущих. Особенно В. Юдин, фактически спасший командира во время маневра с «юнкерсом». Отметить Климова, действовал по-сафоновски. Оставшись без патронов, преследуемый тремя «мессерами», взял курс прямо на спрятанную у берега нашу зенитную батарею, хотя мог сгоряча получить заряд в брюхо. Но командир зенитчиков разгадал замысел Климова. Пропустив «харрикейн», выждал и в упор ударил по «мессерам». Двое, один за другим, сбивая пламя, врезались в сопку. Третий набрал высоту, но не вытянул и грохнулся в море. Караван в сопровождении прибывшего Бокия ушел к Мурманску… Бокий вернулся час назад — именинником. Сбит «барин» с драконами. Наконец-то его достали! Отметить особо отличившихся. Представить к награде. Сегодня же. Поговорить с начштаба, чтоб не затягивал. Ночью — два часа на письма семьям героев. А двоих не стало — лейтенантов Семена Полякова и Александра Бесподобного. И самое тяжкое — сообщить горестную весть семье. Какими словами? Такое ощущение, будто потерял родных, хотя знал их мало, недавно они в полку. Но ведь жили рядом, взлетали по тревоге, шутили, смеялись. А нынче койки не тронуты. Болит сердце, а распускаться нельзя, это плохо действует на окружающих… И надобно обязательно потолковать с ребятами. Пусть сами почаще пишут. А то ленятся некоторые. Молодость. Знали бы они, что такое отцовские, материнские чувства. Когда-нибудь узнают. Я и сам «штрафник», вот уж три дня как не писал Маше и сыну Бореньке. Сегодня же напишу сразу два письма — ему и ей…»
Теперь, слегка отступая назад от тетради, хотелось бы рассказать об одном из главных событий дня, виновником которого стал старший лейтенант Бокий. Летчики один за другим возвращались на родной аэродром, и комиссар, ежась под пронзительным метельным ветром, который сорвался с Севера, точно наверстывая упущенное за день, считал машины, отмечая в памяти имена. Он знал каждого и теперь тревожно вглядывался в заволоченное небо. Бокия все не было. Двое из его звена приземлились: машины с ободранным дюралем. Он понимал, что это значит, и почувствовал неладное. Метель сникла так же внезапно, как и началась. Проходившие мимо летчики, увидев комиссара, застыли, ведомый Бокия Титов стал было докладывать, устало вскинул руку к шлему: — На обратном пути от Мурманска в квадрате пять приняли бой… — Где Бокий? — перебил комиссар. — Товарищ комиссар, — хмуро отозвался ведомый. — Нарвались на засаду. Командир ввязался в драку с ихним асом и его свитой. Я прикрыл, потом развернулся отбить атаку слева, на перевороте потерял его. Пурга пошла… Облазил все вокруг — нет, и горючее на ноле. Эфир молчит. Комиссар представил обстановку боя, внезапный заряд. Кажется, лейтенант сделал все возможное… Внезапно со стороны КП донесся радостный голос радиста: «Комиссар… Бокий летит». Проняков бросился к штабу. Комполка, возвращавшийся вместе с Бокием, передал радиограмму: срочно выслать По-2 в квадрат двенадцать, и точные координаты сбитого аса, того самого, с драконами. Сбит и рухнул в болотце, возможно, жив. Вскоре Бокий, живой, целехонький, уже докладывал комиссару и начальнику штаба подробности боя. Скованный мертвой усталостью, он говорил непривычно медленно, с расстановками, словно речь шла о чем-то привычном, будничном, что уже сделано и не стоит толочь воду. Гнал он немца до прибрежных озер, прижимая к земле, в азарте забыл про рацию, а потом уже поздно было. Дважды фашист пытался вырваться, но без успеха, в последний момент Бокий, в перевороте, снова взял верх, рубанул по мотору и тут же сообразил, что внезапная густая полоса дыма, заслонившая на миг врага, — имитация, дымовая шашка. И добавил очередь почти впритык. Еще увидел, как немец плюхнулся на брюхо… — Может, и жив, — обронил комиссар, глядя на почти засыпавшего Бокия. «Точно пахарь после страдного дня», — с нежностью подумал о лейтенанте. — Самолет послан, отдохнешь? — Не-а, ждать буду. — И жестко потер припухшие веки. Аса — обер-фельдфебеля Мюллера — взяли живым уже далеко от самолета — он убегал на лыжах. В кабине машины летчики с удивлением обнаружили мешок барахла — женские платки, крестики, иконки… В штабе он сперва наглухо молчал. И лишь когда комиссар назвал его по фамилии, которую перед этим прочел на лямке парашюта, сухое ястребиное лицо фашиста дрогнуло и слеза поползла по костистой щеке. — Мне оставят жизнь? — спросил он вызывающе зло, и это как-то не вязалось с его горестно сморщенной физиономией. — У нас пленных не расстреливают, — проворчал комиссар. — Вас допросят в другом месте. Мне лично одно любопытно: зачем возите с собой тряпки, которым грош… Он не успел договорить, Мюллер, замахав руками, захлебываясь дикой смесью русского с немецким, понес что-то путанное, из чего комиссар только и понял, что обер-фельдфебель не вор, он «почти офицер», а мешок ему якобы сунули товарищи на случай вынужденной посадки — откупиться от туземцев. Он так и сказал — туземцев. «И этот пигмей, — подумал комиссар, с каким-то странным облегчением и брезгливостью глядя на перепуганного аса, искренне верившего в то, что можно смягчить крестьян награбленным у них же тряпьем и отштампованными в Берлине иконками, — этот дикарь в нашивках и такие, как он, пришли покорить Россию?! Закрыть от людей солнце, небо? В этом небе ему уже дали урок, шуту гороховому. И уж он, комиссар Проняков, постарается, уж он костьми ляжет, чтобы их били покрепче, как бил в сорок первом Сафонов…»
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Есть люди, чей авторитет признается сразу и безошибочно. Секрета в этом нет: просто в тяжелую для всех минуту они оказываются на своем месте и взваливают на себя весь груз ответственности. Таким был Михаил Васильевич Еремин, прозванный в батальоне чекистом, хотя пробыл он в чекистской должности всего ничего: после танкового училища был взят в дипкурьеры, а в конце июня, когда над сонной Москвой снова загрохотали немецкие бомбы, молча оделся и пошел в отдел кадров с рапортом — отправить его на фронт. — Прошу визу… И кадровик, обычно в таких случаях отвечавший резко: надо будет — сами вызовем, взглянул на неприметного с виду голубоглазого парня с насмешливо-твердым очертанием рта и снял трубку внутреннего телефона. Чувствительная мембрана рассыпала рокочущий бас начальника: «Вы так докладываете, как будто согласны с лейтенантом!» Кадровик снова взглянул на Еремина и тихо добавил: «Он же танкист». Потом, отключившись, закрыл папку, сказал с каким-то даже удивлением, точно и не он звонил: — Товарищ начальник согласен. — Естественно, — усмехнулся Еремин, — на то он и товарищ. — Но велел погодить, нет еще никаких указаний. — Судя по всему, долго годить не придется. Лишь к осени его направили в действующие войска. Коротко попрощавшись с женой — не выносил женских слез: «Ладно, мать, живы будем, не помрем», чмокнул малышей — сына и дочурку, помчался за город, где стояла танковая часть. В прокуренном спортзале школы его встретил людской гомон, взвинченные смешки призывников запаса, напряженно толпившихся в ожидании какого-то командира. А тот все не шел, задерживался. Еремин присел на нары, аккуратно поправив свисавшее одеяло. Он единственный был в форме, почти все остальные кто в чем, запыленные с дороги, в сапогах с присохшей грязью. Прошел час, другой. Сосед напротив, фатоватого вида старшина, с пистолетом, планшеточкой, с обожженной шеей в распахе линялой гимнастерки, подмигнул Еремину: — Ты-то куда приторопил, служба безопасности? — Куда все, — негромко отрезал Еремин, — хотя… за всех не ручаюсь, — Его начинало злить это долгое сидение в неведении, махорочный дым, которого он терпеть не мог, нервные шуточки со всех сторон, застревавшие в ушах. — Не ручаешься, значит, ох ты, какой подозрительный, — хмыкнул старшина. — Учти, тут тебе не кабинет, герой. — Встать! — неожиданно для себя гаркнул Еремин и сам первый вскочил, руки по швам, а следом за ним и другие, решив, очевидно, что пришло начальство. — Застегните ворот, какой пример подаете! — И заметив, как пошло пятнами чужое обожженное лицо, ощутив на себе десятки глаз, спокойно произнес: — Товарищи, как я понимаю, нам с часу на час — в бой. Бани я тут что-то не приметил. Но в углу зала два умывальника и довоенные обмылки. Прошу привести себя в порядок, чтобы на построении быть в достойном виде. Все слышали? — Все, — нестройно раздалось в ответ. — Вам советую особенно, — обронил он сжимавшему кулаки старшине. — Да ты что, кого учишь? — Где горел? — тихо спросил Еремин. — Ну под Брестом, — растерянно пробормотал тот. — Тем более. Застегни ворот. И подай пример. Команду же знаешь: «Делай как я!» Или ты привык соляркой умываться? — И первым, под одобряющий смех и реплики собравшихся, двинулся к умывальнику. Но тут уже всерьез прозвучало: «Встать, смирно», — и все обернулись к дверям, где, должно быть, давно уже стоял, наблюдая, худощавый командир с тремя шпалами в петлице, жестом отменивший команду. — Все верно, лейтенант, — сказал он, улыбнувшись, Еремину. — Но баня будет, а сейчас, как приведут себя в порядок, построй всех у крыльца для зачтения приказа. Это был командир полка Вовченко, который много лет спустя подарит Еремину Юрию, инженеру оборонной промышленности, свою книгу о танкистах с трогательной и суровой надписью:«Сыну моего фронтового друга, павшего смертью героя в великой битве под Сталинградом. Светлая память и горечь утраты всегда в нашем сердце».А пока зачитали приказ. Михаилу Еремину сразу дали танковую роту. Так началась его служба. Рейды по тылам врага, беспрерывные бои под Москвой, сжимаемой в кольцо фашистскими войсками. Рота — пятнадцать танков, командир, как всегда, в головном, с ним экипаж четыре человека, а бывало, и не больше двух — война людей не жалела. Орудийным взял к себе шумливого знакомца старшину Новикова, который оказался храбрым бойцом, хотя и с прежней тягой к щегольству: командирская фуражечка вместо шлема, планшетка через плечо. Механиком был Силин — бессменный водитель, как он сам себя называл: пуля его не брала. Заряжающим — Завгородний, вчерашний колхозник. Еремин в шутку всех звал пахарями, хотя первые двое — заводские парни. — Все равно — все пашем. Не попашешь — не поешь. На нашем счету уже девяносто машин — на хлеб заработали. Они действительно работали на совесть. Войдут в азарт — море по колено, а так — чересчур даже спокойные, степенные и все примерно одного возраста — до двадцати двух, не больше. Но и учил он их в каждую свободную минуту — тактике, матчасти — семь потов сгонял. Машина, втолковывал, уход любит, она, ребята, с понятием, в долгу не останется. Ничто не ускользало от его зоркого глаза, не зря называли его с легкой руки Майстренко — батько чекист. Побаивались — вспыльчив был, но любили — за ворчливую отходчивость, чувство юмора, а главное, за умную отвагу. Каждый бой прорабатывал детально, вместе с комвзводами изучал местность, ставя каждому конкретную задачу. И маневром владел. Можно было позавидовать выдержке, с какой он в засаде пропускал немецких танкистов-разведчиков и, подпустив основные силы врага ближе некуда, внезапно вырывался вперед, громя крестатые машины. Ему бы после успешного боя порадоваться, передохнуть, а он с пылу с жару за разбор: — Ну что, геройский наш механик-водитель… Значит, танк запускаете, а у вас аккумулятор сел. А вчера фрикцион шайбой заклинило… У него в машине блуждающие шайбы. А кто в ответе? — Случай же, товарищ… — Дважды было — закономерность! Повторится — пеняй на себя. Я уж научу, если немец не упредит. В общем, всем все ясно? Старайтесь. Старались. Привыкали к порядку, самостоятельности. А все же с таким командиром на душе спокойней. Однажды комполка вместе с комбатом Гуменюком, другом Еремина, заглянув в землянку экипажа, удивился: — Надо же, — сказал восхищенно, обернувшись к Еремину, — за час до атаки спят, как младенцы. — Мы за батькой, как за каменной спиной, — отозвался дежуривший Завгородний. — На спину надейся, а сам не плошай, — уточнил Еремин. — Не то угодишь к немцу в лапы. — Типун вам на язык, товарищ командир… — Это что за фамильярность? — встопорщил черные усы Гуменюк. — Виноват, — тотчас парировал дежурный. — Только она, фамильярность, войне не помеха. Если есть дисциплина. — Ну-ну, поглядим… Поглядеть было на что. В эту ноябрьскую ночь рота выкурила немцев из деревни Стрельно, предварительно вскрыв огневые противника и разом ударив по вспышкам. А орешек был крепкий — доты, дзоты, зенитки на прямой наводке; их внезапно обошли с фланга и смели начисто. Не успели смыть с лица копоть, как в ларингофоне прозвучал знакомый голос Гуменюка: — Миша, выручай! Знаю, устали… А упустить нельзя. Оказалось, немцы отступили от Клина, нужно выйти им в тыл, на Волоколамку, отрезать… — Все понял. Постараюсь… — Всех не тащи, важна быстрота и натиск. С собой возьми хоть Ляшенко. Он и без совета взял бы лейтенанта Ляшенко, прямо-таки фатально спокойного, улыбчивого парня, с которым воевали с первого дня. И понимали друг друга с полуслова, а когда отказывала связь, Ляшенко угадывал маневр Еремина. Скрытный марш-бросок через обугленные перелески, сожженные села, по вязким буеракам… Заранее выбрали позицию в роще, у самой дороги, отступать некуда, громить, стало быть, наверняка. Мотоколонна была сборной: танки, пушки, бронетранспортеры. Мостик взорвали в последнюю минуту и, когда, набежав, уплотнилась колонна, ударили по первому танку и по последнему, а потом ринулись в середку и пошли крошить налево и направо. Били в упор, как говорится, с открытым забралом — ты его или он тебя, чьи нервы тверже. Тверже оказались у ереминцев. Ушли почти без потерь. А он уже на ходу планировал новую схватку, очередную, из тех, что изматывала, обескровливала врага. Сила на силу — только так. Об этих его рейдах я читал в наградном листе, представлявшем Михаила Васильевича Еремина к высшей награде — ордену Ленина, слышал от ныне живого его сподвижника, уральца Вадима Андреевича Водяного, от сына, Юрия, который, будучи уже вдвое старше погибшего отца, свято бережет реликвии войны и всегда говорит об отце со святым уважением подростка. Без отца вырос в серьезного инженера, но порой кажется, что сама память о герое его воспитала таким. О своих фронтовых делах Михаил Васильевич домой писал весьма общо, дабы не тревожить жену. С трепетом раскладываю стопку пожелтевших писем, четкий почерк, почти на каждом дата. Вот одно из них:
«Дорогая Тася, прошу тебя (приказываю!) быть спокойной. Обо мне не волнуйся, я чувствую себя хорошо. Никак не дождусь приказа идти в бой, надо бить врага до полного его уничтожения, не жалея сил, иного выхода нет. А ты воспитывай Юру и Олю достойными патриотами Родины. Будь тверда духом, наше дело правое, мы победим, не сомневайся… Привет моим сестрам, люби их, как я, а они тебя лишний раз поцелуют за меня. Сейчас, как никогда, мы должны быть дружны и помогать друг другу…»14.10.41 г.
«Здравствуй, моя хорошая! Посылаю тебе аттестат, деньги будешь получать в военкомате. Помоги сестричкам, не забывай стариков. Непременно напиши, как здоровье твое и наших птенцов… Полевая почта 546,108 отдельный танковый батальон». «Здравствуй, родная! Извини, что долго не писал, шли бои на Брянском фронте, меня ранило в руку пулей с немецкого танка, в госпиталь не лег. Если всем с такими пустяками ложиться, кому же воевать? Вот только перевели в штаб, на время, долго тут не пробуду, не люблю штабной работы, мое дело водить людей в бой, видеть, как от твоего выстрела разлетается в клочья вражья броня и, значит, еще на шаг ближе победа… Тут к нам в гости приехала бригада художников, заставили меня позировать. Представляешь, когда-нибудь на выставке увидишь своего любимого и любящего, во всей красе, с перевязанной рукой…»20.5.42 г.
«Милая Тася! Послал тебе уже три письма, ответа не получил, это меня очень беспокоит. Не случилось ли что с нашими птенцами, ничего от меня не скрывай. Ты знаешь, я выдержу все невзгоды, верный своей семье, так что напиши прямо, что там у вас стряслось…»Ничего особенно не стряслось, детишки были живы-здоровы, если не считать, что Тася потеряла продуктовые карточки. Как-то все же выкрутилась, продала барахло, старики помогли, но писать об этом не хотела, а врать не могла. И когда наконец все обошлось, написала, но письмо догнало Еремина уже под Воронежем, откуда он в составе бригады И. А. Вовченко срочно отправился под Сталинград, где шли жестокие бои. Здесь, под Воронежем, его впервые встретил юный лейтенант Вадим Водяный, прибывший с Урала вместе с отремонтированными танками. Сейчас, уже седой ветеран, но все еще не сдающийся, с неестественно розовым, после заживших ожогов, лицом, он рассказывает об этой памятной встрече со своим комбатом, майором Ереминым, с такой же уважительной тихостью в голосе, как и сын Юрий. Так вспоминают о людях, которые навсегда оставили в душе светлый след… В те дни, в канун броска под Сталинград, боев не было, но все танки комбата стояли в леске, в боевой готовности, а тут еще, к великой радости, пополнение, исправная техника. — Комбат подошел к моему КВ, — вспоминает Водяный, — с рукой на перевязи, улыбнулся — блеснули зубы на темном от зноя лице. «Давай, — говорит, — ставь машину вон к тем сосенкам, бомбят тут у нас». Ну я дал команду, мой механик заехал в эти сосны, да так неловко, свалил все три. Вижу, у майора полыхнули глаза: — Ну и танкисты… Ничего себе замаскировались, привет «юнкерсам». В боях твой механик бывал? Обстрелян? — Как говорится, заочно. Как и я… — Заочно только влюбиться можно! А практически немец тебе башку вместе с башней оторвет! Видно, еще что-то хотел добавить, сдержался — к нам как раз подошел сам комбриг Вовченко, как я потом узнал, они друзья были, — без рапорта обошлось, только он Еремина по плечу хлопнул, по здоровому — и к танку. А я молчком стою, растерялся. Начальство все-таки высокое, и чем еще кончится наша промашка. Обошлось, случай помог: Вовченко что-то вдруг насторожился, дважды танк обошел, будто коня живого по броне погладил, поднял глаза на башню с вмятиной, как подкова. «Слушай, — говорит, — никак мой танк. Какой номер по ведомости, не помнишь?» Я сказал… Ну надо же, тесен мир, оказывается: его танк вернулся с ремонта, здоровый, целехонький… А Еремин пошутил: — Был твой, стал мой. — Ладно, он везучий, доживешь на нем до генерала. — Хоть бы до конца войны, и то хорошо. И оба рассмеялись, на том мой конфуз и кончился. А наутро мы уже грузились в эшелон. Конечный путь — Иловля. Вместо моих необстрелянных комбат посадил в танк своих: механика Силина и орудийного Новикова, этакий форсистый, но артиллерист первый класс, это я уже потом, в боях, понял. Заряжающим остался мой Завгородний, стрелком-радистом — Саша Вовченко, в обход военкомата удравший к отцу на фронт в самый разгар тяжелых боев. Еремин определил его к ремонтникам, но Сашка упорно лез в танк и, наконец, сменил убитого бойца. Майор держал его при себе, словно и впрямь надеялся уберечь. Судьба-то была у всех одна. Вовченко, узнав обо всем, только вздохнул: — Такое время, Миша, что и пацаны пригодятся. Он впрямь был пацан. И мы-то — безусые, а он совсем как девчонка, глаза круглые, и вечно всему удивлялся: и толщине брони, и силе снаряда, и нашей, сгоряча, матерщине, точно сейчас родился или с луны упал. В общем, погрузились, поехали… …Эшелон мчался на юг почти без остановок, с бешеным стуком пролетая стрелки, словно заряженный человеческим стремлением скорее, скорее пресечь путь немцам, рвавшимся к Сталинграду. То и дело налетали немцы, по обе стороны путей дымно подымалась земля, пульман вздрагивал от взрывной волны, стены решетило осколками, а с платформ сквозь грохот колес доносилось буханье зениток вперемежку с пулеметными строчками… И снова чистый горизонт, утихающие поля в летнем мареве, белые хатки вдали, точно стаи гусей над озерцами. Белокаменный Борисоглебск, и опять поля, перелески, родная земля, подожженная с юга и запада, зовущая на помощь своих сынов. Еремин, прислонясь к косяку дверей, смотрел вдаль, ему, уже много повидавшему за год войны, страшно было подумать, что немец придет и сюда, отрежет страну от Москвы, которую он еще недавно защищал. Там фашисту обломали зубы, но, видно, силен он был еще с новой стальной челюстью, сжимавшей в тисках город на Волге, жизненную артерию России, — перекусит… Но об этом и помыслить было нельзя, вдруг перехватывало дыхание, и он почти физически ощущал на горле мертвую хватку врага. Жизнь или смерть, третьего не дано. Вдруг обронил Водяному, не оборачиваясь: — Придем на место, возьму твой КВ командирским, а ты посидишь в окопе под штабным танком. Присмотришься пока… И по тому, как он это сказал — загодя, без нажима, как бы спрашивая согласие, чтобы подготовить комвзвода к возможно неприятному для него сюрпризу, стало младшему лейтенанту ясно: майор, при всей своей суровости, человек деликатный, заботливый. А главное — он думал о предстоящем бое, где его место было впереди. Это было его право — нести на плечах свой груз. Такой уж был человек… — Ясно. — А уж если со мной что, примешь место… — Не дай бог. — Ничего, ничего, не на свадьбу едем. А богу пускай немцы молятся, как вначале. Но теперь ему жарко станет, вместе с его подопечными, ведь не сорок первый. Сашка, утративший робость после разогретой в обед консервной каши с салом и впервые отважно принятой фронтовой нормы, восторженно перебил комбата: — Да, да, я вот тоже о чем думаю, — но тут же извинился за бесцеремонность: — Извините, товарищ комбат, но это… — Сейчас удивляться начнет, — добродушно вставил Завгородний. — Окосел трошки малец. — Да, да, буду, и товарищ майор меня поймет… Я хотел сказать — это и впрямь удивительно. Такая сила у них была, а вот устояли… Массовый героизм! Это когда каждый, каждый сам себе и солдат и командир, глаз боится, а руки делают, как говорит моя бабка. Потому что они за арийские свои привилегии, а мы — за человеческое достоинство, за жизнь. — Мы пахали, — засмеялся Новиков. — Да, мы, — неожиданно огрызнулся тихоня радист, — если не пахали, так будем. Я за себя отвечаю головой — не струшу. — Ты вот что, Саша, Александр Иваныч… — сказал майор. — Но меня по отчеству никогда не звали. — Вот что, Александр Иваныч, когда я про место говорил, это не для того, чтобы вас пугать. Просто надо быть готовым ко всему, отступать дальше некуда. И «не струшу» — это еще не все, надо ему, гаду, хребет сломать, а победу уменьем берут, на спокойную голову. — Понятно, товарищ майор. — Всем понятно? — Нам-то уж давно, — ответил Новиков за себя и Силина. — Ничего, повторенье не вредит. Выгружался 7-й танковый корпус на станции Иловля, под бомбежкой. Еремин только и успел — написать короткое письмецо домой. О том, что произошло дальше, вспоминает в своей книге «Танкисты» бывший комбриг И. А. Вовченко.
«После сорокапятикилометрового марша в район станции Котлубань и Самохваловка с ходу вместе с частями 24-й армии атаковали врага, прорвавшегося к Волге севернее Сталинграда… Была поставлена задача соединиться с войсками, защищавшими город. Но подразделения армии еще не успели завершить сосредоточение, поэтому наши танки не имели достаточной артиллерийской поддержки. А воевать надо… По-гвардейски сражались танкисты майора Еремина. Михаилу Васильевичу было двадцать восемь лет… Его любили все — от рядовых до генерала Ротмистрова — за прямоту, искренность, сердечность. Он был одним из тех, кто воевал умением. В бою его батальон всегда чувствовал себя уверенно, каждой операции предшествовала тщательная подготовка. Он никогда не водил свои танки вслепую. Это был талантливый командир, которого ждало большое будущее. В этот раз Еремину пришлось отступить от своего правила и вести батальон в атаку немедленно, без соответствующей подготовки и даже без поддержки артиллерии…»Немцы перли широкой полосой по степи, изрезанной оврагами, где их оборона, прикрывавшая наступление колонн, напоминала железную западню. Зарытые в землю танки, пушки, дзоты, скрытые в балках. Тронься с места — земля горит, небо в дыму, застилающем солнце. И ни минуты на разведку боем, чтобы засечь, как бывало, огневые точки, разобраться в механизме обороны, чтобы действовать наверняка… Об этом-то и просил Еремин комкора, дважды посылая младшего лейтенанта Вадима Водяного с записками в штаб. И всякий раз получал отказ: видно, и впрямь приперла нужда, не давал минуты осмотреться. На первую записку, как рассказывает Водяной, где ползком под пулями, где машиной добиравшийся до штаба, комкор ответил коротко: — Передайте Еремину — вперед, решительно! Он вернулся с приказом, и командирский гнев обрушился на него. — Что ты мне принес — шиш в кармане, гробить зазря технику и людей? Что? Докладывал? Значит, плохо доложил. Давай обратно. И вручил ему новую записку: «Прошу отложить атаку до ночи». Ночью он мог бы сориентироваться, проведя рекогносцировку, засечь огневые врага. Но и на повторную просьбу Водяному ответили приказом: «Решительно вперед!» Когда он вернулся на исходные позиции, батальона уже не было на месте, ушел в бой. Первым ринулся командирский танк. «Делай, как я!» Он бил по заметавшимся у дороги танкам в упор, крошил, давил дзоты, определяя ориентиры машинам, а когда все смешалось в дыму и огне, приказал ориентироваться самостоятельно каждому взводу. Немцы лупили со всех сторон. Но танк шел вперед, в западню, на верную гибель, с одной мыслью, бившейся в сердцах экипажа: нанести удар посильней, пробить брешь побольше. И никто не отстал, разве только те, что уже горели дымным пламенем позади. Но достал враг отчаянную командирскую машину — будто с ходу наткнулась на гранитную стену. Ударом болванки пробило броню. Осколок врезался Завгороднему в голову, комбату — в грудь. Но Силин все же сумел вывести подбитую машину из боя. К ним подбежали майор Гуменюк и капитан Ляшенко, вскоре прибыл и комбриг. Гуменюк, отвинчивая с груди Еремина орден Ленина, кусал до крови губы, черное от копоти лицо его пробороздила слеза. Вовченко подали планшетку Еремина. В ней на карте были обозначены огневые точки врага, те, что успел засечь в этом пекле. Вот почему он лез напролом, это была разведка боем — ценой жизни… — Разрешите, товарищ комбриг… Перед ним, сжав зубы, стоял капитан Ляшенко, заменявший комбата в штабе. — Давай, капитан. Теперь он сменил комбата в танке и пошел в бой. Вечером у села Иловля хоронили их обоих: Еремина и Ляшенко, сгоревшего в танке в том же бою, и с ними еще сорок погибших танкистов. Молча простившись с командиром, дали залп из автоматов. Армия вскоре прорвала оборону немцев, направляя удар в сторону Городища. А письмо комбата, написанное перед боем, долго еще блуждало по полевым перевалкам, пока не достигло Москвы.
«Здравствуй, дорогая Тася и мои любимые птенчики Юрик и Аленочка! Вот и пришли горячие денечки, каких еще не бывало, настоящее пекло, и мы вступаем в него, сменяя тех, кто ранен или погиб. Но ты за меня не волнуйся, я уверен, что немцев мы разобьем, а сами останемся живы. И ты будь тверда и уверена, что наша с тобой радость откладывается совсем ненадолго — до Победы, до встречи после войны…»
ТОННЕЛИ, ТОННЕЛИ…
В те далекие годы в товарняках, составленных из теплушек, пробираясь с юга на северо-запад, на фронт, вряд ли кто из нас, училищных сержантов, имел понятие о людях, чьими руками были восстановлены попадавшиеся на пути тоннели, взорванные отступавшими немцами, и чего это стоило. И уж мало кто задумывался, какую огромную роль в работающей на пределе сил военной Москве играли подземные коммуникации метро в снабжении городских заводов и фабрик. А ведь оно действовало и продолжало строиться! Пусть малыми силами, но великим трудом. Воюя, страна думала и о завтрашнем дне. Часть подземных строителей взяла на свои плечи всю тяжесть проходки, другие были посланы на Север, на Кавказ, туда, где требовались их опыт и мастерство. Об этих людях, их трудовом подвиге и рассказали мне мои новые знакомые — метростроевцы, ветераны трудового фронта, внешне такие разные, непохожие друг на друга. Чесноков Андрей Семенович при своем солидном возрасте — ему за семьдесят — полон жизни, что-то в нем неизбывно молодое, даже за столом он говорит громко, азартно, кажется, что слова мешают сосредоточиться. — Нет, вы могли бы, скажем, писать, не имея карандаша, или зашить порванную гимнастерку без иголки и ниток? Или вырыть котлован без кирки и лопаты. А вот нам, метростроевцам, во время войны, в самые тяжелые дни и не то приходилось… — И он кивает на своего сослуживца Бориса Ильича Альперовича, некогда командовавшего тоннельным отрядом на Кавказе… А мне вдруг вспомнился сорок первый. Вместе с детдомом, ехавшим на Восток, я впервые очутился в Москве. Воздушная тревога загнала нас в метро, приютившее сотни москвичей… Ряды топчанов, огромные кипятильники по углам, снующие взад-вперед женщины в темных форменных беретах, взявшие на себя обязанности ангелов-хранителей. — Мамаша, молочко для ребенка! — Мальчик, возьми тетрадь! Школа на завтра не отменяется! Наверху гулко ухало, где-то неподалеку рвались бомбы, а здесь, под землей, шла похожая на обычную жизнь: люди ужинали, читали газеты. Проезжали мимо платформы проходчики в касках, с почерневшими лицами, махали руками удивленно застывшим на станции ребятишкам: «Держитесь, братва, сейчас немцев отобьют, и пойдете на солнышко…» Борис Ильич помалкивает. Его сухое лицо с втянутыми щеками таит какую-то постоянную печаль, движения сдержанны, речь тиха, ходит он по комнате осторожно, словно внутри у него спрятан хрупкий сосуд, который он боится расплескать. Совсем недавно проводил он в последний путь жену, тоже старую метростроевку, с которой прожил жизнь. Кажется, впервые с такой щемящей остротой ощущаю чужую потерю. Вдруг лишиться того, что было с тобой всегда, — дружбы, чуткости, понимания. — Ты расскажи о своей войне, а потом я о своей, — предложил ему Андрей Семеныч. — Пусть люди знают о нашей доле в победе. И подробней. У тебя же память дай бог, и вообще ты еще мальчишка! Борис Ильич улыбнулся, шевельнув щекой: — Нет уж, давай по старшинству…ВОЙНА — РАБОТА
В самые трудные для столицы дни строительство метро не прекращалось ни на минуту. Поразительно — именно в годы войны появились красивейшие станции: «Измайловский парк», «Бауманская», «Курская», «Автозаводская», «Новокузнецкая», «Павелецкая». Впрочем, чему же тут удивляться? Родина думала о завтрашнем дне, о благе людей. Может быть, это привычное занятие — стройка — и вселило в строителей метро спокойствие и сосредоточенность, которые позволили, как выразился Андрей Семеныч, за два-три месяца «втянуться в войну». Легко ли? Проходка подземных пластов — само собой. А еще подготовка к зиме, ремонт жилья, добыча торфа и угля в подмосковных бассейнах, строительство оборонных объектов и многое, многое другое. Десятки заводов и фабрик страны работали на Метрострой. Но теперь часть из них была отрезана от Москвы. Можно представить, какая тяжесть легла на плечи Андрея Семеныча, бывшего тогда заместителем начальника Метростроя по материально-техническому обеспечению… Не оттого ли он вдруг умолк, замкнулся, словно пытаясь мысленно объять пережитое. — М-да… ну вот, значит, так… Нервно сцепив пальцы, поглядывал в слепящее весенним солнцем окно, за которым журчали ручьи; паузы между фразами затягивались, и слова — будто капель с подмерзающей сосульки. Но в каждой капле, если вглядеться, жил сложный, удивительный мир войны и работы. — Знаете, — неожиданно засмеялся Андрей Семеныч, — мы ведь и Дворец культуры тогда воздвигли. — Он так и сказал: «воздвигли», как бы подчеркивая значительность события. — Видели там свод с ярчайшей росписью? Так вот, для женских фигур художникам позировали наши девчата-маляры. Но как же все-таки умудрялись метростроевцы не сбавлять темпов проходки в оборонявшейся Москве? Работа под землей и в мирное время не сахар: юрские глины, плывуны, крепкие, как железо, известняки — отбойным молотком не возьмешь, только взрывчаткой. Кессонами отжимай воды, наклонную шахту заморозь, не то — обвал. А людей стало меньше, ушли на фронт. И тогда оставшиеся, решив работать по-фронтовому, совершили, казалось, невозможное. Они ускорили щитовую проходку. Сидя на голодном пайке, механизировали тяжелые операции, придумав погрузочные машины и десятки других мелких новшеств, облегчающих труд. Шоферы, возившие бетон, вместо привычных семи ездок за смену стали делать по двадцать. Штукатуры, тратившие на отделку тоннеля шестьдесят дней, сократили время до десяти. Комсомольцы Покровской линии, узнав про затор на мраморных работах, спешно, на ходу, подучились и повели отделку. Возникла проблема с эскалаторами… Тут Андрей Семеныч молча развернул и с какой-то даже нежностью разгладил на столе пожелтевший от времени лист газеты «Ударник Метростроя» с отчеркнутым абзацем в статье начальника Метростроя М. А. Самодурова.«…Нужны были огромное организаторское мастерство, большевистская настойчивость, энергия, инициатива, чтобы в условиях военного времени за короткий срок выпустить 18 эскалаторов. В этой работе приняли участие 53 московских предприятия…»— А как же все-таки с материально-технической базой? На этот раз пауза затянулась дольше обычного. — Что там говорить… Да и не расскажешь всего. Страна по-прежнему давала нам лес, цемент, металл, но вот, скажем, тюбинги… Они шли с Украины, а тут юг в оккупации. У меня, правда, крупный запасец был. Сколько я из-за этого запасца выговоров получил в свое время. А не зря берег… И не я один. У директора завода тоже задел оказался. Мраморные плиты, готовые, отшлифованные, хватило на шесть станций. — А когда вышел ваш запасец? Андрей Семеныч покачал головой. — Знаете, мы не волшебники, — произнес он уже иным, наставительным тоном. — Учтите главное. Мы постоянно ощущали поддержку МК и МГК. К метростроевцам там, по-моему, питали особую слабость. Ну и то сказать — народ у нас был великолепный, мастера! Да, так вот — о тюбингах… К тому времени, когда кончился запас тюбингов, был освобожден Днепропетровск.Завод лежал в развалинах, цех тюбингов разрушен, однако было уже дано указание из Москвы — за восстановление цеха взялась железнодорожная часть. Весьма чутко отнеслись к хлопотам Чеснокова в обкоме партии, увеличив рабочим хлебный паек. Да и люди принялись за дело с небывалым энтузиазмом, будто мстили немцам за их варварство. Ровно через три недели цех выдал первую продукцию! — В Москве даже не поверили, получив мою телеграмму. Попросили подтвердить… Война настроила всех — от мала до велика — на какой-то особый лад. Служебный кабинет с раскладушкой и умывальником стал домом, люди отрешились от устоявшихся привычек, потребностей, превратились в солдат трудового фронта… Однажды в полночь на столе Андрея Семеныча затрещал телефон. Ведавший монтажом инженер Гастеев доложил, что для завершения работ на Замоскворецком радиусе не хватает ста километров кабеля. — То есть как… — У Чеснокова даже похолодело внутри. — О чем же вы раньше думали?.. — спросил он хрипло. И самому стало страшно от этой внезапно наступившей тишины. Была ли здесь чья-то оплошка, или кабеля с самого начала недобрали — раздумывать было поздно. Дисциплина военного времени сурова, ответственность велика. — Виноват, — только и вымолвил Гастеев, — готов нести любое наказание. — Смелый вы человек, — все так же тихо произнес Чесноков, накаляясь против собственной воли, потому что уважал Гастеева как хорошего работника. — Но мне с вашим наказанием чай не пить! Мне нужен кабель, вот и думайте! И положил трубку. Постепенно, как это бывало не раз, приходило спокойствие. Еще ничем не объяснимое, вызревавшее из привычной убежденности, что безвыходных положений не бывает: не в пустыне живем. Только без паники, взять себя в руки, прикинуть… Он уже потянулся было к телефону, чтобы вызвать начальника электромеханических устройств Николая Владимировича Церковницкого, как в дверь постучали, и тот сам вырос на пороге — высокий, подтянутый, чисто выбритый, он всегда брился ночью, чтобы сэкономить утреннее время. Весело тряхнув белокурым чубом, присел у стола. — Все знаю, — упредил он рассерженный жест Чеснокова. — Гастеев мне звонил. — Не вижу в этом ничего приятного, — буркнул Чесноков, не сводя глаз с гладких щек Церковницкого. Еще подумал, поморщась: «Неужто одеколоном мажется? Ну конечно, у него воз полегче моего. Хотя…» Николай Владимирович Церковницкий слыл человеком неугомонным и вездесущим. За полгода до пуска станции он уже подгонял электриков, указывая на возможные узкие места, тормошил начальство, критиковал на собраниях «резинщиков» с Мытищинского вагоностроительного, подкрепляя свои слова статьями в многотиражке. Ему говорили: «Им статья как слону дробина. Не наш ведь завод». — «Что значит — не наш? — вскипал Церковницкий. — Советская власть одна!» И не зря Андрей Семеныч, раздумывая, к кому бы обратиться за советом, вспомнил о Николае Владимировиче. — Кто может помочь? — Мосэнерго, — коротко изрек Николай Владимирович, когда-то работавший в этом учреждении. — У них есть кабель… Должен быть! — Думаешь, дадут? — Уверен, но без поддержки МГК не обойтись… Утром кабель был получен. Так была решена проблема. Одна из многих. И зря я вначале поражался быстрым темпам проходки метро в условиях войны. Ведь какие люди работали под землей! — Вот, скажем, Костя Овчинников! Вы бы видели его! — взволнованно заговорил Чесноков. — Богатырь! Волжанин! Таких работников я больше не встречал. Ну, правда, резковат малость, но справедлив! Люди в нем души не чаяли. И умница, каких мало. Московскую капризную породу читал как раскрытую книгу. Загодя знал, где какую ставить крепь. Но уж если своих сил не хватало, помогали опять-таки нам безотказно. Да разве можно отказать таким, как Костя?! По линии Совнаркома метростроевцев опекал Василий Гаврилович Поликарпов, обычно отвечавший на просьбы: «Сам приеду, погляжу». На этот раз было на что посмотреть. Костя при всем своем умении не мог рассечь тоннель к станции «Арбатская» — невиданный по напору слой воды сбивал с ног. Сутки работали люди, не просыхая. По дороге на аварийный участок, пока Чесноков горячо объяснял товарищу из Совнаркома, какой человек Овчинников и как он все же умудряется сдерживать лавину воды новой, придуманной им крепью, о том, как до зарезу нужен хоть пяток водолазных костюмов, иначе проходка станет, Поликарпов помалкивал. Лишь на участке, когда Костя, слепой от воды и глины, вняв зову гостей, втянул их на площадку через узкую горловину, нещадно ругаясь при этом: «Что тут смотреть? У нас не театры!» — Поликарпов сказал: — Постараюсь помочь. А Чесноков, перекрывая шум воды — все в минуту промокли до нитки, — закричал смутившемуся Косте: — Это ж товарищ из Совнаркома, попридержи язык!.. Поликарпов, как был мокрый, в каске, сел в машину и поехал в Кремль. В полночь, едва дали отбой воздушной тревоги, к складу Метростроя подъехали крытые брезентом грузовики, в них лежали водолазные костюмы и десять тысяч спецовок. Овчинников не ушел со смены, пока не поставил заслон воде. Андрей Семеныч рассказывал. Одна история сменяла другую, из них складывалась картина военных будней… Каждый день нес с собой новые заботы, новые задачи. Жарким августом, когда солнце, будто огромная огненная ракета, зависало в рокочущем от моторов небе, несколько бригад были посланы строить оборонные объекты в районе Бородина. Базу надо было создавать самим… Мне в своей жизни довелось поработать в полевых условиях на сооружении дорог, дамб, мостов — и всякое приходилось видеть: и путаницу, и штурмовщину. Но как же радовалась душа, когда за дело бралась мобильная колонна — отряд со сложившимся коллективом, где все было налажено, каждый знал свое место и все делалось без лишней суеты. Стук топоров, визг циркулярной пилы, жужжанье сварки — и, как в сказке, вырастали легкие бараки, гаражи, мастерские, подводилась вода. Короткий посвист движка оповещал о пуске подстанции. А в котельной, окутанной морозным паром, грелась вода для утренней заправки машин — и они минута в минуту выезжали из ворот, а вскоре на объекте поднимались штабеля труб, кирпича, арматуры… Это в мирное время… А здесь и в военное было так же, может быть, еще четче, сноровистей, быстрей. Группу метростроевцев возглавили инженеры Стрымбан и Рахлин. Из Москвы по Волге на баржах уже везли гравий и цемент, доски и оборудование для подстанции. На месте разыскали глину. Стали готовить раствор, бетон. В палаточном городке все решал график. Военные специалисты показывали, где и как надо строить, куда повернуть амбразуры дотов, уточняли сектора обстрела. Рыли противотанковые рвы, ставили ежи, сотни, тысячи, десятки тысяч ежей. А в воздухе кружился ставший привычным фашистский разведчик, и ровно минута в минуту — враг был аккуратен — завывали в небе «мессеры». — Эта ихняя аккуратность, — усмехается Чесноков, — нас во многом выручала. Прятались загодя, так что толку от налетов было немного. Ночью старались не работать, чтобы не обнаружить себя светом, подвозили материалы. Но от зари до зари выкладывались до конца. Сам Андрей Семеныч все же попал однажды под пулеметы врага. Ездил в Бородино часто. Путь неблизкий, поэтому об отдыхе пришлось забыть, а тут и вовсе едва жизни не лишился. Хорошо, что вовремя заметил стремительно мчавшиеся навстречу машине бурунчики пыли. Поднял глаза и, мысленно ахнув, крутанул руль вправо. Очередь со свистом прошла мимо, а с нею и самолет на воющем вираже. «Эмка», трижды перевернувшись, стала на четыре колеса. Сидевший позади парторг управления Матвеев только и сказал: «Повезло». Ошеломленные, несколько минут сидели молча. — Потом и не такое бывало. Человек ко всему привыкает. Иногда ему просто не до страха. Надо было кончать с рубежами… Вообще, — Андрей Семеныч покачал головой, — начинать рубежи было легче. А вот свертываться, скрытно уходить под огнем напиравшего фашиста со всем имуществом, оборудованием, людьми… — Он глубоко вздохнул и добавил: — Однако сумели. А в Москве ждал новый приказ — в кратчайший срок наладить выпуск минных корпусов. Это просто сказать: «Даешь мины!» Собственный Метростроя механический завод — люди, оборудование — отправлен на Восток. Из людей остались лишь два старых мастера, а из оборудования — списанное старье. С какой стороны подступиться к делу, где найти токарей, фрезеровщиков? Вскоре из-под Новосибирска, со станции Чулымская, прибыла по комсомольским путевкам группа девушек — молодых, необученных. В полушубках и в валенках, перепоясанные шерстяными платками, они стояли посреди холодного пустого цеха, опустив на пол баулы. В углу поодаль уже громоздились присланные соседним заводом чугунные заготовки, у стен — три собранных заново станка. Гостьи пытливо, исподлобья поглядывали на поднявшихся навстречу мастеров. Старшая, круглощекая, с колкими серыми глазами, спросила: — Когда приступать? — А вы станки-то хоть во сне видели? — в свою очередь поинтересовались хозяева. — У нас сон молодой, мы другое видим. Давай обучай. — Может, сначала в общежитие, баулы сложите? — Они у нас без ножек и отсюда не убегут. Через неделю производство пошло на лад. Машина едва успевала увозить готовые корпуса. Андрей Семеныч вдруг сощурился весело, будто вглядываясь в полузабытые, размытые временем лица сибирячек. Рассмеялся: — Ну и девки были! Одна к одной, как яблочки. Как мы их потом ни уговаривали остаться, чего ни сулили — и жилье и профессию — ни в какую! Как приехали, так и уехали. Ни одна в Москве замуж не вышла. Бригадирша ихняя, бедовая, на прощанье сказала: — Мы свое дело сделали, не обижайтесь. У вас хорошо, а дома лучше. Дома и женихов станем ждать, они у нас воюют… Андрей Семеныч проводил их до вокзала и вернулся к себе в управление. Предстояла обычная в ту пору беспокойная ночь — звонки на Мытищинский вагоностроительный, звонки на угольные карьеры, переговоры с Уралом, Сибирью, Украиной… Чесноков умолк, глядя рассеянно на Бориса Ильича, тронул его за локоть: — Ну что, старина? Теперь твоя очередь — выкладывай про свою тоннельную эпопею на Кавказе. Тот чуть заметно кивнул, собираясь с мыслями…
ДОРОГА К ПОРТУ
Немцы рвались к Моздоку, и вечные спутники войны — понурая вереница беженцев: старики, женщины, дети — медленно брели по морскому побережью… Они шли, отупевшие от горя и невзгод. Изредка какой-нибудь малыш с алюминиевой кружкой, скользя по слякотной от дождей тропе, робко подходил к костру, который жгли строители, — ему наливали кипятку, давали сухарь. — Долго еще война будет, дяденька? — Вот проложим колею, — хмуро отвечал прораб Фролов, поглаживая мальчишку по кудлатой, давно не стриженной голове, — подойдут до Туапсе патроны, снаряды, вот тогда и кончим фашиста. — Ага, — серьезно соглашался мальчуган, — скорей кладите свою колею. Скорей… Они и так уже работали на втором или, может быть, на третьем дыхании — сколько их у человека, неведомо. Яростно вколачивали костыли, таскали на себе шпалы и рельсы — необходимо было проложить ветку до Гудауты, оттуда до Туапсе есть дорога. Была еще одна, главная, в горах, но она перерезана немцами. В полночь в сырых пещерах валились на влажную соломенную подстилку, еще хранившую тепло сменщиков. Те, в свою очередь, через шесть часов поднимали товарищей. И снова — работа, работа до черноты в глазах. Так и двигались вперед, пока фашистов не отогнали на Тамань и можно было перебазироваться на главную магистраль — через перевалы, к взорванным тоннелям, а грузы, скопившиеся в порту Туапсе, ожидали отправки на передовую. Ночью после горячей за кои-то времена похлебки главный инженер отряда Бугаенко, лежа на соломе рядом с Борисом Ильичом и глядя на умытое, в крупных звездах, небо, сказал с присущей ему иронией: — Да, мир слишком прекрасен, чтобы не придумать какую-нибудь гадость вроде войны. История человечества — сплошные побоища. Неймется людям. — Чушь, — буркнул в полусне начальник отряда. — Расслабляешься. — А может, напротив, предчувствую нечто грандиозное. Оттого и могу себе позволить шуточку. Фрицам скоро не до шуток будет. Видал, сколько эшелонов прет к Сталинграду. Это только с Северного Кавказа. А если восстановим тоннели? Предчувствия не подвели. Утром, когда ливень превратил тропы в липкое месиво, Бориса Ильича вызвал к себе начальник Военно-строительного управления, которому был придан отряд метростроевцев, генерал-директор Петр Михайлович Зернов и, глядя с высоты своей громоздкой фигуры на щуплого тоннельщика, добродушно прогудел: — С завтрашнего дня приступайте. — И уже серьезно, с металлом в голосе: — Срок на временное восстановление — три месяца от силы. Борис Ильич даже не сразу осмыслил, что означает подобный срок в сопоставлении с предстоящим объемом работ. Само понятие «объем работ» звучало как-то совсем по-граждански. Посыпались короткие вопросы, касающиеся технической вооруженности отряда. На все из них можно было ответить односложно: нет. Нет лопат в нужном количестве, нет циркулярной пилы для заготовки крепежного теса, нет топоров — ничего нет. — Кое-что подбросим, самую малость. Остальное надо достать. — Где достать? Зернов взглянул на тоннельщиков не то сочувственно, не то осуждающе. В серых глазах его мелькнул холодок. Идет война, и какая! Кругом разруха, ждать помощи неоткуда… Солдат, попадая в переплет, видит только врага и надеется на себя. Бывают такие ситуации… Может быть, оба они, Зернов и Борис Ильич, подумали сейчас об этом. Зернов сказал только: — Надо! Магическое слово, будто вобравшее в себя все тяготы войны, символизировало волю и находчивость. — Есть, — тихо произнес Борис Ильич и, поворачиваясь, зачем-то даже попытался козырнуть, хотя был в пальто и кепке, но у него не получилось, человек он был сугубо штатский. Улыбка на лице Зернова лишь подхлестнула его. Прибыв на место и поставив бригаду рыть землянки, Борис Ильич с Бугаенко и бригадирами пошли на рекогносцировку — своего рода техническую разведку. Название, конечно, слишком громкое, если учесть, что отряд не располагал нужным инструментом, уже не говоря о технической документации. Хребет и склоны горы были изрыты траншеями, земля еще пахла гарью — повсюду россыпи плесневеющих гильз, брошенное оружие, исковерканные пушки. Картина недавнего боя венчалась взорванным доверху порталом Гойхского тоннеля. Там возились саперы во главе с похожим на подростка капитаном, даже издали было видно, что опыта по расчистке тоннеля у них нет. — Роете снизу, а сверху осыпается, Мартышкин труд! — сказал Бугаенко капитану. — Покажите, как надо, — задиристо ответил капитан. Бугаенко улыбнулся: — Крепь — закон шахтного дела. Шаг прошел — закрепи. Вечером прошу на совещание. За Гойхским тоннелем, на перевалах, было еще два подорванных: Навагинский и Ходжинский. Навагинский был разрушен гитлеровцами с особой изощренностью, в него предварительно загнали два паровоза с толом. Пробка породы — четырнадцать метров в сечении. Попробуй, возьми ее голыми руками. …В пустом немецком блиндаже при свете карбидного фонаря шло заседание штаба отряда. Проблемой номер один была крепь. Это значило — прежде всего добыть инструмент. Кайла давали саперы. Неунывающий механик Богорад первым нарушил тягостную паузу. — Поискать в пустых селеньях да пошарить в траншеях — думаю, что-нибудь найдется. Потом прораб Яцков, коренастый, с упрямым подбородком, заметил начальству, что прежде всего надо бы подумать о горячем питании, люди не железные, в конце концов. И тут опять-таки не кто иной, как механик Богорад, сообщил, что в одном рву он обнаружил утром полевую кухню. Почти целая — так, кое-что подварить да одно колесо поставить, на первый случай можно и без колеса. А что касается теса, то можно, между прочим, вручную пилить деревья на кряжи и топорами отщеплять доску. Даже несведущему человеку было ясно, какого труда будет стоить заготовка сотен кубов теса таким способом. Но в эти минуты люди, казалось, гнали самую мысль о подсчетах. Просто каждый ощущал другого рядом, и это внушало надежду: вытянем. Главное, есть цель… Борис Ильич подвел итог. Работа сменная, круглосуточная и сразу на всех трех тоннелях. — Распылим силы, — возразил Бугаенко, которому на этот раз было не до шуток. Обычно сдержанный, Борис Ильич, перебивая своего главного инженера, повысил голос, отчего даже слегка закашлялся: — Именно — на трех. Всем на одном пятачке не развернуться, только мешать будем друг другу. Да и поезда все равно не пройдут, пока не сделаем все три тоннеля. Первый же нас измотает вконец, а так — раз уж начали — кончим все три. Свободной силой поманеврируем. Бугаенко с некоторым удивлением взглянул на Бориса Ильича, которого всегда считал не столько организатором, сколько «ученой головой». А тут — смотри-ка… С тактической точки зрения, расчет верен. И психология учтена. — Далее, — закончил Борис Ильич, — материально-техническая база, быт, питание. Тут нужна расторопность, хозяйственная жилка. Назначаю своим зампохозом товарища Богорада Игоря Петровича. Возражений нет? Возразить мог бы сам Богорад, всегда гордившийся своей профессией механика, но он все понял и лишь вздохнул. И начальник отряда, ожидавший протеста, почувствовал, как гора свалилась с плеч. — Спасибо, — сказал, — я знал, Игорь Петрович, что вы нас выручите. Итак, в пять утра — подъем. А утром началось… Ни раньше, ни потом, никогда не приходилось им еще так работать. В полном мраке, в густой — не продохнуть — пыли забоя, к которой добавлялась едкая копоть лучин. Лучины — единственное имевшееся освещение — придумали сами рабочие… Чад. Раздираемые кашлем легкие. Но без света крепь не поставишь, без крепи не пробьешь тоннель, а без тоннеля фронт не получит снаряды и продовольствие. Порой кто-нибудь не выдерживал, его вытаскивали наружу — хлебнуть воздуха. Одному пожилому проходчику стало совсем худо, его понесли в блиндаж. На полпути, очнувшись, он соскочил с носилок и с укоризной сказал товарищам: — Куда вы меня несете? Что я, раненый? Здоровых солдат в госпиталь не кладут… Да, это была работа под стать войне. Казалось, в тоннеле, в этом кромешном аду, где слышался стук кайла да хриплое дыхание, работал стальной механизм с человеческим сердцем. Сердце держалось любовью к родным и близким, оставшимся в далекой полуголодной, воюющей Москве, и ненавистью к врагу. Едва ли не через день приезжал Зернов — исхудавший, с темными подглазьями, — вникал в мельчайшие детали восстановления, давал советы, торопил: — Время, друзья, время не ждет. — Вы же нам отпустили три месяца. — Это я — вам. А что вы отпустили сами себе? Нажмите, прошу, минута дорога.На утренней зорьке знакомой тропой начальник отряда отправлялся на перевалы, к двум другим тоннелям. Бугаенко, правда, всегда был на месте, но Борису Ильичу казалось, что без него дело движется медленно. Пошел он и сегодня, чувствуя тяжелевший на боку трофейный «вальтер»: в горах попадались заплутавшие немцы. Был он близорук и, случись беда, едва ли смог бы воспользоваться пистолетом, и все-таки с ним, что ни говори, веселей. В рассветной тишине ухала сова, эхо катилось по лесным ущельям. Призывно трубил олень. В чащобе занимался птичий щебет. Горы жили своей, невидимой глазу жизнью. В эти минуты он мог немного отвлечься, подумать о жене, оставшейся с малышкой дочерью в Москве. Как они там без него? С женой и до войны-то мало виделись. Работа, заседания, общественные нагрузки. На мгновение к нему словно бы пришло ощущение безвозвратной потери. Молодость не вернешь, промелькнула в трудах и заботах, а потом — война… И словно бы наперекор всему, с каким-то необъяснимым упрямством стал мечтать о том, как они с женой заживут после войны. Только бы победить, одолеть эти коричневые полчища, добравшиеся аж до Кавказа. И чем больше он думал об этом, тем дальше уходили воспоминания, вытесняясь будничной маетой. Три дня не был он на Навагинском. Как побыстрей доставлять материалы к тоннелю через бурную Шыпшу — мост взорван. В день по столовой ложке не годится, сорвем сроки. Он вышел на перевал и замер, не веря глазам. С крутого берега к тоннелю тянулись стальные тросы. По ним, как по канатной дороге, скользила платформа с людьми, сверкали на солнце кирки и лопаты. Потом пошла вторая, груженная тесом. Начальник отряда двинулся, как слепой. У самого берега, на круче, столкнулся с Бугаенко. — Где ты все это раздобыл? — спросил чуть слышно. — Вагонетки — трофейные, под откосом, канаты — в разбитом альпинистском обозе. И домкраты там же. Поддомкратим — и на тележках под гору. — Ну… спасибо. Впервые ему изменила выдержка, отвернулся: ветер, что ли, вышиб слезу? Молча обнял Бугаенко, слова застряли в горле — не вымолвишь. За три дня до намеченного срока под всеми тремя тоннелями, стоявшими на временной крепи, со стороны порта прошел первый эшелон. Метростроевцы проводили его глазами и повалились наземь — спать. Дойти до землянок не было сил. К этому времени землянок, к слову сказать, оставалось немного. Богорад со своей хозкомандой успел поставить на рельсы несколько отслуживших вагонов — под жилье, инвентарь, кухню, походную кузницу. Так в горячей прифронтовой купели рождался отряд на колесах, мобильная колонна.
Поступивший от Зернова новый приказ о переброске к Новороссийску застал метростроевцев в полной готовности. Накануне Бориса Ильича вызывали в Москву, в главк, за подробными указаниями, и он впервые за два года встретился с женой. Она ждала его на Курском вокзале с букетиком фиалок. Торопливые объятия. Запавшие сияющие глаза. И расспросы, расспросы: как здоровье, как дочка, чем питаетесь? — Все хорошо, главное, ты жив-здоров… Он-то знал, каково им приходится, кое-чего подкопил от своего пайка. Даже плитку шоколада для малышки. — Вот и порадуешь ее сам! К вечеру возьму из садика. А сейчас мне на работу. Пока… — До встречи. С дочерью так и не смог толком повидаться. Едва успел заскочить домой помыться — и в главк, а когда вернулся, она уже спала. У жены случилось дежурство. За двое суток, может, час и пробыли вместе…
А среди развалин Новороссийска, куда он прибыл с полномочиями главка, уже закипала жизнь. Люди возвращались в родной город в одиночку и группами, толкая перед собой повозки с детьми, скарбом. Но это были уже не те беженцы, которых он видел на кавказском взморье: слышался смех, веселые оклики. Девушки в пестрых косынках, с исхудавшими лицами с утра осаждали штаб тоннельного отряда — просились на работу. Прибывший с отрядом замполит Анапольский, мужчина сурового вида, никому не мог отказать. К тому же рабочие руки нужны. А тут, хоть и женщины, все же подмога. Их оформляли санитарками, подсобницами, связистками — благо, с перевалов увезли трофейные катушки с кабелем, полевые телефонные аппараты. Да и Зернов кое-что подбросил, особенно пришелся впору движок. — Это же электричество! — ликовал зампохоз Богорад, отрастивший к тому времени бороду, — девчата звали его «батей». «Бате» не было и тридцати. А в горах, над морем, среди обломков прокатившейся войны, ждала людей работа. Два взорванных тоннеля: Большой и Малый Новороссийские. Теперь уже не из порта, а в порту Новороссийск, ставшем главной базой Черноморского флота, ждали подкреплений с Кубани. К примелькавшимся в штабе отряда военным прибавились моряки, буквально взнуздавшие строителей: просили, грозили, требовали — давай дорогу! Уже при первом осмотре завала прораб Яцков предостерегающе поднял руку: — Тут снаряды заложены… — Обезвредим, — отозвался Бугаенко, рассматривая открытую кладку, — не впервой. Но замполит недаром учил бдительности, да и Яцков был учен войной. Что-то очень уж подозрительно: взрывчатка на виду, нет ли тут подвоха? Оказалось, есть. Нашли вскоре замаскированную минную камеру. И все же не обошлось без жертв — вокруг на взгорьях и в самом тоннеле немало было понатыкано мин. Малейшая неосторожность оборачивалась бедой. А Зернов между тем требовал ускорить темпы, и начальник отряда при очередной встрече с генерал-директором вспылил, наотрез отказавшись от опасной спешки. Зернов промолчал и после внушительной паузы сказал раздельно: — Война. На Тамани гибнут тысячи… — Потом, смягчившись, добавил: — Уменьшите риск, где только можно. Прежде всего усильте освещение, добавьте крепь под карнизы. А сейчас поедем — посмотрим на участок. На месте стала ясна картина. Взрыв тоннеля на выходе образовал глубокую выемку, заваленную тысячами кубов породы. Таскать вручную — на полгода хватит. Зернов только головой покачал: «Да, задачка не из легких». Прибывшие вместе с ним военные помалкивали, стараясь скрыть растерянность. Один только Яцков чему-то усмехался. Или начальнику отряда показалось? На пропыленной робе Яцкова поблескивал полученный еще на Дальнем Востоке орден Ленина, который он никогда не снимал. Может, ему было весело оттого, что недавно к нему приехала жена, взяв под свое начало сразу и кухню и хлебопекарню? — У тебя есть предложения? — спросил Борис Ильич, несколько даже раздраженный неуместно довольным видом прораба. — Есть, — сказал Яцков, ладонью стерев улыбочку, — если возьмем грех на душу. В городе, на цемзаводе, должны быть вагонетки, нужно только вытащить их из развалин. Опять же снять рельсы и кое-что еще. Когда еще завод восстановят… Мы же все вернем! — загорячился Яцков. — Так что и не грех вовсе, а? Борис Ильич? — Ну, удачи вам, — обронил Зернов, деликатно отвернувшись и позвав за собой своих спутников. Он знал щепетильность Бориса Ильича, а тот, в свою очередь, знал, что за срыв задания спуску не будет. И он взял на себя «грех», иного выхода не было. И оттого, что решился, слишком уж торжественно для такой минуты прозвучал его устный приказ о назначении Яцкова начальником участка. — Спасибо за повышение, — засмеялся Яцков. Нет, ему было совсем не весело, просто смертельно устал человек за последние месяцы, а тут подвалили новую работенку. Яцкову тут же было разрешено три часа сна. Зернов появился через неделю — и не узнал участка, который был похож теперь на отлаженную станцию разгрузки. Вместе с вагонетками, приспособленными для узкоколейки, пригнали мотовоз. Теперь он шел к отвалу по широкой колее, таща за собой состав с грунтом и еще два состава толкая по бокам. Зернов, опытный строитель со стажем, ничего не сказал, понаблюдав с полчаса за работой, — он-то знал, чего все это стоило, — лишь спросил фамилию начальника участка. Вот зачем спросил — об этом узнали через месяц после того, как эшелоны полным ходом шли сквозь тоннели на Новороссийск. Указом Президиума Верховного Совета СССР Ивану Алексеевичу Яцкову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Первый Герой Труда — метростроевец военного времени. И еще был митинг, на котором с наспех сколоченной трибуны-времянки выступал, благодарил за отличную работу тоннельщиков и всех, кто им помогал, невысокий, седоватый, в очках, командующий фронтом Петров. Он говорил тихим, чуть приглушенным голосом, ничуть не изменившимся и после того, как над ними, вынырнув из облаков, закружилась немецкая «рама». И никто в толпе не пошевелился, слушая генерала, объяснявшего положение на фронтах. В отряде уже знали, что немцев гонят к Севастополю и есть приказ о переброске отряда в Крым. Тоннельная эпопея продолжалась.
Перед Крымом был еще один вызов в Москву и встреча с женой и дочерью. На этот раз им повезло, успели даже сходить в кино. Шла военная хроника, и странно было видеть мелькавшие на полотне фигурки с автоматами, атакующие горные гнезда врага, те самые, что Борис Ильич покинул несколько дней назад. Они напоминали о том, что война в разгаре и его ждут в Крыму. Главк радовал какой-то особой военной четкостью в работе. Вся документация была оформлена за полдня. Утром его ждал спецсамолет на Симферополь, куда по заранее посланной телеграмме уже подъезжал тоннельный поезд. Туда же шли необходимые материалы. …Вечером с Мекензиевых гор, где находился теперь штаб отряда, было видно зарево над Севастополем. Впереди лежали взорванные тоннели и Камышовский виадук, обрушенный посередине. — Знакомая картина, — ворчали бригадиры, — а все равно каждый раз ломай голову. Так оно и было. Каждый тоннель преподносил людям свои сюрпризы. Северный выход Сахарного был не просто завален, подрыв насчитывал сорок метров высоты. Оставался тонкий скальный потолок, крепить на такой высоте, да еще вручную, невозможно. Сверху все сыпалось, угрожающе нависал карниз на выходе. Сбоку тоннель напоминал огромную разинутую пасть. Даже ветераны притихли. Но голос Бугаенко на планерке звучал необычно бодро: — Товарищи, у вашего начальства, как вы сейчас поймете, тоже котелки варят. — И главный инженер сообщил принятое руководством отряда решение: — Работа под дамокловым мечом исключается. Никакой крепи. Купол вскроем сверху, снаружи, стены подорвем. Тоннель станет короче, только и всего. А куда сбрасывать породу — это и слепому ясно. В самом деле, от тоннеля к обрыву был проложен целый веер накатанных до блеска рельсов. Все двинулись к откосу, с осторожностью заглядывая в пропасть, где белой пеной клубился прибой. Многое повидали эти люди на горных перевалах, но никогда еще война не представала перед ними в такой саморазрушительной жестокости. Немцы накануне своего бегства сбросили в море все, что могли, — технику, обозы, танки и даже санитарный поезд «Адольф Гитлер», в котором еще оставались раненые. Жутко было представить себе это. — Ну и звери ж, — только и смог сказать замполит, — довоевались. На берегу подобрали вагонные колеса, моторы, запчасти от машин, исковерканным ломом валявшиеся среди камней. Севастополь, уже освобожденный, принявший флот, как некогда Туапсе и Новороссийск, требовал путей. И прораб Фролов предложил железнодорожникам, работавшим на восстановлении виадука, начать соревнование. Представитель их, усатый дядька в новенькой форме, окинув взглядом тоннельный провал, снисходительно улыбнулся в ответ. — Вызов принимаем, — сказал он. — Ежели запросите пардону, мы уж вас, так и быть, подождем. Все одно — мы без вас, как вы без нас, — путь один. — Это точно, — согласился Фролов, — протянем связь для взаимной информации. Ну и для этого… для пардону: не кричать же вам через гору. Работалось в этот раз куда веселее прежнего. Дело шло к победе. Техника была. Площадка хорошо освещена. Да и отряд вырос вдвое. К тому же наладился быт, потому что многие метростроевцы к этому времени переженились на новороссийских девчатах. Словом, к назначенному сроку тоннель был готов. Когда уложили последний рельс, Фролов, весело щурясь, снял телефонную трубку, но Бугаенко остановил его: — Не то, Семеныч, не тот будет эффект… Они твой голос как-нибудь переживут. А вот мы пошлем к виадуку «овечку», и пускай подудит у них над ухом. И «овечка» стала дудеть у самого подхода к виадуку, требуя пути. И да того разозлила железнодорожников, что те даже стали палить из автоматов в воздух. Однако сигналы подействовали — всю ночь не уходили строители с виадука, работая в полном составе. Путь к городу-герою был открыт, и поутру, со свистом и грохотом вырываясь из тоннеля, пошли на юг поезда.
НЕУГОМОННЫЙ
С Николаем Ивановичем Поликарповым я познакомился на заводе «Динамо», где не раз бывал с шефской писательской бригадой. Мы подружились, и однажды я услышал от него эту, тронувшую меня историю, о которой решил написать. Началось это месяца четыре назад, будто с пустяка — в который раз полетел крепеж на оснастке. Фрезеровщика стукнуло по руке. Парень какое-то время молчал, растерянно моргая глазами, потирал ушибленное плечо, потом вдруг завернул в четыре этажа и пошел в курилку, бросив на ходу Поликарпову: — Когда ж эта бодяга кончится? Ты ж изобретатель — думай. Он и без того думал-передумал, как их лучше обрабатывать, эти чугунные коллекторы, которых требуется чертова уйма: на экскаваторы, другие машины. А что, если вообще… чугун по боку, заменить его более легким металлом ну скажем, алюминием?! Эта мысль исподволь, точно ручеек меж камней, подтачивая проход, просочилась и стала все слышней — о замене заговорили токари, осаждали технологов. Те нет-нет да и перекидывались словом с ним, Поликарповым, даже не подозревая, откуда все идет. Он поддакивал, сдерживая волнение, приводил свои доводы — практические. Однажды в обеденный перерыв позвал его начальник цеха Барсуков, человек одновременно и мягкий, и строгий. Вышел из-за стола навстречу, коренастый, сутуловатый, с моряцкой едва заметной раскачкой, походил взад-вперед по своей конторке, искоса смерил взглядом хлипкого Николая Иваныча. — Не догадываешься, зачем? Николай Иваныч пожал плечами — слукавил. Барсуков тяжело рухнул на скрипнувший стульчик, сказал, постукивая пальцами по столу: — Насчет алюминия — твоя идейка? — Ну. — Так и думал, — зевнул устало в кулак, горстью сгоняя с лица морщины. — Между прочим, сам давно думал, колебался, а тут как с неба упало… Если двое подумали об одном — это кое-что значит. — И неожиданно улыбнулся. — Сегодня встал чуть свет, и все картины себе рисовал. Представляешь, если удастся заменить чугун, литейку разгрузим — раз, огромная экономия в масштабе завода… — А в нашем, цеховом?! — Само собой! Станки освободятся от тяжелой обработки. — Загрузим другими деталями! — Будь здоров. Да и качество — на потоке! В эту минуту они были похожи на двух мальчишек перед дальним заманчивым путешествием. Впрочем, какое уж тут путешествие — работа! Николай Иваныч от радости, что ли, даже слабость почувствовал, присел, лихорадочно размышляя над тем, что предстоит сделать. Прежде всего изменить внутреннюю конструкцию нового корпуса, тут какие-то зацепы понадобятся, значит — сварка? — Можно ли алюминий варить с нужной прочностью?.. Он произнес это вслух, увидел слегка вытянувшееся лицо начальника цеха, точно тот беззвучно присвистнул. — Так у тебя, я вижу, все на колесах? Ай да мы… Ну вот что, — и стукнул ладонью по столу. — Считай, заметано. А сварщика тебе обеспечу… Лед тронулся, все сдвинулось с места как-то сразу — просмотрели чертеж, к делу подключили технологов — и эта видимая легкость даже смущала Поликарпова. К вечеру, разговаривая с мрачноватым на вид конструктором Суховым, который сам его отыскал, Николай Иваныч старался скрыть радость, говорил сдержанно: — Нужен не просто сварщик — профессионал! Тут малейшая спотычка, и дело подмочим. Этого нельзя допускать… Пойдут сомнения, уж я знаю. — Что это ты такой мнительный стал, Иваныч? — Как бы не сглазить… Так насчет сварки. Тонкое шитье. Спецприпои понадобятся, материал определить, температуру… Сухов некоторое время раздумывал, сказал, оживившись: — Хорошо бы Руслова, золотой старик. Полсотни лет на заводе… Погоди, я попробую через главного. Может, получится. Прошло дня три. Николай Иваныч занимался привычным делом: монтировал новую оправку, налаживал станки, к новичкам был особенно придирчив — вечно у них поломки, надо же, черт возьми, чувствовать станок. А своего ученика Сашку Вострикова вовсе отстранил от работы: — У тебя же шпиндель бьет, ты что, глухой? Завтра насадка полетит… Сколько раз говорил — срежь патлы, они тебе уши позакладывали. Стоишь за станком — ворон ловишь. В сердцах махнул рукой и отошел. Проходивший мимо предцехкома Неретин сказал, не то шутя, не то с укором: — Береги нервы, Иваныч. — А кто технику будет беречь? — Больно ты строг с ним. Меня когда учил, добрей был. Поликарпов молчал, постукивая по ладони ключом. Сам не мог понять, что с ним творилось, каждый пустяк раздражал. Вечером, часа за два до конца смены, услышал голос табельщицы: — Николай Иваныч, вас сварщик ищет. Не сразу поверил. Только сердце — бух-бух — опережало шаги. Почти бегом кинулся к выходу. Чуть погодя оба они, Николай Иваныч и золотой старик Руслов, уже колдовали на стеллаже, где поблескивал образец корпуса, изящный и легкий даже на взгляд. Старик готовил примеси, налаживал горелку, бормоча под нос. Потом отложил все свое хозяйство в сторонку, достал сигареты. — Прежде говорили — помолясь, начнем. А ты не куришь? — Нет. Бросил. Язва была. — А теперь? — Вроде зарубцевалась. — А чего ж не куришь? — Не тяни душу. Как думаешь, получится? — И, заметив, как сдвинулись косматые брови Руслова, торопливо добавил, стараясь задобрить сварщика: — Правда, ты полсотни лет на заводе? — А ты думал, орден за так дали? У тебя-то есть? — Есть. — Тоже, видно, не зря дали. А может, авансом? Николай Иваныч, будто не расслышав, переспросил: — Так, говоришь, шов выдержит? — Экий ты… торопыга. Заранее кто знает? — не без ехидства добавил Руслов, регулируя жужжащее пламя. — Вот у нас здоровый мужик в подъезде жил — трах, и помер. А другой хиляк до восьмидесяти со всеми болезнями тянет. Так что неизвестно, отчего у тебя язва кончилась… — Алюминий вообще-то варится на такую прочность? — Я, брат, чего только не варил, кроме борща. Борщ старуха варит. Наверное, подогревает уже в третий раз, меня дожидаючись, а я с тобой канителюсь. А ты спокойно покурить не даешь. Будет тебе крепость, хоть на танк ставь, не то что в экскаватор. Закончили работу поздно. Старик, вздохнув, сказал: — Завтра испытаешь, а сейчас по домам, хоть бы такси поймать. Николай Иваныч, оставшись один, зорко оглядел сварку — с трудом обнаружил следы шва. На душе полегчало…Он шагал по вечернему цеху, прислушиваясь к мерному гулу станков, наметанным глазом охватывал поблескивающие в ящиках горки деталей — вторая смена в разгаре. Думал о том, что еще покажет завтрашнее испытание. Но, что бы ни показало, придется сделать еще один образец — дубль не помешает, и, значит, им с Русловым придется опять поморочиться. В бытовке он увидел какого-то парня, дремавшего в углу. Сашка? Он подошел, постоял немного, переминаясь, глядя на парня; от ресниц на худые скулы легли тени, волосы копной свисали на глаза. — Чего домой не идешь? — Мать жду, — буркнул Сашка, не открывая глаз. «Мать у него сверловщица, наверное, и без Сашки домой дорогу бы нашла, — подумал Поликарпов. — Но каков норов! Сам напортачил, и сам еще дуется, надо же…» Он присел рядом, сам не зная зачем, вытянул ноги. За день прямо гудели от беготни. Не хотелось ему садиться, и говорить не о чем — устал… — Мать, значит, а я думал — девушку. Есть, поди?.. — Нет, поди… Пока нет. Смотри, еще огрызается. Он скосил на Сашку глаза. — И не будет в ближайшее время. — Это почему? — вскинулся Сашка. — Патлы эти портят тебя. — Да? Может, еще общественное мнение организуете, на собрание вытащите? — Может, и вытащим, среди людей живешь. Считаться надо. — Поздновато взялись. Давно все носят. Телевизор смотрите! Поликарпов рассмеялся, уж больно забавно выглядел рассерженный Сашка, точно встрепанный петух после дождя. — Чудак, в самом деле не идет тебе грива! Понимаешь, редка, смотреть не на что. Мне вот кепка не идет, я в ней как кастрюля с крышкой. Потому шляпу ношу. Вкус надо иметь… Ну ладно, как знаешь, пошел я… Сашка сделал невольное движение, словно бы тоже порываясь подняться, но лишь насупился, оставаясь на месте. И Николай Иваныч только сейчас сообразил — никакой матери Сашка не ждет, она у него в первой смене, давно дома. «Меня, что ли, он ждал?» Остановился, спросил: — У тебя ко мне дело — говори, не жмись. Ну ладно, я тебе одно скажу. Носи свои патлы, можешь хоть копну на голове пристроить — «как у всех». Но и работай, как все. Не нагораживай мне брака. Надо все-таки считаться с людьми. Год трудный, пятилетку жмем до срока! Что? Лозунгами кидаюсь? Это все руками людскими делается, а ты всех подводишь. Будет еще трудней — новые корпуса осваивать… — А если обрыдло… — Что? — Одно и то же фрезеровать. Надоедает. Всю неделю одно и то же, вроде манной каши… У Поликарпова даже дыхание прихватило — он тяжело взглянул на Сашку, отвернулся и пошел.
Дома, уже засыпая, спросил жену: — Что-то Маринки не видно. В кино, что ли? — У себя, заперлась… У них, видите ли, все девчонки в клетчатых юбках, а у ней нету… И сразу в слезы — слова поперек не скажи. Надо же! Я ей наподдала, отец, говорю, придет — еще добавит. Знакомое дело… Он вспомнил Сашку, нервное лицо, блестящие от обиды глаза. Что за народ? Воспитание тонкое, что ли? Да нет вроде бы. Откуда что берется… Мода? Раньше и слова-то такого не знали — мода. Все как-то проще, без пустяшных этих переживаний… Переживал, когда есть было нечего. Война была, в семье их три брата, один за другим ушли на фронт, он, Колька, — мамкин кормилец. Изворачивались как могли, на брюкве жили, картошка — праздник. Совсем пацаном на трудфронт пошел, пилил пни для противотанковых заграждений, окопы рыл… После войны пошел в гараж слесарем, на братово место. Машин было раз, два и обчелся, гробы — не машины. Вспомнилось, как взялся однажды поставить на ноги трофейный «фиат». Вместе с мастером они его спасали, новый мотор бензиновый вместо дизельного смонтировали. Мастер на что дока, и тот поначалу не верил, что получится толк из этой затеи — все-таки тяга меньше, сложный крепеж, перемонтировка. А он, Колька, чувствовал — получится, сам не зная почему. И не выходил из гаража. Бывало, до поздней ночи возился, опробовал — получилось-таки. Тогда его имя впервые назвали на митинге в день Октября. Премию дали, талон на ботинки… Вот радости было! — Не спишь? — спросила жена. — Неприятности какие? Он улыбнулся: — Ладно, купи ей юбку, пусть радуется… Ты куда? — Я сейчас… Скажу, что разрешил, не спит небось.
На другой день Николай Иваныч проснулся засветло, ел, не ощущая вкуса, и в трамвайной толчее, зажатый под бока, думал все о том же — только бы выдержал испытания этот легонький корпус! Все надо продумать; если сорвется хоть одно звено, потом поди все связывай, доказывай, что это случайность, главное —ничем не опорочить новшества, тогда… тогда можно за него и побороться. Знал, будет нелегко. Надо ставить новую технологическую линию. И начинать надо с главного: на простом сверлильном станке обрабатывать корпус и думать нечего. Не будет точности. Значит, нужен расточный, чтобы все тютелька с тютельку. Через Барсукова нажать на инструменталку — у них есть… Приятно было, что старые, опытные сверловщики близко к сердцу приняли идею. Хороший признак. Теперь поговорить с технологами. И Николай Иваныч заторопился к себе на участок. Первое, что ему бросилось в глаза, — склонившаяся над фрезерным бритая Сашкина голова. Ох ты!.. Он подошел к парню, невольно робея, словно и впрямь был виноват перед учеником, тронул его за локоть, спросил: — Как дела? Сашка хмыкнул, утирая ветошью пальцы, сказал, растягивая слова: — Все то же, манная каша. — Зря ты это, зря… Они говорили, не глядя друг на друга. Иваныч, стараясь не замечать «опозоренной» Сашкиной головы, вдруг предложил: — Вот что, дам тебе на переменку другую работу, ключи делать. Послесаришь, дело интересное… — Я все хотел спросить, — вспыхнул Сашка, явно довольный, — как вы узнали, что насадка полетит? Интуиция? Ведь сломалась, прямо с утра заменить пришлось. Николай Иваныч улыбнулся. Он и сам не знал, как, откуда к нему приходит это чутье. По шуму, что ли, по звуку, едва заметной смене ритма улавливал признак болезни. — Поживешь с мое, научишься. Так возьмешься за ключи? Сашка кивнул. — Ну а теперь скажи, зачем наголо остригся? Бунт? — Д-да… Н-нет, просто постригся неудачно. Плохой мастер, видно. Разозлился и говорю ему: «Срезай наголо». Что тут правда, что нет? — Да, — сказал Николай Иваныч, — везде не просто мастером быть. Не печалься, отрастет чуб, может, гуще станет. Двое суток подгонял Николай Иваныч монтаж в новый корпус, по десять раз вымерял, проверял, высчитывал; все, кто был свободен, помогали ему. То и дело заглядывал на участок Барсуков, не терпелось, видно. — Ну как, Иваныч? Идет, а? — Потихоньку. — Потихоньку, да наверняка… Барсуков нервно потирал жесткие ладони. — Смотри не просчитайся. А может, рейки поставить для сектора, а то ведь трудно будет обрабатывать изнутри? — Думал. Как-то не очень чувствую, а на эксперименты времени уже нет. Трое суток на стенде автоматически клацал командный контроллер — включение, выключение — предельная нагрузка. Похоже было, будто часы отмеряли судьбу нового изобретения. Она оказалась счастливой. К вечеру прибежал все тот же конструктор. Николай Иваныч еще издали показал ему большой палец. Конструктор, подойдя, прижал руку к груди и, переведя дыхание, заулыбался во весь рот. А еще через неделю новинка обсуждалась в высоких инстанциях. Ожидая решения, Николай Иваныч весь день не находил себе места. К вечеру появился Барсуков. Проходя мимо, он, словно что вспомнив, кивнул озабоченно: — Делай. Ставь на поток… Он и рад был, а в душе поднывало. Это ведь не просто поток единообразных станков с комплексной операцией — двадцать два сверла и три сбоку в каждом будут работать одновременно. Да, тут придется поломать голову. Еще как! Хорошо, расточный наконец поставили. В этот-то вечер он шел, не замечая ни дождя, ни снега, до ломоты в висках продумывая ход операции, и по рассеянности поскользнулся на спуске у своего дома над Москвой-рекой…
Не отрываясь, следил Николай Иваныч, когда откроется дверь и появится врач. Вот она пришла — с чуть опущенной головой, в тонких пальцах ее как-то робко, словно живой, трепетал снимок. Николай Иваныч понял — дело плохо. И то, что она обратилась не к нему, а к жене, сидевшей рядом, лишь подтвердило догадку, даже бодрый голосок не мог обмануть. — …Не так уж все страшно. Просто мы таких операций не делаем… Придется связаться с четырнадцатой больницей. Там специалисты… Это его по-настоящему испугало. Чувствуя, что с ним творится, жена начала успокаивать Николая Иваныча. Он не понимал, о чем она говорит. Попросил довести его до автомата. — Тут у врача телефон, Коля… В кармане нашлась одна двушка, и он понимал, что вряд ли она его выручит — нужно набрать АТС, Барсукова на месте, конечно, не застанешь, а еще раз звонить… Но Барсуков оказался на месте и не сразу разобрался в сбивчивых объяснениях Поликарпова. — А я уж думал, что случилось — нет тебя? Нога? Вывихнул, что ли? — Ага, похоже… Так я вас прошу взять под контроль… Время дорого. Что?.. Согласен! Чугунные-то пока не будем снимать, пойдем параллельно, мало ли что… Главное сейчас — новую оснастку на все двадцать пять сверл, это сложно… — Послушай, что ты загадываешь наперед. Что с ногой, правду говори! — Сложный перелом, осколки там… На мгновение в трубке умолкло. — Ну и деятель, — посетовал Барсуков. — Что же ты молчишь? Какая клиника? Надо в больницу немедленно. Мы это организуем. Где ты находишься?.. Жена тронула его за рукав: в проходе снова стояла врач, помахивая бумажкой. — Кажется, уже не надо. Нашлась больница. Спасибо, большое спасибо… — Тогда порядок, не волнуйся, дай знать, где ты будешь.
…Погоду он угадывал по снегу на подоконнике. Если снег на рассвете светился желтовато, значит, к вёдру, солнышко всходит — и на душе становилось легче, боль словно бы притихала, только никак не мог привыкнуть к толстой, как спеленутая лялька, ноге, подвешенной на растяжку, под грузом. Лежа навзничь, он ничего не видел, кроме этой белой чужой ноги и снежного подоконника. Соседей по палате он тоже не видел, их койки размещались за изголовьем, лишь слышал голоса и по голосам различал Митьку, деповского сварщика, и другого — Феофана Петровича, пенсионера. Голоса имели характеры. Митькин в первый же день со свойственной ему прямотой заявил: — С таким переломом лучше сразу оттяпать ступню и не мучиться. А то залечат, и будешь вечный больничный посетитель. Я-то знаю, повидал. У меня вот сосед был, дворник Абдул… — Чего мелешь? — оборвал его голос пенсионера. — Ни в коем случае — за так ногу терять. Пока не использованы все возможности, сдаваться нельзя. А ты травмируешь человека. — Я что? Я всегда за правду, чего обманывать. — Твоей правдой дрова колоть, а не больного лечить. У меня, помню, в войну похлеще было, тройное ранение, кость вдребезги, а выбрался и живу припеваючи. — То-то ты в больнице. — Пришлось. Подозрение на аппендицит… И, между прочим, все зависит от хирурга. А я его хорошо знаю, виртуоз! Хирург и впрямь оказался виртуозом. Николай Иваныч как-то сразу ему поверил, когда он со снимком в руках, легко прощупав ногу, сказал ассистенту: — Косой, винтообразный… Редкий случай. Вы кто по профессии? А-а, ну вот и перелом у вас, так сказать, «профессиональный» — по терминологии. Шучу… — Надежда есть, доктор? — А страх есть? — Нет. — И у меня нет. Завтра же на операцию. Потом закрепим. Еще побегаете по своему цеху. Сказано было как-то чересчур бойко, а все-таки поверил и даже пошутил ответно: — Крепите пожестче. Да, поверил, почувствовал в этом человеке с крупными сильными руками что-то родственное — мастера, умельца. В первые дни после операции он лежал, превозмогая боль, стараясь ни о чем не думать. По ночам давили кошмары. Однажды утром донесся Митькин голос: — С праздничком, Иваныч, с армейским. Вечером надо бы дернуть по такому случаю. — А ему можно? — спросил пенсионер. — Может, во вред. — Не-а, от этого вреда не бывает, если в меру. Я своим уже заказал. А к тебе чего ребята давно не идут, Иваныч? Что у вас местком думает? Поликарпов молчал, глядя на пушистый подоконник, завьюженные ветви за окном, порывами порошил снег, на тумбочке едва слышно тикали часы, подкрадывалась тоска. Он подумал о том, что, наверное, увидит в небе отблески салюта. А дома Тамара печет пироги, и в цехе праздничная суета, девчонки из ОТК проворно подсчитывают дневной итог, ребятам не терпится поскорее закончить — каждого кто-то ждет, и никто о нем не вспоминает, это уж так — у каждого свои дела, свои заботы. Все правильно, жизнь… Николай Иваныч зажмурился, ветка за окном задвоилась, и снег стал, как радуга, разноцветным… — Болит, Коля? — Он и не заметил, как вошла жена. Присев, погладила его по плечу, свободной рукой неловко раскрывая авоську. — Вот тут тебе мед рыночный и яблоки. — Надоело лежать. — Ну что ты? Чепуха все это, главное — нога спасена… Да что с тобой? — Ничего… Неделю — никого. — А я?.. — И спохватилась радостно: — Господи, пришел твой бывший ученик, из цехкома, там дожидается, по двое же не пускают. Он открыл глаза, попросил: — Пожалуйста, позови, а сама подожди в холле. Мы недолго. — Ладно, хорошо! Хорошо, Коля, я сейчас, мигом.
Лицо Неретина, худощавое, светлоглазое, было улыбчиво, спокойно. Расспрашивая о здоровье, передавал приветы-поклоны, то и дело приминал пятерней и без того гладкие волосы, намокшие от снега. А Николай Иваныч старался за словами Неретина понять, уловить: что там делается в цехе? — Что с линией? — Нормально, — сказал Неретин, похлопав его по руке. — Лежи спокойно. «Что-то уж очень быстро среагировал… Было бы нормально, сам бы с этого и начал», — подумал Николай Иваныч, не спуская глаз с Неретина. Чутье его редко обманывало, сейчас оно обострилось до предела. И, словно бы вслушиваясь в себя, он ждал облегчения, а его не было. И стало быть, Неретин темнит. — Ну что ты, чудак-рыбак, говорю, нормально. Насадка по твоим чертежам — все двадцать два и три сбоку — прошла. Правда, — Неретин слегка замялся, — бывают поломки. Ну, известно, износ… Нагрузочка какая! Вот и Сухов говорит — износ. Советовались с ним. — Не может быть, при чем тут износ!.. Поликарпов представил всю систему передач, сложный ход операции — даже вспотел. — Странно… Сухов, говоришь? Он за линию отвечает? — Он. — А чугунные идут еще? Из старого задела? Или новые поступают? — И новые. — Ну, ясно… — Да что тебе ясно? Что? — Теперь уже разволновался Неретин. — Ведь линия не обкатана, вот и идут, нужна же страховка! Сам предупреждал. — Я там нужен, а не страховка, черт… То была предусмотрительность. А сейчас страховаться — значит, покрывать просчет. Что-то тут не так… — Вообще-то, да… — Ремонт сколько забирает? — Как обычно. Шесть — восемь часов. — Прогресс, нечего сказать. Они еще поговорили о том о сем. Неретин, хлопнув себя но лбу, стал вытаскивать из баульчика всякую снедь, все, что куплено было в складчину и что от цехкома, и опять вспомнил про поклоны-приветы. От Сашки самый большой… — А остальные небось радуются, что нет погонялы. А? Ладно, скорей бы выйти. — Ну ты уж вовсе какой-то перекрученный стал, — насупился Неретин. — Ждут тебя все, жалеют. Да… от Барсукова привет тебе персональный. — Ты вот что, передай Сухову, пусть исследует валы. Промежуточные. Может, в них вся закавыка, слабоваты для такой сверловки… У меня и раньше мелькало. Неретин добродушно кивал, соглашался, хотя видно было, что он не совсем всерьез принимает заочную консультацию, а лишь тем озабочен, чтоб успокоить Николая Иваныча. — Да, и хорошо бы конструкторов позвать, пусть поглядят на свою работу, — заметил он. — Это уж когда сам выйду. Поделикатней надо. Тут и наша вина, потесней надо быть в работе. К вечеру, прощаясь с женой, Николай Иваныч передал ей записку для конструктора Петра Дмитрича Сухова, соседа. В записке было все, что надо: и его сомнения, и просьба проверить расчеты. Жене не хотелось уходить: «Как я тебя, бедненького, брошу. В первый раз — праздник врозь». Он утешил ее как мог — дома девочки ждут, ей пора. А ему тут будет хорошо-прекрасно, врач разрешил смотреть телевизор до двенадцати, в открытую дверь все хорошо видно. У него и правда понемногу отлегло от души, отпустило, а к ночи стало и вовсе легко, как бывало не раз, когда после сильного напряжения наступал перелом. Точно кто-то невидимый шепнул изнутри: все будет в порядке. То ли записка сняла тяжесть, то ли комик на экране телевизора. Комик-закройщик уж очень смешно извинялся перед зубным врачом за испорченный костюм — один рукав короче и брючина пришита вкривь. Говорил он косноязычно, шепелявил, свиристел, потому что врач, как выяснилось, поставил ему косой протез: одна сторона на сантиметр выше. Удивительно, как он вообще мог разговаривать с лишним сантиметром во рту. Митька катался по койке, икая от смеха: — Во дает!.. Во дает! А пенсионер Феофан Петрович сдержанно заметил: — Да, бывает… Бывают еще у нас отдельные недостатки с качеством…
Уходил Николай Иваныч из больницы ранней весной, с палочкой. Митька сказал на прощание: — Послезавтра и я выйду. Непременно встретимся, дружба. Надо это дело отметить. Давай телефон. А пенсионер Феофан Петрович, у которого оказалось что-то посложней аппендицита и требовало длительного исследования, пожелал Николаю Иванычу успехов в работе и счастья в личной жизни. Они с женой не сразу взяли такси, хотелось пройтись, размяться. Шли медленно. Николай Иваныч хмелел от свежего воздуха. Мир, весенний, наполненный птичьим щебетом, клекотом ручьев, красочно оживал, и самому казалось, будто родился заново.
ПОЕЗДКА
АВАРИЙНЫЙ СЛУЧАЙ
Тот день, ветреный, метельный, мне запомнится надолго… Нас кидало в тряской, крытой брезентом, просвистываемой насквозь машине. В тесном кузове искрились огоньки сигарет, громыхали борта и под лавкой прыгала кувалда, норовя угодить по ногам. В этом грохоте различал я голос бригадира Виктора Смирнова. Бригадир мотался при каждом толчке, как хмельной, и кого-то спрашивал, кивая со смешком в мою сторону: — А чего ему смотреть у нас? Театры?.. Я видел его шалый голубой глаз за высокой скулой — и чувствовал себя неловко. Отправляясь по своим литературным делам на строительство нового моста под Серпухов, я и впрямь надеялся на так называемый показательный материал. А вышло, что участок, намывавший дамбу, простаивает: произошла авария, или — как здесь говорят — «схватили козла». В разгар работы прекратилась подача энергии, земснаряд остановился. Вся огромная дуга подводных и наземных труб, по которым шла пульпа, омертвела, наглухо забитая песком, глиной, камнями. Через десять минут об этом уже знал начальник участка Волжанин, через двадцать — главное начальство в Москве — начальник СМУ. И пока в лихорадке решалось, где достать водолазов, на стройку полетела команда: «Попробуйте обойтись своими силами. О результатах сообщите». Время было дорого. Где-то выше по течению старый обветшавший мост уже не выдерживает растущего грузопотока пятилетки. Да и дорога к нему лежала через центр города: какая там скорость, одна пыль, от нее и горожанам не продохнуть, и постоянные заторы. Нужен новый мост. Как можно скорей. А значит, и новая дамба. И тоже как можно скорей. Потому что без дамбы нет моста. Как нет и неба без земли. Эту-то землю и надо намыть, да еще уложить на нее тысячи квадратных метров плит, да вогнать десятки тысяч кубов бетона. А земснаряд стоит. Вот тебе и театры! Не было хлопот, а тут еще этот сторонний наблюдатель с блокнотом и тепленькой авторучкой. Раздражение бригадира я понимал, и мне думалось, что в самый раз сойти с машины и вернуться восвояси. Но мы уже прибыли на место. Зимнее солнце плескалось в студеной Оке. Земснаряд уткнулся хоботом в берег. Железный суставчатый пульпопровод тянулся по заснеженному песку, уходил в реку и на том берегу выползал к дамбе. В небо беспомощно уставился его пустой зев. Не хлестала привычным фонтаном донная пульпа. Грустными силуэтами чернели на песке экскаваторы, бульдозеры. Возле бригадира Виктора Смирнова размахивал руками прораб Кузьмич, долговязый, в очках, казавшихся лишними на его кирпичном лице речника. — Где электрик? Где сварщик? Вы вообще слыхали о такой вещи, как трудовая дисциплина? — спрашивал он. Смирнов принимал упреки, застенчиво пряча подбородок в воротник фуфайки. Глаза его блестели, как вода под солнцем. Чувствовалось, он уважает Кузьмича, они — свои люди, спорщики, но друзья-работяги. — Электрик и сварщик не спали всю ночь. Управлюсь один. — Виктор махнул рукой и взвалил на плечи трансформатор. На снегу остался кабель в бухте. Я попытался поднять его и хотел уже бросить эту затею, но Кузьмич, как ни в чем не бывало, вскинул бухту мне на плечи, а сам побежал к мосту — там его звали. До земснаряда было метров триста. Эта проклятая бухта была не легче патронного ящика. Смирнов шел не оглядываясь. Даже когда мы прибыли к пульпопроводу, он все еще, казалось, не замечал своего новоявленного помощника. Я бросил кабель на снег. — Разведите костер, а то зазябнете, — наконец сказал Виктор, а сам полез на скользкий столб подключать проводку. Потом, как бы невзначай, заметил: — У нас тут к двенадцати часам термоса с гуляшом в прорабскую привозят. Не прозевать. — Он взглянул на солнышко и добавил: — Пожалуй, время вам трогаться туда, а то и вправду напишете о бригаде Смирнова, а в герои бригадир Смирнов не вышел… Вы приехали и уехали, а мы тут — крутись. Я молча размотал кабель и потянул его к трубе. Смирнов с усмешкой принял конец, прикрепил к нему электродный держак и стал вырезать в трубе отверстие для промывки. — Убери глаза, ослепнешь, тютя, — проговорил он. Тем временем машинист запустил земснаряд. В прорезанную дыру вышибло водой первую пробку. Струя песка била так напориста, что порвала рукав замешкавшемуся Смирнову, и невесть откуда взявшийся Кузьмич закричал: — Ты что, загнуться решил?! Мне стало тревожно, как в те памятные времена, когда еще совсем мальчишкой я попал в прусские болота, на передовую, где опасность, и дружба, и ночи по колено в окопной воде были привычными, как хлеб. Это было давно… И это было сейчас… Упрямо гудел трансформатор, искрились электроды. Одна за другой вырезались дыры на округлых боках труб, через них вышибались грунтовые пробки, и тут же наваривались заплаты. Кузьмич выравнивал их, отчаянно бил кувалдой. Да, это был бой — с железом и ветром, на виду у всех. Многих ребят я уже знал, познакомился вчера на планерке. Вон из рубок соседних, действующих снарядов, напряженно выглядывают прославленные машинисты: Галага и Михаил Харин; их команды прибыли сюда из Брянска, Алексина, Ярославля, с Урала. Замер на столбе электрик Батченко, профорг стройки. Сварщик Ваня Кленов, о котором говорили, что он варит как пером пишет, жадно затягивался цигаркой на ближнем понтоне. Из кабины грохочущего трубоукладчика нет-нет да и высовывалась кудрявая голова короля укладки Андрюхина. Все понимали, можно бы дождаться спецбригады, вооруженной техникой, тех же водолазов — дать наряд, пусть выполняют. Но, видно, здесь не привыкли к обслуживанию. Сами себе хозяева и слуги. И все смотрели на нашу маету. И переживали. А когда на тебя смотрит столько народу, вся дневная смена, человек сто двадцать, тут уж держись, не подкачай. Смирнов заваривал швы толщиной в палец. Чуть оплошай — и трубу разорвет под напором. Вдруг он обернулся ко мне: — Возьми кувалду, погрейся, а то Кузьмич совсем запыхался, даже очки у него вспотели. На жгучем ветру дубели руки, по окской воде белой метлой шуршала пороша. Приехал начальник участка Анатолий Волжанин, совсем юнец, но басом крыл с поста по телефону снабженца: — Давай электроды! Не пришлешь — я из тебя самого их наделаю! Прибежал Миша Харин с соседнего земснаряда, почти силком отнял у Смирнова держак: — Отдохни! До воды оставалось метров пятьдесят. Пройти бы их за день, а дальше — подводный дюккер, и если главные пробки в нем… Но об этом не хотелось думать. Виктор уже не шел, а переползал верхом по трубе. Кузьмич прямыми, как циркуль, ногами отмеривал расстояние до следующей дыры, бурча под нос, что-то черкал в тетради, рассчитывал. Из воды торчала труба с запасным люком на случай продувки, остальные люки уходили вглубь, на дно. — Не будем открывать, — сказал Кузьмич не совсем уверенно. Это был обычный способ — на полном напоре «продавить» забитые трубы. Как говорится — пан или пропал: удастся — хорошо, нет — масса грунта спрессуется окончательно, и тогда жди водолазов неделю, месяц. Прораб что-то стал доказывать. На нем, Кузьмиче, лежала ответственность: он предлагал общепринятый способ. А Виктор, сгорбись, смотрел на воду, в синих глазах его плыли сумерки. Чихать ему было на Кузьмичеву горячность. В ней ли дело? Земснаряд — это треть общего плана… и, конечно, зарплата. А рабочий человек — он не ангел, у него семья. Посреди реки зафыркал катерок. Серым утюжком кинулся на припай у мостовых быков, стараясь очистить русло. Но лед не поддавался. Катерок вильнул в сторону и с разгону, отчаянно ревя, сделал круг мимо припая, другой, третий. — Лихо! — заметил Виктор и вдруг сказал: — А что, если попробовать очистить трубопровод малым давлением?.. Позднее я понял, что означали его слова. Виктор предлагал открыть клапан, уменьшив тем самым давление в трубах: пусть струя потихоньку сама найдет себе щелочки и рассосет «козел». Так никто еще здесь не пробовал. Кузьмич нервно сдвинул на лоб шапку и попросил закурить. — Вы же не курите, — сказал Виктор и протянул ему папиросу. Кузьмич сломал ее и закричал ему, точно глухому: — Я еще подумаю! Может, мы специалистов пригласим, ассамблею откроем? — Он повернулся и шагнул к дороге, точно и в самом деле собрался искать несуществующих специалистов. А Виктор прыгнул в воду. Ключ будто прилип к его черным рукам. Заскрежетал и откинулся люк. Не добежав до костра, бригадир замахал машинисту земснаряда. Раздался воющий звук, снаряд дрогнул, погнав по трубам воду. Минута, другая — холодные, жгучие… Виктор, сев на валун, протянул к костру ноги в мокрых, дымящихся портянках. Вдруг с того берега донесся длинный заливистый свист. И мы увидели: из темневшего в сумерках жерла трубы забил серый фонтан. «Пробили!» Потом мы грелись у костра, ожидая машину. Слипались глаза от жара углей, усталости, голода. Звенели на ветру провода. По ним в Москву, видно, уже неслась летучая весть. И представилось вдруг: резкий звонок там, в далеком отсюда московском кабинете начальника, побледневшее от волнения лицо. — Пробили, Давыд Давыдыч! Порядок! Давыдыч оценит эту короткую фразу, сам когда-то был прорабом. Трещала в огне солярка, подходили люди с дамбы и шутили: — Ну, Витюха, молодчик! — Он-то? Он у нас министр по «козлам». Виктор достал из кармана бутерброд, завернутый в газету, разломил его и молча сунул мне половину. — Пока до дому доберешься, вовсе отощаешь… — вдруг шмыгнул носом, прищурясь. — А то оставайся, поживи. С наскоку чего напишешь. Поселим тебя в общежитие, койка найдется. — Тем более что дома у меня нет. — Это как? — Так. Долго кочевал по стране, корреспондентствовал. Вернулся — дом снесли. Вот, разбирают сейчас мое дело. — А где ж ночуешь? — У друзей. — У женатых? Хлопотное дело… Тем более оставайся. Тут воздуху много. Верно говорю. Я жевал хлеб, глотал его вместе с подступившим к горлу комком и думал: уйду ли, останусь — никуда мне не деться от Витьки Смирнова, Михаила Харина, Кузьмича. Искал героев, а нашел простых мужественных людей, и это, наверное, одно и то же.КРАСОТА
— Возьми журналиста к себе на снаряд, — сказал начальник участка машинисту Харину. — Пускай жизнь изучает, может, ро́ман про вас напишет… Разговор происходил возле прорабской, на берегу Оки, где намывалась дамба — дорога для гиганта-моста. Белорукий, в чистеньком костюмчике, я чувствовал себя неважно среди загорелых шумливых земснарядчиков в линялых кепках и жестких робах. Под взглядом Харина невольно опустил глаза. — Со снарядом-то знаком? — окая по-вятски, спросил Харин. — Да нет… Понимаете, интересуюсь гидромеханизаторами. Мог бы, конечно, и так понаблюдать, да неловко бездельником. Вот и напросился, так сказать, по собственному желанию. Знание пригодится, верно? Кажется, я слегка покраснел, оттого что так некстати разоткровенничался — ведь мы почти не знакомы. Харин в ответ пожал плечом, сказал неопределенно: — Ага… Что означало это «ага»: то ли согласие, то ли сомнение? А может быть, Миша Харин предвидел, как будет вести себя новичок, когда попадет в этот плавучий вагон, называемый земснарядом, и его обступит незнакомое царство техники. И вот я на снаряде… Машинист из рубки подал команду. Над ухом внезапно взвыл мотор, загрохотало спрятанное в чугунную «улиту» колесо, погнав по трубам речную пульпу, ноги мои сами собой понесли меня к выходу. Вокруг все тряслось, угрожающе дребезжала стальная палуба, и на стенке электроотсека стала покачиваться жестянка с изображением черепа и костей. Казалось, вот-вот вся эта махина взорвется, и полетишь в тартарары. Страх возник мгновенно, сковал движения. — Женька-а! — кричал из рубки Харин своему помощнику. — Где ключ семь на девять? Дай плоскогубцы! Женька, кудлатый, как цыган, готовно скалил белые зубы. Он запросто ориентировался в этом грохочущем аду. Но ведь ему тяжело одному. И я тоже решил помогать. Правда, к рубильнику, над которым висела жестянка с черепом, я не подходил, но зато старался по мелочам: обходя опасные места, таскал ключи, ветошь. Миша брал все это не глядя, лишь коротко ронял свое неизменное: «Ага!» Иногда земснаряд вместе с песком заглатывал крупный булыжник, машину встряхивало, раздавался скрежет, от которого замирало сердце. Но Харин спокойно бросал через плечо: — Жень! Камень во всасе. — Нажатием кнопки поднимал из воды трубу — всас, с ее ощеренной морды стекала вода и глина. Женька, весело ругаясь, выковыривал ломом камень. На берегу возникала трепещущая на ветру фигурка в белом — дежурная по дамбе Шурочка. — Эй, копуша! — кричала Шурочка. — Давай темпы, а то усну. Губы мои растягивались в усмешке, но, взглянув на Харина, я тут же сникал. Машинист рассеянно смотрел перед собой, на реку. В его светлых глазах плыли облачные тени. «Прямо идол какой-то, — думалось мне, — словом не перемолвится». Позже я понял, что это просто-напросто отрешенность от всего, кроме работы. И еще деликатность: Харин, видимо, понимал, что творится со мной — неумехой, но великодушно молчал. Он знал цену себе и людям. У него-то цена была. Неразменная! Я вскоре в этом убедился. Харин знал снаряд, как свою ладонь. И все умел. И деталь заварить, и мотор собрать, точно, на слух определить поломку. Меня он потихоньку стал обучать премудростям управления. Нажмешь кнопку — машина послушно двигается, якоря тянут ее то в одну, то в другую сторону, а задние сваи — «шаги» — вперед. Знай нажимай да следи за шкалами, чтобы давление было в норме. Здорово! Учиться вообще хорошо. Легче, чем самому работать и за все отвечать. За спиной Харина я чувствовал себя, как за каменной стеной. Да что я. А другие… Миша то и дело ездил на выручку к соседним земснарядчикам. А иногда после смены, когда отдыхал дома, его будил робкий звонок начальника участка. — Миш, там у Галаги что-то с мотором, подмогнуть бы… А я тебе отгул. Если, конечно, согласен… — Ага, — откликался Миша и через минуту натягивал на себя промасленную робу. Жена его, Нина, веснушчатая, тоненькая, что стебелек, прямо из себя выходила. — Ну что за человек, — говорила она, заталкивая мужу в карман бутерброд. — Они там без рук, что ли? Кто везет, на того и кладут! Но уж если Харину приходилось туго: заныривал на дно ключ или кончалась дефицитная набивка для сальников, Миша, бывало, лишь кивнет Женьке: — Сгоняй-ка к Галаге. Займи. И запасливый Галага, дрожавший над каждой гайкой, доставал из трюма моток набивки, кряхтя, отрезал кусок под угрюмое ворчание Женьки: — Что ты жадишься, скважина! Больше отмеривай, а то Мише свистну. Веселый, задиристый Женька буквально молился на своего старшо́го, во всем признавал его верх. И жалел по-своему. — Дай пожму пульт, отдохни, — просил он Мишу. — Двужильный ты, что ли? — Конечно, дай нам на пару, — несмело вставлял я, все больше проникаясь симпатией к молчаливому работяге и умельцу Харину. — Вон на других снарядах отдыхают. Час положено, законно же! В самом деле, в ночной тишине лишь один наш снаряд не умолкал ни на минуту, брызгаясь светом фар. Сроки поджимали, в пятилетке участку предстояло намыть еще не одну предмостную дамбу-дорогу. Но на каждом шагу стопорили естественные трудности. Вот и здесь часть дамбы проходила по болотистой приокской пойме. Поэтому и выдвинули лучший, харинский, земснаряд на самый стержень Оки, на донную гальку. Галька шла тяжело. Земснаряд, усами тросов привязанный к раскинутым якорям, дрожал как в лихорадке. С визгом подымались и опускались сваи — шаги. Стрелки амперметра метались в круглых выпученных шкалах. Маневрировать надо было быстро, и Миша не мог никому доверить пульта. Потный, с обострившимся лицом, он по-прежнему казался мне идолом, но уже добрым, всемогущим и знающим. А мы с Женькой были вроде ангелов-хранителей, причастных к высокому мастерству. Правда, внешне оба скорее походили на чертей — перепачканные, мокрые от бесконечных лазаний по трубам. Иногда ночная река озарялась плывущим заревом теплоходных огней. В этих огнях, в непривычных наплывах легкой музыки было что-то щемящее, полузабытое. Мелькали в распахе тента фигуры танцующих. В такие минуты я испытывал смешанное чувство отчуждения и гордости. Залитые светом, сжимая в зубах папиросы, мы с Женькой замкнуто красовались в окне рубки, словно на виду у всей Вселенной. Лица в мазуте, кепки набекрень: вот, мол, какие мы, рабочие люди. Женька запускал вслед туристам этакий словесный штопор. Так было и сегодня. Теплоход прошел, в полосе нашего прожектора высветился кусок моста, часть гигантской дуги, той самой, ради которой люди не спали ночами, ковыряя речное дно. Голубовато вспыхивала сварка, словно над рекой рождались и умирали звезды. Монтажники в масках, похожие на марсиан, копошились возле крана, подававшего бетонные кубы. От моста закричали: — Эй, гиды, есть курить? — Обедняли? — огрызнулся Женька. — Догоняй теплоход, а то там буфет закроется! Обычно Женька не очень-то был щедр на курево. И то сказать: у самих ночь длинная. Но сегодня, все еще глядя в синюю темь, проглотившую последние огоньки теплохода, машинально вытащил пачку и, когда у борта захлюпали весла мостовиков, не глядя, кинул ее — точно на бак. — Если подмокли, сваркой подсуши! «Что это с ним?» — подумал я. …Уже перед самым рассветом серебряную от прожекторов дорожку воды пересекла лодчонка от берега. В ней маячила фигура в косынке. Шурочка! Мы как раз устроили маленький перекус — хлеб, молоко. Труба была приподнята, вода промывала дюккер. Миша первым увидел лодку, встревожился: что там на дамбе? Не размыло ли? Лодка замерла невдалеке, держась против течения. С весел стекали блестки воды… Нет, кажется, все в порядке, иначе Шурочка поспешила бы. — Эй, чего там? — Чо надо?! — это вставил Женька. Весь он стал какой-то нахохлившийся, губа прикушена. Мы все трое стояли на палубе, опершись на перила. — Тебя спрашивают: чего надо? — повторил Женька, голос прозвучал сипло, с нарочитой небрежностью. — Если не надо, уйду… Мы с Мишей переглянулись и посмотрели на Женьку. — А я тебя не держу… — уже менее уверенно обронил Женька. И сплюнул за борт. Плеснуло весло, нос лодки слегка уже отвернулся, и я заметил, как Женькины пальцы впились в перила, даже косточки побелели. Лодка помедлила. В свете прожектора глаза девчонки блестели бирюзой. Женька опустил голову. — Тебе повестка, — донеслось с лодки. — Еще с вечера мать передала. Да там на дамбе делов, чихнуть некогда… В военкомат! — А я знал, — усмехнулся Женька, — мне еще в субботу в военкомате пообещали. — Ступай, — сказал Михаил, — без тебя тут справимся… Ну, кому говорят? — Пока, Миха, — сказал Женька, — до свидания, дядя Саня. Вскоре весла в сильных мужских руках колошматили воду. Потом донесся сдавленный вскрик, смех. На берегу, в полосе фонаря, мелькнули две фигуры — рука в руке, головы опущены — и исчезли в синей мгле. — Смотри, какой скрытный, — вздохнул Михаил. — А я и не знал, что у них любовь. — Он кашлянул: — Расстанемся теперь. А жаль. Он работник… И вообще. — Да, — сказал я, — придется тебе помощника искать. — А зачем? На пару будем. Оформят тебя по-настоящему, на все лето. Или не хочешь? От этих слов стало тепло на душе. Не каждого Михаил взял бы к себе в пару. Я кивнул и торопливо стал закуривать. Лишь минуту спустя пронизала острая мысль: «Значит, вся эта грохочущая чертовщина теперь на мне?!» — Ну, ты чего не ешь? — спросил Миша. — Да… не хочется. Мы поднялись в рубку. Харин спросил, как бы невзначай, сколько я уже на снаряде? Месяц? Ага, нормально. Ну вот и хорошо. Теперь пригодится. Он еще что-то говорил, кажется, объяснял, как всегда перед пуском, подробности управления. Я машинально кивнул. — Так, давай запускай, — сказал Харин. — Включай рубильник. Это была Женькина область. Я на ватных ногах прошел в электроотсек, взглянул на жестянку с черепом. Зажмурясь, ударил по рубильнику кулаком. Защелкало включение, а я уже мчался по «винту» в рубку Харина. Миша как ни в чем не бывало нажал кнопку. И когда трубы задрожали от хлынувшей пульпы, вдруг слез с вертушки: — Дно сегодня вроде ничего. Поработай минут пять, я на дамбу скатаю. Как там намывается… Справишься? — А? — сказал я, и внутри у меня похолодело. Я сел на вертушку. Так, наверно, слепые садятся на норовистого коня. Ботинки Харина застучали по палубе и затихли. Я хотел окликнуть, задержать его, но было уже поздно. На пульте перед глазами расплылись кнопки. Казалось, их стало больше, чем обычно, — целый аккордеон. Какая для чего — забыл! В голове было пусто, рубаха на спине взмокла. Это было похоже на шок. А снаряд между тем гудел. Работал сам по себе. Он ждал команды человека, грозя каждую минуту выкинуть какую-нибудь штуку, а человек был недвижен. Мертв. И никто вокруг не знал, что творится с сидящим в рубке — ни берег, ни мост, ни сама машина, тупая, грохочущая. Я уже ничего не видел, кроме кнопок, и, обливаясь потом, твердил: делай, делай же что-нибудь, ч-черт! Ветер подул в распахнутое окно, подбородок тронуло что-то теплое, липкое — губу прокусил, что ли. Боль возникла не сразу. А вместе с ней пришла ясность. Шкалы и кнопки обрели смысл. И пальцы вначале робко, на ощупь, а потом, словно мстя за минутное унижение, забегали по пульту спокойней, тверже. Снаряд вздрогнул, ожил, шагнул вперед, нашаривая хоботом донную пищу — песок и гальку, упрямо и осторожно, словно соразмеряя пульс с тревожным колыханием стрелок. И все вокруг стало легким, невесомым, словно у снаряда выросли крылья и он все подымается над таинственно зеленоватой от света водой, и ты вместе с ним растешь, растешь, не ощущая тяжести. Один во всей Вселенной! Кажется, я запел, заорал, не слыша собственного голоса. Или это ветер пел в ушах? Я обернулся. Прислонясь к косяку, Харин прикуривал из ладоней, розовых от огня. — Ну, как тут дела? — спросил он, присаживаясь на ступеньку. Я уже пришел в себя, ответил так, словно ничего особенного не случилось: — Ничего. Кручусь помаленьку. Харин все еще дымил с улыбочкой. Я не выдержал, сказал: — Слушай, Миш, а я ведь чуть не помер от страха. — А? — сказал Харин, точно не расслышал, и беспокойно глянул на часы: — Пожалуй, прилягу. Он свернулся калачиком тут же на полу, возле пульта, натянув на нос ворот рубашки. Рокотал мотор, пульпа шла по трубам и где-то там, на берегу, выплескивалась в дамбу. Занималась заря. Поднялось солнце, и тотчас все вокруг заискрилось — лес, река, неоглядная ширь за полудугой нового моста. Плескалась рыба, серебря Оку. Пенный след вился за катером, везущим утреннюю смену. И люди, и сверкающая вода, и берега, и небо — все играло, переливалось радужными красками. И я, кажется, впервые за все эти тяжкие недели ученичества, подумал, что не замечал этой красоты. А она жила рядом, и сейчас, словно родившись заново, щедро дарила себя человеку.СЛУЧАЙ С ДАВЫДЫЧЕМ
…И потекли мои рабочие денечки — от восхода до заката, на гудящем земснаряде, холодном в пасмурь, а в жару, под солнцем палючим, как раскаленная сковородка. По пятницам, сменившись на рассвете, смыв копоть и грязь в Оке, я давал себе передышку, отправлялся в Москву, к старым друзьям. Частенько, перед самым моим отъездом, в общежитие заглядывал старший прораб Толя Волжанин, просил завезти начальнику СМУ Давыдычу очередную сводку. Самому, видно, некогда было: клали новый дюккер, да и намыв отставал. А может, он просто побаивался Давыдыча, вот и подсовывал меня, вместо громоотвода. Давыдыч, плотный коротышка с лысиной на макушке, встречал меня, радушно и вместе с тем пытливо щурясь, как бы покалывая выпуклыми окуньками коричневых глаз. За его спиной в распахнутом окне шумела людная площадь. — Ну-ну, привет творческому пролетариату, — ронял он, усаживаясь поудобней. — Что нового? Как пишется-дышится? Воздух для вашего брата полезен. А? Что? С Горького надо пример брать, с Горького. Он брал сводку. Потом внимательно выслушивал меня, свалив голову набок, словно стараясь отделить зерно от шелухи в ворохе моих сообщений. Что-то быстро черкал в блокноте. Что люди говорят? Мастера, бригадиры? Как настроения? Все ему выложи. С подробностями! А как же иначе? Ты же литератор! Где наблюдательность? Должен быть в курсе всего. «Как это у вас говорят: талант — подробность. И все поглядывал на меня вприщур, как на диковинную птицу, с каким-то острым любопытством, присущим людям иной, далекой профессии. А мне после таких пассажей приходилось поглубже вникать в производство, после смены высиживать планерки, допытываться у Толи, что к чему в масштабе участка. Иногда Давыдыч вылавливал что-то тревожное в моих словах и тут же чертил схему намыва. Вот мост, здесь дюккер. Где поставили снаряд? Зачем? Можно было бы временно отвести вот сюда, и намыв бы не занизили. Фу ты, чем вы там думаете? Спохватывался. — Да… Ну ты-то здесь не при чем. Ладно, видно, придется самому ехать. Ну как ты там? Говорят, неплохо вписался в коллектив, а? Как — «кто говорит»? Галага тут был, да и Мишка твой заезжал. Хорошие ребята, а? То-то. Особенно старички. По тридцать лет работают, ты присмотрись. Золотой народ… И довольно смеялся, откинувшись в креслице. А карандаш словно сам по себе доплясывал в блокноте, ставя закорючки. На этот раз смеяться ему не пришлось. И записать ничего не успел. Только что мы разговорились, как в дверь просунулась кудрявая голова девчонки-секретарши: начальника домогался посетитель. — Да я сказала, заняты вы, а он — срочное дело! Из какого-то контроля. Злой из себя. Посетитель вовсе не выглядел злым, скорее, немного комичным в длинноватом, не по росту, габардиновом реглане, с большим портфелем, оттягивавшим плечо. Что-то благообразное и вместе с тем чопорное было в его незапоминающемся лице — не молодом, не старом, на котором чуть посвечивали зубы, создавая видимость улыбки. Первой моей мыслью было — не связан ли его приход с отставанием нашей стройки, считавшейся одной из важнейших в области. Но тихие движения, чуть приметное волнение, с каким он поставил портфель на стул, сам оставаясь стоять за спинкой, почему-то меня успокоили, лишь где-то в глубине души туманилась тревога. — Присаживайтесь, — кивнул Давыд Давыдыч. На что представитель обронил со значением, как бы внутреннее кашлянув: — Ничего… Разговор серьезный. Постоим. Я так и не понял этой сложной зависимости между тональностью разговора и положением тела. Вдруг подумал не без ехидства, что, следуя подобной логике, смеяться надлежит сидя, а скажем, петь — лежа. — Разговор касается вас лично, — сказал гость Давыдычу и при этом бросил в мою сторону выразительный взгляд. Только сейчас я сообразил, в чем странность его лица — оно было как маска, человек говорил, почти не шевеля губами. Давыд Давыдыч слегка переменился в лице и махнул рукой. Это должно было означать, что у него нет от меня тайн. — Пресса, — сказал он не совсем уверенно. — Тем более, — потупился гость. — Не совсем в ваших интересах. Меня всегда бесила в людях многозначительность. Иных так и тянет из всего делать тайну, словно они не деловые товарищи, а заговорщики, связанные секретами необычайной важности. — Странно, — сказал Давыд Давыдыч, — что вы имеете в виду? — То же, что и вы. — Вот как. Вы что же, читаете мои мысли? Выстави меня Давыдыч сейчас из кабинета — никогда бы ему не простил. Меня всего так и распирало от любопытства. Давыдыч между тем поднялся, видимо, из солидарности с гостем, и подпер стенку, заложив за спину кулачки, отчего в распахе пиджака обозначилось тугое брюшко. Впрочем, он тотчас застегнулся на все три пуговицы, а гость отвел глаза. И хотя оба они были одинаково небольшого роста, начальник смотрел на гостя, привычно щурясь снизу вверх, и в эту минуту был похож на петуха, которому вместо зерна подбросили камушек. — Значит, вы догадываетесь о причине моего визита? — Ну еще бы, — сказал Давыдыч, и я смекнул, что он понятия не имеет об этой причине. — И, значит, будете вполне откровенны? — Само собой. Как на божьем суде. — Ну, зачем же так… Мы — атеисты. Губы явственно шевельнулись, изобразив подобие улыбки. На лбу Давыдыча вздулась ижица. Все это было бы похоже на забавную детскую игру: «Отгадай то, не знаю что, пойди туда, не знаю куда», если бы за ней не стояли взрослые люди, облеченные властью, со всей суровой сложностью отношений. Гость открыл прислоненный к спинке портфель, порывшись, достал какую-то бумажку, написанную, как я успел заметить, коряво, от руки, я еще смекнул: анонимка, что ли, но тут же, передумав, сунул ее обратно и поднял портфель, словно отяжелевший в его руках. И не поднимая глаз, словно выполняя тягостный, но неумолимый долг, сообщил, что у него есть сведения о том, что у Давыдыча есть дача, и что само по себе это обстоятельство, а именно: дача у начальника стройуправления — вещь более чем двусмысленная в условиях, когда повсеместно началась жесткая борьба за экономию государственныхсредств и материалов. И т. д. и т. п. Он говорил монотонным голосом, пресекавшим всякую попытку побледневшего Давыдыча вклиниться в паузу, — отрешенно, с какой-то даже скорбью, таящей торжество. Во всем этом было что-то жутковатое, точно действовал некий механизм, заведенный неумолимой рукой. В душе будто отпечатался растерянный, как мне показалось, взгляд Давыдыча, и бесстрастная голубень гостя, в которой на сей раз словно бы даже промелькнуло довольство присутствием «прессы», как естественного сообщника, и мое собственное состояние смятенности с поганым мгновенным сомнением: «Черт знает, в самом деле, дача! Строил, думал, наверное, чем я хуже других». Вся эта кутерьма чувств вдруг смылась прихлынувшим стыдом, стоило мне увидеть вспыхнувшую донельзя ижицу, превратившуюся на лбу Давыдыча в гневный крест, он был как бы символом тяжких забот этого человека, построившего за пятилетки, кроме дачи, не одну сотню дамб и мостов, начинавшего с лопаты, с кирки, с дощатой прорабки, которая превратилась с годами в управление огромных масштабов. Разве может он быть нечестен? Что же молчит? Почему? Не без зависти и вместе с тем с легкой горечью подумал я о выдержке, или нет, о робости людей, обычно не знающих страха в борьбе со стихией. Голос гостя бурхотел, словно пила в трухлявом бревне, — прямо по сердцу. Что-то накалялось во мне до взрыва. Будь я на месте Давыдыча, ей-богу, приложил бы к этому гостю мраморный чернильный прибор, да так, что главбуху пришлось бы его списывать. Но Давыдыч только сильней сощурился, и окуньки его превратились в две жгучие искры. — Позвольте, — сказал он хрипло, — спросить вас… не знаю вашего имени-отчества… — Неважно. — Как же так? — он тяжело дышал. — Отчество у людей от отцов уважаемых… — У кого как. — Возможно. — Давыдыч перевел дыхание. — Я ведь не знаю вашего отца. — Это к делу не относится. Ей-богу, он просто был скупердяй, этот Давыдыч, если жалел чернильницу. А впрочем, не у гостя была дача, у него она была. Ну и что! И что, черт его подери! — Значит, не относится, — сказал Давыдыч, — ну что ж, вам виднее. Так вот, я хотел задать вопрос по существу. — Прошу. — Сколько вы получаете в месяц? — Не вы, а я пришел к вам, — все еще не опуская глаз, произнес гость. — Вот именно. — Кровь у Давыдыча отхлынула от лица, он сделал машинальное движение рукой, но не к чернильнице, а к сердцу и после недолгой паузы сказал уже почти спокойно, с какой-то даже усталостью, бросая свой пост и проваливаясь в креслице. — Ведь даже преступникам дается последнее слово. Верно? Что-то промелькнуло в недвижно-благообразном, не молодом, не старом, незапоминающемся лице гостя, какая-то смесь горделивой обиды. Он сказал: — Сто пятьдесят. Но это к делу не относится. — А я триста, — вздохнул Давыдыч. — Как же не относится? Да плюс прогрессивка. Жена врач, нас всего двое. Я мог бы скопить на эту несчастную дачу за год. Вы понимаете — за год. Почему же она вас так настораживает? Почему вы не подумали… Гость слушал, терпеливо опустив ресницы. Его задачей было установить факт и по возможности вызвать на откровенное объяснение. А ему тут толкуют бог весть что… — Значит, объяснить по существу отказываетесь? — Я же вам объяснил! — Ну, что ж, не буду отрывать у вас время. Надеюсь, еще увидимся. — Надеюсь, нет! Я вышел вслед за гостем, чтобы дать Давыдычу прийти в себя, успел заметить, как он, пошарив в нагрудном кармане, что-то кинул на язык. Было такое чувство, будто я и сам в чем-то перед ним виноват. В коридоре гость спросил у меня все тем же бесстрастным голосом, но с чуть приметной улыбкой, в которой сквозила некая солидарность: — Кто у них тут парторг? — Человек. Михеичем звать. — Хм… А если полностью? — Иван Михеич, если полностью. — Где помещается? — Не знаю. Я тут первый раз. Он зашагал налево, читая на дверях таблички, а я вошел в соседнюю комнатушку, где обитал парторг Михеич, худой, как хвощ, старикан с черными запорожскими усами. Через минуту Михеич был в курсе дела, но почему-то никак не среагировал, только пожал плечом. В коридоре послышались ищуще-размеренные шаги. Я отошел к окну и стал смотреть на соседнюю, усыпанную голубями крышу, на дымчатую панораму Москвы. Мысли текли пустые, путаные. Впереди два свободных дня. Можно тряхнуть зарплатой в Доме журналистов, а после выспаться у кого-нибудь из холостых друзей. Я подумал об этом без удовольствия. Что грозит Давыдычу? Время такое. Строгое. И чем черт не шутит, когда бог спит… На стройке Давыдыча любили, старые речники начинали с ним в тридцатых годах и, наверное, будут жалеть, если его опять, как в прошлом году, стукнет инфаркт. А-а, черт! Ни в какой Дом журналиста я не пойду, а пойду я по друзьям-товарищам в газетные редакции, надо же как-то подстраховать Давыдыча, иначе мне кусок не полезет в горло. Я не заметил, как вошел этот, с портфелем. — Он все отрицает, Иван Михеич, — донесся от стола уже знакомый звук пилы по трухлявому дереву. — Правильно отрицает. — То есть как — правильно? Это еще посмотреть надо. — А что смотреть, когда нет у него никакой дачи. — То есть как — нет? — Ну я же вам русским языком толкую. Нет! Что тут неясного. А у вас разве есть? — Да, но… — казалось, он зажевал что-то несъедобное и никак не мог проглотить. И вдруг загорячился: — У меня нет — это неудивительно. А у него почему? Такая зарплата. И прогрессивка. И жена. Живут двое. Мог бы и иметь! — Э, батенька, — вздохнул Михеич, уткнувшись в бумаги, — дача, она времени требует. Когда ему? У нас своих пятьдесят объектов с хвостиком. И потом, знаете, народ всякий. Построишь честно, а найдется этакий… И начнет копать. Потом иди, доказывай, нервов не хватит. — Да, вообще… конечно, — сдержанно рассмеялся гость, и лицо его пошло пятнами. Он все еще пытался защелкнуть стоявший перед ним на столе давно закрытый портфель. — Как говорится, на нет и суда нет. — И уже с порога: — В общем, рад знакомству… И что все обошлось, так сказать, ко всеобщему удовольствию. — Вряд ли, — буркнул Михеич, когда за гостем захлопнулась дверь. — Какое тут удовольствие, одни нервы. — Крякнул. И, почесав в затылке, подмигнул мне, насмешливо дернув усами. — Ну давай, присаживайся, рассказывай, как у вас там дела-делишки…ГОРЯЧИЙ ДЕНЬ
— Эй, капитан, заснул? Я вздрогнул — кричали снизу, с катера… «Ястреб» серым утюжком уткнулся в берег, просев кормой. Люди ждали переправы. Но за блестким от росы стеклом кабины не маячила шляпа моего старшего, моториста. «Где же он? — екнуло сердце. — Заболел? А может, просто… вчера ведь была получка. Значит, я — за него!» — Крути колеса! Какая-то жуткая легкость вдруг подхватила меня, бросила по обрыву к рассветно-сизой реке. Ноги скользили. Наконец я отвязал чалку и неловко плюхнулся на палубу. Неделю назад я только мечтал водить катер. Бывало, смятый усталостью, навалясь на поручни земснаряда, глядел, как скользит по воде «Ястреб» — относит в сторону дымок капитанской сигаретки. Он мчался от берега к берегу или торчал с умолкшим мотором на середине реки, пока не заорут с причала… Рядом — рукой подать и вместе с тем далеко, в ином, сказочном, легком мире. Руки, чужие от волнения, промерили бензобак, обтерли ветошкой стекло. Затем сняли крышку отстойника, погрузившись в щекочущий холодок воды. Две-три песчинки попали в ладонь — стоило открывать? Но я действовал, как лунатик, стараясь в точности повторять движения моего загулявшего капитана. Рабочие переговаривались, равнодушно поглядывая на мои манипуляции, — им скорей бы отчалить, дело ждет. Я нажал на стартер. Раз, другой… Как в тумане, замаячил с боку Миша Харин. Сел рядом. Рука его потянулась — щелкнуло зажигание. Я совсем забыл об этом проклятом зажигании, но сделал вид, что не успел включить. Сжав баранку, сказал хрипло: — Кинь курить! Он не сунул мне в рот сигаретку, как бывало в рубке земснаряда, положил пачку мне на колени. Но тут я увидел руку Женьки Петренко и принял от него зажженное курево. Я был благодарен Женьке, моему бывшему напарнику на снаряде. Вообще мне с ним повезло. Недавно Женьку вызывали в военкомат, но потом дали отсрочку, пока не будет намыта дамба. Не будь этой отсрочки, вкалывать бы мне на снаряде, и никуда ни шагу. А так, на катере, больше свободного времени. На досуге выну блокнот, кое-что запишу. За месяц набралось впечатлений. Легкий гул мотора вошел в меня нетерпеливой, ликующей дрожью. «Ястреб» развернулся, едва не заехав снова на берег, и, стыдясь оплошки, ринулся к стрежню реки. — Как дела, Миша? — крикнул я что-то уж слишком весело. И не дождался ответа. Река была гладкой и белесой. Лишь кое-где от налетевшего ветерка мгновенно взметалась темная зыбь, точно в воду швыряли горсти песка. За моей спиной смех, говор. Спорили, кто сколько намыл за месяц грунта. Наш снаряд, то бишь теперь Мишин и Женькин, переплюнул соседей: сорок тысяч кубов! — Что-то, братцы, тут не так, — тянул дотошный голос, — никак вам начальство приписывает для показа… — Приписывает! — огрызнулся Женька. — Своим горбом, пока вы в рубках дрыхнете. В смотровом зеркальце я видел его белые зубы на смуглом, рано погрубевшем лице. Кепка — козырьком назад — придавала Женьке особую лихость. Он был ровня мужикам, работяга. А Миша — классный машинист. Катер летел, вздымал крылья зеленоватых брызг. Из рассветной пелены выпало солнце, и на воду стало больно смотреть. Вдруг прямо по носу проступило желтое пятно: мель!.. Рука панически сбросила газ, снова выжала до отказа. Но волна уже догнала катер, легко перекинув его через отмель. Сам того не понимая, я, кажется, сделал то, что следовало. И чудом уберегся. — Лихо! — крикнул кто-то. Я разжег окурок — руки слегка дрожали. Вот и берег — травянистый, с серой глинистой каймой. Горбатилась полунамытая дамба — будущая дорога к новому мосту. Над бруствером торчали черные жерла труб. Еще немного — заступит новая смена, и они оживут, выбросив фонтаны пульпы. А у меня выдастся свободный часок. «Ястреб» ткнулся в причальный мыс, заглох, кажется, раньше времени. Перехватывая леер, рабочие запрыгали на берег. Катер, легчая, всплывал и сам собой стал отчаливать. У меня засосало под ложечкой: хоть бы успели! Последний плюхнулся уже в воду. — Не дотянул, капитан! — А у меня полегчало на душе. Наш земснаряд стоял поодаль, глубоко вклинившись в песчаный забой. Катер легко понесся туда, огибая косу. На борту нас осталось трое. Мы с Женькой опять закурили, и я снова спросил: — Ну как, Миш, дела? — будто меня дергали за язык. — Ага, — очнулся он и стал глядеть на воду, помаргивая выпуклыми глазами и слегка приоткрыв рот, словно стараясь скрыть неловкость. Я не мог понять, в чем дело. Михаил был из тех мастеров, чьей дружбой дорожишь и поневоле становишься ревниво-чутким. Он был моим учителем на земснаряде… Ох, эти ночи, похожие на вечность, в липком поту, без сна. Воющий звук включенного мотора, грохот и крик из рубки: «Камень во всасе». Река тянет в одну сторону, лом — в другую. Но ты долбишь на весу, аж жилы трещат, — по камню, по камню… Однажды перевернулся — и чуть не засосало. Выручил Мишка — сиганул в воду в одежде. И потом, уложив на железную палубу, отпаивал водкой. Где он ее взял ночью, посреди реки? Помню, он сказал: — Ничего… Так вот, брат, и учатся работать. — Ничего, дядь Сань, — вдруг коснулся моих ушей голос Женьки. Он отвечал за машиниста. — Вертимся. Вчера аванс кинули, по косой. Вам тоже причитается… В голосе Женьки проскользнуло сочувствие. Это было так непривычно. И вдруг меня осенило. Догадка была внезапной, облегчающей. Ну, конечно, и мне «причитается»! В последний раз. На катере зарплата куда меньше. В душе моей даже шевельнулась гордость: вот, не посчитался, избавил снаряд от лишнего рта. Кем я был? Сверхштатным помощником с журналистским билетом в кармане. Намыв тот же, что и без меня, а денежки на троих — комплекс! Теперь им будет полегче, заработок подпрыгнет. А мне стало и вовсе легко — от ветра ли, от солнца, оттого ли, что везу ребят на наш земснаряд. Он маячил полускрытый косой, чудище с двумя фарами по бокам лобастой рубки, с железным хоботом, уткнутым в реку. Казалось, дремлет, посасывая водичку после ночного пиршества песком и камнями. Катер стукнулся носом в железные поручни, отпрянул, но Женька уже вскочил на понтон, потянул трос. Михаил с чемоданчиком побежал вслед за ним по дребезжащей палубе. Линялые штаны парусили на щиколотках. Затем он поднялся в рубку. — Миш! — крикнул я. — Соберешься на дамбу — свистни. Ладно? — Ладно, — отозвался Харин. Руки его лежали на кнопках пульта.Синий ветровой день подмигнул мне солнечным глазом… Уже через минуту прокатился истошный призывный свист с левого берега, затем с правого. День схватил меня с «Ястребом» в жаркие свои ладони и пошел швырять во все стороны. На борт катера прыгали электрики с мотками провода, наподобие солдатских скаток. Едва я успел отчалить, как вслед заорали сварщики. А когда, наконец, перевез сварщиков, откуда ни возьмись выскочил прораб Кузьмич, красный, в гневно сверкающих очках: — Ты все-таки гляди по сторонам! Машешь ему, машешь, охламону! Оказывается, прораб уже полчаса бегал вдоль берега, стараясь определить, где я пристану. Как я его не заметил, долговязого, ума не приложу. На снарядах били, как в барабаны, в питьевые бочки, выставив их на поручни: «Эй, капитан!» Надо бы отобрать все бачки сразу, наполнить в роднике и развести. А я брал по одной, и на «Ястреб» еще издали обрушивался фейерверк строительного фольклора. Я размазывал по щекам грязный пот. Хотелось есть. А с дамбы снова махали… И лихорадочно пробивалась тщеславная мысль: «Все-таки держусь. А? Ничего!» Внезапно начинал искрить карбюратор, и сердце падало. Словно сжалившись над непутевым, мотор выравнивался. В такие минуты хотелось верить в некую магическую связь между человеком и железом. …Вдруг все затихло на берегах. Неужели обед? Так скоро… Катер замолк, уносимый течением, а в груди стучало, как после быстрого бега. Я достал батон, вцепился в него зубами. В тот же миг над рекой прокатился пронзительный свист. Он был почти осязаем, точно мина, летящая по параболе. Я не мог ошибиться — это Женька. У ребят кончился забой, и надо было перетаскивать земснаряд на другое место. Катер лихо подрулил к снаряду. Он казался мухой рядом с огромной слоноподобной махиной. И все же он потащил ее как миленькую. Потому что вода! Все дело в трении. Удивительны эти истины, когда берешь их сам, на ощупь. Я выбрал самый длинный трос. Один конец — на гак, другой Женька привязал к штырю снаряда. Миша, свесившись из окна рубки, наблюдал. Я ловко затягивал узел, крепко — по-морскому. Вот, мол, каков твой бывший помощничек, гляди. Все-таки не обошлись вы без него, а уж он постарается… — Дядь Сань, — сказал Женька, протиснувшись в кабину и жарко дыша, — давай подменю? Я как-то не сразу даже сообразил, что он хочет, но в следующее мгновение оттер его плечом. — Ну-ка, не мешай! — и с опозданием ругнулся. «Эти гидромеханизаторы все универсалы, все могут. Но ведь на что-то я здесь. И почему — дядя?» — внезапно кольнула обидная мысль. — «С первого дня — «дядя». Наверное, по имени назвать — мало, все-таки старше. А по имени-отчеству — много? Ну-ну…» — Дядь Сань! Вон туда держи, на кусты! — крикнул Женька уже со снаряда, не сводя с Миши глаз. — Левее, на дерево! — уточнил Харин. — Левей, дядь Сань! — повторил Женька. — Иди ты… — взорвался я. — Переводчик… Сам не слепой! — Я нажал на педаль. — Потише! — предостерег Женька. Трос натянулся. Катер вздрогнул от рывка и лег набок. И чем больше я газовал, тем натужней он ревел и кренился: трос тетивой — а снаряд ни с места. Казалось, прибавь чуток газу — и «Ястреб» вытряхнет в воду всю поклажу, а заодно и катериста. Задний ход — все повторялось сначала. …Прошла минута. Или час. В висках стучали молотки. Рубашка взмокла. Гудел перегретый мотор. От бестолковых рывков взад-вперед катер, верно, нахватался песку — система засорилась, от машины валил пар. Я вслепую нырял в машинное отделение. Одной рукой — за руль, другой — за шланг, и так, с раскинутыми руками, задыхаясь, пытался продуть трубы. В тесноте спотыкался, рычал от ожогов к снова бросался на сиденье. Михаил что-то кричал сверху, я не слышал и только сжимал зубы в отчаянной попытке сдернуть с места снаряд. Снова обдало жгучим паром, вытолкнуло наружу. Хватая свежий воздух, я ногой придержал руль, каблуком ударил по ручке газа. Рывок, треск… Небо очутилось где-то сбоку. Я почувствовал, что лечу, и задохнулся в тугом зеленоватом омуте.
Дощатая стенка снаряда была шершавой и теплой. Я открыл глаза. В мокрых ресницах радужно расплылось солнце. Михаил стоял ко мне спиной, навалясь на перила, и смотрел, как Женька укорачивает трос. Катер подтянули. Теперь он почти касался палубы кормой, в которой был упрятан винт. — Сразу бы так, — сказал Миша, — винтом накоротке размыть под днищем, а потом тащить. Присосало нас, слепому ясно! — А я виноват? — сказал Женька. В пору было снова закрыть глаза. Михаил обернулся: — А, очунял? «Еще усмехается, — подумал я со злой отрешенностью. — Хорошо ему на снаряде, как на материке, а тут!» — Думаешь, так просто? Сам бы попробовал… — То-то… — перебил он, отворачиваясь, — а ведь ныл: «Ах, мне бы на катер! Хорошо. Сиди себе, катайся…» — Ко… когда? — Я даже растерялся: такой отчужденностью повеяло от Мишкиного лица. — Когда я ныл? Так вот оно что!.. А я-то думал, все утро думал: им неловко передо мной, что я отказался от заработка. А им неловко за меня! Я поднялся, ступил на катер. Он жестко спружинил под ногой. — Ты чего? — спросил Харин. — Попробую еще разок. Он кивнул: — Давай! А то два часа, а мы загораем. Работать надо…
И ВСЕ ЗА ОДНОГО…
Маша Петухова, диспетчер, докладывая мастеру обстановку, взволнованно круглила глаза. Собственно, ничего особенного за ночь не случилось: кое-где на дальних улицах порвались провода, вышли из строя светильники, туда были посланы дежурные, быстро все наладили, словом, порядок. Но Леонид Иваныч недовольно морщился, и это сбивало ее с толку. Ему бы сейчас радоваться — все ведь обошлось, а он хмуро постукивал карандашом: — Частишь, как сорока, не угнаться за тобой. Диспетчер, прикусив губу, обстоятельно, с некоторым даже вызовом повторила, какие меры приняты… Погодя, когда мастер, все так же насупясь, выдавал наряды, монтер Волков, партгрупорг, спросил с усмешкой: — Что это ты, Иваныч, не с той ноги встал сегодня? — Может, я всю ночь не спал, — отмахнулся мастер, не вдаваясь в объяснения. — Обсудим день. — Может, с Паней что? Жена, Паня, тоже монтер со стажем, трудилась здесь же, в конторе Мосгорсовета, на третьем этаже. Жили, в общем, дружно, если не считать утренней размолвки. А началось с того, что из жэка прислали к ним домой паркетчиков — ремонтировать пол. Им бы заменить отдельные дощечки — нет, у них, видите ли, размах, фонды у них бездонные. Разворотили все, дважды переделывали, а все — тяп-ляп, неделю семья была буквально загнана в угол. А как ступили утром на новый пол, тот и поплыл, дощечки будто клавиши. Вот тогда терпение лопнуло. «Да что ж это такое?! У людей пятилетка качества, а у вас? Бухнули материал, как в прорву, не свое, не жаль?» Его трясло, и в правом виске привычно заныло. Никогда не жаловался, не просил за себя, а тут пригрозил обратиться к их начальнику. Пусть придет, посмотрит, не видать вам прогрессивки, как своих ушей. Это уж точно! «Да ты кто такой, — вскинулся старший ремонтник, — прогрессивкой нас пугать?» «Мастер я! Такой же, как ты, только из другого ведомства!» Сгоряча зачем-то схватил с серванта газетную вырезку, где в ряду передовиков соревнования, отмеченных высшей правительственной наградой — орденом Ленина, — значилась и его фамилия — Леонида Ивановича Филатенкова, да спохватился, положил на место, махнул рукой и пошел одеваться. Паня выбежала вслед за ним в прихожую, дернула за рукав: ладно тебе, распетушился, и тут же зашептала насчет того, что дело поправимое, давно бы надо подкинуть паркетчикам, что положено. — Совесть им положена, арапам, да обделили, видать. Взглянул на жену, будто обжег. И вышел, хлопнув дверью. Не стал ее ждать, как обычно. Люди привыкли видеть Иваныча веселым, уравновешенным и сейчас, почувствовав, что он не в настроении, притихли, молча выслушивали задание, брали инструмент. Только Волков, стараясь рассеять смуту, обронил со смешком: — Вчера опять со снабженцами поцапался. Выдали спецовку не глядя, безразмерную. Что, мол, вам, на танцы в них? А Хоботов переживает. — Мое дело с тебя спросить, — не принял шутки Иваныч. Димка Хоботов, приходивший на работу в модном пальтишке, смущенно поежился, закатывая отвисшие рукава. — Я не из-за спецовки переживаю, — робко вставил он. — Вы меня отпустите скорее, провода свились на тополе, ночью не разобрал, на утро оставил, тороплюсь… Мастер уже готов был выговорить Димке за оттяжку, да сбоку неожиданно подал голос Виктор Сараев: — Ладно, я ему пособлю, мне все равно по пути… Леонид Иваныч усмехнулся, мельком глянув на Виктора. Вот так всегда — чье-то доброе словцо лечило душу. Да и не «чье-то», а Виктора… Когда-то было их тут, монтеров, чуть не вдвое больше, а если учесть аварийников да диспетчеров, так и втрое. У кого участочек получше да поисправней, те у печки грелись, дежурные в благополучную ночь вообще на улицу носа не казали — это в холодное время, а в теплынь на скамеечке покуривали, красота. Другим же приходилось «вкалывать»: мотались по городу и в снег и в дождь — на подстанции, оттуда по линиям, искать замыкание на земле и в воздухе, торчать на ветру в телескопических башнях. Леонид Иваныч не мог мириться с таким беспорядком. Ходил по начальству, на собраниях выступал, вносил предложения. На бумаге все получалось верно. Но бумага одно дело, а жизнь другое, и кое-кто сомневался, будет ли толк. — Дельно придумано, — отвечали ему, — но ведь и так людей мало, а тут вполовину срезать. — Это кажется, что не хватает, на самом деле лишние, — толковал свое Леонид Иваныч. — Многое от головы зависит. — Ты и есть у нас голова, — соглашались наконец в конторе. — Тебе тянуть, тебе и думать. Ответственность какая… — Отвечать вместе будем. И работать тоже. — Ну что же, попробуем. Решили из монтеров сколотить комплексную бригаду. Отвечает бригада за всю территорию, а территория большая — захватывает несколько районов столицы. И везде должны исправно гореть светильники, 14 тысяч светильников как один. Чтобы и вечером и ночью было светло и празднично, спокойно шагали по улицам пешеходы, мчались машины. И вот тут-то некоторые из монтеров заартачились. Не то чтобы не поняли важности новой организации труда. Поняли, конечно. Да уж так устроен иной человек, что ощущения у него впереди понятий идут. Такая, стало быть, грустная реакция. Тут и пошло. — Да как же так, да я свой участок, можно сказать, своими руками вынянчил, — горячился Виктор Сараев, — а теперь иди на дядю паши, а он, сачок, — на готовенькое. И столько было искреннего возмущения в этих сетованиях, что понял Иваныч: словами объяснять, уговаривать — без толку. Только сказал тогда Виктору: — Сачков, выпивох держать вообще не будем. А вот новичку помочь надо. Свет должен гореть? Должен. А кому чинить? Кроме нас, некому. Все! И, переодевшись в спецовку, пошел тогда Иваныч знакомить с делом новичка — Диму Хоботова. Уж он ему передавал из рук в руки все, что знал: и как быстрее добраться до подстанции, как определить пострадавшую линию, прощупать пассатижами воздушку, «прозвонить» кабель, отыскать в земле поврежденную жилу, прогар. Дима слушал, слушал, повторял, а дойдет до дела — руки как неживые. — Сам, — сказал Леонид Иваныч, — сам определяй, доискивайся, больше ни слова не скажу. Так до вечера и провозился парень под наблюдением мастера, постигал монтерские премудрости. А вечером сел на скамейку, и в печальных глазах его потекли огоньки пробегавших машин. Славный был вечерок, теплынь июльская с терпкими запахами цветущих лип. — Чего затосковал? — спросил Иваныч. — Билет у меня в кино. Через полчаса начало. — А я тут при чем? — Да нет, я просто так. — Просто так и рак не свищет. — Может, мне по собственному желанию… — Можно. Чего ты, собственно, вообще шел к нам? Что тебе, детей кормить? Гулял бы. — Кормить. Маму. — Тогда лезь на опору. — Вы-то чего со мной возитесь? Вас же в конторе ждут. — А стыдно возвращаться. Я вроде бы поручился за тебя, а теперь как я тому же Витеньке в глаза посмотрю? Дима Хоботов вздохнул и полез в сумку за инструментами. А теперь вот Сараев сам напросился помочь Хоботову. Это хорошо, это здорово, хотя ничего героического тут нет. Все пришло само собой, незаметно: дружба стала законом. И ведь в конце концов — раз все за одного, твое к тебе же возвращается. Взаимное добро связывает людей, роднит, выручает в трудный момент. В памятный день рождения их рабочей семьи Виктор выслушал рассуждения Леонида Иваныча и, то ли приняв их сердцем, то ли просто поверив на слово мастеру, сказал, вздохнув: — Эх, Леонид Иваныч, ну ты прямо как отец родной. За тобой хоть в огонь, хоть в воду, а кто спасать будет — неясно. — Сами себя. Помнится, сидевший позади всех Коля Мишаков, красивый, темноглазый парень, всего месяц назад поступивший монтером, покачал головой. Что-то, видно, хотел сказать, да раздумал, рукой махнул. — В чем дело? — спросил мастер. — Да вот, решил обратиться с просьбой, верней, заявлением, да не ко времени. Уж лучше завтра, настроение вам не портить. — А ты порть, мы люди закаленные, выдержим. — Вы-то да, а я вот гриппу подвержен. Работа у вас все на воздухе. То дождь, то ветер, то пыль, а что зимой будет? Словом, не по мне. — Передумал? Мишаков кивнул, опустив голову. — Чего получше нашел? Говори, не стесняйся. — В магазине, мясником. — Ну-ну, — протянул парторг Волков не то шутя, не то всерьез, — тогда конечно, основание веское, мясником, это, брат, прибыльно… — И резко добавил: — А вот не уволим, отработай, что положено! — Зачем неволить, — возразил мастер, как бы не замечая недовольство Волкова. — Можешь быть свободным. Мишаков мельком взглянул на него и снова уперся в грудь подбородком, глаза упрятал. — Ну что ж, — заключил Леонид Иваныч, — человек ищет, где лучше. А жаль, работник ты со способностями. Сказать по правде, никаких таких способностей за Мишаковым пока не числилось. Просто обидно стало: не пришлась их работа парню. Вот только и была одна осечка с Мишаковым, а так прошла реорганизация более или менее гладко. Остался хороший костяк — десять человек. По двое в наряде, двое в ночном дежурстве. И никто не сидит без дела: кто выехал на аварийную точку, а кто на текущий ремонт. Ведь чем больше профилактики, догляда за сотнями линий, тем реже ЧП. Смотришь, с вечера весь твой район залит светом, — душа радуется. — Я иной раз иду по улице темной в гололед, аж съежусь весь, так и кажется, будто на тебя смотрят, вот он, мол, пошел, осветитель липовый. А уж если светло, другое дело — скажи мне спасибо… Во что обходится «спасибо», он никогда не задумывался, выполнял свои обязанности, и все. Руководил сменой, мотался по району, на объекты, где случались сложные помехи. Улучшая работу подстанций, соединял их в последовательную цепь. Было еще вдосталь всяких мелочей, но, пожалуй, самый каверзный пункт — приемка строительных объектов. Строители, разворачиваясь, ненароком сбивали столбы, путали провода и нередко пытались в таком виде сдавать объект. — Не придирайся, мастер! Давай-ка лучше отметим победу. С новосельем, так сказать! Иной покладистый приемщик закрывал глаза на беспорядок. Пытались как-то задобрить и Леонида Иваныча. Но не тут-то было. Человек он непьющий, а в рабочее время и подавно. Разъяснил популярно раз — другой, и пошла о нем слава по объектам, как о человеке непримиримо строгом. Так что теперь, завидев его издалека, строители, уже готовые помахать ручкой новостройке, только вздыхают: «Отец идет! Лучше с ним не связываться…» — Слышь, Иваныч, ты прямо как о своем дворе хлопочешь. — А это и есть мой двор. В моем районе.Мысль о строителях вернула его к действительности. Леонид Иваныч глянул на часы и торопливо подписал последний наряд. Оставалась минута. В десять — согласование стройпроекта у начальника конторы Дорогова. С некоторого времени мастер был постоянным участником этого официального акта. Александр Александрович Дорогов так объяснил строителям присутствие Леонида Иваныча: — Он ближе к живому делу, ему видней, что у вас в проекте так, а что не очень. На этот раз в кабинете Дорогова сидел незнакомый мужчина в роговых очках. Он живо поднялся навстречу мастеру, хватко пожал ладонь и тут же рассыпался в комплиментах. — Как же, слышал, слышал. Гроза прорабов, если не ошибаюсь. Рад познакомиться. — Какая там гроза, одну ж мельницу крутим. — Безусловно. Очень верно подмечено… Это я так, шутки ради. Одобряем ваши действия. Твердость и принципиальность прежде всего. Он разложил шелестящую кальку проекта застройки, продолжая ронять приятные для Иваныча слова. Дескать, побольше бы таких мастеров, столпов порядка и ответственности. И у Леонида Иваныча было такое чувство, будто его окунают в бочку с патокой. Он, морщась, принял от Дорогова кальку, внимательно рассматривал ее, потом обронил сухо: — Не пойдет… — Не понимаю, простите… — Тут же все ясно, — произнес Леонид Иваныч, стараясь не глядеть на Дорогова, потому что всякий раз, когда ему давали право решать, испытывал некоторую неловкость от этого, так сказать, санкционированного нарушения субординации и еще потому, что, как бы там ни был настроен в этот раз Дорогов, он, мастер, все равно от своего не отступится, за ним закон, а точнее — здравый смысл. А здравый смысл подсказывает ему — что теперь уж, слава богу, люди научились строить последовательно и если кладут, как положено, коммуникации, то уж заодно надо подумать, чтобы они соответствовали масштабам строительства. — А у вас не соответствует, — говорит Филатенков. — Не понимаю, — дрогнувшим голосом произнес строитель. — Кабель у вас слабенький… — Слабенький? — Ну да, шестнадцать сечение, — объяснил мастер. — На один корпус мощности хватит. А у вас тут еще пять намечается. Так? И придется опять раскапывать траншею, перекладывать кабель. — А мы другой проведем! — А другой вести до подстанции далеко, опять же сколько земли перелопачивать, время тратить, деньги, материалы. А вы бы этот кабель помощней заложили, а к нему бы и наращивали сколько надо. Вот и экономия. — Экономия… — машинально повторил гость и внезапно взорвался отчаянной скороговоркой: — Не можем мы этого сделать, поймите, поздно, проект утвержден! — В смысле — машина запущена — остановить нельзя? — Вот именно! Мы с вами умные люди! — Не знаю. Умные-то в машину не сядут, если у нее одно колесо наперекосяк. Так что придется внести изменения в проект. Хлопотно, трудно, а надо. На ошибках учатся, в другой раз не промахнетесь. Гость сокрушенно смотрит на Дорогова, тот с извиняющейся улыбкой разводит руками: — Мастеру видней. И потом, вы, наверное, сами уловили, есть в его рассуждениях логика. А? — Логика… Гори она синим огнем, а у меня сроки. — А сроки без логики пустой звук. Гость поднимается, мгновенно охватив взглядом хозяев, и в прищуренных глазах его остро вспыхивает огонек: — Так, придется обратиться в высшую инстанцию. Только вот на кого жаловаться? — А жаловаться на меня, — уточняет Дорогое. «Теперь Александру Александровичу из-за меня неприятности», — вконец расстроился мастер. Конфликт с проектантом напомнил почему-то утреннюю сценку с паркетчиками, хотя, казалось, никакого отношения она к службе не имела. Вот и этот, с калькой, грозился высшей инстанцией, стало быть, опять нервотрепка попусту, отрывать время у занятых людей, а ведь можно было все решить загодя. И нужно для этого не так уж много — добросовестность! Думай о деле общественном, как о своем личном, прими его близко к сердцу, проникнись! Только так! Прописные правила, а ведь в них основа порядка! Он спорил с невидимым собеседником, пытаясь найти самые нужные слова, но не всегда их находил. Даже под ложечкой засосало… Может, просто оттого, что с утра не позавтракал. И Паня, как назло, молчит, обиделась, что ли. А за что? Очень просто подняться к ней наверх, а лучше всего снять трубку и сказать: «Неси-ка бутерброд!» И заодно объяснить ей, что неправа была утром, предложив задабривать рвачей. Он уже решился было позвонить, но в последний момент положил трубку на место. К черту бутерброды, обойдусь. Вот так. Обижаться на меня не за что. И еще подумалось: если человек к себе требователен, то вправе потребовать и от других, а от жены и подавно. Мысли его привычно перескочили на дела бригадные. Никакой расхлябанности у себя в смене он ходу не дает. А ведь на первых порах пеняли ему за излишнюю суровость, сухость. Был же случай — перегулял один монтер на свадьбе, на работу не явился. Поговорил с ним, вроде бы понял человек, и вскоре опять прогул, и снова душеспасительная беседа. Настоял на увольнении, а когда увольняли, свои же ребята пожалели. — Круто берешь, отец. Это Виктор, кажется, вякнул. — На то и отец, чтобы круто! Ничего, жизнь зато помягче с ним обойдется, жизнь, она подобрей. От нас уйдет, в другом месте устроится и там погуляет. Вон как Коля Мишаков, мясник, который от сквозняков сбежал. — Мишакову, говорят, неплохо. — Ну и слава богу. С самим-то Виктором тоже пришлось повозиться. Попивать стал, жена в слезы, среди дня звонок — повлияйте на него, Леонид Иваныч, опять зарплату не донес… Правда, с Виктором обошелся помягче, все-таки другой он человек — работящий. Да вот, как сам признался, характер мягкий, компания его, видишь ли, затянула. — А меня почему не затянула? — спросил тогда Виктора на сменном собрании Иваныч. — В ремеслуху я из смоленской губернии попал. Москва, общежитие. После войны не сладко было, всего навиделся. А вот же — не пью, даже не курю… Молча глядел он на понуро сидевших ребят. А хотелось бы им ответить на это самое: «круто берешь». «Нагрузочка у меня, дорогие товарищи, не ваша, потяжелей, а вот бегу же на объект, если что у кого из вас не заладится, и просто по-житейскому, ежели кого выручить нужно: мать захворала или там сестра приехала, отпусти, Иваныч, отработаю денек — иду навстречу, жизнь есть жизнь. А тебе, Витя, когда срочно деньги понадобились, опять же к Иванычу: «Выручай!» А теперь, значит, «круто беру». Осудил… Прямо не человек я, а самодур какой-то…» И не выдержал все-таки, выплеснул это в заполыхавшее лицо парня. — Ладно, понял, — сказал Виктор. — Давайте наряд. — Нет уж, сегодня тебе наряда не будет. Я тебя на линию такого, с похмелья, не выпущу — еще отвечать за тебя. Сиди… — Как — сиди? — А вот так. Люди будут работать, а ты отдыхай. И сидел парень, томился, боясь глядеть в глаза товарищам, которым выпал, как назло, горячий денек: два обрыва и сгоревший кабель. Случись это до комплексной организации, как-нибудь пережил бы, а сейчас, выходит, за него другие надрывались. На другой день, придя пораньше, сказал: — Слышь, Иваныч, лучше год в тюрьме отсидеть, чем такой денек выжить. Но сам-то Иваныч после этого призадумался. Требует он от своих подопечных примерного поведения, но и позаботиться о них надо, о нормальных условиях — для жизни, работы, культурного отдыха — и стал хлопотать о жилье, тем более что в то время он был депутатом райсовета. Многим помог.
…С женой пришлось все же столкнуться. Только не в обеденный перерыв. Обед ему сорвала авария на линии, а когда возвращался, кутаясь в воротник на морозном ветру, Паня спешила на подстанцию, засигналил ей оттуда зеленый огонек — срочный вызов. И так бывало уж не раз, встретились нос к носу у перекрестка на самом ветровее со жгучей поземкой. — Здравствуй, Паня. — Здравствуй, Леня, — и поправила на плече рабочую сумочку, — я к тебе забегала. Еду оставила. И хотя есть уже не хотелось — замерз, в тепло бы скорее — однако порадовался, что все-таки не забыла о нем. — Сама-то ела? — Не успела как-то… — А дома? — И дома… Ну ясно. Это уж так повелось. Один расстроился, другому кусок в горло не лезет. — Вот сейчас в кафе перекусим. Но Паня, видать, была под стать мужу: делу время, обеду час. Пока она возилась у приборной доски на ТП — в трансформаторном помещении, он топтался по холоду. Не выдержал, пошел помочь. Сменили реле, проверили контакты, отверточкой раз-раз — завинтили крепление. — Все? — Порядок. Потом в кафе они отогревались, в свой законный час, чаем и котлетами. И, глядя украдкой, с каким аппетитом Паня ест, не отрываясь от свежей газеты, вспомнилось ему их первое знакомство — тоже зимой: как увидел он ее впервые в подъезде общежития — к брату приезжала из деревни, — и как по-деревенски неуклюже, сам от себя не ждал, вдруг спросил, не пойдет ли она с ним в кино. И тут же, смешавшись, добавил, что он человек порядочный, если не верит, пусть у брата спросит. И если брат скажет о нем худое — порвем билеты. — Не надо рвать, — сказала она, — и так верю. — И улыбнулась: — А где они, билеты? — Сейчас куплю! И они пошли в кино, и он всю дорогу шел рядом, не дыша. Потом, освоясь, стал рассказывать о себе, о своем деревенском детстве в оккупации. Откуда слова брались? Вот, мол, люди кино смотрят, а он въявь все это видел. Брат ушел в партизаны, они с матерью перебивались картофельной шелухой да отрубями, семья — семь ртов. Перед самым наступлением Красной Армии все партизанские семьи — жен, детей, братьев — стали гонять на окопы, а села жгли, злобствовал зверь перед смертью… Плохо было. Два года подряд голодать — не шутка. Сейчас хотя и туговато, а будет лучше. Заживем на славу. А ты, значит, в деревне, на ферме, что ли?.. Я ведь тоже деревенский! Словно вдруг открыл нечто удивительное, объединяющее их, забыв, что только о деревне и молол целый час… Так и прыгал с пятого на десятое, пока не опомнился, глянув на часы, охнул: опоздали в кино на сеанс. — Что же ты не напомнила? Впервые робко подняла глаза: — Неудобно… — Надо же, неудобно ей. Вот теперь назад поворотим. — И ладно. Мне и так хорошо. Куда девалась потом ее застенчивость. С характером оказалась Паня, а ничего, притерпелись, правда, бывает, поцапаются, поссорятся, семья есть семья. Особенно из-за Наташи. Болеет он за дочь: восемнадцать лет, глаз да глаз за ней нужен. Ну и отказать ей ни в чем не в силах, то наряды, то театры, то еще что-то. А Паня прямо железо женщина: не балуй девчонку! И точка. А не то сам на себя пеняй. Чего уж там пенять. В жизни всякое может случиться, а все равно дочку жаль, любит он Наташу, вот и балует. Ее-то, Паню, не баловал, жизнь тогда трудная была. — Лень, я уже… Он взглянул на пустую тарелку, на светлые, словно бы обиженные ее глаза, и сердце почему-то сжалось… — Погоди, еще мороженое закажу. — Зимой? — Ну яблоки. Она только головой покачала. А он пошел в буфет. И про утреннее ей не стал поминать, все сама поняла. За полдень, когда уже стало по-зимнему смеркаться, на табло дежурного диспетчера вспыхнула аварийная лампочка. И он, не переодеваясь, лишь натянув поверх фуфайки оранжевую спецовку, вызвал машину. Больше идти было некому. Одного Волкова пустить не мог, да и что один сделает в такую погоду. К тому же опасно без помощника. Он всегда инструктировал уезжающих на задание. Тридцать лет на одном месте, в одном доме, сотни тысяч выездов и столько же предупреждений. Лишний раз не помешает. Все-таки гололед, движение, а в их работе всегда доля риска. Светильник чинить — не огород городить. А береженого, как говорится, и бог бережет. — Ну, бог не бог, — улыбнулся, — а мастер беречь должен. Сам-то он однажды не уберегся. Оборвался провод, встали трамваи, а время — часы пик, люди на работу спешат, вот и он поспешил, выпрыгнул из машины, бес попутал — вместо того, чтобы обойти по правилам, кинулся вперед и едва не попал под машину, откинуло на тротуар, головой об асфальт, и все — отключился. Восемь дней не приходил в сознание. Это уж ему врач сказал, в институте Склифосовского, сам Леонид Иваныч ничего не помнил. Хорошо еще, хирург попался опытный. Стрельников Игорь Иванович. При таких травмах, как он потом узнал, один из ста выживает. Повреждение черепа — не шутки. Через сорок дней на ВТЭК дали ему вторую группу и сохранили полный оклад — сто сорок пять, без прогрессивки. Семь месяцев сидел Леонид Иваныч дома. Сколько он натерпелся за эти месяцы, одна Паня знает. Утром покормит Наташу, проводит в школу, а сам во двор, забьет с пенсионерами козла, раз, другой, третий, и так до ряби в глазах. Старички со скуки сообразят сухого винца. А он не пьет. Потом кто-то предложит в карты перекинуться, в дурачка подкидного, в петуха. Вот житуха. На второй месяц при одном виде домино и карт у него к горлу стала тошнота подступать. А тут еще врачи навещают. Из больницы, из поликлиники, анкетки шлют. Мол, как самочувствие и т. д. А как же иначе, заботятся. И потом, редкий случай в медицине, на нем молодые учатся, и тем самым он якобы приносит пользу науке. Не выдержал, позвонил врачу: — Доктор, позвольте к вам заскочу на минуту. — Так вы уже скачете?! — Хожу. — Но это же здорово! — Вот я и говорю. Хочу вас предупредить — пойду на перекомиссию. — Ладно, не порите горячку, заходите сначала ко мне… Сняли с него вторую группу, дали возможность работать. И пришел он в знакомый дом Мосгорсвета. Александр Александрович Дорогов предложил в мастерскую, там полегче работа. А что ему от этой легкости, день-деньской возись с железяками, и опять к Дорогову. — Ох, непоседа ты, Иваныч. Ну давай поставим тебя мастером, с твоим опытом в самый раз. Так потихоньку-полегоньку втянулся в новую должность. Непривычное дело: документация, отчеты, начальство требует графики. Еще в первый день, заступая на должность, заметил перемену: привезлисеребристые опоры большой высоты. И новые светильники — газоразрядные и натриевые. И только тут подумал — не так уж долго проболел, а сколько нового. А если заглянуть назад, на все тридцать лет службы, как изменилась электросеть, как похорошел город в сиянии огня, где прежние фонари, тусклые лампочки? …С минуты на минуту подойдет машина. В такую погоду едва управиться. Он взял с собой Волкова, вышел, чтобы сообщить диспетчеру о выезде, и, случайно оглянувшись, увидел сутулую фигуру вдохе, заглядывающую к нему в конторку. Не сразу понял, кто и зачем, а когда посетитель повернулся, узнал и даже рот открыл от удивления: Мишаков! Из-под шапки не то сочувственно, не то виновато моргали голубые глаза. — Проведать пришел? — Ага… — Поглядеть, как живем-работаем? — Да, то есть нет… Что-то его смутило во взгляде парня, в том, как он держался, сутулясь и отводя глаза. — Случилось что? — Нет, то есть да… — Не темни, говори, в чем дело? — Возьмите меня назад, Леонид Иваныч. — А грипп? А свежий воздух? — Там его вовсе нет. Один мясной дух. И субпродукты. — Холодно. Какое время-то выбрал. — Он все еще раздумывал, что ему делать, как посмотрит начальство на летуна. Сам он летунов терпеть не мог. — Леонид Иваныч… — Ладно. Надевай спецовку! Поехали… Горела на подошедшей машине мережа красных огней, сигнальный фонарь перекрывал дорогу, и проходящий транспорт, тормозя, объезжал аварийный участок. Коля Мишаков, стоя в поднятой башне, на жгучем ветру, захватывал клещами провод, нащупывая с помощью амперметра точку замыкания. Леонид Иваныч, зорко следя за дорогой, корректировал снизу: — Возьми правей, видимо, замкнулось на опоре. — Да там все цело. Порыва не видно. — Его и не будет видно. Смахнул троллейбус провода, они и легли на траверзу. Там и сгорели. — И правда. — То-то, восстанавливай квалификацию, бывший работник торговли… Шофер, подай вперед! Опусти чуток башню. Много. Подымай! Вот, теперь самый раз… На помощь Мишакову полез Волков с проводом и инструментом, через полчаса сеть была восстановлена. Но светильники не подавали признаков жизни, смутно белея в прошитой метелью тьме. И тогда Леонид Иваныч понял, случилось то, чего он втайне опасался, — повреждена не только воздушка, но и кабель — редкий случай. — Кабель, — сказал Волков, подтверждая догадку. — Ничего, — закричал Леонид Иваныч, — сейчас мы его полечим. — Сперва найди… — Найдем, куда денется! Чуть погодя посланный на подстанцию Волков уже включил резервный кабель. Защелкало переключение, словно оповещая на своем языке, что сеть жива, действует безотказно и, значит, все в округе ни на миг не лишится света, никто и не заподозрит об аварии, никому и в голову не придет, что сейчас, на метельном ветру, делают свое привычное дело монтеры, хранители городского огня. По телефону уже была оповещена высоковольтная служба. И вскоре из переулка выехала крытая машина с кенотроном. Из нее выскочил «кенотронщик» Валера. Худощавый, шустрый, в тулупчике, в наушниках поверх шапки и с ловушкой в руках, ни дать ни взять армейский сапер. Вот такие же ребята в далеком сорок четвертом шли по опушке леса, по краю поля вдоль родного Ленькиного села Бабенцы, обезвреживая заминированные тропы. — Здорово, Иваныч! — закричал Валерка. — Давно не виделись. — Как дела, профессор? — Лучше всех. Повезло тебе, старик, что я на дежурстве. — Это еще посмотрим, повезло ли. В душе Леонид Иванович и в самом деле обрадовался. Монтеры не зря окрестили Валерку «профессором». У него было чутье на всякие повреждения, никто так ловко и быстро, как он, не находил прогоревший на глубине кабель. Минуту-другую урчал генератор, пуская импульсы, и Валерка, словно отключившись от всего, молча шел с ловушкой по линии. Казалось, сквозь гудение мотора слышны короткие гудки в его наушниках. Вот он заплясал на месте, взметнулась вверх его рука: — Стоп, нашел! — Не ошибся? — На что спорим? Тем более завтра выходной, выиграешь — пригодится. Ну что скажешь? — Талант, что там говорить. Оставив вешку, машина умчалась. Ее сменила другая, ссыпав на точку аварии целый холм раскаленного песка. Вот когда можно было отогреться вволю. На время все замолчали, держа ладони над парившим холмом. К утру земля отойдет, кабель исправят, и по нему снова пойдет ток. — Только бы дежурные не опоздали. — Да накажем, все будет в порядке, — успокоил Леонида Иваныча Волков. — Или ты уже сам на завтра прицелился? — Да надо бы проверить. — Вот суета. Пошел бы лучше на лыжах. Лес там у вас, благодать. — Лыжи само собой… Ну шабаш, поехали домой. Домой — стало быть, в контору. Оставалось совсем немного до конца рабочего дня. Пришли дежурные, им предстояла ночная смена. Ничего уже в дневной не предвиделось, все было спокойно, исправно горели четырнадцать тысяч светильников, озарявших путь людям, спешившим но домам после трудового дня. Леонид Иваныч, ожидая, когда освободится жена, читал «Вечерку». Оторвавшись от газеты, с удивлением заметил, что ребята не расходятся, сидят, дымя сигаретами. — Все свободны. Но никто почему-то не тронулся с места. — Замерзли шибко? — Да нет, — сказал Виктор, — мы тут с твоей хозяйкой днем переговорили. Ну и как у тебя с паркетом? — Да все так же. А при чем тут паркет? — Иваныч, — сказал Волков, — ребята сообразили, если всем скопом, мы тебе за час пол спроворим. Он все смотрел на них и все боялся ответить, чтобы не тронуть застрявший в горле комок.
ШЕФЫ
Командировка подходила к концу, пора было возвращаться в Москву. Но вечером в гостиничном номере раздался звонок, и в трубке зарокотал знакомый голос директора саранского «Электровыпрямителя» Васильева, с которым мы давно были дружны. — Слушай, — сказал он, — поезд твой только завтра в полночь, о билетах позабочусь, давай-ка утром с нами в подшефный колхоз, проветришься, с председателем познакомлю, великолепный мужик. Слушай, верно! Вот о ком написать, у него ж дела пошли — будь здоров. В общем, жди завтра у подъезда в шесть утра. Заеду!…Заводской «козлик» шел, как танк по надолбам. Дорога была такой, какая обычно бывает в Поволжье, когда неделю подряд садят дожди. Иван Иваныч, самый рослый, при каждом толчке хватался за парторга Федора Дегаева, что сидел рядом, а тот в свою очередь за главбуха колхоза Хасана Резвановича, которого мы прихватили в пути. Седенький, щуплый главбух всякий раз тонко вскрикивал: «Вай, берегись!» На крутом повороте он чуть не вылетел в распахнувшуюся дверцу, сел на дно машины и, видимо, решив не вставать, серьезно произнес: — Очень плоха… Молчаливый преувеличенно строгий Федор прыснул, точно его щекотали: — Зато не пешком, Резваныч. Разница! — Не, не разница… Тут уж все полегли друг на дружку. Резваныч тоже захохотал, и от этого всем стало еще веселей. Бывает, нападет беспричинный смех. Может, мы просто устали за день, таскаясь по вязким полям, где заводские шефы помогали колхозникам убирать свеклу. И требовалась разрядка. А тут еще лихая дорога. В темноте за дальним бугром засветилось окошко. — Председатель, — кивнул Резваныч, — добрались. — Вот увидишь, что за человек, — обернулся Иван Иваныч к Федору, который, видимо, лишь недавно стал парторгом и впервые путешествовал с директором. — М-мудрец. Титан! Верно, Резваныч? В общем, думаю, договоримся. Мне была знакома восторженная манера Васильева превозносить людей, к которым он питал личную симпатию. Но и то сказать — зря он никого не хвалил. Интересно, зачем все-таки в такую непогодь он затеял эту поездку, но расспрашивать не стал: узнаю на месте. А директор все не умолкал, пока мы преодолевали оставшийся километр. Рассказывал о том, как председатель с помощью актива поднял колхоз. Начинал, можно сказать, с нуля, приводил в порядок заброшенные земли, наладил севооборот. Недоедал, недосыпал, точнее, спал вместе с активистами в поле, сторожил стога. — От кого? От самих себя, — с горечью заметил Резваныч. — Были в долгах, как в репьях, стали миллионерами, — сказал Иван Иваныч с таким видом, точно в этом была его заслуга. — Раньше из колхоза бежали в город, теперь, наоборот, возвращаются. Да не каждого берут. — Машины! Техникой разбогатели! — вставил главбух. — Себестоимость теперь ниже, прибыль больше. Арифметика! И в свою очередь стал рассказывать про удобрения — азот, фосфор. Не хотели люди азота и фосфора. «Зачем камни в землю сыпать? Да еще с самолетов!» А потом, когда два года подряд собрали с удобренного участка отличный урожай, убедились: хороши камушки! Федор, еще совсем молодой, с резковатым лицом, слушал внимательно, хмуро. Казалось, он старался придать себе солидный, приличествующий должности вид. Он готовился к встрече с незнакомым еще председателем, который, очевидно, рисовался ему этаким хитроватым мужиком в седых усах. И когда нам открыл дверь худощавый парень в черной шапке набекрень, Федор, казалось, опешил: как-то не поверилось, что это и есть Ибрагим Алиевич, мудрец и титан. Он чем-то походил на Федора, такой же прямой, смуглый, только глаза помягче. В их теплой глубине светились готовность, радушие и вместе с тем какая-то скованность, словно был чем-то озабочен, а показывать этого не хотел. — Давайте, давайте, раздевайтесь… А сам так и не скинул шапку. Жена председателя, синеглазая, худенькая, с усталым лицом, уже хлопотала у стола. — Здравствуйте, Биреза, — сказал Иван Иваныч со своей широкой искристой улыбкой. И взял женщину за руки. Биреза кротко отняла их, поклонилась и исчезла на кухне. Почему-то все вдруг стали очень серьезными. Только Хасан Резванович оставался невозмутимо веселым. Сняв плащ и оставшись в длинной, потертой толстовочке, похлопал себя по бокам, крякнул: — Ух, ты! Чичас греться будем. Посреди горницы стоял большой дорожный чемодан, перехваченный бечевкой. Обойдя его, мы чинно расселись. Выскобленные полы, цветы на окнах делали комнату уютной. От голубых радиаторов вдоль стен шло тепло. — Ого, — сказал Федор, — цивилизацию вводите? Ибрагим рассеянно кивнул: — Было несколько комплектов, никто не брал. Я себе провел, теперь отбою нет — доставай! — говорил он, слегка потупясь, по-прежнему напряженно. От длинных ресниц на щеках лежали тени. — Вот и доставай, — вставил Федор. — А то небось лес на дрова изводят. Председатель удивленно поднял бровь, но Иван Иванович поспешил замять неловкость, кивнул на чемодан: — Ты что это, Ибрагим, уже не разводиться ли вздумал? — Нет, — порозовел председатель, — какой разводиться… Наконец он сбросил шапку, вздохнул: — За границу в отпуск собрался, по путевке. — А грустишь чего? Небось Резваныч денег не дает? — Не даю, — обрадовался главбух, — ему давать — всем давать, а доход еще не подсчитан. — Да при чем тут деньги?.. — И председатель тут же объяснил, что путевка у него на руках. Завтра отъезд, а сегодня сбор в городской гостинице. Но вот беда, машины в разгоне, не брать же трактор. — Подкинем тебя, — сказал Васильев. — Вот так всегда, — обронила хозяйка, ставя на стол миску кумачовых помидоров, — другому бы машина нашлась, а себе… — И она снова вышла на кухню. Ибрагим только рукой махнул. Он явно чего-то не договаривал. Через минуту Биреза вернулась, неся запотевший, видно, только что из погреба чайник. — Давайте, дорогие гости, свой квас. Вишневый… Резваныч разлил по стаканам: — Побудем! Ну и квас это был! После первой чашки оживился и сам хозяин. Теперь он сидел прямо, прижав локти к бокам, суетливо и зорко следя за тем, чтобы все пили, ели. — Не торопи, брат, не торопи, — забасил директор и посмотрел в мою сторону, — лучше расскажи о своих делах. Я уж успел похвалиться, говорю, Ибрагим Алиевич у нас голова. Такой уж он был человек, Иван Иваныч Васильев. Все, кто так или иначе входил в его директорскую орбиту, должен был немедленно воссиять собственным светом, а сам он гладил бритую голову и по-отечески радовался: вот, мол, знай наших! Ибрагим мялся, неуклюже переводя разговор на другую тему, директор не уступал: — О чем с москвичами беседовал, то и нам расскажи. — И тут же объяснил: — Приезжал к нам недавно высокий гость из Совета Министров, и не куда-нибудь, прямо сюда, в колхоз «Победа». Ибрагим ему интервью давал. — Да что вы! — вконец смутился председатель. — Вы ешьте, ешьте… Мы теперь богатые. — А, богатые, значит, — директор подмигнул Федору, видимо, намекая на причину их поездки. — И овощи есть. — Есть, есть… — Ага!.. Но тут в разговор вступил бухгалтер. — Овощи-мовощи, фрукты-мрукты… Вырастить еще мало, собрать надо. Об этом с Москвой разговор был, о технике. Колхоз, говорил Ибрагим Москве, должен свой автопарк иметь, настоящий, а не ходить, просить — дай, пожалуйста, автобаза! Возьмем уборка. Спать минуты нет, а городской шофер спать надо. Воскресенье ему надо. Суббота, короткий день. Какой короткий, когда уборка — час как месяц! Арифметика! — Точно, — поддакнул Ибрагим, — он тонну привезет, пиши ему две. За двадцать километров, пиши тридцать. Иначе ему невыгодно. — Ибрагим даже ладони вскинул: — А государству выгодно? Председатель уже зажегся и не ждал расспросов. — Иметь машины — еще не все. У нас техники много. А как ремонтировать? Нужны настоящие мастерские, станки! Чуть поломка, свой механик чик-чик — и обслужит. С него и спрос… Не на завод же вести. Там комбайн если и день простоит — это тысяча центнеров хлеба! А если неделю?! Склонив голову, Ибрагим цепко прищурился. И мы, евшие этот хлеб, словно почувствовали, чего он стоит. — Ну-ну, — обронил Федор, — помогаем же тебе. Выкручиваешься. — Шибко ты умный, — сказал Ибрагим, — первый раз тебя вижу. Тут директор воскликнул: — Фу-ты, ну-ты, совсем забыл познакомить. — И он представил их друг дружке. И всем стало смешно от этого запоздалого знакомства. И чокнулись за хорошие отношения и взаимовыручку. Но Федор все-таки заметил: — В пределах законности! Директор укоризненно взглянул на Федора, покачал головой. Заскрипела входная дверь. В сени ввалилась гармоника, загудели мужские голоса. Ибрагим поднялся, вышел. Вскоре музыка выплеснулась на улицу, растаяла. Ибрагим вернулся, объяснил: соседи заходили лошадь просить. Свадьба у них… — Куда скотину в такую грязь? Тяжело! — нахмурился Хасан Резванович и, не дождавшись ответа, добавил: — А ведь дал небось? Транжирщик… Внезапный порыв ветра ударил в ставень, дробно застучало по окнам. Председатель чуть заметно вздрогнул, с лица сбежала улыбка. И эта внезапная перемена в нем, гудение ветра снова родили странное чувство напряженности: словно бы в доме не все ладно, и мы тут не совсем кстати, и пора уходить. — Град, что ли? — Ибрагим прислушался, покачал головой. — Значит, к морозу… Выходит, прав старик… Есть тут у нас один, лучше барометра. А мы еще картошку не выкопали. — Успеешь! — сказала жена. — Другие еще не начинали. А у тебя путевка за границу — пропадет! — Под снегом останется, — не слушая, перебил Ибрагим. — А я обещал по три кило на трудодень. — Больше получится, — заметил главбух. — Может, и больше, но лучше не обещать. Обманешь — худо будет, не простят. А мы только на ноги встали… — И, взглянув на главбуха, вдруг заговорил громко, точно желая пресечь возможные возражения: — Если бы еще комбайн уборочный был в порядке, а то поломки, сваривать надо, к соседям ехать за трансформатором. Опять время! А тут эта путевка… Он уныло и как-то просяще взглянул на жену, но та отвела глаза. Снова стукнула дверь в прихожей. На сей раз без музыки, без топота. Лишь робко скрипнула половица. Биреза, выбежавшая в сени, позвала: — Брагим… Председатель поднялся. Он был бледен, даже глаза потемнели. Нашарил шапку, сказал: — Ну вот, плохо… — И медленно вышел… Иван Иваныч пытливо взглянул на Хасана Резвановича, ковырявшего вилкой помидор. — Такая жизнь, — сказал главбух, — налево свадьба, направо слезы. Тракторист умирает. Рак. Стало слышно, как позванивают от ветра стекла. — Вместе колхоз поднимали, — Резваныч взял чайник, взболтнул остатки: — За тракториста! Какой человек! Операцию сделали, доктор сказал: близко бензина не ходи, отдыхай. А он на трактор сел, за день поле картошное спахал. Потом лег, больше не встал… Вошли хозяева. Биреза села, зажав между коленями руки. Ибрагим в надвинутой шапке оперся о косяк. Вдруг совсем по-мальчишески сморщился, прикусил губу. Все молчали. — Плохо, — сказал он сипло, — детишки остаются. — Что поделаешь, Брагим, — поежилась жена. Она встала, сцепив пальцы, посмотрела на чемодан. — Хорошо, едешь. С людьми развеешься. А Ибрагим словно не слышал: — Скопаем картошку, поделим натуру. И детям его, конечно, поможем. Учиться им надо. — Он посмотрел в окно, в холодную мглу, где мокла под дождем неубранная картошка. — Вообще-то, конечно, езжай, — вздохнул директор. — Приедешь, поговорим… Дело у нас к тебе. — Дело? — оживился Ибрагим, которому сейчас любая зацепка нужна была, как спасательный круг. — Дело обсудить надо! А ты говоришь — езжай. Какое дело? И директор, кашлянув, стал говорить, как важно сейчас на заводе создать условия для рабочих, в первую очередь — питание. Особенно зимой. На городских базах не овощи — одно горе. А в колхозе — и хранение на высоте, и парники. Хорошо бы нам контакт держать. Конечно, все будет, как выражается Федор, «на законных основаниях». — О чем разговор! — раскинул руки Ибрагим. — По госцене и колхозники вам удружат, не таскаться по базарам. Время дорого!.. Все сделаю, все, я — за. Только обсудить с людьми надо. — Ну обсуди, обдумай. Мы поднялись из-за стола. Биреза, прильнув к мужнину плечу, подавала каждому руку. — Остаешься? — сказал Иван Иваныч. — Куда ехать? — бодренько ответил Ибрагим, покосившись на жену. — Дел-то, видишь, сколько. И твое вот решать надо. Уж как-нибудь потом…
И снова нас кидало по расхлестанному проселку. Директор опять хватался за парторга. Резваныч охал: «Вай, берегись!» Но это никого не смешило. А Федор сказал: — Есть у нас сварочные аппараты, и станок найдется. Надо ему подбросить, зимой самый ремонт. — Надо, — отозвался директор, — такому надо…
НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Остров выплыл из тумана, похожий на огромного кита с теряющимся в сумерках хвостом. Парни, девчата в фуфайках и малицах первыми выбежали на берег встречать катер. — Иван Николаевич, Иван Николаевич! — кричали они нашему капитану, который стоял на корме, коренастый, в выцветшем кителе, и, запрокинув голову, улыбался во весь рот. Он всех тут знал на побережье пролива Югорский Шар, и его все знали. Он был добрым вестником с материка, привез с оказией письма, приветы. Позади оставался тяжкий путь по штормовому Карскому морю, болтанка в шесть баллов, и этот поселок с десятком изб на топком травянистом берегу и унылой перспективой голой тундры казался на первых порах заброшенной глухоманью. …Ненцы, разбиравшие почту, спрашивали: «А журналы привезли? «Огонек» есть?», «А правда, что скоро у нас будут телевизоры?» Да и сама почта — письма от инженеров, врачей, студентов, бывших островитян, работающих сейчас по всей стране, — все это никак не вязалось со словом «глухомань». На катере остался нести вахту штурвальный Гриша, а мы с главным инженером амдерминского радиометцентра Владимиром Бегуном и капитаном пошли в поселок. Иван Николаевич показывал на дома то влево, то вправо, объяснял: — Это у них клуб, это сельсовет, а вон там, — кивнул он на палатку, возле которой стоял вездеход, — геологи. У них рация. Сообщим начальнику, что все в порядке, отстоимся здесь, пока море не уймется. Попов, начальник радиоцентра в Амдерме, наверное, и так уж переволновался за нас, жалея, что выпустил катер в такую непогодь. Но что поделаешь, кроме почты, на борту — баллон кислорода, который надо во что бы то ни стало завезти на тот берег пролива, на полярную станцию, — там готовятся к зимовке. И, стало быть, надо ждать погоды, к тому берегу сейчас не подойти: сильный накат. — Позагораем, — сказал Иван Николаевич, оглядывая горизонт, — северо-западный задул. Бегуна задержка не радовала. Он собирался в отпуск и Николая Ивановича сагитировал. Уже заказаны места на самолет и по телеграфу дано указание родным и знакомым приобрести билеты в «Современник», сколько удастся, на все спектакли. И вот на́ тебе — здесь просидишь да еще на полярке увязнешь. Со здешней осенью не шути. А мне, по правде сказать, хотелось побыть на острове, посмотреть здешние места. Когда еще выберешься на Север!Три дня, пока не стихло море, жили мы в просторной избе бригадира Захара Елиферовича Рочева. И странное дело, бескрайняя тундра с ржавыми ручьями, петлявшими по вечной мерзлоте, холмы в синих колокольчиках, издававших тонкий дурманящий запах, сам поселок Варнек с его бесчисленными собаками, тоскующими по зимней упряжке, уже казались привычными, словно живу здесь давным-давно. Поселок принадлежал большому колхозу, расположенному далеко отсюда, в Каратайке. А здесь был островной Совет, которым руководила маленькая расторопная ненка Басса Тайбарей, пребывавшая в вечных хозяйственных хлопотах. Если что не ладилось, она немедленно связывалась по радио с центральной усадьбой колхоза. Местные плотники вылавливали из моря прибитый волной аварийный лес — благоустраивали поселок. Даже не верилось, что ненцы, веками кочевавшие за оленями, жившие в дымных чумах, с рязанской сноровкой рубят такие добротные избы. Востроглазая Нина Фролова — киномеханик — каждый вечер крутила фильмы, зрители с малыми ребятишками в точности так же, как в любой деревне страны, с замираньем следили за лентой и, может быть, тем лишь отличались от своих среднерусских собратьев, что терпеливо сносили частые обрывы — уважали труд еще неопытного механика. А в магазине продавец Домна бойко и очень вежливо обслуживала ненцев-покупателей и, если у кого кончались деньги, давала в долг: верила — не обманут. Здесь так же, как везде, любят и нянчат детишек, а в случае болезни идут на медпункт к медсестре Шуре. И Шура делает все, что может, а если чего не умеет, вызывает из республиканского центра вертолет с врачом. Да, именно люди, близкие тебе своим привычным трудом, заботами, радостями, сделали мир обжитым, знакомым, оставаясь сами по себе неповторимо интересными. Наш гостеприимный хозяин бригадир Рочев, или, как его тут все звали, дядя Захар, степенный, медлительный, с мудрыми дымчато-светлыми глазами на морщинистом лице, весь день был в бегах — курсировал от складов к стройке, от сельсовета к берегу. К нему то и дело заглядывали оленеводы, охотники, строители, с которыми он объяснялся по-русски. Оказалось, он — коми. — А что удивительного? — усмехнулся бригадир. — У нас в колхозе кого только нет — и украинцы, и ненцы, и русские, и татары. Колхоз так и называется — «Дружба народов». Это была его земля по рабочей, так сказать, принадлежности, так же как Москва или Ленинград вскоре должны были стать землей его дочки Наденьки, которая мечтала попасть в столичный институт, а пока училась в седьмом классе и на время каникул приехала из Каратайки к отцу на остров — вести домашнее хозяйство: варить, стирать, кормить собак. Хозяйство же самого дяди Захара простиралось по всему побережью, где бродили оленьи стада его бригады, и ему, как рачительному бригадиру, не терпелось похвастаться этим богатством. Еще бы — отгульное стадо давало две трети всей мясной продукции колхоза. Мы познакомились с пастухом Васей Валейским. Он недавно демобилизовался из армии и решил, что его место на трудном участке. Старший пастух не мог нахвалиться помощником. — Ой, молодец, — говорил он, и узкие глаза его искрились, а сам он, крупный, в огромной малице, подпоясанной тяжелым ремнем в медных насечках, казался богатырем из ненецкой сказки. — Ой, молодец, спать мало, ходить много, стадо растет. Тысячное стадо северных олешек, издали похожих на телят, шло по тундре, выбирая сочную траву. Оленям здесь хорошо: нет ни комаров, ни гнуса — на сильном ветру комар не живет. Но труд оленевода нелегок. Многокилометровые перегоны по топким болотам, ночевки в шалаше, а если отобьется олень, то, как говорится, где ночь застанет. Зимой корм глубоко под снегом. Плохо оленям — плохо и пастуху. А сколько хлопот с молодняком, ведь его надо сохранить. И все-таки жизнь оленевода не сравнишь с прежней. — Даже говорить нечего, — машет руками дядя Захар и опускает их над костром, разложенным среди тундры. — Вот дрова привезли — грейся. Мясо на складе, выписывай, пожалуйста, продукты приезжай бери. И он рассказывает о былом житье, о купцах Сумороковых, скупавших за бесценок и мясо, и шкуры, и пушнину. Спаивали народ, обирали до нитки. Ненец-батрак мыкал горе по тундре, пас кулацкие стада за три оленя в год. Что такое три оленя на большую землю? Два месяца полусытой жизни, остальные живи как знаешь, никому до тебя дела нет. Захворает малыш — смерть пришла, болеть ненцу нельзя. Один ты на сотни километров, кругом снега… В домах поселка, где тепло и светло, горит электричество, мигают зеленые огоньки новеньких приемников, и чувствуешь, как изменились времена и сколько заботы проявляет страна о своих окраинных гражданах. — Правда, иногда ругаешься с Рыбкоопом, — уже дома за чаем говорил дядя Захар. — Рыбкооп у нас в Каратайке: того не учтут, этого не завезут. То сахару завались, то на полках пусто. Как работают, дремлют, что ли? — Он обернулся ко мне: — Нельзя ли так громко сказать, чтоб они там услышали? — Можно, почему нельзя. Лицо дяди Захара просветлело. — И заодно бы Союзпечати напомнить, чтобы газеты шли без опозданий, а то неинтересно читать старые новости. — Точно, точно, — подтвердил Иван Николаевич, который на правах старожила близко к сердцу принимал интересы островитян. — Надо, надо их пошевелить. Слава богу, транспорта нынче не занимать: вертолеты, самолеты, всякая оказия. Оперативности не хватает. Разговорились о технической оснащенности самого колхоза. Еще несколько лет назад рыболовы, охотники на морского зверя ходили на веслах, а сейчас в колхозе около шестидесяти моторок. Да и вклад колхоза в народное хозяйство увеличился. Уже не говоря о пятнадцатитысячном оленьем стаде, дающем массу ценных продуктов, на побережьях Карского и Баренцева морей процветает пушной промысел. В доме дяди Захара завалялся какой-то старый журнал, где на снимке виднелись сверкающие павильоны советской выставки за границей. Чье-то восторженное девичье лицо, руки, примеряющие белоснежного песца. — Это не твой ли? — спросил Иван Николаевич бригадира. — Кто знает? Может, и мой… Или Иванки — соседа. А скорее всего Осипа Вылко, он по три нормы за сезон дает, самого первого класса, силен охотник… У Захара несколько медалей, полученных на ленинградских и московских выставках пушнины. С начала зимы отбывают охотники в тундру, в разбросанные на сотни километров охотничьи избушки. Забирают с собой самое необходимое — ружья, топоры, мороженую рыбу. Нарты в рвущейся от нетерпения собачьей упряжке скрываются в белом тумане. Охота на песца требует сноровки, чутья, которые даются лишь годами опыта. Нужно знать проходы, места, по которым мигрирует зверь, — ложбинки ручьев, мыски. Ставить капкан надо тоже умеючи — замаскировать, учесть ветер, несущий запах приманки, снег кругом утоптать, чтобы пороша скользила, не заметая силки. Да, охота — большое умение. И, конечно, труд. Можно поставить пятьдесят капканов, а можно и двести, но тогда забудь об отдыхе. Рассказывая, дядя Захар весь преображается, молодеет, словно заново переживая свои скитания по тундре. — В день отмахиваешь километров пятьдесят пешком. Надо осмотреть все ловушки: не заела ли ржавчина, обновить наживку. А вернешься — первым долгом свари собакам еду, ружье почисть, о себе думать некогда. — А то еще заплутаешь, — вставляет Иван Николаевич. — Н-ну, всяко бывает, — раздумчиво замечает дядя Захар, — мы, конечное дело, ориентируемся по наносам, по льдинкам на кустиках. Западный ветер, он влажный — стало быть, сосульки всегда с запада. Ну а уж если заплутал — беда. И он рассказывает, как в сильный буран, завернувшись в малицу, охотник ложится в снег — переждать метель. Но и тут будь начеку, не то занесет, утрамбует тебя так, что не выползешь. Наст, прибитый ветром, тверд, как фанера, хоть руби топором. — Сынок у меня раз попал, еле вылез… Но в беде людей не оставляем. Все ищут, всех на ноги ставим. Одним словом — колхоз. Чуть погодя, словно бы что-то вспомнив, бригадир поведал мне об одном из многочисленных случаев, свидетельствующих о том, что Север не для слабых. Мужество и взаимная выручка — закон тундры. Однажды Вячеслав Рочев со своим товарищем Степаном охотились на пару. Уже начиналась весна, солнце припекало косыми лучами, дули влажные ветры. И вот как-то утром припай откололся и Степана, стоявшего на льду, стало уносить. Бросился Вячеслав в лодке на выручку, еще немного — и он на льдине, но тут рухнул соседний торос, едва не похоронив спасателя под тоннами льда. Однако успел Вячеслав вывернуться и, мокрый, заледеневший, все-таки вытолкнул лодку к припаю, снял товарища.
Проходили вторые сутки нашего пребывания на острове. Бегун не находил себе места, все всматривался в туманный горизонт. Ходил за прогнозами к радистке, советовался с капитаном, тот знал Север лучше всяких синоптиков — обещал еще день, не больше. Об отпуске они уже не заговаривали, хоть бы вовремя завезти на полярную станцию кислород: нужно же варить отопительную систему, к зиме готовиться. Наконец к вечеру Иван Николаевич, побывавший на катере, вернулся и, чувствуя на себе беспокойный взгляд инженера, не торопясь сказал, точно это от него зависело — установить погоду: — Однако к ночи тронемся. — А туман? — Доберемся… Весть о нашем отъезде мгновенно разнеслась по острову. В дом то и дело заглядывали пареньки, девушки, которых я теперь с трудом узнавал в новых пальто и модных капроновых куртках. Одни приносили письма, посылки, другие, робко взглянув на капитана, просили захватить с собой: кому пора было в школу, кому в институт — боялись, что больше не представится случая, не будет погоды. И хотя еще перед отъездом начальник метцентра выговаривал Ивану Николаевичу за то, что тот, по доброте своей, перегружает утлый катерок — риск ведь! — капитан никому не мог отказать. Ладно уж, учеба — дело серьезное. Засобиралась в дорогу и Надюшка, дочь дяди Захара. В Каратайке ее ждали школа и три брата, которые были на попечении матери, а теперь переходили под ее хозяйскую руку. Иными словами — учеба плюс трое мужчин, которых надо накормить и обстирать. Но Надюшку эта перспектива не угнетала. — Пусть уж мать сюда не едет, — говорил дядя Захар, — а то ведь одной тебе там не справиться, а я уж тут один как-нибудь. Но девочка только отмахнулась: — Уж ты один… Небось скучать ведь будешь. И она ласково взглянула на отца. Последние часы, ожидая, когда утихнет ветер, все эти дни туго посвистывающий за окном, мы пили из кружек до черноты заваренный чай. Дядя Захар все вздыхал: — Вот ведь штука — характер человеческий. Три дня знакомы, а расставаться жаль. — Ничего, — утешал его капитан, утирая вспотевший лоб, — еще повидаетесь. Земля тесна стала. Сколько нам тащиться по волне до того берега? Часа три… А от Москвы до Варнека самолетом — всего четыре. Так что считай, кругом соседи… Чуть сгорбясь, в старом ватничке, вышел он нас провожать, помог отцепить чалку. Студенты-пассажиры залезли в кубрик и сразу улеглись, чтобы переспать качку. Море еще не утихло, катер стукало о причал, поскрипывал стертый кранец. Дядя Захар, прощаясь, сказал: — Не забывайте. — И вы тоже. Адрес есть, будете в Москве, заезжайте. Всегда вам рады. — Ага, — сказал он, — да, конечно. И отвернулся, смахнув выжженную ветром слезу.
ЛЮДИ И ПТИЦЫ
Все было, как обычно бывает в редакционных командировках, когда, движимый любопытством, жаждой новизны, колесишь по стране, открывая для себя неизведанные стороны жизни… Дом — тяжелый короб старинной немецкой кладки, завялые кусты сирени, обсыпанные кричащими дроздами, уже начавшими движение на юг; мой знакомый — Марк Шумаков, научный сотрудник; и наконец, сам директор Биологической станции, Виктор Рафаэлевич Дольник, поджарый, похожий на ходока-туриста, с жестковатым лицом, одетый в потертую джинсовую пару, как-то не вязавшуюся с его высоким докторским званием. Хмурость его, должно быть, слегка беспокоила и Марка, представлявшего меня. — Хороший человек, — сказал обо мне Марк, — деликатный, плохого не напишет. — Дольник улыбнулся такому заходу, мне тоже стало смешно. — Ну вот, — поспешно, с облегчением подытожил Марк, — уже улыбки, значит, порядок, все прекрасно. На ночь возьму его к себе, а завтра махнем на стационар… — Накорми гостя, — сказал Дольник. И, уже обращаясь ко мне, уточнил: — Тут у нас общий котел, в подвальчике… А завтра поговорим, на стационаре. Он тут же заторопился куда-то. Марк, оставшись со мной наедине, сказал доверительно: — Сегодня беседы все равно не будет, он у нас, как сова, ночью работает. Еще только смеркалось и жаль было терять время, но раз у Дольника такой распорядок, ничего не поделаешь, а хотелось бы понять в общих чертах работу станции. Ужинали мы уже в пустой столовой, набрав из остывших кастрюль что кому по вкусу, — там была и жареная колбаса, и рыба, и даже мелко нарезанный в тарелке лук с укропом… Стены кое-где в диковинном орнаменте и жестяных рыцарских доспехах. Причудливая люстра свисала с потолка, свет ее отблескивал в деревянной резьбе панелей — чувствовалось, народ здесь подобрался с выдумкой. Почти все орнитологи, как я уже знал, были ленинградцы, по полгода и больше жили здесь, на базе, и на полевом стационаре километрах в десяти на берегу моря, словом, далеко от дома и, видимо, старались создать себе подобие домашнего уюта. Весь вечер за окном орали дрозды, стены были облеплены безвредным комарьем, хиропомедами, которыми дрозды обжирались перед дальним полетом. Пытаясь разговорить Марка, я напомнил ему о его диссертации, посвященной миграции птиц в ночное время, которую он делал с помощью жены, тоже орнитолога. Она жила на стационаре, а он сюда прикатил за бельем — так что мне повезло, что я его встретил. Он уточнил со смешной осторожкой: — Не как жена помогает, а как сотрудница. У нас тут все друг другу помощники. У стены на полу стояла круглая, метрового диаметра, клетка, видно, недавно чиненная, рядом валялись планки, гвозди, фуганок. Из прежних скупых рассказов Марка, занимавшегося ориентацией птиц, я уже знал о его многочисленных опытах с выводками, с пролетными птицами, которые, будучи посажены в клетку в период миграции, показывали врожденное направление — в сторону гнездовий и зимовок. Тут было все честь по чести, в этой клетке: и стартовое кольцо, и высчитанное долгими пробами оптимальное расстояние прыжка до жердочки, и географические румбы, и электромагнитные счетчики (прыжок — отметка), с которых снимаешь показания, дежуря долгими бессонными ночами. А сколько времени уходило, чтобы все это смастерить, наладить с помощью подручных материалов и собственной смекалки. Аппаратура нестандартная — все делай сам. А чего стоит вырастить птенцов, выкормить витаминными смесями, отогреть их, сбившихся в кучу на подогретой бутылке с водой. Да еще спасать их в вольерах от горностаев и диких кабанов, от коварных сов, которые, подняв переполох, бьют заметавшуюся птицу сквозь железную сетку, калечат. Порой многомесячный труд — насмарку… Начинай сызнова. И все это для того, чтобы наконец увериться: солнце и звезды — основные ориентиры. Закрой клетку, и птица не дает точного старта. Но только ли небесные светила? Существуют ли более точные ориентиры наводки, локальные, наземные? — Есть что-нибудь новенькое? — спросил я Марка. — Вот завтра побеседуешь с Дольником. Он не любил выставляться, говорить о себе, да и устал, наверное, за день на своем стационаре. — Цыганская житуха. — Скорее — экспедиционная. Живем как геологи, малость поудобней. Он был дотошный мужик, любил точность даже в выражениях. Это у него шло от литературных занятий — в свободное время писал. Одну его книгу о птицах, вышедшую в Калининградском издательстве, я читал и был поражен дотоле незнакомой и такой богатой жизнью птичьего мира. Однако пора уж было спать, но Марк, привстав с койки, вдруг сказал, кивая на окно, за которым стоял птичий гам. — Разве заснешь? Заведу-ка машину — и на стационар. Хлебнешь там воздуху, а заодно и полевой жизни… Как? — Пожалуй. Старенькая «Волга», смутно белевшая в темноте, долго не заводилась, однако в дороге вела себя сносно, и вскоре мы вкатили в подросший ельник, каких много сейчас на Куршской косе. То там, то здесь сквозь зеленую гущу посверкивали одинокие огоньки времянок. Людей пока немного, объяснил Марк, всего несколько человек — сезон миграции только еще на подступах. — Ступай за мной, — сказал Марк, покидая машину. Худощавая его фигурка в темном облегающем свитере в двух шагах была с трудом различима. Я шел на ощупь, раздвигая колючие посадки, пока не наткнулся на стенку, отливавшую прожелтью в свете дальнего фонаря. Будка — дощатый домишко, обитый изнутри портретами кинозвезд и старыми картами птичьих миграций, — выглядела весьма экзотично. В ней был столик, полочка с туалетным набором и старая ободранная тахта со спальным мешком, утепленным матрацами. Будка, по словам Марка, принадлежала научному сотруднику Владимиру Паевскому, которого вот-вот ждали из Ленинграда. Стенки подрагивали от порывов балтийского ветра, и было здесь довольно сыровато. Марк, перехватив мой взгляд, рассмеялся: — Если вдруг появится хозяин, не вздумай морщиться, эта будка — его гордость, сам ее строил. Говори, что все прекрасно, тогда получишь еще и подушку. Постель у него пока на базе. «Как бы хозяин вообще меня не вытурил. Забрались без спросу в чужое жилье». Мою растерянность как бы подкреплял весь вид Марка, колдовавшего с керосиновой лампой, в тусклом свете которой его смуглый облик в живописной шапке кудрей напоминал контрабандиста со старинной испанской фрески. Ветер распахнул дверь, обдав резкой морской холодюгой. Я представил, как мне тут ночевать, давно отвык от походной жизни, но внутренне уже смирился, в конце концов станет холодно — согреюсь: в портфеле у меня были предусмотрительно припасены термос и пачка печенья. — До утра, — сказал на прощанье Марк. И объяснил, что кухня вот там — от порога шагов сто по тропке. — А подъем? — Кто когда. Каждый занят своим делом, у каждого свое расписание. А вот кольцевать всем-всем вместе. Правда, сейчас еще не сезон. Он ушел, а я прилег на скрипнувшую пружинами тахту, прислушиваясь к тонкому позваниванию стекла под шквальными порывами ветра. Шумел ельник, постанывали сосны. И вдруг вспомнилась ночь сорок пятого, в здешних местах распутица, в которой увязли подбитые немецкие машины, одна из которых с крытым кузовом стала для меня и моего помкомвзвода Халупы пристанищем-времянкой. Это было километрах в тридцати отсюда, мы выдвигались немцам во фланг, чтобы на рассвете своими пулеметами отрезать их от моря. Так же пахло соленым промозглым ветром, по горизонту плыли огненные трассы, и вдали смутно угадывалась эта самая коса, обжитая ныне учеными. На рассвете с боем ворвались в какой-то хуторок, не то селенье, пробираясь сквозь завалы трофейной техники. И было солнце, и уходящие вдаль баржи немногих прорвавшихся немцев, и пляжи, заваленные убитыми, и в синем разметенном ветром небе звено наших штурмовиков, летевших на косу под салютную пальбу нашей пехоты. Должно быть, летчики тоже хотели отсалютовать, в последний раз пройдясь над засевшими на косе остатками фашистских войск. Но вдруг небо покрылось белым горохом зенитных разрывов, и самолеты один за другим, сбивая пламя, ринулись вниз, в зеленую пучину, неслышные издали всплески один за другим потрясли наши сердца, столько пережившие за войну. — Обидно, — сказал Халупа, — помирать после войны. Вот тогда мы и рванулись на эту косу, мстя за погибших товарищей, которых никогда не видели. Мы, последние свидетели их геройской жизни. Но еще долго пришлось выкуривать немцев с этой косы, мечом врезавшейся в море на сотню с лишним километров. Странно было сейчас ощущать себя здесь, в ночи, в будке незнакомого мне Паевского, среди людей, занимавшихся самой мирной профессией на земле — изучением птичьей природы. Холод поднял меня на рассвете, еще хватило усердия умыться под холодным, в каплях росы, умывальником, побрившись туповатой бритвой, заправленной в железный станочек. Два глотка остывшего тепловатого чаю, отдававшего пластмассой, — и пешочком променад в сторону гудевшей прибоем Балтики. Совсем по-военному, только годы уже не те и от сигареты горчит во рту. Открывшееся море проникло во все мое существо холодом бурунной волнующейся пустыни с кричащими чайками. На обратном пути я заплутал в трех соснах, причиной были высокие сети ловушек, в которые я забрел. Невидимые на фоне ельника и неба, они тянулись снизу доверху по мачтам — куда ни ткнись, эта паутина лезла в лицо, и представилось на мгновение, что чувствует пойманная птица Отчаявшись, рванул наугад, к счастью, вышел в прогал, двинулся дальше с каким-то странным ощущением грустной свободы, навеянным этим коротким происшествием, пока не забрел в незнакомое место. «От домика до кухни шагов сто», но сейчас не было ни домика, ни кухни — из зелени выныривали незнакомые построечки, а время уходило — вдруг Дольник уже приехал, и неизвестно, насколько задержится, — как бы не упустить. Справа забелел штукатуркой приличный дом, — похоже, лесная коммуналка — с мансардой. Я поднялся по лесенке к открытым дверям, надеясь спросить, где тут что. И лишь окликнув хозяев и не получив ответа, вдруг почувствовал себя робинзоном на этом, казалось, необитаемом куске заросшей ельником косы, где стояло жилье с открытыми дверьми, без живой души. С жердочки на терраске на меня смотрел ястреб,пристально и зорко, и от его взгляда стало не по себе, а дальше, в комнате, я различил в полусумраке два существа, показавшихся мне детьми; но это были маленькие лемурчики, застывшие при моем появлении с морковками в крохотных кулачках. — Есть тут кто? Лишь минут через пять оцепенение нарушили торопливые шаги по лестнице, и в комнату с какими-то бумагами вошла худощавая, с красным обветренным лицом женщина, выцветшие ее волосы были собраны узлом на затылке. Она как будто не удивилась мне, что-то взяла со стола и уже собиралась уходить, когда я, взмолившись, спросил у нее: где я нахожусь и кто хозяева? Она сдержанно засмеялась, всплеснув руками: — Вас Марк привез? — Ну! Это и была комната супругов Шумаковых — Марка и Наташи. Меня она приняла за туриста, тут от них отбоя нет. Думала, что я я турист, задержался возле заморских диковин, подаренных семье заезжими моряками. А Дольника еще нет, и когда будет неизвестно. Может быть, с минуты на минуту. Я могу пойти на кухню, попить чая. Есть хлеб, масло. Но далеко не уходить, как появится директор — увижу. А до кухни, находившейся в полусотне шагов, она меня доведет. Наталья все еще фыркала, переживая мое приключение, но синие, словно выцветшие на солнце глаза оставались серьезными. Она сегодня дежурила по кухне и заодно на правах старшей координировала жизнь нескольких обитателей стационара. Это я понял по тому, как она по дороге окликала то одного, то другого сотрудника, невидимых в чаще, что-то уточняла, советовала… Чаевал я в одиночестве, в небольшом бревенчатом зальце, примыкавшем к кухне. Дольник не появлялся, и я решил покружить, пока есть время, осмотреть хозяйство. Прежде всего я наткнулся на избушку на курьих ножках. Точь-в-точь из сказки, только крупных размеров, из бревен, с любовной резьбой по карнизу и лесенкой из пиленых кряжей неохватного тополя. Оказалось, это препаратная, где «обрабатывают» пойманных птиц — обвес, обмер, осмотр, кольцевание. Это мне объяснил аспирант Сережа Миронов, плотный, полноватый юноша в очках и с усами, которые ему совсем не шли, скорее молодили, чем старили, так чудно они выглядели на задумчиво-округлом, немного наивном лице. Он сидел на скамейке возле терема и производил какие-то операции над зябликом, как потом выяснилось, искал клещей. Тут же стояли пробирки для анализов. Постепенно завязалась беседа, если можно назвать беседой мой интерес и его ответы: по паре скупых слов в минуту, которые он ронял, не переставая рассматривать крыло пичуги, с головой упрятанной в мешочек. Дул в него, перебирал по перышку, что-то записывал в блокнот. Он был похож на азартного золотоискателя, просто неспособного оторваться от кучи породы в надежде на заветную золотинку в последней горсти. Даже перекур таким людям не всласть, они, бросают сигарету, не докурив, словно их влечет неведомая сила. В активе Миронова уже было двадцать новых, дотоле неизвестных науке видов клещей — безвредных. А он искал разносчика заразы, это было важно для народного хозяйства и для, него, молодого ученого, изучавшего фауну, видовой состав, жизненный цикл этих крошечных паразитов. Он был переполнен теориями об их происхождении: в давние времена они обитали в гнездах (кое-где они так и остались оседлыми), а затем в поисках пищи с помощью птиц расселялись по огромному пространству — иначе как объяснить, что определенным видам птиц соответствуют виды этих, так сказать, пассажиров… — Скажем, на горной ласточке в Киргизии и на городской ее сестре в средней колосе найден один и тот же вид клеща. Следовательно, предполагается, он сформировался еще до появления ласточек, так сказать, закончил свою эволюцию. Ну, все не так просто… — Он умолк, словно пресек себя, опасался, что затянувшийся разговор может отвлечь его от дела, а ему не хотелось бы терять время… Вот на досуге он мне объяснит научные тонкости… И снова уткнулся в своего зяблика. И как ему было не скучно корпеть тут с утра до вечера целыми месяцами? Он, кажется, даже не понял вопроса, взглянув на меня поверх очков, как, учитель на несмышленого школьника, с серьезным видом ответил: — Мне-то что, вот семейным, сложнее. — Что ж не женат? — А сперва мама не хотела. Мы с мамой живем без отца — как ее бросать? А теперь вот внук ей понадобился, да я что-то приостыл. Знаете, как это бывает: ты нравишься — тебе нет. И наоборот. С возрастом становишься разборчив, не так-то легко найти человека. Особенно в моем положении кочевника. Да и зарплата с птичий нос, степени пока нет… Он выпростал пичугу из мешочка, разжал ладонь, и зяблик с писком взмыл в поднебесье. — Мешочек этот я сам придумал. Не без гордости показал мне Сергей, пустой матерчатый футляр, точно речь шла о каком-то необыкновенном, изобретении. Но стоило представить со слов Сергея, каково ему было вначале возиться с птицей, когда она пищит, трепыхаясь в руках, начисто выбивая из колеи, как стало понятно это удивительное сочетание в юном ученом одержимости и доброты. В мешочке-то ей спокойно. И ему — тоже. У него даже губы огорченно вспыхнули при мысли, что постороннему непонятны такие простые вещи. Я-то понял. Сергей пошел к ловушкам, а я назад к кухне. Торопился зря. Дольника все еще не было. Издали было видно, как Наталья колдует над шипящей сковородкой. Я снова повернул в ельник и почти столкнулся с высоким парнем, красивым, в модных бачках, со взлохмаченной шевелюрой. Он проверял гнезда, я спросил, не бросает ли птица гнезда после того, как он пересчитает яички, не спугнут ли ее чужие запахи. — Не, они тут привычные, — ответил он с мягким украинским акцентом. Он подсчитывал будущих птенцов, необходимых для эксперимента с ориентировками. — Дольник? Нет, не видел. А вам зачем? А, ну ясно, к нам тут многие с газет приезжают, журналисты, писатели… Айда ко мне наверх, — он показал на окно мезонина над кухней. — Чего тут лазить по солнцепеку? Как явится, мы его с окна углядим. Анатолий Шаповал… Он подал мне здоровенную ручищу с жесткой, как наждак, ладонью. Познакомились. Комнатушка похожа на пенал, с койкой и полками, уставленными чучелами и птичьими тушками. Угольно-черный дрозд… Серенькая со светлым брюшком славка, коричневато-оливковый, с пестринками зяблик. Нет, он их не убивал. Погибли во время перелета, он подобрал — для науки, готовил их для института. Толя уселся на низенький стульчик, предложив гостю табурет, и, достав из-под стола шило и дратву, принялся чинить старый ботинок — как видно, люди тут время зря не теряли — на все руки мастера. — Я-то еще не сотрудник даже, — сказал Толя, умело намыливая дратву. — Университет-то я кончил во Львове. А в учителя не схотел. Ну не по душе мне профессия. А тут на практике был, полюбил птиц. Ну диплом в карман, приезжаю, а Дольник меня вспомнил: ты, говорит, парень работящий, иди пока электриком до первой вакансии. Я и пошел, на восемьдесят ре. Сейчас вот столярничаю, с чучелами вожусь, собираю материал о ночных миграциях, помогаю ученому Большакову Казимиру Владимировичу считать перелетные стаи — в телескоп, на фоне лунного диска. Опыты ставим с клетками. Ну на кольцевании так по суткам из препаратной не вылажу. Бывает, за пролет — до ста тысяч, ладони в мозолях и нож не держат. Ничего… Жизнь, конечно, не сладкая, тут не всякий выдержит. А холода, дожди, а то снегом ловушки завалит, расчищай. Словом, нет комфорта, а вот мне нравится… — Привык? — А что привыкать — я сам с Полтавщины, сельский парень, с детства в работе. На миг в дверь заглянула светлоголовая девчонка, на вид совсем пигалица, ойкнула, завидев меня, и, стянув с вешалки полотенце, уже на ходу, из прихожей, обронила: — Я на пляж, Толь! — Смотри не сгори, солнце обманчивое. В ответ раздался лишь цокот каблуков по лестнице. Изредка поглядывая в окно — не появится ли Дольник, я слушал увлеченный рассказ Анатолия о здешней его работе, как он встает до солнышка и ловит первых пролетных птиц, исхудавших, обессиленных, к вечеру уже набирающих вес для старта, следит за тем, на сколько они тут задерживаются. Определяет в бинокль — наловчился, — какие виды птиц совершают перелет — зарянка ли, дрозд, королек, пеночка, определяет сроки и динамику миграции. — Иногда мне за час приходилось ловить десятки зарянок, обмерить их, взвесить, окольцевать. — Он произнес эти слова с удовольствием и легкой усмешкой над собой. — Раньше, бывало, их брали на палубах кораблей, часто мертвых, не выдержавших полета, а мы имеем дело с живыми — это совсем другая картина. И еще сказал, что у него мечта поймать птицу в небе во время полета, вот когда он точно определит их состояние. Но как это сделать? Вот бы запустить шары с куском сетки… Он мечтательно смотрит в потолок, будто над ним не потолок, а бездонная высь. И я начинаю понимать, какие одержимые люди здесь живут и сколько труда, крупица за крупицей, вкладывается ими в стройную систематику, из которой вырастает наука орнитология. — А это кто же был? — спросил я Толю, стараясь понять, как он тут один круглый год живет-поживает. Оказывается, не всегда один. Жена — Лена, лаборантка института, приехала к мужу в отпуск, по вечерам помогает ему, а днем пляжится. Он говорил о ней, как о ребенке, с любящей усмешкой взрослого человека, хотя был моложе ее на год. Детей у них пока нет. Предстоят экспедиции в Среднюю Азию, в пустыни, изучать миграцию в тех широтах. А кроме того, условий пока нет — у Лены небольшая комнатушка в Ленинграде. Квартира нужна. Только это все в перспективе — на какие шиши? — А зарплата? — У меня сейчас сто двадцать, у нее на пятерку больше. А нам хватает! Правда, мебели нет, только что поесть да на себя надеть. Ладно, остальное — наживное. — А родители… — Ну, — отмахнулся он, — с родителей тянуть не привыкли, сами себе все построим. Что трудом дается, дороже ценится. В стенку забухали, донесся голос: — Толь, ты завтракал? — Я еще до света позавтракал. А что? — Да там я колбасу оставил, думал, ты не ел, знал бы, не оставлял. Толя рассмеялся: — Видал, какая чуткость. А мне подумалось, что в условиях, в каких они живут, кучкой, длинными месяцами, проблема совместимости очень важна и без взаимной заботы, чуткости вообще никакой жизни быть не могло. Наверное, нелегко было моему неуловимому Дольнику так подобрать людей, почувствовав каждого из них, чтобы создать коллектив — семью, где каждый знает свое дело, а к делу товарища относится с большим уважением, потому что знает цену полевой, ежедневной, кропотливой работе. И, словно в подтверждение моих мыслей. Толя кивнул на стенку, сказал: — Вот с кем хорошо бы поговорить, с соседом. Леня — настоящий ученый, с семилетним уже стажем, с опытом и вообще интересный человек. — А удобно? Толя грохнул кулаком в переборку. — Лень! Ты очень занят? Корреспондента примешь? Хороший человек. Словесной рекомендации хватит? — Пусть заходит. Комната Леонида Соколова почти не отличалась от той, где я только что был, разве что на столе аккуратно сложены карты и лежала раскрытая рукопись, над которой, очевидно, работал хозяин — худощавый, сероглазый, с интеллигентным, русского склада, лицом, обрамленным шкиперской бородкой. Борода как-то очень шла ему, делая похожим на разночинца, и не казалась данью моде. В отличие от соседа Леня, как выяснилось, был уже папой, жена и дочь жили в Ленинграде, скоро приедут в отпуск, и потому он старается как можно больше успеть со своей новой работой — надо же уделить время семье. А движется дело не так уж споро, потому что Леня человек общественный и всякий раз, как появляются туристы, а их тут полно с разных пансионатов и просто бродячих грибников, которым охота послушать про птиц, зовут именно Леню, у него дар лектора, да и есть о чем рассказать. Он и мне стал рассказывать о своей работе так, что чувствовалось — привык к слушателям, да и говорить о любимом деле ему приятно. Он пришел сюда впервые, будучи лаборантом ЛГУ, то есть уже со сложившимися интересами. Дольник знал Соколова еще с той поры, когда он только начинал экспериментировать с круглыми клетками. Метод был не нов, однако Леонид наткнулся на любопытное явление — ориентацию в клетках проявляют не только перелетные птицы, но те, что не совершают миграций, — оседлые. Так он стал изучать воробьев, синиц-пухляков, разлетавшихся из гнезд на сотни километров в определенных направлениях, несмотря на то, что их сбивали контрольными поворотами клетки. Выходило, что направление у них врожденное. Возможно, не будь его, они бы не разлетались, создавая перенаселенность. Природа мудра, нелегко постичь ее загадки, многое неясно. Почему, скажем, братья, сестры из одного выводка летят в разные стороны, почему после четырнадцати дней они садятся там, где их застал этот срок… Словом, эта работа была его дипломом. — А дальше меня волновали вопросы несколько иного плана, в частности явление гнездового пристрастия, проще говоря — любовь к родине. Задумчиво глядя в окно, Леня с лекторской четкостью и вместе с тем тепло, словно о малых любимых детях, стал рассказывать о зябликах, улетающих осенью в юго-западную Европу, о славках, перемещавшихся в Африку, и мне, человеку непосвященному, довольно трудно было представить малых птах, летящих в поднебесье в дожди и бури на огромные расстояния, ведомые инстинктом, выработанным веками, каким-то таинственным механизмом направления, помещавшимся где-то в клеточке крохотного мозга. А весной их путь обратно к родным гнездам. Часто, обессилев, они падают на палубы океанских судов, иные не выживают, а те, что покрепче, продолжают путь домой, и ничто не в силах их остановить. Здесь, в Прибалтике, и дальше на север они гнездятся, чтобы к осени снова стартовать за тридевять земель и опять вернуться. — Меня, да и не только меня, многих ученых интересовало даже не само направление, оно врожденное, это уже доказано… Был даже такой опыт и у нас и у американских коллег. Где-то на середине пути часть стаи, молодых птенцов, отловив, смещали в сторону на двести километров. «Старики» по касательной улетали в прежнюю точку и дальше на юг, молодежь летела прямо, но строго параллельно начальному курсу. То есть программа направления налицо. А вот как с локальностью приземления? Ясно, что птенцы так параллельно, в стороне, и будут зимовать. Но уж то место, где сели, они запомнят навсегда. Так сказать, «возьмут координаты». Как это происходит, точно неизвестно… Были опыты. Едва вылупившихся птенцов перевозили и заселяли ими лесополосы, за тысячи километров от гнездовья. И они там приживались и на будущей весне оказывались именно в этой полосе. То есть не там, где родились, а куда в свое время были доставлены самолетом, хотя там их родители никогда не бывали. Когда же устанавливается эта кровная связь с местом, где впоследствии птица будет гнездиться каждую весну? И потом, куда они, собственно, возвращаются — в гнездо, где их поселили, или куда они уже сами расселились, а это может быть район в сто квадратных километров. Одни ученые доказывали, что птица верна гнезду, другие — месту расселения. Вот я и решил узнать, есть ли у птиц возраст, в котором они выбирают место будущего гнездования. Решили поставить опыт, разделили птенцов на две группы, содержа их в затемненных клетках, когда птице видно лишь солнце, звезды и еще небольшой обзор. Затем спустя пятьдесят дней одну группу перевезли подальше. Весной для интереса даже затеяли тотализатор — вернутся ли они к вольеру или туда, куда отвезли? Никто не угадал — не вернулись они никуда. Так и стали считать их блуждающими птицами. Кто знает, где они приземлились весной, может быть, в тех районах, где нет условий для жизни, и погибли. А другая группа, выпущенная из вольера после тридцати дней и расселившаяся тут же, неподалеку, сюда же и вернулась. Иными словами, срок запечатлевания местности длится тридцать — сорок дней. До этого ученые много спорили, но поскольку они работали с разными видами птиц, имеющими разные сроки запечатлевания, то каждый был по-своему прав. Леня как бы примирил ученых, ставя опыты на разных видах птиц, это и была тема его диссертации. — А те, первые — блуждающие? — переспросил я. Уж очень горько было представить птицу, лишенную родины. Леонид вздохнул: — Вообще-то мне как-то не верилось, что птица так ничего и не запомнила после полусотни дней, — должны же быть какие-то дополнительные факторы запоминания… Но это уже, как говорится, из области лирики. Правда ли, напомнил я Лене, что птицы находят свое гнездовье с точностью до ста метров. Никакая аппаратура не дает человеку такой точности без помощи карты. Как это объяснить? Должно быть, вопрос прозвучал наивно. Он усмехнулся. Природа таит еще немало загадок, и он, как ученый-орнитолог, занимается не столько поиском этого сверхсовершенного механизма, сколько феноменологией. Известно, в программе у птиц скорость и сроки полета, и даже повороты в пути: таинственный механизм направления отключается в том месте, где надо. Но ведь сносят с курса ураганы, ветра, одолевает усталость, а точность приземления остается ювелирной. Что именно запоминает птица, как берет координаты или у нее какое-то особое чутье к углу полета по отношению к солнцу — все это пока догадки. Наука требует точных доказательств… Скажем, ясно, что они ориентируются по солнцу и звездам, но как именно? Ведь даже ночные мигранты — гуси, утки, кулики, дрозды — иногда перемещаются и днем. По солнцу. Марк, например, считает, что именно солнце основной ориентир, звезды не определяют, а сохраняют направление. Просто птицы запоминают, куда садится солнце, связывают его с азимутом по звездам и ночью сохраняют азимут. Идет полемика — существует у птиц ориентация по направлению, то есть некий автоматический механизм, или целевая ориентация, то есть способность достигнуть нужной точки, несмотря на стихийные препятствия. Иные склонны предполагать еще и зрительный поиск, но есть данные о наличии какого-то механизма навигации. Некоторые, не без основания, считают, что такие птицы, как чечевица и ястребиная славка, способны к навигации. У первых зимовка в северной Индии, у вторых — юго-восток Африки. Их брали в пути и самолетом перебрасывали в Хабаровск и Душанбе, и они на месте стартовали точно в направлении зимовок. Снаружи донеслись голоса — звали Леонида. Мы выглянули в окно, там стояла девушка в соломенной шляпе с целым выводком ребятишек. Синие глаза ее были печальны. — Я же вам все показывал на той неделе, — сказал Леня. — Мне да, а ребята новенькие… Вы не один? — С товарищем. — А-а, — словно обрадовалась она. — Значит, свободны. Так я… мы подождем. — Ладно, подождите. — И с комичным вздохом передразнил девчонку. — Похоже на полуделовые свидания… Ну к чему это все приведет? Ничего хорошего… Я же ей объяснял, а она понять не может. Или не хочет… Тут, наверное, были какие-то сложности, связанные с Лёниным положением женатого человека, интересной наружностью и бог знает чем еще, чему он, как видно, не радовался, опасаясь семейного разлада. Но отказать ребятишкам он тоже не мог и теперь смотрел на меня вопрошающе, словно ожидая совета. Что я мог — в таких делах сам черт не разберется. — Знаете, — вдруг сказал Леня с неожиданной откровенностью, — насмотрелся я на женатых друзей, тоска берет. У иных жены — девчонками были люди как люди, а как только печать — в паспорт, начинает власть забирать. Живи так, как тебе велят, никуда ни шагу, дом — тюрьма, ни на кого не взгляни. Чуть что — скандал. Ну разве можно так — все равно что бить молотком по хрусталю. Нельзя же заставить человека быть нежным, любящим… А моя вот не ревнивая. Во всяком случае, виду не показывает. Так, скиснет маленько, и мне ее жалко. Должен я ее жалеть или нет? — Обязательно. Такую — должен. — Ну вот, я им сейчас все покажу, и гуд бай, никаких прогулок, ну их… Тут же кругом глаза и уши, такого понаговорят… Неожиданно со стороны кухни раздались резкие звуки гонга. Это жена Марка — Наталья, объяснил Леня, зовет всех к ловушкам. Кольцевание — святой час, общая работа. И значит, хочешь не хочешь, а экскурсию надо отставить — служба. Леня явно повеселел, а меня все больше заботило отсутствие Дольника. — Будет он, куда денется, к обеду обязательно, так что вы все-таки посторожите возле гонга. Сторожение мое кончилось тем, что Наталья Виноградова позвала к обеду. За деревянным, дочиста выскобленным столом уже сидели ребята-орнитологи. На этот раз собрались почти все, должно быть, соскучились друг по дружке в своих одиночных занятиях. Кроме знакомых, был еще один щеголеватый на вид парень в домотканом вязаном свитере, как потом оказалось, орнитолог Гедиминас, наезжавший сюда из Литвы по своим научным делам. А между ним и Леней сидела рослая девушка с немного задумчивым, наивным лицом, судя по всему — практикантка: она и здесь, за обеденным столом, все совала Лене какой-то расчерченный график и полушепотом что-то спрашивала. То ли она была прикреплена к нему, то ли он по привычке помогать всем и ей не отказывал. Обращался он к ней с шутливой уважительностью, на «вы». — Вы, Лариса, вот здесь, по-моему, не учли сроков… — Ну побудем, — сказал Гедиминас и отпил из стакана компот — жарко было, солнце пекло сквозь стекла. И тотчас завязался разговор все о том же — о раннем прилете скворцов, которые стали бичом для местных полей, а где-то их нет вовсе, и, стало быть, надо думать о том, как скорее научным методом расселять полезных птиц по всей территории страны. — Давайте отдохнем от проблем, — буркнул Гедиминас. — Леня, где информации? Леня, штатный политинформатор, как бы между прочим заметил, что все тут люди взрослые, могли бы и газету почитать самостоятельно. А в общем, обстановка накаленная. — Президент давит на санкции, общий рынок лихорадит, НАТО бредит ракетами, соцлагерь крепнет… — А выводы? — Хочешь не хочешь, надо крепить оборону. И, словно в ответ на его реплику, где-то в небе с грохотом пронесся к морю самолет. — Ужас, — сказала Лариса, зажав уши, — зачем только человек рождается? — За тем, что и птица, — все тем же полушутливым тоном заметил Леня, — прийти, дать потомство и исчезнуть. — И кладет все силы, — скептично буркнул Гедиминас, — чтобы прожить свой отрезок с максимальным комфортом, за что и борется, не жалея живота. — Упрощаешь, — сказал Марк, который тут на правах старшего разговаривал в чуть заметном наставительном тоне. — Да-да, — остановил он ладонью протестующий жест Гедиминаса, — я тебя понял. В природе все живет одно за счет другого, естественная цепочка. Но человек — существо мыслящее. Взаимопонимание — тоже закономерность. Человеческая. — О боже — человечество! — обронила Лариса. — Двое под одной крышей не могут ужиться. Хоть бы придумали какие-нибудь таблетки, что ли, «Взаимопонимин»! Против собственнического инстинкта. И применяли насильно. — Человек — открытая, постоянно меняющаяся система, — отозвался Леня, — таблетками не поможешь, тут важна среда, и притом кристальная. — Не обязательно, — вскинулся Марк, — среда — бог, но и сам не будь плох. В любых случаях, не говоря уже об экстремальных, важны не столько условия и обстоятельства, сколько состояние души. Совесть, дорогие мои, совесть, помноженная на волю! Воспитание всегда драматично. И воспитывать, воздействовать можно только любя. Холод, несильные таблетки — вздор! Но прежде чем воспитывать других, надо совершенствовать себя, одно без другого мертво. — Что-то уж очень обще, — заметил кто-то из сидевших. — А конкретней — наш с вами пример. Условия далеко не парниковые, а ведь живем дружно, не киваем на обстоятельства. Я знаю людей, они есть и среди нас, которым жизнь далась нелегко, были обиды и отчаяние, и все же они оставались людьми. Так что хватит болтать попусту, а то в горло кусок не лезет. В нем чувствовался человек твердый, с принципами и вместе с тем деликатный. Он не назвал в запале имена «пострадавших». Я знал, что не стану его потом расспрашивать, да и не скажет он мне ничего, есть вещи, которых не стоит касаться. Иное пришло на ум — вдруг подумал, что этих ребят, живущих как кочевники, ни в том памятном сорок пятом, ни еще десять лет спустя не было и в помине. И все же в чем-то они очень похожи на моих тогдашних сверстников, которых спаяло суровое время войны, родив доверчивую близость, то, что звалось фронтовым братством, чувством Родины.Дольник появился неожиданно, когда я, обеспокоенный долгим его отсутствием, пробирался лесной тропой, собираясь ехать на биостанцию. Должно быть, он сошел на остановке автобуса — мы встретились у самой дороги, поздоровались и, закурив, присели на пеньки. Его жесткий взгляд смягчался усмешкой, заставлявшей думать о том, что он намеренно отправил меня на стационар, дабы сэкономить себе дорогое время, а заодно и меня окунуть в полевую жизнь орнитологов. Кажется, я не ошибся. И прежде чем интервьюировать его, спросил о том, что мне самому осталось непонятным. Об этих таинственных сроках запечатления птенцами родины, весенних гнездовий. А как же они запоминают место зимовки где-нибудь в Антарктике, куда прилетели впервые, а сроки давно прошли. Он взглянул на меня, как мне показалось, даже с некоторым уважением. — Вы, я вижу, стали вникать… Есть предположения — и у нас и у американских ученых, что на зимовке механизм включается снова. На какое именно время — это еще надо уточнять. Он умолк, задумавшись, и, как-то невесело покачав головой, сказал: — Как бы широко шагала наука при условии свободного общения ученых! Но обстановка сейчас сами видите какая, это постоянное разжигание вражды — вот от чего мы страдаем… А вы, значит, заинтересовались ориентацией, ну, это многих волнует, проблема популярная. Но лишь одна из тех, чем занимается наша станция, по диапазонам проблем, пожалуй, единственная в стране… Он назвал эти проблемы, связанные с сезонными циклами биологии птиц, миграцией, экологией, энергетикой… Назвал фамилии научных сотрудников, которые вот-вот прибудут на стационар и я смогу познакомиться с ними, — Владимир Паевский, Татьяна Ильина, Александр Бардин. Что такое энергетика? Энергетический баланс птиц? Речь идет о запасе сил, их распределении, затратах на все виды жизнедеятельности. Мы заняты изучением организма птицы, ее активностью в различные времена года и особенно в период перелетов. Как, из чего складываются затраты энергии, бюджет времени — тут все взаимосвязано. Вообще, глубинные исследования, систематика рождают методологию исследований, которая может быть использована в изучении различной фауны — природа едина. — Сами понимаете, сколь важна связь науки с жизнью, так сказать, ее практическое применение… Ну насчет быстрых результатов — это всегда несколько авантюристично, идет от дилетантизма. Но перспективы есть, и немалые. Данные миграций важны при планировании авиарейсов, это вопрос безопасности. Опять-таки птицы могут быть разносчиками заразы, здесь тоже нужна наша помощь. Или, скажем, расселение полезных птиц на территории страны — горизонты науки и практики смыкаются… А непосредственно — охрана природы. Почему, скажем, исчезают отдельные виды птиц? Я имею в виду не просто «охотничьи» причины, а чисто этнографические. Так вот, зная бюджет времени и энергии, мы можем помочь тому или иному виду выжить. Так сказать, найти «узкое место», чего не хватает для жизни. Вот вам конкретный пример. И Дольник, увлекшись, поведал мне одну из многих любопытных историй, связанных с опытами аспирантки Татьяны Воробьевой в Ленкорани, где стали убывать стаи гусей только потому, что слишком много сил тратили они на постоянные взлеты. Взлетали же они, пугаясь шума, автомобильного рокота, смеха людей. Ели вдоволь и все же не успевали компенсировать расход энергии. Хотя в других местах в тех же условиях все было в порядке, потому что там птицы уже привыкли и к людям, и к машинам. И значит, дело было совсем не в том, чтобы расширять и улучшать угодья, как думали вначале, а в том, чтобы уменьшить нервную нагрузку, создать условия для постепенного приобвыкания. — Что значит улучшать угодья? — Ну там решили посеять овес для подкормки. Да пока бы трактор тарахтел, засевая площадь, они бы все передохли на нервной почве. Эта неожиданно вырвавшаяся бытовая реплика в устах ученого невольно рассмешила его самого. Но тут же он снова стал привычно серьезным, хмурым. — Это все проблемы уживаемости человека с природой, деликатное дело. Человек сам продукт природы, и незачем ему делать из себя царя, а надо жить с ней в мире и быть предельно чутким. Нарушение биологического равновесия всегда трагично… Одно время стали вымирать ястребы, оказалось — химикаты. Он перехватил мой удивленный взгляд и утверждающе кивнул: — Вот именно, тут — цепочка… Я уже не говорю о том, что, скажем, ДДТ, да, да, тот самый, за который шведский ученый получил Нобеля, вреден для человека, хотя вначале это не подтверждалось опытами. Тут важна концентрация. У ястребов мы обнаружили ее в большом количестве. Трава — насекомые — птицы — ястреб, в нем концентрация предельная, и вот — смерть. Сейчас многие химикаты запрещены, но я не поручусь, что кое-кто не нарушает запрета. А то и просто, как заметил Василий Песков, слепо выполняет инструкции. Тут необходимы мудрость и осторожность и жесткий контроль за производством и воздействием любых, на первый взгляд, полезных химикатов. И конечно, глубокое проникновение в суть биологических взаимосвязей, с тем чтобы помочь природе бороться за свое существование. Не случайно, скажем, в некоторых странах размножают муравейники. Они оздоровляют лес. А без леса нет птиц, а без птиц и тех же муравьев вырождается зеленый мир… Между прочим, — вернулся он к начатой теме, — орнитологи первыми выступили против тех, кто считал, что химикаты для теплокровных безвредны. Вообще, должен вам сказать, — продолжал Дольник, — в этнографии птиц ядохимикаты имеют серьезное значение. Скажем, конкуренция видов не всегда зависит от условий. Кстати, этим сейчас занимается Леня Соколов. Знакомы? — Не только с ним, со многими. Время-то было. — Хорошие ребята подобрались, — сказал Дольник, и лицо его привычно преобразилось в улыбке. — Однако пойдемте, дела у меня… Мы вернулись в лесную обитель орнитологов. Дольник, собрав ребят, о чем-то с ними беседовал накоротке, а я спустился к морю. В безветренных сумерках оно казалось серой, слегка волнующейся пустыней с чуть слышным накатом. Редкие всплески ее волны, нарушавшей тишину леса… Где-то далеко слышалась музыка. С высоты потемневшего неба вдруг донесся тонкий, приглушенный расстоянием прощальный покрик — птицы улетали на юг.
РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАМЯТНИКА
Не раз я бывал в этом, густо поросшем акациями, городском сквере, где стоит в бронзе Уллубий Буйнакский, главный большевик Дагестана, как его называли здесь на заре Советской власти: в числе первых он строил ее, с оружием в руках защищал, и горцы разных племен понимали его язык — язык правды. Это было не так просто — открывать глаза людям, веками блуждавшим в потемках шариата, чьи гражданские права сводились к деспотизму в семье, а свобода выливалась в разгуле родовой мести во имя аллаха. Он был мудр, этот бог, своекорыстной мудростью богачей и так же, как его слуги, тщеславен и жесток. Вот о чем мы говорили с моим старым знакомым, автором памятника, народным художником Абдулажидом Газалиевым, случайно встретившись в Буйнакске. И потом, в течение моей командировки, столкнувшись, бывало, в уличной суете, шли в сквер, где всегда было прохладно от гулявших в листве ветров. Он так и говорил: — Зайдем к Уллубию, отдышимся… Это не было жестом, скорее, напротив. Скромный по натуре, как всякий ищущий художник, он смотрел на памятник, может быть, заново осмысливая свою работу, получившую высокую оценку коллег. Однако сам себе был высший судья. Однажды откровенно признался, что не мог представить себе, как он должен выглядеть, его Уллубий, хотя, казалось бы, образ живо всплывал в биографических книгах и преданиях. Скульптора поразил мальчишка-сирота, который, отвергнув чванливую опеку зажиточных родичей, без гроша в кармане, умчался в чужую, далекую Москву, где учился впроголодь, работая по ночам, братался с рабочими Пресни, был изгнан из университета за бунтарство, затем, возвратись в родные горы, поднимал крестьян на борьбу, ускользая от рыскавшей по пятам полиции и зверских засад имамских банд. Его восхищала смелая тактика Уллубия, вопреки близорукости иных товарищей вошедшего в меньшевистский исполком, чтобы затем, взорвав его изнутри, превратить в родной дом для бедняков-горцев, где они могли получить совет и помощь. Была близка и понятна ненависть этого человека к узколобым фанатикам, исподтишка и в открытую сеявшим национальную рознь; и душевная тяга к русским братьям по борьбе, к тем же защитникам осажденного Царицына, поделившимся остатками оружия с посланцем гор, прорвавшимся к ним сквозь кольцо блокады. Из Царицына — рывком через фронт — в голодную, военную Москву, где ему предстояло расшевелить комиссию по делам горцев, добиться советских декретов для восставшего Закавказья. И снова с высокими полномочиями в Астрахань — единственные ворота нефти и хлеба революционной России, которые надо было отстоять. И встреча с Кировым, и комиссарство в отдельном Дагестанском полку. И опять в горы — разжигать костер восстания, опять подполье, партизанская война, холод, голод, лишения — и так до конца, до той страшной минуты, когда, предательски схваченный, брошен был в деникинскую тюрьму, в камеру-одиночку, где только и радости было — записки друзей и любимой женщины и откуда наотрез отказался бежать один, бросив товарищей. В закрытом военно-шариатском суде, предрешившем его судьбу, с достоинством, поразившим врагов, прозвучали его слова, эхом отозвавшиеся в партизанских горах: «Я служил трудовому народу…» Его расстреляли с воровской спешкой, опасаясь выручки повстанцев, — в безлюдной степи, за глухим полустанком. Казалось, все было ясно, как день, а работа не пошла. Дни, недели, месяцы… Образ, представлявшийся таким близким, вдруг становился абстрактным в своих праведных порывах, подавлял холодным величием. Слишком много хлебнул в жизни художник — и войну, и после войны, чтобы лепить икону, а руки делали свое. Слепки получались мертвыми, точно их делал кто-то другой, выспренний, в бесплодных попытках обмануть стереотип, в котором по уши застрял. Такое было чувство, будто напялил на себя гигантскую бурку с чужого плеча, встав над людьми, которые ждут от него каких-то слов, а он не знает, что им сказать. Бросался в другую крайность, прочь с накатанной колеи, снимал героику, упрощал, «очеловечивал» — выходила и вовсе ерунда, сентиментальщина. — Слушай, почему такой грустный? Или не рад гостям? — тревожились земляки, приезжавшие в Москву, в его мастерскую у Кировских ворот. В ответ он мотал головой, улыбался через силу, глядя на стеллаж, на прикрывавшую эскизы газету. И впрямь был рад любой возможности отвлечься от бесплодных усилий. Художник, чьи скульптуры радовали своей пластикой в парках Ленинграда, Тулы, Рязани, в краеведческих музеях, чья «Дагестанская сюита» с ее великолепной пластикой танца принесла ему всеобщее признание, вдруг потерял веру в себя… Стакан домашнего вина под дружескую беседу взбадривал надежду. Обманчивый взлет, когда, казалось, истина рядом и все возможно, только руку протяни, сменялся тупым упадком. Гости уезжали. Он оставался один, и все начиналось сначала. Обессилев, валился на топчан, глядя в беспомощно уплывавший, серый в трещинах, потолок, — весь в какой-то прострации, точно утративший форму спортсмен перед новой попыткой взять непосильный вес. Когда-то он и был спортсменом. Знал чувство преодоления, когда в расцвете сил выступал на аульском помосте; и потом, в окружении, под Харьковом, больной, оголодавший, выдерживал мертвую хватку врага; и еще годы спустя, в холодных стенах Архитектурного, где он, все еще простоватый горский парень, чужак, со скудным запасом знаний, ранимо и гордо вгрызался в науку. Но никогда еще вот так, молча, беспомощно не глотал слезу, не искал повода — любого — только бы отвлечься от дела, сбежать от самого себя… И все-таки бежал — в кино, на любой фильм, ничего не оставлявший в памяти, а то и просто под дождь — бродить по темным переулкам Сретенки, словно и впрямь надеясь набрести на истину. В полночь его поднимал телефон. Сестра приглашала в горы — рассеяться. — Ну что с тобой, Абдулла? Разве можно убиваться из-за какой-то ошибки? Здесь посоветуешься. Спешка истощала вконец. Порой лепил вслепую, наугад. Какие еще советы? И при чем тут ошибка? Не было ошибки. Вообще ничего не было! С тем и собрался, уложив в чемодан семь эскизов, семь фигур из пластилина. И пока ехал в поезде, и на месте, в строгом кабинете, чувствовал себя как школьник, вместо решенной задачки принесший учителю обещание все наверстать. Ведавший культурой товарищ, совсем еще молодой, тонкий в талии, в шапке кудрей и модном костюме, одновременно горячий и сдержанный в движениях, был, как всегда, гостеприимен и чуток. Он внимательно просмотрел фигуры, задержавшись взглядом на последней, седьмой — с отважно вскинутой навстречу судьбе головой (скульптор считал ее наиболее удачной), и лишь минуту спустя, словно бы спохватившись, спросил: — Как живешь, как себя чувствуешь? — Ничего, спасибо, плохо, — скованно отшутился художник. Теперь они оба смотрели на стоявший особняком, так неуверенно отобранный хозяином кабинета эскиз. При этом он произнес участливо, как бы подбирая слова: — Да… Большой, нелегкий труд. — Скульптор поморщился, как от боли, утерев вспотевший лоб. Наверное, отвергни этот человек его работу начисто — легче бы было. Но тот лишь добавил, улыбнувшись уклончиво: — Как говорили в старину, когда у бека семь жен, недостает единственной — радости. — Ну, дубовый росток и в траве различишь… Скульптор произнес это с нарочитой небрежностью, противоречиво таившей в себе вызов, готовность защищать свое немудреное детище, только бы ему возразили — ясно, четко, напрямик. Точно невидимая струна натянулась между ними: измученным поисками художником и должностным человеком, в черных, сведенных бровях которого жило упорство, некий тревожащий душу, необоримый принцип. — Да, гордый горец, — сказал он вдруг, прикоснувшись к скульптуре. Что-то вдруг мелькнуло в голове, какая-то мысль, оставившая неуловимый след. — Ну что ж, возьмем его за основу. Кстати… почему бы тебе не встретиться с соратниками Уллубия, знавшими его при жизни, побеседовать, расспросить? С двумя я уже договорился. Ну? — Спасибо… Назавтра в полдень они пришли в старый домишко его тетки. Сам он слегка задержался у художников, старики могли обидеться. Когда подсел, наконец, к достархану, принятый холодноватыми кивками, — понял, что не зря волновался. Их было двое — светлоглазый, с тонким печальным лицом, похожим на окавказившегося поляка Чекальский и мрачноватый Магомедов — седой, с аспидно-черными бровями. Опираясь подбородками на сжимавшие посох, узловатые, в старческих чешуйках руки и как бы не замечая маячившей возле вазы скульптуры Уллубия, они продолжали свой разговор о чьем-то встретившемся по дороге правнуке, забывшем их поприветствовать. Что за народ пошел? Плохо, когда листья не помнят о корнях. И откуда они берутся, эти тщеславные глупцы в нашей жизни, такой прекрасной и справедливой? И еще жалуются: то им не так, и это не эдак? Только бы себя ублажить! Да разве жизнь виновата, что люди портят ее. Мало их учат, внушают… При этом оба гостя, как бы ища поддержки, взглянули на хозяина, но тот лишь неловко пожал плечами. Ровно дети малые, как все просто — побольше внушай, и все поумнеют. Всего-то делов… Неслышно появилась тетушка Байзат, добавив к столу угощение, так же незаметно исчезла. Тогда он сказал примиряюще, кивнув на скульптуру Уллубия, как будто она должна была ответить за него: — Вот, моя работа… — Приглашая их, он весьма обще объяснил повод для встречи, хотел сделать сюрприз. Сейчас по ожившим лицам понял, что они и впрямь впервые обратили внимание на скульптуру. Значит, прежде им в голову не пришло, не узнали? У него сжалось сердце, стало стыдно перед ними и жаль себя. — Уллубий… Как будто похож, — сказал Магомедов. — Похож и не похож, — задумчиво молвил Чекальский. — Он был другим. — И умолк. Он тоже словно впервые взглянул со стороны на помпезно-броскую фигуру Уллубия, так непохожего на этих простых стариков, его друзей и сверстников, — а ведь что-то роднило их всегда. И тогда, и сейчас. Спросил совсем тихо, чувствуя, как что-то привычно тухнет в нем, уступая место растерянности: — Каким — другим? Один умный человек сказал: художник изображает мир таким, каким видит его умом. — Правда твоя, — закивал светлоглазый, остро прищурясь. — Значит, уму твоему не хватает души. — Так каким же он был? — вопрос повис в тишине. Он уже пожалел об этом свидании, которое вряд ли могло помочь. Но гости есть гости, и он томился, подливая старикам чай, подкладывая угощение. Зря потревожил людей, только душу растравил. Разве могли они вникнуть в тонкости ремесла, даже при желании, — все равно что разговаривать немому с глухим. Казалось, они тоже поняли это, ощутив погасшее любопытство хозяина, готовясь с достоинством подняться и уйти. Вдруг чернобровый старик произнес запальчиво: — Он был настоящий джигит, горячий человек! — Да, — вздохнул светлоглазый, — сдержан, как вулкан, я бы так сказал. Больше действовал словом, умел убеждать. Слово правды — острее кинжала. И как он болел душой, когда его не понимали. Или не хотели понять. Ну эти фанатики в чалмах, надутые беки — куда ни шло. А если простые горцы… Эх, людская темнота — чернее ночи… — Но Тата, невеста, в него сразу поверила. Помню, призналась, что после знакомства с ним стала без двадцати минут большевичкой. — Твоя правда. Но он скорее простил бы измену любви, но не своей вере. Всего дороже — истина. И он знал ее. — Знал истину? — переспросил скульптор. — Да, знал, — подтвердил светлоглазый. — Это была справедливость. Для всех. Ради этого жил, на этом костре и сгорел. Такой человек. — Большой человек, скромный. О себе не думал. Они еще долго беседовали о былых временах, о партизанском движении, кипевшем в горах, когда люди уже сталиотличать правду от лжи и какой-нибудь русский мальчишка-комиссар, увешанный оружием, был им ближе и понятней старого муллы с его хитрым кораном. Потому что русский был другом Уллубия, значит, их друг. В сумерки он проводил с поклоном Магомедова. Чекальский, живший неподалеку, остался — куда спешить, в старости каждый час — год. Да и хозяин был рад, знал — долго еще не уснет в одиночестве. А старик продолжал рассказывать о Буйнакском с таким жаром, точно былое вдруг вернулось, ожило вчерашним солнышком. Вспомнил о детстве Уллубия так, будто сам стоял над могилой его матери — простой горянки. Отец-то его, из обнищавших беков, после смерти жены взял по любви крестьянку, да недолгим было счастье. Старший сынок, от первой жены, спесивый выродок, однажды зарубил ее, посчитав себя ославленным таким родством. Отец расправился с ним, как положено. И сам ушел. Справедливый был человек, мир праху его. Такой человек редкость, как золотинка в горе… И твой отец был такой же, я помню, хотя тоже из служивой семьи, а землю не бросил, пахал за двоих. Жаль, нашелся злыдень в тридцатых годах, оговорил старика, чести, что ли, ему не хватало. Только на чужом горбу не джигитуют, с чужого коня слазят в грязь. Гордыня — худший грех, вот что я тебе скажу… Да, я все помню. Он, Абдулла, тоже помнил, как отец перед смертью сказал ему: — Тот, кто в чужих глазах видит только свое отражение, в памяти людской не останется. Оставайся всегда самим собой — служи добру, другой правды нет. И когда в сорок втором он, Абдулла, молодой боец, контуженный, попал в лапы к немцам и сытый, под хмельком, офицер, разглядывая его, статного, кудрявого горца, сказал насмешливо: «Какой красавец варвар! Наверное, опять княжеский отпрыск, у меня тут уже пять отпрысков. Или, может быть, ты из бывших царевичей?» — он ответил: «Нет, я крестьянского рода». И это была правда, за которую его погнали в лагерь, а он сбежал с этапа, пырнув немца его же штыком. А впереди была еще целая война, где все ясно — тут друг, там враг. А за нею годы студенчества, групповой сумятицы, борьбы вкусов, когда тебе, сосунку, лепившему еще несовершенных, но таких непосредственных горцев, иной учитель-доброхот бракует все начисто, ссылаясь на уход от бетонных традиций. И ты лишь выводишь его из себя своим наивным упорством, прешь, как росток сквозь асфальт, оставляющий в зеленом теле болезненные царапины фальши — от них не скоро избавишься, время придет — заживут. Уж не сейчас ли он вытравляет из души остатки? Утром он сдал билет на самолет и уехал в родной аул… По утрам ветер доносил с гор дурманящий запах миндаля, к которому примешивались запахи сохнущей травы. Он работал размеренно, деловито, изредка отвлекаясь прогулками в горы или на косьбу, и снова возвращался к своей скульптуре, обретавшей отточенность в различных ракурсах. По вечерам он открывал книжку об Уллубии, в который раз перечитывал письма к любимой.«Несравненная Тату! …Вы любите свой народ «от Магомы до Хасбулата»?.. Но что, если этот Хасбулат несколько походит на Асельдера (известный помещик в Дагестане), Нажмутдина (контрреволюционер) и прочую мерзопакость? Любовь никогда не бывает беспочвенной. «Любовь для любви» — это такая же нелепость, как искусство для искусства, многосложный абсурд…» «Работа Ваша… необходима: молодость, молчавшая в такое время, не молодость, а ветхость… Вы должны делать ту же работу, что и мы, а начните ну хоть с агитационной! Будьте нашей первой агитаторшей-горянкой, только ясность, смелость и еще раз смелость…» «Тату! …Когда я сижу с кем-либо, смеюсь и как бы безмятежно беседую, у меня подчас на душе такая тоска, и потому не знаю я, умею ли веселиться. Словом, я есть, и больше ничего. Хотите — примите, хотите — оттолкните, что ж, одной болью будет больше, я и ее скрою…» «…Сегодня было собрание представителей Шуринского гарнизона. Если бы Вы знали, какие это слабые люди! Никакой уверенности в своей силе, в своем умении. А ведь это лучшие, ищущие, недовольные… Для того, чтобы «наш народ» мог иметь в себе то, что вы хотите вселить в него, необходимо с корнем изменить всю нашу действительность, т. е. создать такие условия, при которых была бы возможна свободная воспитательная деятельность… А что в этой области делает правительство? Какие школы открывает, какова в них программа, кто учится? Нуль, нуль и нуль. Где забота о театре, искусстве? Где народные университеты?.. Неужели вы не чувствуете, что атмосфера государственности «наших правителей» не что иное, как гнилое старье? Вы это великолепно чувствуете, и Ваши симпатии совсем не там, но вы чего-то боитесь, это не что иное, как безобразные проявления народного гнева, бывшей народной забитости. Тут в вас говорит знаете кто? — интеллигентка. Подумайте над этим…» «Радость Татушенька! …Терять рассудок так, чтобы творить выходящее из круга моих убеждений, стремлений? Нет!.. Любовь, как бы она ни была сильна, должна соответствовать моему мировоззрению. В противном случае я должен буду вырвать ее из груди своей или погибнуть…» «Тату! …Харьков пал… Ашхабад пал, идет наступление на Красноводск. Колчак, разбиваемый повсюду, отступает в беспорядке… Началось революционное движение в Италии и Франции, английские рабочие решительно высказались против вмешательства в наши российские дела… Если б ты знала, как хочется выйти на свободу и работать, работать, работать…» «Дорогая Тату! Ужасно то, что весна, цветы кругом, должна кипеть работа, а я сижу в одиночке, без солнца, почти без воздуха. Ну не беда, отсюда, в такой дали от Вас, я вижу Вас еще более милой и дорогой. …Татуша, я заставлю Вас рисковать (просьбой о помощи подполью. А. Б.). Ради Ваших глаз, будьте осторожны… Если придется умирать, буду кричать: «Да здравствует Советская власть и дивное солнце мое, Тату». «…Суд ожидается уже давно — «на днях». Будут судить 19 человек: 9 дагестанцев и 10 русских. Первое время я был с русскими, потом сделали меня дагестанцем, затем засадили в одиночку, справедливо полагая, что я только всего-навсего Уллубий Буйнакский, — ныне я опять дагестанец…» «…Когда я узнал, что меня могут расстрелять, я не испытывал чувства мести, не было боли, а нынче звон кандалов начинает пробуждать там, где-то в глубине, нехорошие чувства, стараюсь дать им объяснения, делаю вид, что, в сущности говоря, так должно быть, а не тут-то было! Месть — нехорошее чувство…» «Кажется, уже мало что меня удивляет. Удивляться уже и потому не приходится, что тут рядом в камере узнаешь то, что никогда бы не хотел знать: подчас товарищи чуть не едят друг друга». «Дорогая Тату! …Какова была моя жизнь? Поверь мне, не видел я радости с малых лет, и вот теперь, оказывается, на закате, я нашел себе солнце, улыбнулось мне ясное чистое небо, и эта улыбка была твоя… Адвокат говорил, что я могу подать прошение. Милая Татуша, я подам прошение? Да никогда! Ты бы не признала во мне Уллубия! Жаль остальных товарищей, их напрасно со мной связали…». «Дорогая Тату! Пишу в Петровске, на станции, в вагоне. Могу быть расстрелян: ничуть не боюсь. Я Вас люблю.Теперь его Уллубий с чуть склоненной головой был немного печален — умный, твердый человек, узнавший жизнь. А все же не было в душе привычного самозабвенья, не раз испытанного в прежних работах. Чего-то не хватало его герою, какой-то малости, штриха… Осенью все тот же товарищ из Совмина созвал комиссию, одобрившую новый эскиз, сам он, внимательно всматриваясь в скульптуру, сказал не то одобряюще, не то в раздумье: «Мудрый горец», — и слегка прикоснулся к упрямо надвинутой на брови папахе. И снова, как в первую встречу, что-то дрогнуло в душе скульптора — просверк в темном лабиринте, осветивший близкий выход, и он уже мысленно нащупывал верный путь. Люди из комиссии о чем-то спрашивали его, иные поздравляли, удивляясь хмурому виду: проект принят, а радости нет. На этот раз он мчался в Москву с первым поездом, время в дороге промелькнуло незаметно, точно земля горела под колесами. С вокзала кинулся в свою мастерскую, не заглядывая домой, только позвонил: вернулся, мол. И первое, что сделал, — снял со скульптуры папаху. Лоб! Вот что было важно прежде всего, открытый лоб мыслителя. И не печаль в нем живет, а раздумье. Надбровные дуги — над зоркой мудростью глаз, в них словно проснулось все вместе — доброта, боль, неколебимая воля. Ракурсы ожили сами собой, оттеняя сущность: нет, это был не просто горец, но человек, видевший далеко за пределами Кавказа, чья беспощадная правота была осмыслена и лишена мстительности, человек, способный предпочесть истину любви, Революционер — и этим было сказано все. Он работал остервенело, на измор, не чувствуя усталости, как бы разматывая сложный клубок характера, в минуты находок прерывал лепку, оставляя в руках конец путеводной нити, чтобы собраться с силами и сделать новый рывок. Очнувшись, замечал на столе оставленный дочкой обед. Отзывался на далекие звонки из Дагестана, снова тревожно напоминавшие об окончательных сроках сдачи, машинально кивал в ответ, словно и не было риска опоздать. Главное было в другом, не в сдаче — в удаче. — Не задерживай, дорогой, появились конкуренты. — Бог с ними, с конкурентами, — и смеялся добродушно и весело, как давно уже не смеялся. Не о них он думал, не о той минуте в близком будущем, когда с бронзовых плеч Уллубия спадет покрывало, обнажив человека в накинутой бурке, с порывисто сжатой в руке папахой, точно застывшем на миг в горячей своей митинговой речи, чтобы собраться с мыслями; и люди, столпившиеся вокруг, замрут в молчании, внемля человеку, не пожалевшему ради них молодой жизни… А пока он жил со своим Уллубием наедине. И пережил еще столько волнений, спасая скульптуру! Задерживал завод с литьем, а в мастерской было холодно, что-то стряслось с батареями. Глина на морозе могла треснуть, и тогда пропал весь труд. Он жег костер в бочке посреди мастерской, весь перепачканный сажей, задремывал от усталости, угорал и, проветрив помещение, снова подкладывал дрова. Звонил на завод, не выдержав, мчался туда сам, утрясал, улаживал, отчаивался, а на обратном пути, пробираясь по старым московским дворам со свалками мебельной рухляди, брал с собой дерево на растопку. — Дорогой! — несся из горной дали знакомый голос… — Да, да, скоро буду… Задержка с заказом… поверь! До встречи! Мы сидели на скамейке в осеннем сквере Буйнакска, где морские и горные ветра, схлестываясь, срывали с деревьев желтые листья. Абдулла, крупный в плечах, с кольчатым чубом, тронутым сединой, спокойным, немного застенчивым взглядом, слегка хмурился. Я спросил его, отчего так задумчив сегодня. Он пожал плечами: такая у меня жизнь, приходится думать. Жизнь художника, определявшаяся ежечасным поиском… — Знаешь, — произнес он, чуть ссутулясь, обычно был скуп на слова, не любил откровенничать. — Когда мне худо, прихожу к нему, к Уллубию, и когда хорошо — тоже, но это бывает редко… Смотри, что делается в мире — газету в руки возьмешь, пальцы обожжешь — горячо. В сущности, война не прекращалась ни на час… И как быть с этим миром, если свобода одних ущемляет господство других, и они не уступят. Нет! Все проходит через меня. А что я могу как художник, как все это выразить, и возможно ли, чтобы всем стало ясно?! — Он вздохнул, глядя на памятник, словно ища ответа. — И сидеть сложа руки — мученье. У нас говорят — если у соседа пожар, спеши помочь, не то сам сгоришь… Да, думалось мне, удивительна эта старая истина, когда к ней прикасаешься сердцем.Уллубий».

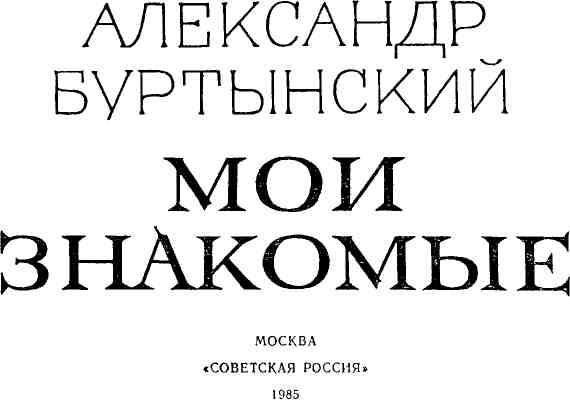
Последние комментарии
9 часов 50 минут назад
14 часов 9 минут назад
15 часов 56 минут назад
17 часов 10 минут назад
18 часов 16 минут назад
19 часов 25 минут назад