Лев Толстой. На вершинах жизни [И. Б. Мардов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
И. Мардов Лев Толстой. На вершинах жизни
Вступление. На духовном переломе
Памяти сына
«Вся наша жизнь есть подготовление к пробуждению —
радость пробуждения»(57.139).
"Мальчик играет в стружки и думает, что столяр их делает,
а столяр кончил работу и сжег стружки" (87.212).
1 И хулителям и почитателям Лев Толстой представляется протестантом и отрицателем – низвергателем или очистителем. Однако учение Толстого вполне могло бы существовать само по себе, без отталкивания и разоблачений и даже без ссылок на те или иные священные тексты. Это всецело самобытное учение, которое по большей части основано на его собственных прозрениях о жизни и человеке. "Вы осыпаете меня восхвалениями и в то же время упрекаете в странных пробелах в моих рассуждениях и даже в отсутствии какой-либо основы. – Писал Толстой французскому писателю Полю Луазону в 1903 году. – Мне дают всякого рода лестные эпитеты: гения, реформатора, великого человека и т. д. и в то же время не признают за мной самого простого здравого смысла, чтобы видеть, что церкви, наука и искусство, правительства необходимы для общества в его современном состоянии. Это странное противоречие проистекает из того, что мои критики не хотят, при суждении обо мне, отказаться от своей точки зрения и стать на мою, которая, однако, чрезвычайно проста. …Для тех, кто только объективно судит о вещах, на основании наблюдений и рассуждений, для тех существование церквей, науки, искусства и особенно правительства должно казаться необходимым и даже неизбежным. Но для того, кто, как я, познал внутреннюю уверенность, вытекающую из религиозного сознания, все*) эти рассуждения и все эти наблюдения не имеют ни малейшего веса, когда они стоят в противоречии с уверенностью религиозного сознания. *) Все подчеркивания в тексте принадлежат автору этой книги. Шрифтовые выделения самого Толстого (и других авторов) в цитатах выделяются курсивом. Я не реформатор, не философ, не апостол, но самое меньшее из достоинств, которое я могу себе приписать и приписываю, это – логичность и последовательность. Упреки, которые мне делают, рассматривая мои идеи с объективной точки зрения, т. е. со стороны их применимости к мирской жизни, подобны упрекам, которые сделали бы земледельцу, вспахавшему и засеявшему зерном местность, за неосторожное отношение к прежде покрывавшим ее кустарникам, траве, цветам и красивым дорожкам. Эти упреки справедливы с точки зрения тех, кто любит деревья, зелень, цветы и красивые дорожки, но упреки эти совершенно ошибочны с точки зрения земледельца, который обрабатывает и засеивает свое поле для того, чтобы себя прокормить… Так же и со мной. Я не могу не быть последовательным и логичным, так как, делая то, что я делаю, я преследую определенную и ясную цель – питаться духовно. Не делая того, что я делаю, я обрекал бы себя на духовную смерть"(74.16-17). Мы пишем книгу о духовном пути жизни Льва Толстого, о его прозрениях на этом пути и о тех вершинах жизни, к которым он стремился и которых достиг. И поэтому мы будем сосредоточивать внимание не на отрицаниях Толстого, а на его вопросах самому себе и его ответах на них – себе и людям. Для лучшего понимания позиции Толстого уместно сразу же привести еще одно письмо Льва Николаевича, написанное в июле 1908 года законоучителю Московского лицея И. И. Соловьеву: "В одной арабской поэме есть такое сказание. – Странствуя в пустыне, Моисей, подойдя к стаду, услыхал, как пастух молился Богу. Пастух молился так: «О Господи, как бы мне добраться до Тебя и сделаться Твоим рабом. С какой бы радостью я обувал Тебя, мыл бы Твои ноги и целовал бы их, расчесывал бы Тебе волосы, стирал бы Тебе одежду, убирал бы Твое жилище и приносил бы Тебе молоко от моего стада. Желает Тебя мое сердце». Услыхав такие слова, Моисей разгневался на пастуха и сказал: «Ты – богохульник, Бог бестелесен, Ему не нужно ни одежды, ни жилища, ни прислуги. Ты говоришь дурное». И омрачилось сердце пастуха. Не мог он представить себе существа без телесной формы и без нужд телесных, и не мог он больше молиться и служить Господу и пришел в отчаяние. Тогда Бог сказал Моисею: «Зачем ты отогнал от меня верного раба Моего? У всякого человека свое тело и свои речи. Что для тебя нехорошо, то другому хорошо, что для тебя яд, то для другого мед сладкий. Слова ничего не значат. Я вижу сердце того, кто ко Мне обращается»*). *) Ср. в Дневнике того же года: «Внешние знаки поклонения Богу нужны, необходимы людям. Человек, который, будучи один, перекрестился, скажет: Господи, помилуй, этим показывает признание своего отношения к Существующему Непостижимому. Жалки люди, не признающие этого отношения»(56.69). Легенда эта мне очень нравится, и я просил бы Вас смотреть на меня, как на этого пастуха. Я и сам смотрю на себя так же. Всё наше человеческое понятие о Нем всегда будет несовершенно. Но льщу себя надеждой, что сердце мое такое же, как у того пастуха, и потому боюсь потерять то, что я имею и что дает мне полное спокойствие и счастье. Вы говорите мне о соединении с церковью. Думаю, что не ошибаюсь, полагая, что я никогда не разъединялся с нею, – не с той какой-либо одной из тех церквей, которые разъединяют, а с той, которая всегда соединяла и соединяет всех, всех людей, искренно ищущих Бога, начиная от этого пастуха и до Будды, Лао-тзе, Конфуция, браминов, Христа и многих и многих людей. С этою всемирною Церковью я никогда не разлучался и более всего на свете боюсь разойтись с ней"(78.178). *)Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. (Юбилейное) в 90 томах М. 1928 – 1958 г.: в тексте здесь и далее указаны том и страницы.
2 «Сущность обращения моего в христианство – вспоминал Толстой в 1905 году – было сознание братства людей и ужас перед той небратской жизнью, в которой я застал себя… Это было одно из самых сильных чувств, которые я испытал когда-либо»(55.164). Религиозный перелом Толстого начался по его словам с того, что, вообще говоря, любой из нас может испытать во всякую минуту жизни. Он вдруг «увидел себя вооруженным рассудком животным, лишенным всякого понимания своей жизни (религии), и увидал кругом всех людей такими. Я тогда ужаснулся и удивился только тому, что люди не режут, не душат друг друга. И это не фраза, что я ужаснулся тогда… Я – как человек, стоящий на тендере поезда, летящего под уклон, который ужаснулся, увидав, что нельзя остановить поезда» (55,156—157). "Чувство, которое я испытал тогда, – читаем в письме Толстого того же времени, – было так сильно, что я чуть не сошел с ума, глядя на спокойствие и уверенность людей вокруг меня, живущих без всякой религии, без всякой заботы о чем-нибудь другом, кроме своих удобств и приятностей жизни… "(76.75). Желательно, чтобы человек был нацелен на какую-либо из вершин человеческой жизни и устремлен к ней. Что не имеет ничего общего с гордым стремлением первенствования и главенствования, которое всегда вызывало в Толстом неприязнь. Идущий к идеальным вершинам жизни и добивающийся командных высот в ней двигаются в разных и практически непересекающихся плоскостях жизни. Тут задействованы разные и несовместимые образы величия человеческого. Когда человек велик своим действенным стремлением возвыситься над собой, стать ближе к одному из высших оснований духовной жизни, то его величие имеет отношение к этому основанию, а не к его положению среди людей; гордость, тщеславие, «слава людская» мешают ему, сбивают с пути к вершине. В другом случае человек стремится стать выше всех, над людьми, он весь обращен в сторону людей, и духовно недвижим. Парадокс в том, что стремление к вершине, по-видимому, присуще человеку как таковому, но чуждо подавляющему большинству людей. Каждый живет в той нише, которую ему удалось оборудовать, не пытается покидать ее и взмывать ввысь. Стремление к вершине жизни несовместимо с теми призрачными делами, которыми заняты люди. Всегдашняя устремленность к вершинам жизни – характерное свойство могучего духа. Толстой отражает заложенное свыше в человеческую душу желание подняться над собой. Вся проповедь Льва Толстого направлена на то, чтобы пробудить в человеке стремление к вершинам жизни. Постоянная устремленность Толстого к самосовершенствованию, к духовному росту, к Богу само собой проистекает из стремления его к вершинам жизни. Жить в Боге для Толстого значит жить на Вершине вершин подлинной и вечной Жизненности. Бог для Толстого, прежде всего, есть абсолютная Вершина (Всевышний), Сверхвершина Жизни, которая призывает и требует человека к Себе и с Которой человек посылается в мир для исполнения в нем не своей, а Всевышней Воли. Иисус Христос в восприятии Льва Толстого – абсолютная Вершина полноты Жизни в человеке. Вершина тем более ценная, что достигнута она не надмирным существом. Иисус для Толстого это и вершина свободной нравственной жизни человека, и вершина мудрости человеческой, воплощение Вершины Разума и Вершины Любви в человеке. Я думаю, что сознание и чувство «Вершины» заключено в толстовском чувстве-сознании себя живущим как заготовка чего-то высочайшего и наиглавнейшего в нем. Это качество души Толстого сочетается с другим основополагающим свойством чувства жизни Льва Николаевича – его благодарностью Всевышнему за жизнь в себе, за то, что ему дано жить, что он имеет жизнь – живет. Вместе оба этих основополагающих качества переживания жизни, в конце концов, породили в Толстом (не в его уме, воображении или душевном переживании, а именно в самом его чувстве себя живущим) высшее доступное человеку духовное переживание, переживание любви к Богу, которое Лев Николаевич последние три десятилетия более всего другого ценил, хранил и развивал в себе. Книга эта, я надеюсь, поможет уяснить и по достоинству оценить то, что опыт устремленности Льва Толстого к вершинам жизни и его переживание Бога имеют всечеловеческое значение.
3 " Я был легкомысленным, дрянным, ни во что не верующим человеком. – Вспоминал Толстой. – Пришло время, когда я почувствовал неизбежно необходимость веры…»(80.83). Религиозный перелом Толстого состоял в том, что он из человека сначала религиозно безучастного, потом страдающего без Веры стал глубоко верующим человеком. И таковым остался до конца дней. "Вера? – Спрашивает Толстой в Дневнике последнего года жизни. – Что такое вера? Вера, это – то духовное здание, на котором стоит вся жизнь человека, это то, что дает ему точку опоры и потому возможность двигаться"(58.30). Первый акт духовного рождения Толстого на исходе пятого десятилетия его жизни – это рождение Веры. Веры не из-за заманок исповедания, не по лирико-религиозному чувствованию, а Веры как таковой, Веры по сверхдушевной необходимости, по внутренней неизбежности верить, по необоримой духовной потребности. Такая Вера – не верование и не только опора в этой жизни, но и воля к благу или воля блага, благая воля, волящее благо. Эта благая воля вызывает усилие, которое необходимо человеку, чтобы вернуть себя к той духовной силе, которая живет в нем, которая часто ослабевает в нем, а то и покидает его. "Есть одно чудо: это то, что в человеке живет дух Божий. В это одно надо верить и верить в то, что говорит каждому из нас дух Божий"(73.38). Разные вероисповедания по-разному снабжают человека представлениями и убеждениями, по которым получается так, что, несмотря на старение, смерть, страдания, несчастья, разочарования и неудачи, он в состоянии выходить из этой жизни победителем. Люди потому и не могут без Веры, что именно Вера призвана обеспечивать человеку то, что не содержится в его жизни, – победу в ней. Одна из основных задач всякого вероисповедания – успокоить душу человека в этом отношении. Вера Толстого не есть вера в общепринятом понимании. Толстой говорил, что такой веры у него нет. "О вере скажу, что я всегда признавал и признаю веру, как доверие, самым шатким и недостаточным основанием для утверждения истины, как для всех людей, так и для самого себя в особенности, и потому веры у меня никакой нет"(79.128). "Если я родился среди чувашей или индейцев и доверяю всему тому, что мне говорят их учителя, это не вера, а доверие, и основанных на таком доверии вер тысячи противоположных одна другой. От таких вер все зло в мире. Истинная же вера есть только одна та, которая признает существование высшего Начала, Бога, от которого я изшел, к которому приду, которым живу и часть которого составляю. Все верят в это, хотя и не умеют выразить этого и не могут определить, что такое это Начало и каким образом я связан с Ним"(73.304). Вера для Толстого "есть сама жизнь, или, скорее, неизбежное условие моей жизни, как дыхание, пища для тела. С этим пониманием жизнь моя есть неперестающее благо; без этого понимания я не мог бы жить, не мог бы идти к смерти с тем спокойствием, с которым я иду теперь"(79.155). Вера Толстого лишена страха и упования, в том числе упования на Бога и страха перед Ним, вот в каком смысле: "Ты пишешь: надежда на Бога, а для меня важнее всего вера в Бога, в то, что он добро, и всё, что делается – добро для всех нас. Трудно иногда этому верить, как в твоем положении, но я верю, что это так"(73.262). Вера для Толстого это сила Истины, истинного духовного сознания, которое "как самый удивительный волшебник претворяет всякое зло внешнее в благо и величайшее такое зло в величайшее благо. Не говорю, чтобы я обладал этим свойством, но я имею счастье помнить, предчувствовать его возможность»(82.123)*). *) Это сказано в письме А.В.Гольденвейзеру, датированному 26 октября 1910 года, то есть за два дня до ухода Толстого из Ясной Поляны. Такая Вера "не вера, доверие, а религиозное сознание, действенное, руководящее жизнью, если и не всей жизнью, то все-таки признаваемое руководителем жизни. Само собою разумеется, что религиозное сознание не обеспечивает верный успех. Успех будет зависеть от взаимной силы сознания и страстности натуры и окружающих соблазнов. Я говорю только то, что религиозное сознание есть главное условие успеха"(82.103), то есть победы в земной жизни. Такая Вера определяет смысл жизни человека. Не цель ее, а смысл. "Цели нашей жизни мы не можем понять. Цель эта понятна только для той воли, которая послала нас в жизнь. Или, скорее, цель есть понятие человеческое и для высшей воли, для Бога ее не существует, как не существует пространства, времени и причинности. Так что смысла нашей жизни, определяемого ее целью, нет и не может быть; смысл ее только в исполнении той Воли, которая послала нас в жизнь, и определяется не целью, а верой в существование этой высшей Воли, Отца Небесного по христианскому выражению". И здесь же: "Знание отличается от веры тем, что знаем мы одним рассудком, и поэтому можем определить словами предмет знания; верим же всем духовным существом нашим и, хотя более уверены в предметах веры, чем в предметах знания, не можем словами определить предмета веры"(73.305). Вера – знание, но знание сверхразумное: в то, например, что есть высшее Начало и есть бессмертная душа у человека. Такая Вера есть то сверхзнание души о себе и Боге, на основании которого и по указанию направления которого человек живет свой век на земле и устанавливает смысл своей жизни. "…вера каждого верующего человека (я говорю – верующего в очень тесном смысле, так как очень много есть людей, считающихся и сами себя считающих верующими, не будучи таковыми) слагается из сложных, невыразимых духовных процессов, посредством которых человек становится в единении с высшим существом – с Богом, и что поэтому всякое вмешательство людей в такое отношение человека с Богом не может иметь никакого иного влияния, кроме оскорбления самых важных и святых для него чувств. Вследствие чего я думаю, что обязанность истинно верующего человека заключается в уважении к искренним верованиям других людей, в особенности в воздержании от вмешательства в личные верования, определяющие жизнь всякого другого человека. Если я когда отступал от этого правила, то я всем сердцем каюсь в этом и прошу прощения у тех, чувство которых я оскорбил этим(79.240-1). Эти покаянные слова записаны весною 1909 года, то есть за полтора года до смерти. Мало известно, что в последнее десятилетие жизни Толстой стал вполне веротерпимым человеком. По его мысли всякий человек духовно раскрывает себя по стадиям. Так что все стадии этого процесса законны. «Я очень счастлив тем, что стал совсем по-настоящему веротерпим. – Читаем мы в Дневнике 1902 года. – И научили меня неверующие люди»(54.163). В 1906 году, когда Софья Андреевна настолько плохо чувствовала себя, что "пожелала священника", Толстой "не только согласился, но охотно содействовал. Есть люди, которым недоступно отвлеченное, чисто духовное отношение к Началу жизни. Им нужна форма грубая. Но за этой формой то же духовное. И хорошо, что оно есть, хотя и в грубой форме»(55.243). Объяснение этой точки зрения находим в записи Дневника 1909 года: "Всякое Богопочитание, какое бы оно ни было, возвышает человека. Возвышает тем, что выражает сознание своей зависимости и отношения (хотя бы понимание этого отношения и было ложно) с Высшим, ни от чего независимым существом – Богом"(57.133). Старинная знакомая Толстого и его ровесница Мария Михайловна Дондукова-Корсакова летом 1909 года (за два месяца до своей смерти) написала сестре Льва Николаевича Марии Николаевне, гостившей в то время в Ясной Поляне, письмо, в котором выражала самые добрые чувства Льву Николаевичу и сожаление о том, что он не в лоне Православной Церкви. Толстой прочел это письмо, растрогался и ответил ей сам. ""Из письма Вашего видно, как из многих писем, которые я получаю от добрых, религиозных, православных лиц, сожаление о том заблуждении, незнании истины, в котором я нахожусь. Вот это-то мне и больно. Ведь то, во что человек верит, чем живет, как Вы это хорошо знаете, для него дороже всего, дороже матери, жены, детей, дороже самого себя. И вот люди, веруя иначе, чем тот, к которому они обращаются, прямо говорят или дают ему чувствовать то, что он – во лжи, а они – в истине. Ведь больнее этого нельзя делать оскорбления… Милая Мария Михайловна, я не говорю, что я один в истине и что все верующие иначе заблуждаются, но прошу и всех других относиться ко мне так же. Не de gaiete de coeur*) или из тщеславия я отделился от Православия, а с болью и страданием. Отделился потому, что не мог иначе. Основа моей веры – в тех написанных стихах послания Иоанна, которые прилагаю. Внешние же проявления моей веры все в одном – в старании проявления любви: в делах, словах и мыслях, как я выразил это тоже в прилагаемой краткой молитве. Я не говорю, что вера в божественность Христа, в искупление им грехов, в таинства и пр. несправедлива или ошибочна, я знаю только то, что всё это мне совершенно не нужно, когда я знаю заповедь любви, как единую заповедь закона Бога, и все силы моей души употребляю на ее исполнение… Очень может быть, что другим нужны при этом еще другие верования, мне же они только мешали, и потому будем уважать верования друг друга, а главное, любить друг друга, что мне по отношению Вас легко испытывать, даже невозможно не испытывать"(80.83). *)без причины – Франц.
4 Творческая биография Льва Толстого изучена вдоль и поперек, но в ней немало белых пятен. Вот одно из них. Весь 1878 год и начало 1879 года Толстой активно собирал материалы к роману "Декабристы" и уже трудился над текстом. "Дело это для меня так важно, – пишет он в письме конца января 1878 года, в начале работы над романом, – что, как Вы ни способны понимать все, Вы не можете представить, до какой степени это важно."(62.384). В середине марта того же года он "весь ушел в свою работу". В апреле: "Кажется, все ясно для начала"(48.186). В мае: "Нейдет от того больше, что нездоровилось. Но кажется, что полон до края, и добром"(48.69). К концу лета общество в столицах знало, что Толстой пишет новый роман, и издатели уже обращались к нему с просьбами о печатании. В октябре, как пишет Софья Андреевна, Лев Николаевич "теперь совсем ушел в свое писание. У него остановившиеся странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего и о житейских делах решительно неспособен думать"*). *) Цитирую по книге Н.Н.Гусева «Лев Николаевич Толстой». Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М. 1963г. с.521 В ноябре: "Левочка сегодня говорил, что у него в голове стало ясно, типы все оживают, он нынче работал и весел, верит в свою работу"*). Это значит, что в творческой воле писателя роман состоялся и, казалось бы, теперь должен быть создан. *) Гусев, там же, с. 523 "Работа моя томит и мучает меня, и радует и приводит то в состояние восторга, то уныния и сомнения; но ни днем, ни ночью, ни больного, ни здорового мысль о ней ни на минуту не покидает меня". И ниже: "…прошу верить, что дело, которое занимает меня, для меня почти так важно, как моя жизнь…"(62.399-400). Это сказано в конце декабря 1878 года. Н. Н. Страхов, бывший в те дни в Ясной Поляне, свидетельствует, что Толстой "сам говорил, что никогда работа так не занимала его, как эта"(62.510). Прошел всего месяц. Настроение Льва Николаевича резко изменилось. Получив от В. В. Стасова посылку с материалами для "Декабристов", Толстой отвечает ему: "Из того, что Вы предлагаете и за что очень Вам благодарен, мне ничего не нужно теперь"(62.473). Где-то в первой половине февраля 1879 года Лев Толстой вдруг на полном ходу остановился, прервал свою столь для него важную работу над "Декабристами", работу, на которую потратил так много сил и год жизни, и тотчас начал другой роман, первые наброски к которому датированы уже 15 февраля. Два месяца до этого, в последних числах декабря Толстой просил А. А. Толстую найти ему доступ к секретным делам декабристов.*) Теперь, в конце марта, у него к ней другая просьба: *) Известно, что до конца января 1879 года Толстой пытается получить доступ к секретному делу декабристов. "Другая моя просьба к Вам, чтобы мне были открыты архивы секретных дел времен Петра 1, Анны Иоанновны и Елизаветы. Я был в Москве преимущественно для работ по архивам*) (теперь уже не декабристы, а 18-й век, начало его – интересует меня), и мне сказали, что без высочайшего разрешения мне не откроют архивов секретных, а в них все меня интересующее: самозванцы, разбойники, раскольники…"(62.477). *) Толстой был в Москве несколько дней 19 – 24(?) марта 1879 года 17 апреля – Фету: "Декабристы мои Бог знает где теперь, я о них и не думаю…"(62.483). Что произошло? В чем причина этой в высшей степени странной перемены? – Удивленные друзья в письмах спрашивают его, но Толстой упорно не отвечает или отговаривается. "По какой-то причине он как бы стеснялся говорить об этом" . – Констатирует Н. Н. Гусев*). И действительно,такая расточительность по отношению к самому себе и своей творческой жизни трудно постигаема. Впрочем через 13 лет Толстой все же объяснял, что он оставил работу над романом потому, что не нашел в ней "общечеловеческого интереса"(17.514). Запомним это высказывание Толстого. *) Гусев, там же с. 531 И прежде, лет пять назад, в творческой биографии писателя был случай прекращения работы над романом о Петре Первом, долгое время занимавшим Толстого. Но происходило это не так внезапно и по причинам известным, веским и ясным. Не то с "Декабристами". До конца дней своих Толстой восторгался декабристами, во всяком случае никогда не разочаровывался в них*), как это произошло с восприятием личности и дел Петра Великого и его окружения. Да и задуман был роман далеко не только о декабристах. *) "Это были люди все как на подбор, – говорил Толстой в 1905 году, – как будто магнитом провели по слою сора с железными опилками, и магнит их повытаскивал. Мужицкого слоя магнит этот не дотрагивался" (Д.Маковицкий "Яснополянские записки" кн. 4 с.148 М. 1979г.). "Декабристов" из души Толстого вытравил замысел другого произведения – самого, пожалуй, амбициозного в его творческой жизни. Льву Николаевичу всегда важно было оттолкнуться от реального события. Где-то Толстой наткнулся на упоминание о своем дальнем родственнике из рода князей Горчаковых, который сделал блестящую карьеру, но был уличен в темных делах и судим во времена Павла. Лев Николаевич даже не знал имени князя, но знал, что "это лицо – узел всего"(62.463) и попытался разведать о нем все, что возможно. Выяснив кое-что, он тотчас, – не прекращая работу над "Декабристами", – начал повесть, которую в последнем из начатых вариантов назвал "Труждающиеся и обремененные". В повести действуют "два Василия" (вспомните "двух Алексеев": Каренина и Вронского). Это князь Василий Горчаков и в один день с ним родившийся другой Василий, взятый в господский дом подкидыш, который обучался вместе с князем и впоследствии стал на правах слуги спутником в его, князя, жизни. Слуга Василий – человек трудящийся душою, стремящийся подняться над собою. Душа же князя Василия обременена страстями, погоней за почестями и богатством, завершившейся преступлением и позором. Мы чуть выше упоминали о такого рода противостоянии двух позиций в жизни. Эпиграф к повести говорит сам за себя: "Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем". Слова эти обращены Иисусом ко "всем труждающимся и обремененненым"(Мф. Х1,28-29). Как из повести о старом возвращающемся из ссылки декабристе некогда выросла эпопея "Войны и мира", длящаяся двацать лет, так и теперь из повести о "двух Василиях" возник замысл другой «книги бытия», грандиозной эпопеи, простиравшейся на сто лет. Роман так и назван Толстым: "Сто лет". По форме замысел "Ста лет" напоминает "Фальшивый купон", но составлен не из ряда коротких эпизодов, а из множества отдельных повестей. "Все пухну замыслами" (то есть замыслами этих повестей) – сообщал Толстой 1 марта 1979 года не понимающему, что происходит, Н. Н. Страхову (62.474). Софья Андреевна, узнав о новом художественном проекте мужа, ахнула: "Этому, стало быть, конца не будет"*). *) Гусев, там же, с. 555 Толстому наверняка было жаль "Декабристов" и жаль потраченного труда, но он не мог откладывать реализацию замысла "Сто лет". То, что предстояло сделать ему, требовало многих и многих лет, возможно, всего оставшегося ему срока жизни. Один из смыслов, заложенных в "Сто лет", Толстой раскрывает в своего рода Предисловии, напоминающем "Исповедь" и, возможно, сначала написанном, как и она, для самого себя. "Каких бы мы ни были лет – молодые или старые, – куда мы ни посмотрим вокруг себя ли, или назад, на прежде нас живших людей, мы увидим одно и одно удивительное и страшное – люди родятся, растут, радуются, печалуются, чего-то желают, ищут, надеются, получают желаемое и желают нового или лишаются желаемого и опять ищут, желают, трудятся, и все – и те, и другие – страдают, умирают, зарываются в землю и исчезают из мира и большей частью и из памяти живых, – как будто их не было и, зная, что их неизбежно ожидают страдания, смерть и забвение, продолжают делать то же самое". И далее: "Для того, чтобы продолжать жить, зная неизбежность смерти.., есть только два средства; одно – не переставая так сильно желать и стремиться к достижению радостей этого мира, чтобы все время заглушать мысль о смерти,*) другое – найти в этой временной жизни, короткой или долгой, такой смысл, который, не уничтожался бы смертью". *) конечно, не только в буквальном смысле "страха смерти", но и в широком смысле, включающем все, о чем выше говорит Толстой: забвение, тщета, страдание, старение. "Два Василия", надо полагать, олицетворяют у Толстого еще и эти два пути жизни. "Везде, всегда, сколько я видел и понимал в моей 50-летней жизни, сколько я мог понять в изучении жизни далеко живущих от меня и прежде живших, я видел, что люди не могут жить и не живут вне этих двух путей жизни"(17.226-7). В начале 1879 года Лев Толстой нашел новый и в высшей степени продуктивный взгляд на человека и проблемы его жизни. Это свое прозрение о человеке он и перевел в художественный замысел "Сто лет". "С бесчисленных сторон можно рассматривать жизнь человека и народов, – пишет Толстой в черновике Предисловия к "Сто лет", – но я не знаю более общего, широкого и заключающего в себе все, чем живет человек, как тот взгляд на него, при котором главный вопрос составляет эта борьба между страстями и верой в добро. В отдельном человеке борьба этих двух начал производит бесчисленные положения, в которые он становится, точно так же и в народах". "В этой борьбе всегда и везде выражается жизнь человека и народов". "И об этой борьбе между похотью и совестью отдельных лиц и всего русского народа я хочу написать то, что я знаю". И здесь же зачеркнутое (но не потому, что ошибочное, а потому, что затем развито в отдельную главу): "Я буду писать о частных лицах, о государственных лицах, но и тех я буду описывать и буду судить о них только в отношении того вечного вопроса всякого человека, насколько он служит Богу или маммоне". Замысел новой громадной эпопеи Толстого, похоронившей замысел "Декабристов", таков: "Хочу описать эту борьбу за 100 лет*) жизни русского народа. Для этого я буду описывать жизнь многих людей разных положений"(17.228-9, 233). *) Видимо, в запальчивости Л.Н. сначала написал "150 лет", но потом благоразумно сузил рамки задуманного произведения. "Сто лет", как видите, основываются на представлении, что в народе, в его внутреннем мире, существуют и действуют два саможивущих начала его национальной Общей души. В Общей душе народа есть свое начало "страстей и похотей" (ужас перед которым чувствуется и в "Анне Карениной") и соборное начало смысла и добра в народе. Борьба "этих двух начал" определяет движения жизни народной души. Такая же борьба в отдельном человеке определяет течение и достоинство его жизни. "Но в народах в продолжении известного времени, как во всех явлениях, переносимых от частного к общему, различие положений этих, бесконечно видоизменяющихся в отдельных лицах, упрощаются и получают известную правильность и законченность. Так в последние два столетия жизни русского народа при бесконечно разнообразных положениях к вопросу о вере, во всем народе в это время ясно выразилось одно продолжительное и определенно ясное движение"(17.229). Цель нового произведения Льва Толстого – уяснить для себя и показать всем это "ясное движение", этот вектор духовного и душевного развития русского народа и тем самым дать этому народу критерий всей общественной и религиозной деятельности. Замахнувшись на такую задачу, Толстой не мог ждать неблизкого завершения работы над "Декабристами" и, захваченный другим замыслом, потерял интерес к этому роману.
5 В главе 37 «Учения Христа, изложенного для детей»(1908 год) сказано: «Вера не в том, чтобы верить в награду, а вера в том, чтобы ясно понимать, в чем жизнь». Последняя книга Толстого – "Путь жизни"(1910 год) – открывается словами: "Для того чтобы человеку жить хорошо, ему надо знать, что он должен и чего не должен делать. Для того чтобы знать это, нужна вера. Вера – это знание того, что такое человек и для чего он живет на свете"(45.19). То же самое Толстой говорил и 30 лет назад, во времена, непосредственно предшествовавшие его духовному перелому. Но здесь – особый поворот мысли: "Точно так же, как желания и страсти, не дожидаясь нашего выбора, втягивают и влекут за собою, точно так же, не дожидаясь нашего выбора, известное объяснение смысла жизни, – такого, который не разрушается смертью, – передается нам вместе с нашим ростом и воспитанием. Объяснение это называют верой, именно потому, что оно передается от одного поколения к другому в детском, юношеском возрасте – на веру. Оно не доказывается, не объясняется, потому что ребенку нельзя доказывать и объяснять, а передается как истина – плод несомненного знания, имеющего сверхъестественное происхождение… Всегда и везде так же неизбежны желания и страсти человека, как и передача ему известных верований, объясняющих для него невременный смысл жизни"(17.227). В одной из заготовок к "Сто лет" Толстой любовно описывает, как трогательно бабушка учит внука молиться, "прежде еще, чем он знал как зовут отца и мать и место, в котором он живет". "Каждое утро, как только его будили, он спал с бабушкой, – когда на печке, когда на коннике, когда на полу в холодной, – бабушка разглаживала ему волосы, становила его лицом к Богу и, показывая, как складывать крест тремя маленькими его пальчиками, она водила его ручонкой не ко лбу, а почти к маковке, к правому плечу, левому, к пупку, пригинала низко его голову к пупку и заставляла повторять молитву "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас", а потом "Богородице дево, радуйся" и опять пригинала его голову, а потом уже мыла его лицо, застегивала ворот, оправляла поясок, разбирала, когда был досуг, расческой волосы и обувала и надевала шубенку и пускала на улицу. – Бога Аниска знал так давно, что не мог вспомнить, когда он узнал про Него". "Бабушка так глядела на образа, как она ни на кого и ни на что другое не глядела и, понимая этот взгляд, Аниска сам смотрел на Икону и свечку всегда с тем же чувством, которое он видел на лице бабушки. Бабушка была самое главное и близкое лицо во время первого детства Аниски"(17.244). Писатель, создавший такую сцену, несомненно, всей душою старался жить духовной жизнью своего народа – общедуховной жизнью нации. «Война и мир», говорят, – роман о народной жизни. Хотя тогда Толстой ставил перед собой, прежде всего, художественные задачи. И вот теперь, через 8 лет после завершения «Войны и мира» Лев Николаевич начинает новое произведение, размах которого, даже в сравнении с «Войной и миром», огромен. В поражающем воображение замысле «Ста лет» – апогей художества Льва Толстого и, следовательно, всего человечества. Толстой ясно видел перед собой вершину вершин художественного творчества как такового, знал в себе силы одолеть ее и, как гениальный писатель, наметил ее достижение в качестве одной из задач жизни. Но теперь и над ней главенствует другая задача, несущая в себе тот «общечеловеческий интерес», которого, по разъяснению Льва Николаевича, не было в «Декабристах». Зенита художественного творчества можно было бы достичь и на огромном материале истории декабристов. Толстой отступился от работы над «Декабристами» именно потому, что теперь он поверх художественной поставил другую и грандиозную сверхзадачу: исследование души народа и его судеб и, более того, исследование общедуховной народной жизни и тенденций ее проявления в конкретной Истории. Зачем это стало так нужно Льву Николаевичу? Я думаю, что за многие годы создания «Сто лет» и посредством этой художественной работы Лев Толстой хотел, в конечном счете, ввестись в самые глубины духовной жизни своего народа. Где он – по особым качествам своего чувства жизни – не мог не быть нацелен на восхождение к вершинам национальной общедуховной жизни. В тексте «Сто лет» писатель, бесспорно, был намерен показать и низы, и самые верхи общедуховной жизни. Лев Толстой – человек такого масштаба, что если ему удалось подняться на вершины Общей души, то он и других бы повел за собой. Толстой, разумеется, знал это. Смею думать, что вся огромная эпопея «Сто лет» для Толстого в большой мере имела смысл лишь в сочетании с его вхождением в духовную жизнь народа и с восхождением его собственной духовной жизни. Процесс создания этого произведения должен был стать особым путем Льва Толстого к верхам общедуховной народной Веры. Художественное творчество предполагало движение по этому пути и не могло быть продолжено без или вне личного восхождения автора. Как только Лев Толстой отошел от исторически возникшей народной веры (и, значит, от движения к вершинам общедуховной жизни), так прекратилась и его работа над «Сто лет». Так что специально и сознательно Толстой в 1879 году не отказывался от венца своего художественного творчества. Это произошло само собой, когда место народной Веры и вершины общедуховной жизни в его душе заняла другая вершина духовной жизни, о которой мы ниже будем рассказывать подробно.
6 У человека в жизни, говорит Толстой, два пути: путь страстей и похотей, и путь смысла и совести – он же путь Веры. "Страх смерти отбивает охоту жизни. – Пишет Толстой в заметках, названных им "Конспектом" новой «книги бытия». – Одно спасение – или забыть смерть или найти в жизни смысл, не уничтожаемый смертью. Забыть смерть можно, отдаваясь страстям, возбуждая их. Смысл жизни, не уничтожаемый смертью – вера и подчинение ее учению своей жизни. В борьбе между этими двумя направлениями воли – весь смысл и интерес как всякой частной жизни, так и жизни народов"(17.233). Для Толстого времени его духовного перелома всякая Вера есть дело святое потому, что именно в Вере самовыражается и действует высший пласт души народа. Высший пласт души русского народа выражается в Христовой Вере. Вера эта хранится Церковью. И потому Русская Православная Церковь есть носительница высшего пласта души русского народа. В ней может что-то не нравиться, что-то даже отталкивать, но это не меняет сути дела. Послушайте как думал Толстой в то время. Из письма Н. Н. Страхову от 27 января 1878 года: "Об искании веры. Вы пишите, что "всякие сделки с мыслью Вам противны". Мне тоже. Еще пишете, что для "верующих всякая бессмыслица хороша, лишь бы пахло благочестием (я бы заметил: лишь бы проникнуто было верою, надеждою и любовью). Они в бессмыслицах, как рыба в воде, и им противно ясное и определенное". И я тоже… Но рассчитывая на Вашу способность (необычайную) понимать других, пытаюсь в этом же письме сказать, почему я думаю, что то, что Вам кажется странным, вовсе не странно. Разум мне ничего не говорит и не может сказать на три вопроса, которые легко выразить одним: что я такое? Ответы на эти вопросы дает мне в глубине сознания какое-то чувство. Те ответы, которые дает мне это чувство, мутны, неясны, невыразимы словами (орудием мысли). Но я не один искал и ищу ответов на эти вопросы. Всё живущее человечество в каждой душе мучимо было теми же вопросами и получало те же смутные ответы в своей душе. Миллиарды смутных ответов однозначащих дали определенность ответам. Ответы эти – религия. На взгляд разума они бессмысленны"(62.380). Вера во Христа – общедушевная народная Вера, возникающая не в человеке, а в интердушевном пространстве людской жизни и составляющая основу духовной жизни Общей души народа. Это вера – "следствие усилия воли, про которую можно сказать: я велю верить, я хочу верить, ты должен верить"(24.795). Такова вера-доверие, вера-верность и вера-вверение себя. В ней вполне может быть заложена и иллюзия или выдумка, которая, тем ни менее, обретает подлинность в общедуховной жизни народа. Другое дело своя личная вера, про которую пишет Толстой Страхову. Она основывается на смутном предвидении, на первичном узнании, на готовности личной души к прозрению "своей истины", как сказал бы Толстой впоследствии. Вера такого рода религиозно никак не обязывает остальных людей. Но без нее невозможна вполне свободная духовная жизнь отдельного человека. Чаще всего эта личная вера включает и любовь к тому, и веру в того, чей образ, мысли и установки жизни влекут тебя на твоем собственном Пути восхождения. Лев Николаевич Толстой любил евангельский образ Иисуса и верил Иисусу Христу. Это и есть та вера-любовь, из которой, когда пришло время, выросла его Вера как "внутренняя неизбежность убеждения, которая становится основой жизни"(24.795)*) – основой всех установок жизни Льва Толстого. Если же в этом основании содержится фикция, иллюзия, или, тем более, обман, то и вся жизнь отдельного человека (и результат ее!) становится фиктивной или обманной. *) Специально отмечу, что все тексты Толстого, приводимые далее в этой главе, написаны в конце 70-х годов, в пору его "духовного перелома". У самой по себе личной веры (веры по личной любви и основы своей особенной духовной жизни) нет оснований для проповеди в качестве всеобщего религиозного учения. Но если считать, что глубинный пласт души – один во всех, то и ответы на главные вопросы человеческой жизни для всех одни и те же, и Веру общедуховной жизни можно совмещать с верой одиночной духовной жизни и переводить одну в другую. Так думал тогда Толстой. "Как выражение, как форма, они (ответы на главные вопросы жизни, даваемые общедушевной Верой – И. М.) бессмысленны, но как содержание они одни истинны. Смотрю всеми глазами на форму – содержание ускользает; смотрю всеми глазами на содержание – мне дела нет до формы… Все те верования, которые я имею, и Вы, и весь народ, основаны не на словах и рассуждениях, а на ряде действий, жизней людей, непосредственно (как зевота) влиявших одна на другую, начиная с жизней Авраамов, Моисеев, Христов, святых отцов, но внешними даже действиями: коленопреклонениями, постом, соблюдением дней и т. п… И потому для меня в этом предании нет ничего бессмысленного… Одна проверка, которой я подвергаю и всегда буду подвергать эти предания, это то, согласны ли даваемые ответы с смутным одиночным ответом, начертанным у меня в глубине сознания (о котором я говорил прежде). И потому, когда мне это предание говорит, что я должен хоть раз в год пить вино, которое называется кровью Бога, я, понимая по-своему или вовсе не понимая этого акта, исполняю его. В нем нет ничего такого, что бы противоречило смутному сознанию… Я так убежден в том, что я говорю, и убеждение это так для меня отрадно, что я не для себя желаю Вашего суждения, но для Вас"(62.380-1). Да, через три месяца – как Толстой рассказывает в "Исповеди" – ему стало "невыразимо больно" на причастии(23.52). Но он продолжал считать себя верным Православной Церкви. Еще через полтора года, в Киеве, его резануло то, что "киевский метрополит с монахами набивает соломой мешки, называя их мощами угодников"(23.478). Но и не это отвратило его от Церкви. "Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить, и тут разрешение этих вопросов Церковью – противное самым основам той веры, которою я жил, – окончательно заставило меня отречься от возможности общения с Православием"(23.53). Первый ряд вопросов Толстого к Церкви – о правомерности (с точки зрения христианской веры) ее союза с государством: отношение Церкви к войнам, отношение Церкви к государственному насилию и к смертной казни. Дело не только в моральной стороне вопроса, а в кощунственной, на взгляд Толстого, подчиненности Церкви государственной власти. "1/ Вера, пока она вера, не может быть подчинена власти по существу своему, – птица живая та, что летает. 2/ Вера отрицает власть и правительство – войны, казни, грабеж, воровство, а это все сущность правительства. – И потому правительству нельзя не желать насиловать веру. Если не насиловать – птица улетит."(48.195). Кощунственный союз Церкви игосударственной власти означает погибель Веры. Второй ряд вопросов внутренне связан с первым – "это явление насилия в деле веры"(23.476). Знакомый вопрос: "В самом деле, как, зачем, кому может быть нужно, чтобы другой не только верил, но и исповедовал бы свою веру так же, как я? Человек живет, стало быть, знает смысл жизни. Он установил свое отношение к Богу, он знает истину истин, и я знаю истину истин. Выражение их может быть различно (сущность должна быть одна и та же – все мы люди). Как, зачем, что может меня заставить требовать от кого бы то ни было, чтобы он выражал свою истину непременно так, как я?" (там же). Ответ, который находит Толстой на заданные вопросы, в том, что с Никейских соборов "понятие Церкви… стало для некоторых власть. Оно соединилась с властью, и стало действовать, как власть. И все то, что соединилось с властью и подпало ей, перестало быть верой, а стало обманом"(23.481). Церковь соединилась с государственной властью, и сама стала властью. Церковь и вступила в союз с государственной властью потому, что сама возжелала быть властью – духовной властью. Вера и духовная Власть (точнее, душевная похоть несвободы, подвластности духа в человеке) для Толстого вещи разные, несовместимые, взаимоисключающие. Выход Толстого из Церкви и борьба против нее была вызвана тем, что до определенного момента (до осени 1879 года) Церковь была для него олицетворением Веры, но затем стала олицетворением духовной Власти. Более того, понятие Церкви в его сознании с этого момента навсегда отождествилось с понятием духовной власти. Толстой ополчился не на Церковь-Веру, а на Церковь-Власть. Борьба Льва Толстого с Церковью – это борьба за Веру против духовной Власти. Первоначальная задача Толстого: охранить начало Веры, защитив ее и очистив ее от начала духовной власти. В этой борьбе и для этой задачи Толстой использовал все орудия своего таланта и разума. Есть и еще одна причина отхода Толстого от Церкви в том году. Во "В чем моя вера?" Толстой рассказывает, как он "не только старался избегать осуждения церковной веры, я старался видеть ее с самой хорошей стороны и потому не отыскивал ее слабостей и, хорошо зная ее академическую литературу, я был совершенно незнаком с ее учительской литературой". И вот ему попался издаваемый для народа "Толковый молитвенник". "Я не мог верить, чтобы чисто языческое, не имеющее ничего христианского, содержание молитвенника было сознательно распространяемое в народе Церковью учение. Чтобы проверить это, я купил все изданные Синодом или "с благословения" его книги, содержащие краткие изложения церковной веры для детей и народа, и перечитал их". То, что он прочел, поразило Толстого. В то время, когда он учился Закону Божьему, то есть в 40-х годах XIX века, грамотных людей в народе почти не было, и катехизисы составлялись для образованных. Теперь, в конце 70-х, катехизисы составлялись "для детей и народа" и в них было немало нововведений. Например, в части "о любви" излагались не заповеди Христа, а Декалог. "И заповеди Моисея излагаются как будто только для того, чтобы не исполнять их и поступать противно им". Так, "после пятой заповеди – почитать отца и мать – катехизис научает почитать Государя, отечество, пастырей духовных, начальствующих в разных отношениях"; и о почитании начальствующих – три страницы с перечислением всех сортов начальствующих. "Начальствующие в училищах, начальники гражданские, судьи, начальники военные, господа в отношении к тем, которые им служат и которыми они владеют". "И это печатается, – заключает Толстой, – и насильно в сотнях тысяч экземплярах и под страхом угроз и наказаний внушается всем русским людям под видом христианского учения"(23.434-6). Могла ли такая Церковь исполнять роль высшего пласта народной души? Ответ на этот вопрос и определил окончательное отношение Толстого к Церкви. На практике оказалось, что вершина общедуховной жизни – не вершина Веры, а вершина духовной Власти. Активно жить общедуховной жизнью означало жить в системе духовной Власти и продвигаться к ее вершине, что для Толстого значило восходить к той же вершине Наполеона, только выставленной иначе и не столь откровенно. Вся толстовская критика Церкви есть опровержение мотива духовной власти в душах людей, разоблачение мотива этой власти и ее мнимости. Бурная противоцерковная деятельность Толстого изначально была вызвана его стремлением дать русскому народу такую очищенную евангельскую Веру (очищенную от обманов веры, вызванных претензиями на абсолютную духовную власть), которая бы соответствовала вектору его, народа, развития. Но в отличие от Церкви-Веры, Церковь-Власть не могла быть представлена носительницей высшего пласта Общей души народа. Толстой разуверился не в евангельском жизнеучении, а в том, что Церковь способна и далее устанавливать направление духовного развития народа, не губя и не извращая. Как только в душе своей Толстой лишил Церковь статуса высшего слоя народной души, так эпопея "Сто лет" потеряла опору. Тем самым Толстой отказался не только от задуманного творения, но отлучил себя от художественной работы. Что-то в это время произошло в душе Толстого и произошло такое, что заставило его переключиться на деятельность, которой он никогда до этого не занимался, никогда до этого и не мыслил заниматься – перетолкованием всего корпуса Евангелия. В результате это привело к переориентации всей его духовной жизни. *)Для разрешения "вопросов жизни" Л.Н. специально ездил в Москву, где беседовал с московским метрополитом и викарном архиереем, и в Троице-Сергиеву лавру, где он долго разговаривал с наместником лавры.
7 Чаще всего человек выбирает себе одно из поприщ духовной жизни и в дальнейшем растет и трудится на нем. После духовного перелома, за последние 35 лет жизни, Лев Толстой прошел последовательно четыре поприща духовной жизни. Поприща эти не вполне совпадают со ступенями или этапами Пути духовного восхождения Толстого. Это именно – поприща его работы, то есть поля духовной жизни и соответствующие им виды духовного делания. Лев Толстой – человек русский. Это отчетливо обозначено и в его образе мысли, и в его моральных переживаниях, и в его характере. Это очевидное обстоятельство сейчас особенно подчеркивается в литературе. Надо полагать, что о "русскости" Толстого будут говорить все больше и громче. В этом, конечно, есть резон. Мы видели, что духовный перелом Толстого второй половины 70-х годов неразрывно связан с его обращением к народной душе и служением ее духовным истокам. Это – первое – поприще духовного развития Толстого того времени мы с полным правом можем назвать общедуховным. Субъект духовной жизни на первом поприще – народ. Первое поприще народной духовной жизни длилось примерно до 1880 года, когда Толстой в процессе работы над "Соединением и переводом четырех Евангелий" стал трудиться на другом поприще духовной жизни. Толстой не отступился от народной духовной жизни и не изменил ей, а перешел на рельсы всечеловеческой духовной жизни, которая, очевидно, включает в себя и духовную жизнь всех составляющих человечество народов. Субъект духовной жизни на этом новом поприще – мистический «Сын человеческий» (в трактовке «Соединения и перевода четырех Евангелий»). Это второе поприще его духовного развития после перелома можно так же назвать этапом "Царства Божьего на Земле". Он длился всего несколько лет. Со второй половины 80-х годов Толстой постепенно меняет установку духовной жизни. Теперь он поглощен личной (частной, приватной) духовной жизнью отдельной человеческой души. Это поприще его духовного развития можно назвать этапом "Царства Божьего в себе". Субъект приватной духовной жизни – «Бог свой», высшая душа каждого человека. С конца 90-х годов Толстым все более и более завладевает стремление к вселенской духовной жизни. Этот последнее четвертое поприще его духовной жизни можно назвать этапом "Царства Божьего в Самом Себе". Субъект духовной жизни на четвертом поприще – «Бог Сам», «Я» Господа и Его Жизненность. В этой книге мы постараемся проследить все эти поприща духовной жизни Льва Толстого. Скажем сразу, что, переходя из одного пространства духовной жизни в другое, Толстой нигде и никогда не ломался. Он духовно рос, а не выламывал себя. С 40 лет в его душе было место и для общедуховной, и для всечеловеческой, и для личной духовной, и для вселенской духовной жизни. Достаточно вспомнить, что Платон Каратаев одновременно и символ вселенской духовной жизни и символ русской народной духовной жизни. С другой стороны, вселенская духовная жизнь Толстого в 900-ые годы это высший род личной духовной жизни и продолжение ее в духовной биографии Льва Николаевича. Так что все четыре арены духовной жизни Толстого как бы сочленены в непрерывности его жизни и мысли. И все же соотносить воззрения Толстого одного и другого поприща его духовной жизни надо осторожно. Во избежание недоразумений (которых так поразительно много в восприятии взглядов Льва Николаевича), желательно показывать, к какому пространству духовной жизни приписаны те или иные толстовские мысли и какой смысл эти мысли или представления имели или не имели на другой плоскости духовной жизни Толстого.
Часть 1. Евангелие от Толстого
"Основа всего – это понять, откуда взялась жизнь – дух человеков"
(«Соединение и перевод четырех Евангелий» – 24.455).
1 (8) Обретение Веры недостаточно для духовного перелома. За рождением Веры, что легко случается с людьми, должен следовать порыв собственно духовного рождения, что значительно труднее и что редко бывает. Духовное рождение пятидесятилетнего Толстого – это, во-первых, рождение в нем неподдельного чувства-сознания Веры как таковой, во-вторых, некое трансперсональное переживание и, в-третьих, создание основ нового, собственно толстовского жизнепонимания. В памяти человечества Лев Николаевич Толстой остался как "человек могучий". Мощь, всяческая мощь – и мощь гения, и мощь духа, и даже плотская мощь – стержневая характеристика этого редкостного человека. К 1878 году этот могучий человек достиг вершины земных сил и несколько лет находился в полном рабочем напряжении на этой вершине. Само переживание пика земной жизни звало Толстого к величайшим свершениям. Свершения эти Толстой все годы эти вынашивал в себе. Пик своей жизни он не праздновал, а мучился, и мучился родами. Первый год потрачен на грандиозное полотно "Декабристов". Следующий год – на гигантский и, видимо, непосильный для смертного человека замысел "Ста лет". И, наконец, еще три года – на тетралогию религиозных трудов. Это "Исповедь" – предыстория духовного перелома в его личной жизни. Это "Исследование догматического Богословия" – огромный по масштабам опыт церковной критики. Это "Соединение и перевод четырех Евангелий", где на материале и на переосмыслении евангельских текстов всего за год создано и развито мистическое учение в сочетании с всеобъемлющим учением о принципах жизнепрохождения человека и его спасения (несмертия). И это "В чем моя вера?", где новорожденная религиозная позиция незамедлительно переводится в проповедь и предъявляется миру для исполнения. "Соединение и перевод четырех Евангелий" создавалось "для себя", не приводилось в пригодный для опубликования вид. Однако именно на это произведение Лев Толстой потратил всю ту мощь своей души и своего гения, которая проявилась в нем на вершине земной жизни. По грандиозности замысла толстовское Евангелие не уступает замыслу несостоявшейся эпопеи "Сто лет". Это, пожалуй, самое масштабное и могучее дело, которое Лев Толстой свершил за свою жизнь, плотно заполненную разного рода громадными деяниями. В "Соединении и переводе четырех Евангелий" есть в зародыше многое из того, что Толстой разовьет в продолжение оставшихся ему 30 лет жизни. В одних случаях это вскользь брошенное упоминание, в других намек на мысль, в-третьих, нечто автором еще не понятое, оставленное на потом. Да и само мистическое (и уже тогда спиритуалистическое) учение о Боге и Сыне человеческом, несмотря на чудеса образного воображения, художества мысли и интеллектуально-лингвистической изворотливости в трактовке того или иного места Евангелия, еще сыро, незрело и фрагментарно. Лев Толстой не видел себя философом и никогда не стремился создать закругленную систему мысли и представлений о Боге и человеческой жизни. Такого рода устремления Толстой вообще не жаловал и в отношении Божественной реальности даже считал кощунственными. И потому сознательно не давал себе воли, ограничивал себя и свое творчество в этом отношении. В недлинном ряду гениев человечества величие Толстого – особого рода. И вот почему. В искусстве и науке человек всегда служит своему гению. Здесь это естественно. Эстетическое чувство любит игру гения в человеке и требует от художника демонстрации свободного полета его гения. Такие места достаточно редки у Толстого. В поздних редакциях Толстой обычно очищал текст от них.*) Одна из тайн художественности Толстого – в его сдержанности в отношении к своему гению. Возможно, что эта сдержанность создает мощь, глубину и неисчерпаемость текстов Льва Толстого. *) Так, блистательное описание бала, на котором по первоначальному варианту выводились герои «Войны и мира», заменено Толстым сценой в салоне Анны Павловны Шерер. Служит гениальный человек своему гению и в философии и в Богословии, хотя здесь и не так очевидно. Великий Богослов невообразим без подлинности и глубины религиозных чувств, но они часто наполняют содержанием и обрамляют его гений, предоставляя ему максимально продуктивное поле деятельности. Великий философ создает систему мысли и взглядов для значительной части человечества, но для него самого эта система по большей части работает на наиполнейшее выявление и выражение его гения. Гений, вселяясь в человеческую душу, становится в ней полным хозяином. Исключения чрезвычайно редки. Толстой держал свой гений на коротком поводке. Гений в Толстом словно попал в плен. Он относился к своему гению, как к работнику, даже как к своему слуге. Правда, иногда он отпускал поводки, давал гению волю, на время отпускал его на свободу и сам поддавался ему, иногда блаженствовал вместе с ним, но никогда не становился обслугой гения, не делал его господином над собой. Так было во все периоды его жизни, не только после духовного перелома, в последние 30 лет жизни. Гений Льва Толстого всегда служил не "Льву Толстому", а тому, кого Лев Николаевич называл Богом в себе, "Богом своим", своим духовным Я – служил даже тогда, когда Лев Николаевич отчетливо не осознавал в себе это независимое от гения и параллельное ему существующее духовное начало. Толстой никогда не придавал своему гению статус высшего духовного начала. Гений человека для Толстого не "из того же источника" (вспомним предсмертные слова Тургенева к нему), из которого духовное начало в человеке. Положения мировоззрения Толстого, установленные им в основании своих работ, нечто совсем иное, чем исходные умозрения мыслителя, признанные им перспективными для самостоятельной философской разработки. У Толстого они плоды не умозрения, а прозрения и того духовного состояния, в котором он жил в тот или иной духовно рабочий момент своей жизни. И предназначены его прозрения не для теоретизирования или прикладных дел, а для руководства в делах жизни и смерти. «Какая огромная разница, – отмечает Толстой, – между таким философствованием, при котором играешь словами, и таким изложением мысли, при котором готовишься жить и умереть на основании тех слов, которые высказываешь»(67.266-7). Вот как Толстой писал о трудах известного поэта-символиста и философа Н. Минского: «Ошибка его, как и всей многоречивой и праздной философии, в том, что он рассуждает о том, что есть мир и начало его и т. п., тогда как этого так же мало нужно знать, как и то, сколько пуговиц на жилете вашего дворника; нужно знать одно, как мне жить? Не то нужно узнать есть ли у меня свобода воли или нет, а то, как употреблять ту силу, которую я сознаю как свободу воли. Он и другие скажут, что для этого нужно прежде узнать с помощью Аристотеля, Канта, Минского, что такое этот мир и что такое я? Но это неправда, это хитрый и коварный софизм ленивого раба*)»(86.284). *) евангельской притчи Столь жесткие фразы не могли не вызывать соответствующие ответные реакции. Неприязнь значительной части культурной публики к Толстому вызывается отчетливо чувствуемым в нем неприятием любого вида разговорного интереса*) к мысли, к жизни, ее мукам и вопросам. Это его неприятие чрезвычайно напористо и особенно задевает ту часть культурной толпы, которая живет такого рода интересами и сама знает в себе тайный порок отсутствия живой заинтересованности в чем-то самом важном в себе и в человеке вообще. Такие люди неосознанно существуют под страхом разоблачения (или саморазоблачения) и потому любые ростки живого интереса – своего или чужого – немедленно переводят в интерес разговорный, спешно оскопляют живое или под видом оживления мертвят его. Душевные движения Льва Толстого столь оживленны и искренни, что он, желая того или не желая, каждым словом своим отвергает все то, на чем держится их внутренний мир, лишает их опоры самоуважения и самодостоинства. *) Одна из работ Н.Минского так и называлась: "Религия будущего: (Философские разговоры)" СП б, 1905. В основе всего у Толстого не умственный (интеллектуальный) экстаз, как у философов, и не творческий экстаз, как у художников. В творческом отношении наиболее продуктивное из высших состояний Льва Толстого это состояние нравственного вдохновения, идеал которого постоянно светил в его душе и ждал своего часа. Все последние тридцать лет жизни Толстой жил на вершине нравственного вдохновения*) и стремился осуществить в своей жизни и в жизни других то, на что указывает идеал свободного нравственного чувства. Людей всего мира покоряет в Толстом не столько восхищающая сила его таланта, сколько духовная сила подлинности, полноты, чистоты, цельности и искренности его нравственного экстаза. Толстой нравственно возвышает человека, переносящегося в него душою. Соприкасаясь с Толстым, высшая душа человека подзаряжается, испытывает те духовные наслаждения и духовные страдания, которые ей свойственно переживать. *) Это как раз то, что лично незнакомые с таким вдохновением люди приняли за «панморализм» Толстого. Нравственное вдохновение есть и источник мистических откровений Льва Николаевича. Как правило, читатель мало вникает в мистические представления Толстого, а загорается от огня души Льва Николаевича и получает от него духовный заряд искренности, нравственной чистоты и, особенно, чистоты любви. Любовь для Толстого высока, значима и ценна сама по себе, независимо от того, как ее необходимость или важность объясняется религиозным или еще каким-либо учением. Душою пришедшему к Толстому читателю совершенно ясно, что Лев Николаевич сначала поверил в любовь и полюбил евангельскую любовь, а потом осмысливал и обосновывал ее мистически и метафизически. "Жизнь настоящая состоит только в любви. Она исходит из любви и продолжается только любовью"(24.732). Вот та вера в любовь, вера в необходимость любви и первоважность дел ее, на которой Лев Толстой основывает – пусть и еще вчерне – свое религиозное учение.
2 (9) До самого последнего времени текст "Соединения и перевода четырех Евангелий" был практически неизвестен. В 80-ые и 90-ые годы Х1Х века по рукам широко ходил другой текст – "Краткое изложение Евангелия", который называли "Евангелием от Толстого". Этот текст был составлен В. И. Алексеевым по рукописи автора и в дальнейшем несколько раз редактирован самим Толстым. Слово «Евангелие» в переводе Толстого означает «Возвещение о благе», для благой воли – возвещение для Веры. Введение "Евангелия от Толстого" названо "Разумение жизни" – так Толстой толковал на русском языке Логос. Введение открывается словами: "Евангелие есть возвещение о том, что начало всего не есть внешний Бог, как думают люди, но разумение жизни. И потому на место того, что люди называют Богом, по Евангелию становится разумение жизни". Это положение подтверждается вольным переводом стиха 1 главы 1 Евангелия от Иоанна: "В основу и начало всего стало разумение жизни. Разумение жизни стало вместо Бога. Разумение жизни есть Бог"(24.816-17). Речь идет, конечно, не о "разумении" человека, а о "Разумении жизни". При чем под словом "жизнь" понимается не плотская или животная жизнь (которая по Толстому не жизнь вовсе, а "умирание", "смерть", "подобие жизни", "жизнь в гробах своих" или, в лучшем случае, "временная жизнь"), а жизнь несмертная, истинная, Божественная, жизнь духа. Так что Разумение это нечто, лежащее в основании высшей и несмертной Жизни как таковой. Более того: "Только в Разумении сила, основа, власть жизни"(24.36., еще с.177-8). Понятие Логоса во введении Евангелия от Иоанна, доказывает Толстой, вернее всего переводится как "смысл жизни"(24.26). Толстовское Разумение жизни – это тот смысл или, лучше, тот Замысел, который для своего исполнения заключен в несмертной жизни, включенной в человека. Если «Разумение жизни» – это смысл и Замысел жизни, то Вера – сверхзнание этого смысла и Замысла, то есть некое откровение: свое собственное или взятое из откровений, ранее добытых человечеством. Разумение жизни по Толстому есть Свет, в который надо верить и которого надо быть сынами (24.33). Вот этот Свет, это Разумение жизни по переводу Толстого "стало за Бога" – "слилось с Богом, выразило Бога". В каком смысле? В самом прямом: "Иисус объявил, что Бога Творца, Законодателя и Судьи никакого никто не знает и не знал, а есть только в человеке дух, исшедший из бесконечного начала – сын духа, Свет разумения, и в нем жизнь"(24.174). Обратите внимание на то, что Разумение жизни не "было", а стало за Бога. Когда же стало? Тогда, когда произошло "воплощение Разумения", "когда разумение вселилось среди нас"(24.39). Случилось это не в начале времен, а с приходом в жизнь Иисуса, конкретно – после искушения в пустыне, где "дух обновил его и он познал то, что Бог уже пришел к нему и всегда в нем"(24.96). "По прежнему учению Бог был отдельное существо от человека. Небо – обиталище Бога, и сам Бог был закрытым для человека. По учению Иисуса небо открыто для человека. Общение Бога с человеком установлено… Человек из себя познает Бога"(24.90). Слова Исайи исполнились: "… отныне Бог уже не будет тем Богом неприступным, каким он был прежде, отныне Бог будет в мире и в общении с людьми"(24.99). Сразу же отметим, что когда Толстой говорит о "Боге в мире" или о "Боге и мире", то он всегда имеет в виду мир людей. Толстой призывает читателя не относиться к словам Евангелия "как к волшебной сказке, отыскивая в нем чудеса и пророчества"(24.59). Был или не был Иисус тем Христом (Мессией, Машиахом), которого ожидали евреи, – вопрос для Толстого совсем ненужный: "Был ли Иисус сын Божий по понятием иудеев, для нас, не иудеев, совершенно безразлично"(24.86). Слова Иоанна: "Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил" (Ин.1,18). Толстой переводит: "Бога никто не постигал и не постигнет никогда, однородный сын, будучи в сердце отца, он указал путь"(24.43). Так как "всё, что рождено, рождено разумением", то "сын" у Толстого – "жизнь, живой человек". Отсюда "сыны Бога те, которые признали, что они рождены разумением". "Однородный сын значит такой же, как отец. Будучи в сердце отца – значит, что жизнь, живой человек, будучи в сердце, то есть, не выходя из разумения, сливаясь с ним, указывает только путь к нему, но не являет его".(24.44). Сын Божий – тот, кто "зачат Богом с неба"(24.159). Бог – это "начало духа в человеке"(24.167). Сын человеческий – зачатый Богом в человеке сын Света разумения. И по Толстому "Бог послал – дал сына в мир, родил сына миру (миру людей – И. М.). Никто не входил на небо, а только сошедший сын человеческий. Всякий человек рожден от Бога. Стало быть, тот дух, который есть в человеке и который рожден от Бога, и сын человеческий, сошедший с неба, и сын Бога, данный миру (людей – И. М.), и свет, пришедший в мир (людей – И. М.) – все это одно и то же… И потому надо помнить, что все эти названия: 1/ Бог, 2/ дух, 3/ сын Божий, 4/ сын человеческий, 5/ свет и 6/ разумение – имеют одно и то же значение и употребляются соответственно отношения, в котором находятся с предметами речи. Когда говорится о том, что есть начало всего – оно называется Бог; когда говорится, что оно противоположно плоти, – оно называется дух; когда о нем говорится по отношению к его источнику, – оно называется сын Божий; когда говорится о проявлении его (в человеке – И. М.), – оно называется сын человеческий;*) когда говорится о соответствии его разуму (то есть Замыслу и смыслу высшей жизни – И. М.), оно называется свет и разумение"(24.168). *) Иногда понятие сына человеческого употребляется Толстым в отношении людей, которые "исповедуют в себе сознание Бога" (напр. 24.416). О чем, в сущности, речь? "И спросили у Иисуса фарисеи: – переводит Толстой стих 20 и 21 гл. XVII Евангелия от Луки – Когда и как придет царство Бога? И он отвечал им: Царствие Божие не приходит так, чтобы его можно было видеть. И нельзя сказать про него: вот оно здесь, или вот оно там, потому что вот оно Царствие Божие, оно внутри вас"(24.157). Внутри вас – значит там, где обитает сын духа, сын Божий, сын человеческий, сын Света разумения, где в человеке помещено его неплотское и неживотное начало, то есть там, где место высшей души человека. Выбирая общее направление мысли на многие годы вперед, всякий мыслитель видит перед собой как бы перепутанный клубок, из которого торчит множество концов. Чрезвычайно важно, за какую ниточку потянул мыслитель в самом начале своей работы. Большая часть концов клубка ведет в никуда. Другие ведут, но окольными путями. Верное направление, скорее всего, одно. Его нельзя угадать невзначай. Начиная изложение своего жизнепонимания, Толстой, опираясь на текст Нового Завета, потянул за ниточку понятия Логос, с которого открывается Евангелие от Иоанна. В дальней перспективе, в перспективе всех 30 лет его неустанного дальнейшего религиозного восхождения, с точки зрения тех истин, которые Толстой постиг к концу жизни, выбор этот, как мы еще увидим, на удивление верен. Впечатление такое, что вступив на предназначенное ему поприще, Лев Толстой далеко вперед смотрел в свою жизнь. Но с точки зрения проповеднической деятельности ближайших пяти лет его жизни такой выбор исходного направления развития мысли не представляется особенно продуктивным. Для развертывания толстовского учения в первой половине 80-х годов оптимально было бы выстраивать учение от понятия сына человеческого, сына Бога в человеке или, что то же самое, с откровения о высшей и низшей душе человека. Возможно, что недопониманий, связанных с восприятием учения Толстого, было бы тогда меньше. Надо отметить еще и то, что через 15 лет, в 1994 году, подмена Бога «Разумением жизни» представлялась Толстому недоразумением, вызванным первичным увлечением: "Я прежде видел явления жизни, не думая о том, откуда эти явления и почему я вижу их. Потом я понял, что все, что я вижу, происходит от света, который есть – разумение. И я так обрадовался, что свел все к одному, что совершенно удовлетворился признанием одного разумения началом всего. Но потом я увидел, что разумение есть свет, доходящий до меня через какое-то матовое стекло. Свет я вижу, но то, что дает этот свет, освещающий меня, который я не знаю, но существование которого знаю, есть Бог"(52.156). *)Смотри специальное толстовское разъяснение на этот счет при анализе Ин. III, 17(24.167).
3 (10) Для внешнего наблюдения духовное рождение (как, впрочем, и рождение любого рода) совершенно загадочно. Человек жил-жил по сути в одном состоянии жизни, не видя откуда и зачем он и мир, и вдруг без особых вроде бы причин прозревает и вступает в совершенно другое состояние жизни, в котором он бросает или отвергает то, что прежде составляло ценность его жизни и, как случилось с Толстым, отказывается от грандиозного и в высшей степени значимого художественного замысла "Сто лет" (который ведь только ему и под силу!) и ради которого он, профессиональный писатель, совсем недавно прервал любимую и в значительной части уже сделанную работу над романом "Декабристы". Что произошло с Толстым в 1879 году? Какой взрыв потряс его душу? В какой-то особый момент Толстому открылось, что "всё, что я вижу", исходит из одного Источника, от одного Света. Это – момент озарения истиной мира, прозрение обо Всем существующем и себя во Всем, прозрение Света, который был принят за Начало Всего, за Самого Бога. Несомненно, это прозрение Света совпало с тем, что Толстой считал своим духовным рождением, и что в 1879 году произвело в нем переворот. Сам этот момент прозрения и духовного рождения нигде не зафиксирован Толстым. Судя по некоторым словам «Исповеди», Лев Николаевич намеривался описать его в дальнейшем, но не сделал этого. Не исключено, что Толстой тогда не совсем понимал сущность того, что происходило с ним. И окончательно понял только через четверть века, на 76 году жизни. В ноябре 1903 года в дневнике Толстого появилась мысль, которую мы в своем месте намереваемся привести полностью и прокомментировать. В соответствиии с этой мыслью человек живет двумя жизнями: одной – телесной и животной, и другой – "вечной, истинной, неумирающей духовной жизнью". О чем Толстой и прежде говорил множество раз. Новое же в этой записи то, что "проживая свою телесную жизнь, человек раньше или позже соприкасается с вечной жизнью, и переносит в нее свое я… Как скоро человек достиг до настоящей жизни, он бросает уже ненужную ему жизнь телесную". И далее – наиболее важное для нас здесь: "Слияние телесной жизни с вечной, достижение посредством телесной жизни, жизни вечной, иногда совершается*) незаметно, иногда порывами, иногда рано, иногда поздно… Думаю, что слияние это совершается для каждого человека. (Вот и все. Как умел сказал, но знаю, что это так)»(54.197-8). *) сначала Толстой написал "достигается" (какими-то усилиями), но потом переправил: не достигается, а "совершается" – самопроизвольно, как роды. После слов "иногда рано, иногда поздно" Толстой через какое-то время и другими чернилами сделал вставку: "У меня было порывом. Блаженное время". Таким образом в своем духовном рождении Лев Толстой впервые реально пережил трансперсональный опыт соприкосновения земной жизни с жизнью вечной. Это произошло в нем "порывом", прозрением. Порыв слияния с жизнью вечной был достаточно мощным, чтобы совершился кардинальный переворот в его душе и изменилась вся его жизнь. В момент духовного рождения Толстой познал какой-то Свет. Толстой решил, что он узрел Свет вечной жизни и понял, что в Свете этом заключен Замысел жизни как таковой, ее разгадка и ее Закон. Он мучительно искал название для этого Света. Испытал "весь труд и напряжение и отчаяние и восторги"(49.75) этого искания. И нашел: "Разумение жизни", которое в толстовском переводе Евангелей призвано представлять Свет жизни вечной. Впоследствии он редко пользовался понятием "разумение" и считал его "орудием освобождения" сущности человеческой души (см., например, 56.19) и свойством Бога. Вместо понятия "разумения" Толстой уже в 80-х годах предпочитал использовать понятие "разумное сознание", употребляя его не в смысле разумности, разумонаполненности сознания, а в смысле, выявленности сознания жизни на глубине ее свыше заданной смыслонаполненности. Порыв соприкосновения земной жизни с жизнью вечной произвел и переворот в представлениях Толстого о человеке. Мы уже говорили выше, что незавершенная повесть Толстого -"Труждающиеся и обремененные" – построена на общем представлении о двух путях, которыми разные люди идут по жизни и которые в первом приближении можно назвать "путем страстей и похотей" и "путем смысла и совести". Но это еще не представление о двух "жизнях", о двух общих началах – "начале страсти и похоти" земной жизни (животной личности) и "начале смысла и совести" вечной жизни (Боге в себе, "Боге своем"), – всегда борющихся в одном и том же человеке. От одного представления до другого, формально говоря, всего шаг. Но шаг этот – шаг извне в глубь человека, шаг, совершенный Толстым в акте духовного рождения, – огромен. В результате духовного рождения внутренний мир человека для Толстого разделился надвое, на две души – высшую душу, носительницу истинной вечной жизни, и низшую душу, носительницу смертной земной жизни.*) Это решает проблему Структуры человека и, значит, закладывает основы учения о человеке и в конечном счете определяет общий взгляд на стратегию прохождения человеческой жизни. *) На двудушевный состав человека в учении Толстого впервые обратил внимание профессор А.А.Козлов, издававший во второй половине 80-х годов философские журналы в Киеве и Санкт-Петербурге. В 1889 году он опубликовал в четырех номерах "Вопросов психологии и философии" свои рассуждения о религиозной философии Толстого и 1895 году издал их отдельной книжкой. Это единственный, насколько мне известно, развернутый анализ философии Толстого, появившейся в Х1Х веке. Профессор А.А.Козлов – первоисточник расхожих мнений о Толстом-философе. Именно А.А.Козлов впервые обосновал ставшие впоследствии общим местом упреки Толстому в непомерном рационализме, панморализме и в его несостоятельности как философа. Следы чтения А.А.Козлова (со ссылками и без ссылок на него) можно обнаружить у широко известных русских мыслителей ХХ века. К профессиональной чести А.А.Козлова он сразу же обнаружил, что "собирательное существо, называемое человеком, состоит, по гр.Толстому, из различных реальных, или предполагаемых таковыми, существ» (А.А. Козлов. "Религия гр.Толстого, его учение о жизни и любви С-Птб, 1895г., с. 190). И, разумеется, будучи персоналистом, не согласился с этим: "Не можем мы признать в человеке двух начал, животного и человеческого, по той простой причине, что таких начал вовсе не существует в действительности… Мы не видим никакой пользы для мысли о составе человека из двух начал и в соображении о внешнем и внутреннем способе познания себя человеком» (там же, с 151). Ниже мы еще не раз вспомним о А.А.Козлове. Соединяя, переводя и толкуя Евангелия, Лев Толстой, по сути дела, опирался на то, что произошло с ним самим в результате соприкосновения в нем земной и вечной жизни, его духовного рождения. Он считал, что с евангельским Иисусом произошло то же самое, что и с ним. И потому он может верно понять Христа и имеет право сам толковать Евангелие. "В Иисусе Христе Разумение слилось с жизнью"(24.43), – сообщал Толстой. Духовное рождение Иисуса из Назарета произошло в пустыне, куда он, "исполнившись духа"(24.61) – духа Разумения – удалился для того, чтобы очистить, испытать и понять себя. Выйдя из пустыни, Иисус, по Толстому, говорит людям, "что в нем дух, что отныне небо отверсто, и силы небесные соединились с человеком, наступила для людей жизнь бесконечная и свободная, что люди все, как бы они ни были несчастны по плоти, могут быть блаженны"(24.818-19).
4 (11) Толстовское изложение Евангелий открывается проповедью Иоанна и, затем, искушениями Христа. Искушение в пустыне "особенно замечательно тем, – замечает Толстой, – что составляет камень преткновения для толкования Церкви, так как самая мысль о Боге, искушаемом Дьяволом, сотворенным Богом, составляет внутреннее противоречие, из которого нельзя выйти"(24.65). Для толкования Толстого тут трудностей нет. Иоанн-предтеча сообщает о необходимости "очищения духом". Иисусу "надо найти этот дух, который должен очистить мир (напомню: мир людей. – И. М.), и этим духом очистить себя". Ему надо "изведать этот дух". Но голос этого духа, его высшая душа оказалась в борьбе с "голосом плоти"(24.74). "Сын Бога духа" столкнулся с "сыном бога плоти"(24.821.) Ничего необычайного. Все три искушения Христа, по мнению Толстого, "суть самые обычные выражения внутренней борьбы, повторяющейся в душе каждого человека"(24.74). Без этой внутренней борьбы "немыслим живой человек"(24.73), то есть человек, живущий духовной жизнью. Анализ этого места Евангелия Толстой, как он часто здесь делает, предваряет опровержениями: "Церковные толкования любят представлять это место как победу Иисуса над Дьяволом. Победы ни по какому толкованию не выходит никакой: Дьявола можно считать столь же победителем, сколько и Иисуса. Победы нет ни с той, ни с другой стороны; есть только выражение двух противоположных друг другу основ жизни. И ясно выражена и та, которую отрицает Иисус, и та, которую он избрал. Оба хода рассуждений поразительны тем, что философские системы, системы морали, религиозные секты, различные направления жизни в той или другой исторический период имеют в основе только различные стороны обоих этих рассуждений. В каждом серьезном разговоре о значении жизни, о религии, в каждом случае внутренней борьбы отдельного человека повторяются все те же рассуждения этого разговора Дьявола с Иисусом или голоса плоти с голосом духа". "В самом простом виде рассуждение таково: Дьявол: Сын Бога, а голоден. Словами хлеба не сделаешь. Толкуй, не толкуй о Боге, а брюхо хлеба просит. Хочешь быть жив, так и работай, запасай хлеба. Иисус: Человек жив не хлебом, а Богом. Человеку дает жизнь не плотское, а другое – дух" (24.79-80). О чем спор? Спор о двух разных жизнях: жизни смертной "плоти" и жизни высшей и вечной души человека. "Плоть" говорит, что человек живет для удовлетворения ее требований, и он, хочет или не хочет, принужден служить ей – это эмпирический факт. "И эту-то самую несомненную истину Иисус берет в основание своего рассуждения и с первого же слова, признавая всю истинность этого рассуждения, переносит вопрос на другую точку зрения. Он спрашивает себя: Что такое во мне эта потребность соблюдать плоть – эта похоть и эта внутренняя борьба с этой похотью? И отвечает: Это сознание жизни во мне. Что же такое это сознание жизни? Плоть не есть жизнь. Что же такое жизнь? Жизнь – это что-то такое неизвестное, но что-то непохожее на плоть, совсем другое, чем плоть. Что же это такое? Это что-то из другого источника. И потому, признавая первое положение о том, что есть плоть, и есть потребность соблюдать ее, он говорит себе, что, однако, всё, что он знает о плоти и ее потребностях, он знает только потому, что в нем есть жизнь, и говорит себе, что жизнь не от плоти, а от чего-то другого, и это-то другое, противоположное плоти, называет "Бог" – и говорит: Человек жив не потому, что ест хлеб, а потому, что в нем есть жизнь. А жизнь эта происходит от чего-то другого – от Бога"(24.82). В отрывке этом третье лицо, "он" (Иисус) вполне может быть заменено первым, "я" (Толстой). Не только жизнь духовная, жизнь высшей души человека, но и плотская жизнь – всякая жизнь – от Бога. Но все же истинная жизнь – это жизнь высшей души, жизнь сына человеческого. "И если я не могу сделать из камней хлеба, то это значит, что я не сын бога плоти, а сын Бога духа. Я жив не хлебом, а духом. И дух мой может пренебречь плотью"(24.821). Таков первый вывод из духовного рождения и Иисуса, и Толстого. И высшая душа живет, и "плоть" живет, и та и другая жизнь – от Бога. Но это разные типы жизненности. Высшая душа живет своей несмертной и истинной (подлинной) жизнью. "Плоть" живет смертной (то есть неистинной) жизнью. Сын человеческий и "плоть" живут в совместности, но различно. Различие это прежде всего проявляется в том, что высшая душа понимает "плоть" и ее потребности, тогда как последняя не способна понять высшую душу и потребности ее. "Непонимание Дьяволом Христа начинается со второго вопроса и ответа", – пишет Толстой. "Дьявол: А если не плотское дает тебе жизнь, то человек свободен от плоти и ее требований. А если свободен, так бросься с крыши, ангелы подхватят тебя. Убивай свою плоть или сразу же убей ее. Иисус: Жизнь в теле от Бога, и потому нельзя роптать на нее и сомневаться в ней"(24.80). Высшая душа понимает, что жизнь "плоти" – от Бога. По воле Бога человек рожден духом в плоти. Такова общая ситуация жизни человека. И она зачем-то нужна Богу. Она законна. И тут, следовательно, не должно испытывать Его. Таков второй вывод из духовного рождения и Иисуса, и Толстого. Дьявол не понимает, о чем толкует Иисус. По третьему искушению бог плоти (то есть бог земной жизни) предлагает почтить его, за что обещает человеку все блага Земли. Такого рода предложения бога земной жизни постоянно звучат в человеке. "Иисус говорит: Правда, я всегда буду во власти плоти, она всегда будет заявлять свои требования, но кроме голоса плоти я знаю еще голос Бога, независимый от нее. И потому как в этих искушениях в пустыне, так и во всей жизни голос плоти и голос Бога будут входить в противоречие, и мне надо будет насильно, как работнику, ожидающему плату, работать тому или другому. Голоса будут звать меня и требовать работы одному или другому, усилия я буду делать в таких противоречиях – Богу и от Него только ждать платы, то есть в случае борьбы избирать всегда усилие для Бога"(24.82-83). "Плоть" предлагает блага всех земных Царств, на что высшая душа отвечает: "Среди тех благ, которые не я себе дал, я должен почитать одного своего Бога и работать должен ему одному"(24.84-85). Таков третий вывод из духовного рождения и Иисуса, и Толстого. Искушающий Иисуса "голос духа плоти" обладает, по Толстому, и интеллектом, и воображением, и волей. Правда, волей несвободной. Только сын человеческий (сын Бога в человеке) есть "то, что человек сознает в себе свободным"(23.380) и обладает свободной волей. Голос сына духа, сына человеческого Толстой, как мы выше говорили, вполне мог уже тогда назвать "Богом своим", высшей (глубинной) душою в человеке. Ровно так же он уже тогда мог назвать "голос духа плоти" так, как это принято в его позднейшем учении – "личностью", "животной личностью", низшей (наружной) душою человека. Во времена работы над "Соединением и переводом четырех Евангелий" Толстой еще не выработал эти понятия, но представление о двух разных душах человека уже содержится здесь. Диалог высшей души и низшей души во всевозможных видах то и дело встречается в учительских работах Толстого разных лет. Искушения Христа в "Соединении и переводе четырех Евангелий" – самый первый из этих диалогов. И в нем утверждается, что нельзя жить одной низшей душою, животной личностью, плотью, как живут люди. Нельзя жить и одной высшей душою, духом, Богом своим, потому что высшая душа человека обитает в теле, высеяна на животной личности. От животной личности не должно освобождаться, убивая себя, так как высшая душа живет в теле по воле Бога.Так человек поставлен на Земле Самим Богом. Каков же выход из этого положения? – Жить в теле и животной личности, как того хочет Бог, но служить не потребностям низшей души, а требованиям высшей души (см. также 37.100). Таков вывод из ситуации человеческой жизни, ее решение. Но отдадим себе отчет, что этот вывод и это решение правомерно только тогда, когда в Структуре внутреннего мира человека признается существование хотя бы двух сочлененных вместе, но и автономных, саможивущих душ. Если же признавать существование только одной души, в которой идет борьба духа с плотью, то такую ситуацию человеческой жизни надо решать либо в пользу психофизиологической жизни (сколь угодно расширяя ее границы), либо в пользу духа, – в аскетизме, скажем, или приемами особых телесных или психических тренировок. Все дело в том, как в том или ином учении структурно решен человек. От этого зависит и решение общего вопроса смысла (назначения) человеческой жизни, и ответ на основной практический вопрос: как нужно человеку жить и как ему прожить всю свою жизнь. *)Все эти мысли отчетливо напоминают приведенные выше положения, положенные в основание замысла "Сто лет".
5 (12) Как раз в те дни, когда Толстой прервал работу над "Декабристами", он в письме к А. А. Толстой задает знаменательный вопрос: "Что значит: возьми крест свой и иди за Мною? Если у Вас есть короткое и ясное объяснение, то напишите мне, как Вы это понимаете. И очень ли важные это слова? И какой Ваш крест, как Вы понимаете?"(62.475) Показательно, что слова Христа, обращенные ко "всем труждающимся и обремененным" и, следовательно, евангельскую фразу, вынесенную в эпиграф одноименной повести, Толстой в "Соединении и переводе четырех Евангелий" приводил в одной связке с мыслью о "несении креста своего". "Крест свой" и "иго Мое" у Толстого везде вместе: "Как удивительно определение евангельское жизненной деятельности – не радость, не наслаждение, не достижение какой-либо цели, а крест или, лучше всего, – иго – место в работе"(51.71). "Возьми свой крест" имеет у Толстого значение необходимой для духовного роста борьбы жизни. Борьбы внешней, с миром людей: "Христианин всякий неизбежно должен нести свой крест, т. е. посредством борьбы с миром вносить в него Божью истину, – тем более тяжелый, чем более он христианин"(68.195). И борьбы внутренней, с самим собой, борьбы, которая определяет человеческую жизнь: "И еще вспоминаю при этом стихе, что жизнь по определению Христа, т. е. истины, не есть нечто мое, не включает в себя никакой задачи для меня, никакого цельного дела, исполнимого здесь, а что жизнь есть иго или крест, есть нечто, чем я везу, или нечто, что я несу, и что все мое внимание должно быть устремлено не на то, чтобы сделать что-то, а на то, чтобы не переставать делать дело Божье, вечно нескончаемое и неохватываемое, и не понимаемое моим разумом, но участие или неучастие в котором всегда сознается мною"(87.42). В контексте синоптических Евангелей (см. Мф. Х,38-39;16;24. Лк.14;26-27. Мк. VIII,34-35) словам о несении своего креста сопутствует мысль самоотречения, по которой следует "потерять душу" дабы "сберечь душу" ("нечто, чем я везу"). По Толстому, речь тут идет об отречении от "животной личности" и сберегании высшей души. Смысл же "несения креста своего" у Толстого тот же самый, что и смысл третьего искушения Христа. Нести свой крест, по Толстому, – значит, жить в теле с животной личностью, но служить не ей, а высшей душе. "Нести свой крест" у Толстого везде и всегда имеет значение несения креста низшей души. Это именно "свой" крест и "на каждый день" потому, что – своей низшей души, той, с которой живешь ежемгновенно. "Тот, кто хочет по мне идти, пусть откажется от самого себя, возьмет крест свой и следует за мной. – Переводит Толстой текст Мр.8:34-35. – Потому что кто хочет свою земную жизнь спасти, тот погубит истинную жизнь, а кто, если и погубит земную жизнь из-за меня и истинного блага, тот спасет ее"(24.609). В продолжение всей дальнейшей жизни Лев Толстой будет все уяснять и уяснять ответ на вопрос, который он в 1879 году задал А. А. Толстой. Через четверть века он напишет Черткову: "Яснее стало значение очень любимого мною стиха из Луки: "отвергнися себя, возьми крест свой на каждый день и следуй за мной". Боюсь потерять это настроение: оно так разрешает всё, дает такую свободу и радость"(88.240). "Возьми свой крест" не просто связано с основными положениями толстовского учения, но именно с такими положениями, которые возникли "порывом" духовного рождения, когда внутренний мир человека в представлении Толстого разделился на две души: низшую и высшую. В конце февраля 1879 года этого еще не произошло, но то обстоятельство, что Толстой спрашивает своего друга о смысле "креста своего", означает, что в душе Льва Николаевича уже начали созревать те мысли, которые станут краеугольным камнем его учения, построенного на его видении состава внутреннего мира человека.
6 (13) Статус "души" Толстой устанавливает только для высшей души человека. Низшая же душа – не "душа" вовсе, а "животная личность" (или просто "личность"), на преодолении которой растет истинная душа. Животная личность у Толстого – это и весь психофизиологический состав человека, все "похоти" его плоти и "страсти" животной души. Но это и собственно человеческая животная личность, которая включает в себя не только животное или, шире, природное начало в человеке. Если животное начало непосредственно включено в течение жизни, то человеческая животная личность способна видеть действительность как бы со стороны. Обладает она и творческой волей, и воображением, и интеллектом. Человеческая личность называется Толстым "животной" для того, чтобы не смешивать ее с истинным "Я" человека, его высшей душой или духовной личностью, с его духовным Я. Непонимание толстовского жизневоззрения в этом пункте приводило к самым разным недоразумениям. Вот одно из них. По широко распространенному мнению, наша цивилизация и культура отвергались Толстым потому, что то и другое находится в противоречии с требованиями собственно родового природного начала в людях и произведена на свет вследствие чего-то самовольно надстроенного человеком. На самом деле культурные и цивилизаторские способности человека, напротив, вводились Толстым в состав животной личности, тем самым совмещались с природно-человеческим началом и затем отвергались в пользу духовной жизни высшей души. Представления о высшей душе могут возникнуть не только в результате духовного рождения толстовского образца, но и непосредственно; скажем, при осмыслении различий человека и животного. К этому же заключению всякий приходит при достаточно упорном вникновении в себя. Когда я сужу самого себя судом совести, то надо зажмуриться или специально извернуться, чтобы уверить себя в том, что судят меня во мне без меня или из источника надо мной. Кто от кого отрекается в акте самоотречения? "Я" от себя? Так как отречься человеку от высшей души нельзя, то отрекается человек от низшей души: "Я", перенесенное в высшую душу, отрекается от себя в низшей душе. То же и в акте покаяния: перенося себя в высшую душу, человек очистительно переживает то, что совершил он, когда был во власти низшей души. Но если считать, что душа в человеке одна, то неизбежно стремление раскрыть то, что в истоках души, в подсознании, в бессознательном (додушевном) состоянии или в экзистенции, – по сути, найти то, что заменило бы высшую душу, взяло на себя ее роль в человеке. Будь-то воля к власти, воля к жизни, воля к смерти, просто воля, либидо, саморазворачивающийся дух, дух жизни, коллективное бессознательное, психическое существо и прочее и прочее. Если душа в человеке одна, то в поисках рабочего места внутреннего мира человека необходимо искать то, что "над" ней, что "под" ней, что "сбоку" от нее, то есть что "вне" Структуры человека. Вынесенное из Структуры собственно человека его главное дело жизни требует привлечения потусторонних сил и побуждает к поиску их. И человек занят не делом жизни, а поиском каких-то сил, начал или инстанций, которые на правах ведущих должны исполнять вместе с ним его дело жизни – в том числе (и не прежде ли всего?) дело спасения его от уничтожения в смерти. "Вы говорите: "спастись". От чего спасаться? – Спрашивает Лев Толстой в одном из писем 1892 года. – От того положения, в которое нас поставил Бог, Бог любви? Какое бессмысленное кощунство! Отец наш не губил нас и не ставил в такое положение, от которого надо спасаться. Напротив, Он поставил нас в самое твердое и безопасное положение, в котором нам не от чего спасаться, а нужно только исполнять Его волю. От чего нам спасаться, когда мы от Него изошли и к Нему идем? В роде как когда мать, чтобы выучить своего ребенка ходить, только выпустила его из своих объятий. То же с нами делает Отец, пуская нас в жизнь. Так и не от чего нам спасаться "(66.123). В 1910 году, за полгода до смерти, Толстой еще так отвечает на вопрос магометанина о спасении: "Спасаться можно только от беды и опасности, а в жизни человеческой нет никакой беды и опасности. Жизнь дана людям на благо, и надо не спасаться от нее, а исполнять в ней волю Бога"(81.17). Впрочем, и сам Толстой иногда использовал понятие "спасение души". Но в особом смысле: "…на свете есть только одно нужное самому, всем людям и Богу дело: жить по-Божьи. Для людей же, как Вы и каков я был в свое время, дело это получает другое значение и название: спасти душу. Так вот это дело, одно важное, одно радостное на свете предстоит Вам, милый брат. Радостно это дело потому, что чем больше отдаешься ему, тем больше узнаешь в себе и сознаешь забытую, забитую, загаженную Божественную, любящую душу, лучше которой ничего нет и не может быть на свете. Для того же, чтобы узнать, сознать в себе эту спасенную душу, нужны самые простые даже не дела, а воздержание от дел/…/ Я знаю, что Вы настолько любите меня, что сделаете усилие, чтобы не посмеяться над этим письмом, но сделайте еще усилие: скажите себе: а что как это правда? Душа есть у меня, и мне тяжело прислушиваться к ее требованиям, если они и слышны иногда. В самом деле, не погибает ли она? И нельзя ли в самом деле спасти ее? (Какое чудное понятие и выражение). Ведь задушить ее совсем нельзя, несмотря ни на какие придуманные в нашем мире для этой цели приспособления. Задушить нельзя потому, что она Божественна, но проснется она поздно, перед смертью, и вместо радости ее постепенного спасения будет только страдание раскаяния"(77.6-7). «Спастись» для Толстого значит то же, что достичь некоторой вершины жизни. Но только вершины не мнимой, а подлинной и жизни не земной, а тоже подлинной, то есть несмертной. Человек любой духовной культуры, осознав присутствие в себе высшей души (как бы она ни называлась – пневма, нешама, буддхи, духовное существо, внутренняя Божественность, Божественная искра), склонен определенным образом решать задачу своей жизни. Он ищет рабочее место Структуры где-то "между" высшей и низшей душою, а не в том, что "над" или "под" душою. Для того чтобы, скажем, стать бессмертным или получить благо высшей жизненности, ему надо как можно глубже внедрить в себя высшую душу (или себя, своё "я" – в высшую душу), полнее задействовать ее в себе или переместить центр тяжести своей жизни в нее, предоставив низшую животную душу ее земной участи. "О жизни будущей я думаю так, что в нас есть две половины: Божеская и животная. – Писал Толстой в середине 90-х годов. – И что если мы в этой жизни признаем собою свою Божескую половину, и ею будем жить, то мы с нею и уйдем к Богу, а что если мы будем жить в свое животное и собой считать это животное, то с ним и умрем"(69.100). И еще цитата из Дневника Толстого 1901 года: "В будущую жизнь можно смотреть через два окна: одно внизу, на уровне животного: в окно это виден один ужасный мрак и страшно; другое окно выше, на уровне духовной жизни, и через него открывается свет и радость»(54.101-2). В традиционном христианстве понятие высшей души отчасти заменяется понятием «дух». Дух одухотворяет душу, но способен ли человек жить духом как душой? Высшая душа отличается от духа хотя бы тем, что в высшую душу можно перенести центр тяжести своей жизни, оставаясь при этом земным человеком. Ставить перед человеком задачу стать духом значит предлагать ему выйти из земной жизни и, следовательно, лишиться рабочего места, на которое поставил человека Бог. Перенести (или только стремиться переносить) себя в высшую душу для подавляющего большинства людей – дело непосильное, да и возможное ли? Это задача всегда элитарной личной духовной жизни, о которой у нас вскоре пойдет речь. Религия же масс, общедушевная религия, должна обращаться ко всем и каждому, вне зависимости от проявленности высшей души в нем. "Спастись" нужно всякому или, на худой конец, всем вместе. Но надо же отметить и очевидное: грешить способна только низшая душа. Так что и Адамово грехопадение может иметь отношение только к низшей душе человека. Разве высшая душа может быть смертной? Разве её можно помыслить в Аду? Божественная высшая душа есть в человеке. Пусть она далеко не всегда проявлена в нем (для чего обычно нужен труд и труд) и даже не всегда видна в его глазах, но она не может грешить или не грешить, не может быть грешной, и тем более не может быть освобождаемой от совершенного не ею греха. Да и воскресать в земной плоти человек способен только той душой, которая непосредственно связана с земной плотью, то есть своей животной личностью. Когда Божественная жертва и заслуги адептов к услугам каждого и всех вместе, то всякий продолжающий жить жизнью низшей души человек живет как будто высшей душою и как будто обретает то, что обретает тот, кто совершает в своей краткой жизни огромный труд по перенесению себя в поле жизненности высшей души. Отдадим себе отчет, что такое решение главных вопросов человеческой жизни более всего выгодно низшей, животной душе, которая в этом случае не беспокоится за свою участь. Привилегированной для обыденного сознания оказывается именно животная душа, которая, в угоду этому сознанию, обеспечивается всеми мыслимыми и немыслимыми благами в будущей загробной и в будущей земной (повторной) жизни. Нет ничего удивительного в том, что как только Церковь на нашей памяти потеряла власть в обществе, так тотчас низшая душа открыто заявила свои духовные права на доминирующее положение в человеке. И без особого труда добилась своего. *)Надо ли разъяснять, что противостояние "души" и животной личности у Толстого есть, прежде всего, внутридушевная проблема, которую не следует смешивать с толстовской критикой ныне очевидных извращений во внешней антиприродной цивилизаторской деятельности людей.
7 (14) "В каждом из нас живет два человека: один человек духовный, а другой телесный»(58.161). В человеке есть высшая душа и есть низшая душа, но при этом он един и целостен. Структура человека может связываться в единое целое по-разному. Например, единством плоти (природной и духовной), единством сознания, единым разумом, действующим в различных инстанциях Структуры, единством Сознавания, единством воли. У Толстого целостность человека обеспечивается единством жизни. Жизнь для Толстого – одна и та же и в высшей и в низшей душе. Но одна жизнь подлинная, истинная, другая подобие ее, жизнь смертная. Ее, как уже было отмечено, нельзя и называть "жизнью". "Жизнь животную Иисус называет смертью, и потому так называет, что она и точно только момент, кончающийся вечной смертью. И потому не надо думать, что человек со своими руками, ногами весь живой. Живое только то, что сознает свое Божество. Люди не должны смотреть на себя, как на живые существа, только потому, что они движутся, едят, но только потому, что они сознают себя сынами Бога"(24.325). Есть жизнь и есть то, что носит жизнь. Носителя жизни можно уничтожить, умертвить, но еще вопрос: уничтожается ли при этом самая жизнь в нем? Смерть – лишь нарушение жизни, свойственное земному существованию. Нарушение это влияет на действие жизни, но не влияет на ее существование как таковой. Жизнь как таковая – без нарушений, то есть несмертная, вечная, вернее, вневременная. Жизнь плоти и земной животной личности – не жизнь вовсе, а подобие жизни, ущерб жизни. Ущербную земную жизнь можно называть смертной жизнью или смертью. Как и сказано в книге Бытия: "смертью умрешь" (Быт.2:17) – станешь жить жизнью-смертью. Жизнь-смерть возможна лишь в изолированном существе, отделенном и от всего того, что живет подлинной, истинной, несмертной жизнью, и от других таких же внутренне и внешне отграниченных существ, то есть возможна лишь в существовании "личности". "Животная личность" у Толстого – это все то в человеке, что живет жизнью-смертью. Истинная жизнь проявляет себя верой, любовью, добром и совестью, неистинная – страстями и похотями. Животная личность живет не подлинно. Духовное рождение и состоит в том, что человек сознает эту подлинность и неподлинность жизни в себе. Предметом Веры Толстого могла стать только высшая душа, живущая подлинной жизнью в человеке. Вера Толстого – это Вера в высшую душу человека, способную на духовное рождение. Понятие «духовного рождения» у Толстого подразумевает наличие двух душ в человеке. Духовное рождение – это рождение высшей души в автономную жизнь. В гл.10 «Учения Христа, изложенного для детей» (в некотором смысле наиболее ответственной работе Толстого) сказано: «Иисус сказал ему: Родиться снова – значит родиться не плотским рождением, как родится ребенок от матери, а родиться духом. Родиться же духом – значит понять то, что дух Божий живет в человеке и что, кроме того, что всякий человек рожден от матери, он рожден еще от духа Божьего.*) Рожденное от плоти – плоть, оно страдает и умирает, рожденное же от духа – дух и живет само собой, и не может ни страдать ни умирать». *) Человек как таковой рожден и от плоти и от духа Божьего; духовное же рождение не в том, что он рождается от духа Бога, а в том, что он понимает, что у него не одна, а две души, что в нем есть вторая душа, которая есть дух Бога, сын Бога. Такое понимание вопроса само по себе переводит высшую душу на иной уровень существования "Идет борьба между духовным и животным я. И все, что я приобрету для первого, на всё это я ослаблю второго. С одной чаши весов перекладываю на другую"(53.190). "Из погибели физического Я вылупляется невольно Я духовный" (51.14). Чем дальше жил Толстой, тем лучше он понимал, что в мире существует жесткое противостояние мирских людей, людей низшей души, и Божьих людей, людей высшей души. Вот что сказано об этом в гл. 36 все того же «Учения Христа, изложенного для детей»: «В жизни этой люди должны страдать, если живут для Царства Божьего, потому что мир любит своих, а Божьих ненавидит. Всегда было так, что мирские люди мучили тех, кто исполняет волю Отца». "Человек есть соединение двух начал: телесного, животного и разумного, духовного. – Напутствует Толстой вступающего в жизнь сына. – Движение жизни совершается в животном существе, оно движет жизнь и свою и продолжает эту жизнь в дальнейших поколениях; разумное, духовное существо направляет это движение"(68.228). В трудную минуту жизни (1897год): "Мне помогает одно: отделение, в эти минуты упадка, своего истинного, вечного духовного я от ложного, временного, животного. Я физически трясу головой, чтобы разделить эти слипшиеся я и не только не дать животному властвовать над духовным, но, напротив, покорить его под ноги"(88.8). В хорошие минуты духовного благосостояния: "Испытываю странное чувство духовного благосостояния, как только начинаю думать хорошо. Точно лег, когда устал, или пью воду, когда жажду. Так что в этом, стало быть, нормальное состояние духовного существа"(54.53). В 1897 году Толстой читал Шри Шанкара: "Очень хорошо. Всё та же общая всем великим учителям мысль, что заблуждение только от смешения своего Божественного, неподвижного вечного "я" с изменяющимся, страдающим, умирающим телесным "я". И что стоит человеку просветиться мудростью, и это вечное "я" само собою проступает"(88.18). В конце 70-х и начале 80-х годов у Толстого еще не столько две души, сколько два полюса внутреннего мира человека. Сначала Толстой только полюсует Структуру человека. Потом, с середины 80-х годов он уже определенно делил ее на две части: две души, душа и личность, две части души, два "я", два сознания, два разных существа в человеке, иногда говорит о двух началах, и пр.. Можно подумать, что духовное начало, высшая душа человека во всей чистоте являет себя только на вершине духовного совершенства "освобожденного от тела" человека. То есть высшую душу являет человек, уходящий из земной жизни. Но это не совсем так. Наиболее ярко и зримо высшая душа сияет по Толстому во входящем в земную жизнь человеке – в младенце, в малом ребенке. «Любовь это – сознание своей истинной жизни, единой во Всем. Дети, приходя ОТТУДА, еще ясно чувствуют эту жизнь и ее единственное вполне доступное нам проявление в любви"(56.165). Затем высшая душа в человеке забивается хотениями низшей души и меркнет. Всю человеческую жизнь от рождения до смерти Толстой представляет как параллельное развитие двух существ или двух душ в человеке. Но и в детстве, когда низшая душа развивается быстрее, чем высшая, но и в зрелости, когда развитие их идет "почти вместе"(88.263), человек – не в умозрении, а самом чувстве жизни, – не в состоянии различить их в себе, "разделить эти слипшиеся я". И все же впечатление такое, что представление о двух человеческих душах неоформленно жило в Толстом еще со времен "Детства". Именно такое представление о человеке, придавая объемность художественному взгляду Льва Толстого, составляет основу характерно толстовского вникновения и проникновения в человека. Таинственная художественная сила толстовской "диалектики души" многим обязана его особому взгляду на Структуру человека. *)Надо отметить, что само по себе понятие "низшей души" редко встречается в работах Толстого. Хотя все же и встречается. Запись в день 80-летнего юбилея: «Юбилей – много приятного для низшей души, но трудное сделал для высшей души»(56.150).
8 (15) Толстой – не человек возвышенных чувствований и самоумилительных разговоров, стремящийся наслаждать себя ими; он – человек работающей души, на практике воплощающей то, что несешь в себе и знаешь (сформулировав или нет) религиозной истиной. И если в человеке две души и все его дело в том, чтобы перенести центр тяжести жизни из смертной жизни низшей души в несмертную жизнь высшей души, то, при чем тут ад, рай, воскресение в плоти, благодать и чудо спасения верой-доверием. "Спасти" человека, то есть ввести его в жизнь вечную, способна его же высшая душа. В "Соединении и переводе четырех Евангелий" Толстой отказывается от понятия благодати и везде, где встречает его в текстах Евангелий, переводит как "Богоугождение" или "Богопочитание". Практику своего учения Толстой строит не на получении благодати, а на добывании, работе "Богоугождения делом", которую он объясняет так: " Исполнение воли Бога, возможно, только тем, чтобы отдавать свою плотскую жизнь в пищу жизни духа… В этом различие между тем, что закон дан Моисеем, а Богопочитание делом дано Иисусом Христом, в этом служение Богу в духе и делом"(24.418). "Сказано, что жизнь мира подобна свету в темноте. – Продолжает Толстой переводить первую главу Евангелия от Иоанна. – Свет светит в темноте, и темнота его не удерживает. Живое живет в мире, но мир не удерживает жизнь в себе"(24.35). Учение "Богоугождения делом" в Евангелии от Толстого – это учение "живого служения" (24.125), которое открывает путь к жизни в Боге. Царство Божие берется усилием возрастания жизни высшей души. В "Соединении и переводе четырех Евангелий" Толстой говорит, что в Евангелии нигде не сказано, что "Бог любит каждого человека", а "именно сказано, что Бог любил мир, то есть людей вообще, и хотел им дать жизнь, и потому дал миру сына, и тем дал миру, то есть людям вообще, жизнь и возможность вступить в Царство Божие". И далее, в комментарии к притче о сеятеле: "Сеятель, любящий пшеницу, заботящийся о пшенице, выражает Бога, любящего мир, заботящегося о мире, и как севец не заботится о каждом зернышке, так и Бог не заботится о каждом отдельном человеке. Как севец заботится об урожае, зная, что, несмотря на пропажу многих зерен, урожай будет, сеет всюду; так и Бог сеет всюду, зная, что, несмотря на погибель многих, урожай будет. И Бог не вступает больше в дела мира…*) Как земля самородно родит, как квашня сама поднимается, так и жизнь разумения самородно живет и не прекращается… Зерно каждое имеет возможность прорасти и принести плод; и каждый человек имеет возможность стать сыном Бога и не знать смерти"(24.174-5). *) Надо ли говорить, что такого рода утверждения затрудняют применение учения Толстого для нужд Общей души, для использования этого учения в качестве всеобщего общедушевного религиозного учения. Впрочем, одни люди, согласно Евангельскому тексту, высеяны (в толстовском понимании высеяны на животной личности, конечно) удачно, "попали на добрую землю", другие неудачно: попали в камни, в репьи или на дорогу. Последние "как будто предопределены на погибель", первые – "на жизнь с избытком"(24.177). Это так и не так. В словах Иисуса, объясняет Толстой, не только констатация исходных духовных и волевых возможностей человека, но и предупреждение, относящееся к каждому, как бы он ни был высеян. Семена, упавшие на дорогу, это и духовно равнодушные люди, и само духовное равнодушие, против которого предостерегает Иисус. Человек может и должен делать усилия духовного роста, чтобы не допустить пренебрежения к своей высшей душе. Семена, упавшие на камни, это и слабые люди, и слабость в человеке. Иисус, по Толстому, предупреждает, "что человек должен делать усилия, чтобы не поколебаться от обид и гонений". И, наконец, репьи – "это заботы мирские, и Иисус предостерегает и указывает на то, что человек должен сделать усилие, чтобы откинуть их. Хорошая земля – это понимание и исполнение, несмотря на обиды и заботы. И Иисус указывает на то, что кто сделает это усилие и исполнит, тот получит жизнь с избытком"(24.189-190). Это еще очень сырые мысли. Вряд ли они уже тогда удовлетворяли Толстого. Допустим, что слабый человек может стать сильным человеком (конечно, опираясь на какие-то другие свои качества), что мирской человек может отринуть свои заботы (конечно не без мощного влияния извне), что особые обстоятельства жизни заставят кого-то из духовно равнодушных людей пробудиться в толстовском смысле этого слова, но вряд ли успехи неудачно высеянных людей, кроме самых исключительных случаев, сопоставимы с тем, чего смогут добиться люди, которых Христос сравнивал с семенами, попавшими на хорошую землю. Так или иначе, получается, что кто-то из нас уже изначально предназначен, а кто-то изначально не предназначен к спасению. Что тут сделаешь? Ответ на этот вопрос Толстой получил только через 15 лет и предъявил его в учении об ускорении духовного роста. В своем месте мы поговорим об этом подробнее. Высшая душа в человеке – не частица и не эманация Бога, а Его семя (то есть то, что предназначено вырасти и дать плод) или то, что рождено ("произведено") Им для жизни в человеке, – Его сын, сын человеческий. Бог, по Толстому, это "не Творец всего и не отдельный от мира Бог", а есть "Бог и отец только тех, которые признают себя Его сынами. И потому для Бога существуют только те, которые удержали в себе то, что Он дал им". К общедуховной жизни эти положения уже не имеют отношения. "Царство Бога надо понимать не так, как вы думаете, что для всех людей в какое-нибудь время и в каком-нибудь месте придет Царство Бога, а так, что во всем мире всегда одни люди, те, которые полагаются на Бога, – делаются сынами Царства, а другие, которые не полагаются на Него, – уничтожаются"(24.193). Бог не правит людьми на Земле и не придет сюда царить над ними. Он только сеет высшие души (сынов "Разумения жизни") в людях. Царство Божие принадлежит только тем, кто возьмет и взрастит это семя в себе. Остальные же – "обман времени". В этом смысле: "Кто держит, тому дается многое, а кто не держит, у того последнее отнимется"(24.195). Человек рождается и умирает. "Пока люди живут, Бог не вступается в их жизнь", так как высшая душа сама живет в человеке "и составляет Царство Бога"(24.194). Это Царство Бога – Царство высших душ – есть в людях и не подвержено смерти. "Бог дух – источник жизни, сеет жизнь и собирает жизнь… Жизнь одна нужна, она одна остается, а остального нет для Бога духа"(24.182-3). "Бог блюдет то, что нужно Ему, – то, что Его; а что не от Него, того нет для Него"(24.195). И потому для Самого Бога и для Его сына в человеке нет ни смерти, ни зла. "Смерть и зло есть для людей, а не для Бога"(24.194). Важно понять, что высшая душа для Толстого не только носитель истинной жизни, но и источник всякого рода жизни человека, – в том числе и той неистинной жизни животной личности, которая похожа на жизнь, но кончается смертью. "Сын человеческий дает жизнь и знает только жизнь в разумении (то есть в Божественном источнике жизни. – И. М.), и потому всякий человек, перенеся свою жизнь в сына, в духа, не может знать зла и потому не может противиться ему". Для сына Бога в человеке зла нет, и "он не может желать уничтожить его. Желание уничтожения зла есть зло и может быть только в людях (то есть в животных личностях. – И. М.), а не в нем"(24.183). Зло только в том, что Свет приходит в мир людей, а люди уходят от него. По своей свободной воле люди, сами, удаляются от Света высшей души в себе, уходят в погибель. В "Соединении и переводе четырех Евангелий" непротивление злу не есть спасительный закон общественной жизни, а есть верный показатель того, что приверженец непротивления живет истинной жизнью высшей души. Таких приверженцев среди людей, конечно, мало. Такими Иисус считал своих первых учеников, апостолов. "Надо не забывать, – предупреждает Толстой, начиная толковать Нагорную проповедь, – что Иисус говорит народу, но речь свою обращает к ученикам"(24.198), для которых зла уже нет и которые поэтому вполне могут понять его слова. Перенести свою жизнь в сына, жить высшей душою – значит не заботиться о земной жизни, отрешиться от всех форм жизни животной личности и жить как Птицы Небесные. "Человек, отрекшийся от благ земных, есть нищий". Из этого высокого понимания "нищего" Толстой выводит то, что провозглашается в заповедях блаженства Нагорной проповеди: "Блаженны нищие – их есть царство Божие"(24.206). Слова эти "не суть цветы чувствительного красноречия, какими представляются слова: блаженны нищие духом и т. д. по Матфею, а страшная, ужасная истина для людей, признающих хорошим то положение общества, которое они себе устроили"(24.211). Толстой переводил и сводил вместе Евангелия до того, как решил выйти к людям с проповедью. И заповеди Нагорной проповеди для Толстого того времени ещё напутствуют только "нищих", которые могут жить одной высшей душою, то есть в Царстве Божьем. Входящий в Царство Божие должен исполнять некоторые правила Царства Божьего, вытекающие из жизнедействия высшей души. Это правила Нагорной проповеди. Они сводятся в одно поведенческое правило, которое заявлено Толстым еще в «Соединении и переводе четырех Евангелий»: "то, что ты желаешь, чтобы делали тебе другие, то самое делай другим"(24.254). "Вся молитва, – по словам Толстого, – должна состоять в желании Царства Божия и в исполнении его (Царства. – И. М.) правил, а все правила в том, чтобы не считать никого виновным, а всех любить и прощать"(24.260). Таким образом, заключает Толстой, "Иисус не говорит ни о семье, ни об обществе, ни о государстве; он говорит только об одном, что составляет предмет его учения, о том одном, что есть свет людей – о Божественной сущности человека, о его душе. Но он прямо отвечает на естественный вопрос о том, что же будет с плодом моих трудов, с сокровищем, с капиталом, который я собрал. Он отвечает: "Человек в жизни может приобрести два богатства: одно богатство – духа в Боге, и другое – то, что вы называете богатством. Ваше богатство гибнет… Богатство в Боге, жизнь духа, – одно не погибнет и не подлежит земным переворотам. Копите то, которое не гибнет"(24.271-2).
9 (16) Через 5 лет после окончания работы над "Соединением и переводом четырех Евангелий" Толстой пишет одному из своих корреспондентов в ответ на его замечания: "Вообще в переводе моем грубых ошибок не думаю, чтобы было (я советовался с филологом, знатоком и тонким критиком), но много должно быть таких мест, как те, которые Вы указали, где натянут смысл и перевод искусственен. Это произошло оттого, что мне хотелось как можно более деполяризировать, как магнит, слова церковного толкования, получившие несвойственную им полярность. Исправить это – будет полезным делом"(64.62-3). Еще через два года, в феврале 1889 года, перечитывая свой труд, он записал в Дневник: "Мне многое не понравилось: много ненужных натяжек… Помню то доброе чувство, по которому я не боялся, что меня осудят за ошибки"(50.36). Весной 1902 года толстовское исследование Евангелий готовилось к печати В. Г. Чертковым, и Толстой в письме к его жене написал нечто вроде предисловия к книге: "Книга эта была писана мною в период незабвенного для меня восторга, сознания того, что христианское учение, выраженное в Евангелиях, не есть то странное мучившее меня своими противоречиями учение, в котором оно преподается Церковью, а есть ясное, глубокое и простое учение жизни, отвечающее высшим потребностям души человека. Под влиянием этого восторга и увлечения я, к сожалению, не ограничился тем, чтобы выставить понятные места Евангелия, излагавшие это учение, пропустив все остальное, не вяжущееся с основным главным смыслом, а попытался придать и темным местам подтверждающее общий смысл значение. Эти попытки вовлекли меня в искусственные и, вероятно, неправильные филологические разъяснения, которые не только не усиливают убедительность общего смысла, но ослабляют ее. Увидав эту ошибку, кроме того, что я весь был поглощен другими работами в том же направлении, я не решался опять переделывать всю работу, отделяя излишнее от необходимого, так как знал, что работа комментария на эту удивительную книгу 4-х Евангелий никогда не может быть закончена, и потому оставил книгу так, как она есть, и теперь в том же виде предлагаю ее к печатанию»(88.259). Состояние нравственного вдохновения – одна из вершин человеческой жизни. Лев Толстой хорошо знал это состояние и умел передавать его другим. Особенно в свое "блаженное время", в пору своего духовного рождения. Такой же заряд нравственного вдохновения несут в себе и многие места Евангелия. Этический пафос Евангелия нередко совпадает с толстовским моральным сознанием. Но что касается общего взгляда на Бога и человека и богочеловеческих задач жизни, то тут совпадений почти нет. Евангелисты, как бы их ни понимать, явно имели в виду не то, что провозглашал Лев Толстой. Но не правы и те, кто утверждали, что Христос как бы призван Толстым к себе, к "своей религии". У Толстого никогда не было намерения использовать Евангелия в своих целях – для обнародования и авторитетного подтверждения своего учения. Еще раз повторяю, что Лев Николаевич искренне и твердо верил, что два тысячелетия назад Иисус переживал то же, что и он, и Иисусу открылось то самое, что открылось ему. Главная задача Толстого – раскрыть глаза людям на ту истину, которая, по его глубокому убеждению, заложена в евангельских текстах и которая до сих пор не предъявлена миру из-за корысти духовных властей, огрехов в переводах с греческого и недопонимания самих евангелистов. Евангельские смыслы и понятия Толстой перетолковывал в другие, непересекающиеся с ними смыслы и понятия. И совершал это не на каком-то отдельном эпизоде, ряде мыслей или положений, а по всему корпусу Евангелия. Столь грандиозного переосмысления всего евангельского текста не предпринимал никто. Исполнение такой задачи определенно потребовало бы от любого другого, даже умственно изощренного человека, усилий многих и многих лет жизни. Напомню, что Толстой всю эту неподъемную работу выполнил менее чем за год. Непостижимо! Авторитета великого писателя вполне хватило бы Толстому для того, чтобы от своего имени, без евангельской (или иной) опоры, развить свое учение о смысле жизни, Боге, человеке.*) Он не сделал этого только потому, что любил евангельскую образность и евангельские изречения и – более всего – свято чтил Иисуса из Назарета. Чтил и любил так, что не мог относиться к Христу "как к личности", которая, как и всякий другой человек, имеет свои человеческие слабости. Иисус для Толстого – человек, но человек в духовном смысле идеальный. *) Излагая свое учение в последнее десятилетие жизни, Толстой ссылается на самого себя равно так же, как и на многих других великих учителей человечества. И это не выглядит претенциозно. "Вы спрашиваете меня о моем отношении к Христу. – Пишет Толстой летом 1908 года в ответ на вопрос о его отношении к личности Христа. – Должен сказать вам, что мое отношение к Христу, как Вы и знаете, такое же, как и ко всем тем великим учителям, которые помогли мне найти свет, но никак не как к личности. Не то что я не хочу этого, но я прямо не могу относиться к нему, как к личности. Различие моего отношения к нему от отношения к другим святым и мудрецам мира в том, что он ближе для меня всех других. Он именно привел меня к той истине, которой я живу, и только благодаря ему я постиг и значение всех тех других просветителей, которые для меня только подтверждали то, что было открыто им. Таково мое непосредственное чувство по отношению к Христу и поэтому особенная любовь к его учению и даже к формам выражения его. Рассудочное же для меня объяснение этого особенного отношения к нему в том (что для меня несомненно), что из всех великих учителей человечества Христос был последним. Только Христос объяснил нам вполне смутно предчувствованное прежними учителями значение любви, любви духовной, Божеской, независимой от всех человеческих условий, любви к врагам, к ненавидящим и ни в каких случаях не допускающей исключений"(78.194). Толстой не выставлял себя вместо Христа, как казалось многим его недоброжелателям.*) Скорее уж, толкуя Евангелия в своем смысле, он отрекался от авторства своего учения и своих прозрений. Лев Толстой ставил себя и свой гений на службу тому, кого любил. *) Отсюда некогда возникла идея выставить Толстого Антихристом. Если Иисус Христос воплощенный Бог-Сын, то толстовская опора на Евангелия совершенно незаконна. Если же Иисус не был Господом, а был смертным человеком, то он вполне мог быть человеком одноцентричного Толстому строя и опыта духовной жизни. Так Христос, что бы ни говорил сам Лев Николаевич, и воспринимался Толстым – и в силу любви к нему, и в силу гениальной художественной проницательности, позволившей Толстому распознать в Иисусе духовно родственного себе человека и адекватно понимать его фразы и поступки. Если доверять могучей интуиции Толстого в отношении человека, то почему не признать за великим писателем права трактовать образ и слова Иисуса так, как он понимал. Лингвистическая точность его перевода в таком случае не имеет значения. Другое дело, что именно для исполнения своей задачи непосредственного обращения к мудрецу Иисусу Толстому было необходимо разрушать церковные толкования, на которых основывается общедуховная Вера во Христа Господа Бога. Из-за этого, как мы слышали от него самого, в мыслях Толстого оказалось много ненужных натяжек, и они получили "несвойственную им полярность". Толстой был уверен, что он выходит к людям с убежденностью такого же рода, с какой некогда в древней Иудее выходил к людям Иисус: "Иисус Христос открыл свое учение не для того, чтобы сообщить людям, что он Бог, не для того, чтобы улучшить жизнь людей на земле, не для того, чтобы свергнуть власти, а потому, что в душе своей, как в душе каждого человека, пришедшего в мир, он знал, что лежит сознание Бога (то есть Разумение жизни – И. М.), которое и есть жизнь, и которому противно всякое зло. Иисус Христос знал и постоянно повторял, что не он говорит то, что он говорит, а что говорит то Бог в душе каждого человека"(24.295-7). Толстой не ставил перед собой задачи создания новой религии или нового учения. Иисус, пишет Толстой, "знал, что его учение – не учение, но искра, которая зажигает сознание Бога в сердцах людей и, раз загоревшись, не может потухнуть… И он томился желанием видеть скорее пламя, которое охватит всех". Нет сомнения, что это Толстой говорил и о самом себе. Работа Толстого по переводу и соединению четырех Евангелий с точки зрения "истины о том, что есть человек, в чем его жизнь"(24.296) чрезмерно масштабна и произведена не без издержек. Как Толстой осмысливал каждый эпизод евангельского повествования, или каждую притчу, или каждую мысль, может быть интересно с точки зрения его критики Евангелия и важно с точки зрения изучения эволюции толстовских взглядов на тот или иной вопрос; но для первичного ознакомления с основами собственно толстовского жизнепонимания знать это читателю, я думаю, не обязательно. Приведем примеры.
10 (17) Притча о талантах всегда притягивала Льва Николаевича. Содержание ее в первоначальном изложении Толстого таково. Хозяин удалился из своего дома и раздал своим рабам "кому пять гривен, кому две, кому одну, каждому по его силе", и велел пустить их в оборот. "Тот, у которого было пять талантов, стал работать на них и нажил еще пять талантов. Так же сделал и тот, кому даны два таланта. А тот, у кого был один, зарыл в землю хозяйское добро". Были и такие, которые вообще не желали хозяина и отказывались от его власти над собой. Хозяин, вернувшись и потребовав отчета, похвалил тех, кто в его отсутствие приумножил данное им богатство, и оставил их при себе. Тот же, кто зарыл талант в землю, пришел к хозяину и возвратил ему его деньги, сказав, что он боялся хозяина, который берет, где не клал, и жнет, где не сеял. "И хозяин сказал ему: глупый раб! Твоими словами буду судить тебя. Ты говоришь, что от страха передо мною спрятал свой талант в землю и не работал над ним. Если ты знал, что я строг и беру там, где не давал, так зачем же ты не сделал того, что я велел тебе сделать? Если бы ты работал на мой талант, имения бы прибавилось, и ты исполнил бы то, что я велел тебе. А теперь ты не сделал того, зачем тебе дан был талант, и потому тебе нельзя владеть им. И велел хозяин взять талант у того, кто не работал над ним, и отдать тому, кто больше работал. И тогда слуги сказали ему: господин, у тех и так много. А хозяин сказал: дайте тем, кто много работал, потому что тому, кто блюдет то, что есть, тому прибавится, а у того, кто не блюдет, и последнее отнимется. Тех же, что не хотели быть в моей власти, выгонитевон, чтобы их не было". Хозяин, удалившийся из своего дома, – Бог, который оставляет людей одних жить на земле. Слуги – люди. Таланты – их высшие души, оставленные Хозяином для прироста. Возвращение Хозяина и требование отчета – "это уничтожение жизни плотской и решение судьбы людей: имеют ли они еще жизнь кроме той, которая была дана им". В этом отношении люди разделяются на три категории. Люди, исполнившие волю Хозяина и прирастившее богатство высшей души, "спасаются", то есть "становятся участниками жизни отца и получают жизнь, несмотря на уничтожение жизни плотской". Люди, закопавшие данный им талант, не использовавшие его в своей земной жизни, "скрывшие серебро господина своего" (Мф.25;18), "лишаются той жизни, которую имели, и уничтожаются". Люди, "которые не признавали власть хозяина, тех для хозяина не существует; он их изгоняет". Это "люди тьмы", которая не существует для Бога. (24.322-4, 854-5) Возникает множество вопросов. Разное количество талантов, оставленное в распоряжение каждого, свидетельствует о разном исходном достоинстве (или хотя бы разной силе) высших душ в разных людях. Что вроде бы очевидно. Но почему достоинство и сила высшей души в одном человеке изначально (от Бога) выше и больше, чем у другого? Чем это вызвано? Толстой говорит, что это только так "кажется" нам: "Тот, кто сознает в себе сына человеческого, будет жить жизнью истинной, тот приобретет жизнь истинную. Жизнь же истинная не может быть ни больше, ни меньше. Если в жизни земной нам кажутся одни люди имеющими больше, а другие меньше, одни пять гривен, другие две и одну, то для жизни истинной они все равны, они все существуют в радости хозяина"(24325). Людям может казаться все, что угодно, но по тексту Евангелия от Матфея хозяин сам по-разному распределил богатство среди людей. И потому Толстой, редактируя через полгода составленное В. И. Алексеевым "Краткое изложение Евангелия", излагает притчу о талантах не по Евангелию от Матфея, как прежде, а по Евангелию от Луки. У Луки (Лк.19;13) сказано, что хозяин "призвав же десять рабов своих, дал им десять мин (фунтов серебра – И. М.)". Что дало возможность Толстому сказать, что хозяин "раздал им десять талантов – каждому по одному"(24.854). Но в этом месте Евангелия от Луки для Толстого возникает другое затруднение, которое не так явно у Матфея. Сколько мин исходно дано каждому, у Луки не сказано, но сказано, что у одного его мина принесла десять мин, а у другого – пять. Хозяин одобряет и того и другого, но одному дает в награду десять городов, а другому пять. Выходит, что в Царстве Божьем, "для жизни истинной" не все равны. Опять в Царстве Божьем возникает неравенство. В первом случае, у Матфея – исходно, во втором, у Луки – в результате. Одно – неравенство первичных возможностей в Царстве высших душ, а другое – различие статуса в Царстве Божьем. Более того, выходит, что вошедшие в Царство Божье, в жизнь истинную, в радость Хозяина награждаются по-разному в соответствии с заслугами, по справедливости. Что не соответствует тезису о том, что "жизнь истинная не может быть ни больше, ни меньше". Притча о талантах, объясняет Толстой, "выражает еще и то, что людские понятия о справедливости не приложимы к вопросу жизни и смерти. Понятие ветхозаветное о том, что за такие-то дела Бог награждает, за такие-то наказывает – ложно. Нет ни наград, ни наказаний… Не люди живут для себя. Если бы они жили для себя, то были бы награды и наказания для них. Не люди живут для себя, а Бог в людях живет для Себя. Если человек живет для Бога, то он живет. Если он живет для себя, без Бога, то он не живет, и как жить нельзя ни меньше, ни больше, так и не жить нельзя ни меньше, ни больше, человек живет или не живет. Тут нет ни наказания, ни награды, а есть жизнь и смерть. Учение Христа есть только учение о том, что жизнь, что смерть"(24.325-7). Толстому приходится соединять и ретушировать две редакции притчи о талантах так, чтобы сделать нужный ему вывод: "Семя духа Божия посеяно равно во всех сердцах, и каждый человек может увеличить в себе это семя духа. Каждый предоставлен самому себе. Бог дал каждому духа. Одни, получив этот дух, полюбили его, взрастили в себе, удвоили и дали плод каждый по силам"(24.324). Задача человека – исполнить волю Бога, взрастить в себе высшую душу и дать плод. Что это значит? Еще не ясно. Ясно только, что воля Бога в том, чтобы жить не для себя. Вот почему люди, получив жизнь, обязаны понимать, что "жизнь есть воля Отца и должна служить жизни других". В отличие от людей, "которые исполняют только свою волю, а не волю Отца, и не служат жизни других"(24.855). Служение жизни других приравнивается "к служению жизни" и, следовательно, к служению Богу. Что позволяет Толстому уйти здесь от решения мистических вопросов, неизбежно возникающих "в учении о том, что жизнь, что смерть". Именно тот раб, которому, по Матфею, дан "по его силе" всего один талант, прячет его в землю. Толстой, разумеется, опускает этот момент. Ему важно, что "кто держится жизни, тому дается еще больше; кто не держится жизни, у того последняя отнимается". Но эта "последняя" не только жизнь земная, жизнь животной личности, но и жизнь истинная, жизнь высшей души – тот один талант, который первоначально дан ему. И по Матфею, и по Луке, единственный талант не просто отнимается у "ленивого раба", а передается тому, у кого образовалось десять талантов и у кого теперь стало одиннадцать. У Матфея есть точное объяснение этого. Возвратившийся господин говорит лукавому и ленивому рабу, что "надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью" (Мф.19;27). О чем идет тут речь с церковной точки зрения понятно, но с позиции Толстого – необъяснимо. Как можно свою высшую душу (свое разумение жизни, своего сына человеческого, Бога своего) отдать другому человеку для взращивания? "Никто не может передать своего блага другому"(24.354), – сказал Толстой. Когда спрятавший свой талант раб говорит, что хозяин его жнет, где не сеял, то имеет в виду хозяйское требование приращения таланта. Но Толстой объясняет иначе. У Толстого раб говорит сам себе: "Хозяин хочет взять у меня то, чего он не давал мне, – плотские радости: так не дам же их ему, а буду жить для них. А жизнь разумения, какая есть, такая и будет". Или в другом варианте: "За что отдам я плотскую свою жизнь, плотские наслаждения ради жизни духа, который не мой. Он хочет, чтобы я ради этого духа отдал ему то, чего он не давал мне, – плотскую мою жизнь. А лучше я спрячу этот зародыш духа, данный мне, и буду жить плотью. Но он потерял и последний зародыш духа Божия, и плотская жизнь его кончилась смертью"(24.324-5). Есть у Толстого и другое объяснение: "Царю все равно, у кого гривны, только бы они были"(24.352). Наблюдать и далее за тем, как Толстой бьется с евангельскими текстами, непродуктивно. Отметим только, что если "семя духа Божия посеяно равно во всех людях", то как с точки зрения Толстого понять существование тех "сынов тьмы", которые отказались признавать хозяина? Они, в соответствии с другой евангельской притчей, – плевелы, сжигаемые после жатвы, то есть окончательно уничтожаемые, полностью выводимые из существования после плотской смерти. Почему же они живут среди нас? По Толстому, они и не "живут", а "умирают", то есть живут не истинной жизнью высшей души, а неистинной жизнью животной личности. А что же в таком случае, делает их высшая душа? Зарыта, скрыта и не трудится? Нет, так сказано не про них, а про лукавого и ленивого раба. Эти же, по мнению Толстого, "для хозяина не существуют", их "нет для отца"(24.855). Что применимо только по отношению к тем, которые не несут в себе высшую душу, в которых высшая душа отсутствует. Толстой сам называет их не людьми, а "человеческими существами", которых есть "много"(24.326). А если без стеснения, то – большинство. Зачем они? Как быть с ними? С общественной и общедушевной точек зрения обойти эти вопросы никак нельзя. Но с точки зрения человека как такового, с всечеловеческой точки зрения вопросы эти могут быть сняты с первого плана и переведены на периферию учения о человеке. Ведь ясно, что "кто взялся за соху, да назад глядит, тот не годится в Царство Бога"(24.358).
11 (18) В толстовском изложении Евангелия к притче о талантах примыкает притча о свадьбе царя по Евангелию от Матфея. Царь звал на брачный пир для сына своего, но званые не пришли, а некоторые даже убили звавших их на пир; тогда царь позвал на пир других, и те пришли. По всей видимости, речь у Матфея идет об отвержении евреев и призвании язычников. Такое толкование кажется Толстому мелкотравчатым, понижающим значение слова Христова. "Мне кажется, что мысль эта так проста и бедна, что если бы такая мысль и была у Иисуса, он бы не дал себе труда разъяснять ее притчами"(24.371). Смысл притчи о свадьбе царя, по Толстому, таков: "Притча о свадьбе царя особенно близка к притче о талантах. Новое в ней то, что притча о талантах разъясняет стих о том, что "воля Отца та, чтобы не погубить ничего из того, что он дал мне", а эта разъясняет мысль о том, что "никто не может прийти ко мне, если бы Отец не тянул его к себе". Отец тянет к Себе, как царь зовет всех на ужин, и желает иметь как можно больше гостей. Отец призывает к себе, тянет к себе всех. Если не придут одни, то придут другие. Если одни зерна упадут на дорогу, камень и терние, то другие попадут на добрую землю, и плод будет. Отец мало того, что посеял поле и ждет, но он приготовил благо и зовет на него. Но одним людям кажется, что те дела, которые занимают их, важнее этого, и они не идут просто, а другие, как те жители города в притче о талантах, которые вовсе не хотят признавать царя, – даже ругаются над работниками и убивают их. Тех царь уничтожает и наполняет ужин свой теми, которые хотят прийти"(24.372). Церковь и Толстой словно на разных полях толкования. Что важно для Церкви, то совсем неважно для Льва Толстого. Христиане оспаривают у иудеев их "избранность", и потому для Церкви жизненно важен итог вероисповедальческого противостояния между христианами и иудеями. Толстому это совершенно безразлично, хотя бы потому, что Иисус у Толстого отвергает весь Ветхий Завет и возвещает новое Богопонимание и новое жизнесознание, которые не нуждается ни в религии евреев, ни в религии язычников и может существовать само по себе, без предшествующих религий. Слова Иисуса, по Толстому, обращены к человеку всех времен и народов и имеют высокий, всеобщий и вечный смысл, а не конкретно-исторический смысл, связанный с обстоятельствами места и времени плотского рождения Иисуса. Церковь стоит, как ей и положено, на кофессионально-общедуховной позиции; Толстой же – на всечеловеческой. В притче о богатом и Лазаре (Лк.16;14-31) сказано: "что высоко у людей, то мерзость пред Богом". Богач при жизни все время "пиршествовал блистательно", тогда как Лазарь до последней степени нищенствовал. Когда они умерли, то первый попал в Ад, а второй в Рай, рядом с Авраамом. Богач попросил Авраама послать Лазаря помочь в его мучениях, на что Авраам ответил, что между Адом и Раем непроходимая пропасть, да и "ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь". По толкованиям Церкви, здесь "подразумевается, что этот богач не был сострадателен к бедному и не хотел его успокоить и облегчить страдания его, а жил себе в свое удовольствие". Церковь (по словам Толстого) считает, «что Лазарь блаженствует потому только, что страдал на земле, а богач терпит мучения потому только, что благоденствовал в земной жизни. Но, без сомнения, здесь ответ необходимо дополнить той мыслью, что Лазарь при своих бедствиях был праведен, а богач при своем богатстве был нечестив, не умел надлежащим образом употреблять богатства своего"(24.386-7). Это чисто общедушевная точка зрения. Лев Толстой толкует ту же притчу с всечеловеческой точки зрения: "Смысл притчи теоретический тот, что время жизни дано для того, чтобы получить жизнь истинную. Придет смерть и человек лишиться этой возможности. Христос в самой грубой, насмешливой форме выражает, с одной стороны, ту мысль, что когда кончится жизнь, придет смерть, то все житейское окажется ненужным, и с другой, что воротить эту возможность жизни, уже нельзя". И далее: «Смысл притчи практический тот же, но сказано, что именно надо делать, чтобы получить жизнь истинную. Отдавать плотскую жизнь, отдавать ее не на словах, можно только тем, чтобы не держать за собой богатств, когда есть нищие, голодные. И потому держание собственности, когда есть нищие, несовместимо с жизнью. Чтобы отдавать жизнь, надо прежде всего отдавать собственность, а кто не отдает, тот не может получить жизнь"(24.389). Толстой убежден, что "держание собственности" несовместимо с истинной жизнью и ведет к смерти. Вопрос собственности у Толстого не социальная и не моральная проблема и не только предмет для проповеди, а "практический" вопрос жизни и смерти, вопрос "спасения". В том числе своего спасения от смерти и смертной жизни, спасения своей жены, своих детей. Буря непонимания, которая поднялась в его семье (а затем и в обществе) по поводу его намерения раздать имение, ставила Толстого в драматическое положение: он желал спасти, а его винили в том, что он губит. Всю мощь людского противодействия его пониманию Евангельского завета Толстой в полной мере испытал в своей семье и на своей собственной судьбе. Многие вопросы (в том числе и вопросы собственности), поставленные его учением на основании Евангельских текстов, Толстой разрешал не за письменном столом, а в мучительном опыте своей жизни. Он был не только великим учителем и пророком, но и великим страдальцем своего учения. Учению Иисуса, говорит Лев Толстой, "нельзя следовать немножко… Если же оно истина, то истины немножко не может быть – истина или ложь"(24.403). Только такими глазами Толстой читал и понимал Евангелия. Сказано, нельзя служить двум господам, Богу и маммоне, – значит, нельзя. Сказано: "Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие" (Мк.10;25). Для церковных толкователей тут говорится не о богатых людях вообще, а о тех, которые пристрастились к богатству. Правящая Церковь, имеющая дело с тем обществом, которое есть, иначе и толковать не может.*) Для Толстого же житейские и общественные соображения не имеют силы. Христос – не политик. "Иисус Христос нигде не велит отдавать бедным, чтобы бедные были сыты и довольны", так как "Иисус не только не говорит о пользе материальной, он не знает ее"(24.410). *)В тексте притчи о богатом юноше сказано, что следует раздать имение, "если хочешь быть совершенным", то есть вопрос выносится из категории общественно-политической жизни в область личной душевной жизни.
12 (19) Основополагающий для Христианства 28 стих главы 20 Евангелия от Матфея: "Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих", Толстой переводит так: "Так как сын человеческий не затем объявился, чтобы ему служили, а затем, чтобы служить и жизнь свою отдать, как выкуп за большое"(24.515). Здесь "Сын человеческий" это не столько высшая душа, сколько "единая сущность Божества, находящаяся во всех людях", то есть та грань (или, если угодно, ипостась) единого Источника, Единого Бога, которая, оставаясь единым целым, разделилась сама в себе и в таком виде размещена в отдельных людях, дана каждому человеку в отдельности в качестве его высшей души. В этом смысле Сын человеческий (о ком, видимо, следует писать уже с большой буквы) есть своего рода состоящая в Боге маточная сущность, из которой происходят высшие души людей. Или такая сторона Всевышнего, которая способна делиться в себе, чтобы становиться высшими душами людей. Памятуя о том, что Толстой претендует на раскрытие первоначального смысла слов Христа, можно отметить некоторое сходство толстовского "Сына человеческого" со многими идеями, издревле бытующими в разных концах света. Сошлюсь на авторитетное мнение Е. А. Торчинова по этому вопросу. Он пишет об архетипе Космоантропоса и в этой связи вспоминает об Антропосе гностико-герметической традиции, о библейском Первочеловеке (Адаме Кадмоне каббалы), "частицы которого образуют индивидуальные души-сознания, и в будущем, в момент полного исправления творения (гемар-тиккут) они вновь объединятся в его вселенском теле". "Если говорить о мифологических аналогах Адама Кадмона, – замечает Е. А. Торчинов, – то сразу же вспоминаются Вират-Пуруша Ригведы и Пань-гу китайского космогонического мифа (заменяемый в некоторых даосских текстах образом божественного Лао-Цзы как одного из ликов или ипостасей Дао-Пути)". В ведантической традиции брахманизма, рассказывает Е. А. Торчинов, существует представление о Золотом Зародыше, Хираньягарбхе. "В упанишадах Хираньягарбха – космическая вседуша, начало, находящееся между Богом (Ишвара) и душой человека… В философской системе адвайта-веданта Шанкары Хираньягарбха – не только Бог в аспекте его наделенности тонкой силой иллюзии (майя), но и (прежде всего) единая душа (джива), отражение Абсолюта (Брахмана). Индивидуальные души, в свою очередь, являются образами или отражениями единой души – Хираньягарбхи". Различия между всеми этими космоантропологическими представлениями и толстовским "Сыном человеческим", конечно, существуют; они значительны и могут послужить предметом специального исследования. Но прежде надо уяснить позицию самого Толстого. Зачем Бог послал Своего Сына человеческого в человека? Какова цель и каков смысл существования "единой сущности Божества" в разделении? Вот первые вопросы Толстого. "Существование сына человеческого, – отвечает Толстой, – только и состоит в том, чтобы возвращаться к Источнику, к Богу". При таком возвращении к Единому Сын человеческий и сам восстанавливает свое единство, опять становится "единой сущностью Божества". Но полностью и вполне ли? Приводя притчу о заблудшей овце, Толстой устанавливает, что "сын человеческий пришел спасти гибнущее",*) так как "Отец ваш на Небе желает, чтобы не пропал ни один из этих маленьких людей"(24.517), то есть чтобы Сын человеческий возвратился к Отцу в той полноте своей, в которой он послан в человечество. *) Стих 10 гл. 19 Луки: "Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее", то есть совершившего грехопадение человека. Толстой переводит: "Потому, что в том дела сына человеческого, чтобы отыскивать и спасать то, что погибло и погибает"(24.408), то есть спасать все те высшие души, которые посланы Богом в человека. "Потому что в том вся жизнь человека, чтобы отыскивать и спасать в душе своей то, что погибает"(24.429). У Бога, пославшего Сына человеческого в человека, есть "одно неизменное желание"(24.517) – возвращение к Себе того, кого Он послал в земную жизнь, возвращение обратно Сына человеческого. Отсюда заповедь любви к Богу. Другое основное стремление Сына человеческого, живущего в земном человеке, направлено на восстановление своего единства. "Из этого вытекает любовь людей между собой", заповедь любви к ближнему. Когда человек любит и жалеет не одну свою душу, но и души других, то он тем самым работает на единство Сына человеческого и любит его самого. Сын человеческий "един во всех людях и для того, кто возвеличил в себе дух Сына человеческого, кто постиг его сущность, неизбежно вытекает единение со всеми людьми; единение неизбежно вызывает сострадание и любовь. А сострадание и любовь проявляются только делами… Самое глубокое учение о единстве Сына человеческого во всех людях сводится с самыми простыми признаками выполнения любви к ближнему… Для жизни духа нужны дела добра. Для дел добра нужно сознание в себе духа"(24.562). В качестве высшей души Сын человеческий является носителем истинной (несмертной) жизни Бога в человеке. Но что ж такое земная жизнь и зачем она? "Жизнь земная, – отвечает Лев Толстой, – состоит только в том, чтобы отдавать ее как выкуп за жизнь истинную"(24.516). Это, собственно говоря, есть та самая мысль о несении креста своего, с осмысления которой, по нашей догадке, и начало воздвигаться здание учения Толстого. Дело искупления жертвой Христа-Бога для спасения людей заменено у Толстого выкупом жизни истинной за жизнь земную – некоторого рода жертвой земной жизнью, которую свободно приносит человек для Бога. "Людям дана жизнь плотская затем, чтобы отдавать ее за жизнь невременную"(24.528). Без этого выкупа вся жизнь человеческая превращается в бессмыслицу. По одной из евангельских притч (Мк. гл. 12), которые рассказал Христос в Храме, хозяин (Бог) насадил виноградник и послал в него работать виноградарей. Затем, по прошествии времени, послал к ним одного и другого и третьего слугу принять плоды от виноградника. Но виноградари ничего не дали и избили посланцев. Тогда хозяин послал сына. "Но виноградари сказали друг другу: это наследник; пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника?» (Мк.12;7-9) – спрашивает Иисус. По Матфею, Иисусу отвечают слушатели притчи (иудеи): хозяин, конечно, казнит злодеев, а виноградник отдаст другим добросовестным работникам. Тогда Иисус говорит им: "неужели вы никогда не читали в писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит "(Мф.21;42-44). Последнюю фразу Толстой опускает (без каких-либо объяснений) и переводит: "И сказал им Иисус: или вы никогда не читали в писании: тот, что выбросили камень строители, тот и стал державой свода. Держава эта от Бога и удивительна на наш глаз. Поэтому говорю вам: вы лишитесь Царства Бога, и дастся оно тем, которые творят плоды его"(24.525-6). Смысл притчи, по каноническому тексту Евангелия, в том, что Царство Божие отнимается у евреев и передается христианам. Что, по Толстому, лишь "частное значение", в силу которого утрачивается "глубочайшее значение" притчи. Значение же этой притчи в том, что она разъясняет те условия жизни, в которых человек поставлен на земле. "Положение людей в мире подобно положению работников в чужом саду. Работать нужно, жить нужно. Хочешь, не хочешь, будешь работать, будешь жить; и будешь жить не для себя, а как ни живи, как ни работай, всё будешь работать на других, как в чужом саду. Если не признаешь хозяина сада, того, кто послал тебя сюда, и не сделаешь того, что он велел, то хозяин прогонит, убьет и пришлет других". Мысль эта так важна, что Толстой тут же еще раз повторяет ее: "Севец сеет*): одни семена пропадают, другие растут. Точно так же в мире людей. Те люди, что не исполняют воли Бога, гибнут и заменяются другими. Главное значение притчи отрицательное. Иисус живо представляет бессмыслицу жизни, если нет хозяина и нет определенной воли хозяина. Как только люди забудут хозяина или не захотят знать его, так жизнь становится какой-то безумной игрой. Работать всю жизнь на чужого, мучиться, слышать какие-то требования совести, ни к чему не ведущие, заглушать их и потом погибнуть. И если не признавать хозяина, нет и не может быть другой жизни. Жизнь – бессмыслица. Только тогда эта жизнь получает смысл, когда люди признают хозяина и отдают ему плоды его, только когда люди признают Бога, работают ему и сливают свою жизнь с волею Бога"(24.527). *) Припомните ранее высказанное основное положение человеческой жизни у Толстого: "Бог сеет, а человек жнет"(24.328) "Все земное – чуть ниже продолжает Толстой свою мысль – есть как начало постройки дома, который мы не можем окончить, и значение ее есть только возможность жизни в Боге, которая не уничтожается. Надо пользоваться этой возможностью; в этом одном – жизнь истинная. Хорошо ли, дурно ли это, нравится ли нам это, или не нравится, находим ли это, по нашим понятиям, справедливо или нет, – это все равно, это так, и другого ничего нет"(24.531-2). Но для того, чтобы "признавать хозяина" и "пользоваться возможностью", надо верить. Христианство держится на Вере. Ученики просят Христа увеличить в них веру. "Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас" (Лк.17;6). Толстой утверждает, что тут неправильно переведено и искажен смысл, что зерно горчичное тут не образ самого малого, а образ Царства Божьего, которое внутри людей. "Вера, подобная зерну горчичному, есть вера в то, что самое незаметное в вас – жизнь, дух – есть зародыш*) жизни истинной. Если бы вы верили в это, то есть знали так же несомненно, как то, что из зерна горчичного вырастает дерево, вы бы не просили увеличение веры. Вера есть несомненное знание"(24.530), и знание вполне мистическое. "Вера в том, чтобы понимать свое положение, и то, в чем спасение"(24.567), – писал Лев Толстой. *) Отсылаю к "Золотому Зародышу", о котором говорилось выше. Как же человеку узнать, когда он в Царстве Божьем и достиг несмертной жизни, а когда нет? Тогда, видимо, когда для него наступает «блаженное время», происходит «соприкосновение» с высшей жизнью, и он в самом себе постигает жизнь настоящую. "Никто не может знать, когда и где случится это с человеком. И показать и доказать этого нельзя. Одно, что вы можете знать, это то, когда это совершится в вас, вы почувствуете в себе жизнь настоящую"(24.568). Конечно, при особом на то желании любой – сам или с помощью опытных помощников, мастеров по этому делу – способен уверовать, что он чувствует в себе "жизнь настоящую". Однако результат работы, ее итог или ее цель, никогда не были для Толстого критерием исполнения учения. Основной пафос учения Толстого – процесс достижения, само движение к цели, подъем, произведенная внутренняя работа. Главное не в том, что "показать и доказать этого нельзя", а в том, что "никто не может знать, когда и где случится это с человеком", что произойдет это "всегда и никогда"(24.557) – и потому каждый всегда, в любой момент времени должен бодрствовать, как сторож, и, как девы со светильниками, всегда быть в готовности встретить "жениха". Не ждать, а искать, стремиться, работать. В Евангельском стихе: "Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам" (Лк.11;9) поставлено ударение на результате действия, на том, что "будет дано", что "найдете", что "отворят вам". В толстовском переводе этого стиха: "Просите, и дастся вам; кто ищет, тот найдет, кто стучит, тому отворят"(24.545), ударение сделано на необходимости действия самого по себе, на том, кто просит, ищет, стучит. Теоретически "спасение человека в нем самом, в его сыновности Богу"(24.624). Практически спасение человека – в его руках. "Нельзя же ожидать, чтобы Бог дал вам духа, спасающего от смерти, когда вы и не ищете, не просите Его"(24.568). Спасение – не вопрос Богословского рассуждения, а практический вопрос дел жизни каждого человека. Смысл ответа Иисуса на обращенный к нему вопрос о том, многие ли люди спасутся (Лк.13;23-27), Толстой разъясняет так: "Для сына человеческого нет ни места, ни времени, и потому ни много, ни мало. Во всех брошено семя… Не рассуждать нужно о том, кто и как спасется, а нужно работать, биться, силою входить в двери, потому что те, кто будет рассуждать, те не войдут. Было время входить (то есть время земной жизни. – И. М.) – не вошел, дверь затворилась. И никакие рассуждения помочь не могут. Не рассуждать надо, а делать*)"(24.557). *) Это общий принцип, по смыслу совпадающий с любимым Толстым правилом: "Делай что должно, пусть будет". "Рассуждения" тут понимаются в самом широком смысле: "Если я буду соображать, что мне опасно или не опасно, буду думать о том, что в плотской жизни выйдет для меня из моего поступка, то я уйду от света во тьму, и тогда только я погибну, потому что кто ходит при свете, тот не спотыкается… То, что выходит разумным по нашим плотским соображениям, только это и есть тьма"(24.608-9). Вот так! И окончательный вывод: "Люди все разделяются тем, как они служат Сыну человеческому. И своими делами они разделяются надвое, как делят в стаде овец и козлов. Одни будут живы, другие погибнут. Те, которые служили Сыну человеческому, те и получат то, что принадлежало им от начала мира – жизнь, ту, которую они сохранили. Сохранили же они жизнь тем, что служили Сыну человеческому: голодного кормили, голого одевали, странника принимали, заключенного посещали. Они жили Сыном человеческим, чувствовали, что он один во всех людях, и потому любили его. Он один во всех. Те же, кто не жили Сыном человеческим, те не служили ему, не понимали, что он один во всех, и потому не соединялись с ним и потеряли жизнь в нем и погибли"(24.570). Греческое слово, которое в тексте Евангелия переводится как "воскресение" в смысле оживления после смерти и повторного земного существования, Толстой везде переводит либо словом "пробуждение", либо словом "восстановление". Например, слова: "А о воскресении мертвых, не читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у Него все живы" (Мф.22;31-32, Лк.20;38) Толстой переводит: "О мертвых же, что они пробуждаются, разве не читали слово Бога к вам? Он сказал: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых. Потому что Ему все живы"(24.612-13). Другое место: "А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения" (Лк.20:35-37). Перевод Толстого: "Те же, которые сделаются достойными той жизни и восстановления к жизни от смерти, не женятся и замуж не выходят, потому что они и умирать уже не могут, потому что они делаются волей Божией, делаются сынами Бога и сынами восстановления"(24.611). Человек "мертвый", то есть живущей смертной жизнью, обладает своей волей, самоволием животной личности. Человек "живой", то есть живущей истинной (несмертной) жизнью, вместо вольности своей животной личности устанавливает своей волю Бога – и сам делается волей Бога. Впоследствии Толстой пользовался и понятием "воскресения", но всегда понимал его "как пробуждение жизни истинной в жизни плотской и соединение ее с Богом". То есть как духовное рождение. "Для Бога нет времени, и потому, соединяясь с Богом, человек уходит от времени, следовательно, от смерти. Если умерший Авраам соединился с Богом, то он и остался с Богом. И если есть Бог, – то есть и Авраам. И если Иисус, как он сказал в беседе Евангелия от Иоанна гл.10, соединился с Богом, то он мог сказать, что прежде, чем был Авраам, он есть"(24.617). *)Е.А. Торчинов. Религии мира. Опыт запредельного. СПб. Центр "Петербургское востоковедение", 1997г., с.312-13
13 (20) Теперь, зная религиозные мысли Льва Толстого, мы сможем по-новому взглянуть на знакомый текст его рассказа о жизни и смерти Ивана Ильича. При таком чтении рассказа Толстого во всем видно намерение, которое автор и не скрывает, но это почему-то не мешает, не портит общение с писателем. Толстой пишет о повседневной жизни так, что сквозь ее суетность проступает ее сокрытая существенность, и вся она обретает высоту и серьезность, которую человек обычно не ощущает в ней. С нами говорят о самом серьезном и мучительном, что есть в человеческой жизни, и говорят так, таким голосом, который не оставляет сомнений в праве писателя говорить с людьми об этом предмете. Толстой просто, легко и как бы без усилий раскладывает жизнь, которой мы все живем, и смерть, которой мы умираем. Это участь каждого в жизни, участь человека как такового. И как герой рассказа Толстого ощущал, что "что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нем", так и мы, читая, сознаем, что при нас совершается что-то новое и такое значительное, чего значительнее нет в человеческой жизни. Вот что так завораживает всех нас, читателей рассказа Льва Толстого. Впрочем, тут не обошлось без некоторого рода аберрации читательского взгляда. Толстой пишет не только и не столько о том, что всегда бывает, с чем нельзя смириться и нельзя не смириться – о смерти в результате прожитой жизни, а о том, что должно быть с человеком по его учению – о восстановлении истинной жизни в смерти. Толстовский рассказ "Смерть Ивана Ильича" точнее было бы назвать "Восстановление (жизни) Ивана Ильича". И если Толстой назвал: "Смерть Ивана Ильича", то потому, что в рассказе речь идет о том, как Иван Ильич умирал и не умер, о том, как не стало смерти Ивана Ильича. Первые наброски к рассказу были сделаны Толстым как раз в то время, когда он завершал работу над "Соединением и переводом четырех Евангелий". Завершил же рассказ Толстой тогда, когда готовился работать над трактатом "О жизни", который первоначально и назывался "О жизни и смерти". Иван Ильич у Толстого воскресает из мертвых. Иван Ильич постоянно искал в жизни легкости, приятности и приличия, но вдруг объявились смертные страдания, и он нежданно нашел в смерти жизнь. Рассказ недаром начинается с того, как людьми встречена смерть героя. Все было "как всегда", и это всегдашнее течение "смертной" жизни состояло в полном несоответствии с тем, что произошло в последние мгновения жизни с Иваном Ильичом, и что никто из людей не заметил. Уже на первых порах болезнь Ивана Ильича привела к тому, что и он, и его жена, и их дочь стали жалеть самих себя. Чувство жалости особенно нагружено Толстым в рассказе. Вследствие лжи остающихся жить "мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели". Один сын Вася "понимал и жалел" его. Да еще Герасим "жалел исчахшего слабого барина". Жалеть себя для Толстого – признак закостенения человека в животной личности. Жалеть другого для Толстого – пробуждение жизни Сына человеческого в человеке. Ивану Ильичу казалось, что свет жизни уходит от него и наступает мрак. Смерть все больше и больше завладевала им. Дошло до того, что от тоски и мучений Иван Ильич звал смерть, но спохватился. "Все то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет. Всё лучше смерти!" Вошла жена и целует мужа. "И прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней". Вошла дочь – "сильная, здоровая, очевидно влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью", – и вид полуобнаженного молодого тела дочери заставил его страдать. Такова экспозиция того, что происходит в рассказе. Как-то раз, еще за месяц до смерти, Иван Ильич находился в мучительном забытьи. "Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок и глубокий, и все дальше просовывают и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается со страданием. И он боится и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся". Исхудалые ноги в чулках на плечах Герасима и та же боль. "Ему стало жалко себя". Он "не стал больше удерживаться и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога. "Зачем Ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?…" Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: "Ну еще, ну бей! Но за что? Что я сделал Тебе, за что?" Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем". Иван Ильич услышал голос своей души, голос Бога своего, Сына человеческого, своей высшей души, которая вступила в диалог с его животной личностью. "– Чего тебе нужно? – было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. – Что тебе нужно? Чего тебе нужно? – повторил он себе. – Чего? – Не страдать. Жить, – ответил он. И опять он весь предался вниманию, такому напряженному, что даже боль не развлекала его. – Жить? Как жить? – спросил голос души. – Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно. – Как ты жил прежде, хорошо и приятно? – спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но – странное дело – все эти лучшие минуты своей приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда". Так что же: вся жизнь – бессмыслица? Тут что-то не так: "Если точно она так бессмысленна и гадка была, так зачем же умирать и умирать страдая?" И Толстой дает ему верный ответ: "Может быть, я жил не так как должно?" приходило ему в голову. "Но как же не так, когда я делал все, как следует?" говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти как что-то совершенно невозможное". За три дня до смерти Иван Ильич понял, что совсем пришел конец. «Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, не смотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мучение его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще более в том, что не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешало признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучило его». Но какая-то невидимая сила заставила его хоть в последнюю минуту сделать работу жизни, признать то, что он не желал признавать – что «все то, чем ты жил и живешь, есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть». За час до смерти он все-таки признал это, и «там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление". На последних страницах рассказа Толстой постоянно подчеркивает необходимость отречения от себя в прожитой жизни, самоотречение от того, чем и как всю жизнь жила животная личность, признание того, что вся прошлая жизнь – неистинная, смертная жизнь – "не то". Если такое отречение от жизни животной личности происходит свободно, то это означает перенос ударения сознания жизни на высшую душу, восстановление единого во всех людях Сына человеческого. Иван Ильич увидел свет, признал, что вся жизнь его была "не то", и понял, "что это можно еще поправить". Пришедший на работу последним в евангельской притче получил ту же плату, что и работники, которые много работали прежде него. Можно, оказывается, во весь земной срок жизни так и не прийти на работу Бога, прийти хотя бы в последний момент земной жизни – и спастись. «Да, все было не то, – сказал он сам себе, – но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что же «то»? спросил он себя и вдруг затих». "Кто не живет на корне, тот отрезается и погибает"(24.732) – сказано в «Евангелии от Толстого». Не уничтожается только то, что приносит плод. Евангелист Лука рассказывает, что в то время, как один из распятых вместе с Иисусом разбойников злословил его, другой разбойник пытался урезонить своего товарища и сказал: «помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». На что Иисус ответил: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в Раю» (Лк., 23.42—43). Последние слова Толстой перевел: «и сейчас же ты со мной блажен» (24, 39). По Луке, разбойник спасся тем, что покаялся в последнюю минуту и, главное, уверовал на кресте во Христа Бога; по Толстому, разбойник получил жизнь и благо оттого, что раскаялся в своей прежней жизни в предсмертную минуту и, главное, пожалел человека Иисуса, что для него, безжалостного, было громадным нравственным скачком. «Разбойник сжалился над Иисусом, и это чувство жалости было проявлением жизни. И Иисус говорит ему: ты жив»(24,781). За час до смерти Иван Ильич сделал "то" – как раз то, что, по Толстому, сделал разбойник на кресте. Тут в тексте Толстого нельзя пропустить ни строчки. "Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее. "Да, я мучаю их, – подумал он. – Им жалко, но им лучше будет, когда я умру". Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. "Впрочем, зачем же говорить, надо сделать", подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал: – Уведи… жалко… и тебя… – Он хотел сказать еще "прости", но сказал "пропусти", и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукой, зная, что поймет тот, кому надо. И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг всё выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. "Как хорошо и как просто, – подумал он. – А боль? – спросил он себя. – Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?" Он стал прислушиваться. "Да, вот она. Ну что ж, пускай боль". "А смерть? Где она?" Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было,*) потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет". *) Сравните толстовский перевод стиха 18 первого Послания Иоанна: "Жизнь наша стала любовь, и мы освободились от страха и всех страданий"(24.937). Он только пожалел семейных своих, и «как хорошо и просто» стало. После целой прожитой ложной жизни, после недель страданий и ненависти к остающимся жить ближним достаточно было в последнее мгновение одного этого истинно доброго движения в душе, и смерти не стало. " – Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость! Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого момента уже не изменилось.*) Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотание и хрипение. *) Ровно теми же словами Толстой описывал пробуждение князя Андрея от земной жизни перед его смертью. – Кончено! – сказал кто-то над ним. Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. "Кончена смерть, – сказал он себе, – ее нет больше". Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер". И Иисус, готовясь к смерти, по Толстому, "чувствует себя освобожденным от смерти" и в прощальной беседе увещевает учеников "так же проснуться и освободиться от смерти". "Вот приходит смерть, – говорит он у Толстого, – но во мне уже ничего нет подвластного ей"(24.730). Слово "Кончено" для Толстого – знаковое слово. "Со словом "кончено" кончено и Евангелие"(24.790) – начинает Толстой свое "Заключение к исследованию Евангелия". Но в Евангелиях этого слова нет. По Иоанну, "Иисус вкусил уксуса,сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух" (Ин.19;30). "Совершилось" то, что назначено Богом, свершилось приношение Жертвы Бога-Сына – свершилось центральное мистическое событие в существовании Мира и человека. Толстой соединяет это место со стихом 46 главы 23 Евангелия от Луки и переводит: "И когда вкусил уксуса, Иисус сказал громким голосом: Отец, в руки Твои отдаю дух мой. Кончено! И, склонив голову, предал дух"(24.782). Такими же словами Толстой, как видите, завершает и свой рассказ о "воскресении" Ивана Ильича в последнюю минуту перед смертью. Слово "совершилось" евангельского текста Толстой заменяет словом "Кончено" именно потому, что, по его мнению, на этом эпизоде вся евангельская история Иисуса кончилась, что дальше никакого "воскресения из мертвых" не могло быть и не было, как, собственно говоря, и не было "смерти" Иисуса. Это-то свое понимание Евангелия и человека вообще Толстой и сообщил читателю в финале рассказа об Иване Ильиче.
Часть 2. Новое жизнепонимание
"Созревает в мире новое миросозерцание и движение
и как будто от меня требуется участие,
провозглашение его. Точно я только для этого
нарочно сделан тем, что я есмъ с моей репутацией –
сделан колоколом"(50.69).
Из Дневника Льва Толстого 1888 года
«Было пшеничное зерно, оно лежало тысячи лет в египетских гробницах,
и оно ничего не знало про себя. Для него самого – для зерна – было всё равно, что его не было.
Ученые раскапывали гробницы, и найдя в них зерна пшеничные, чтобы испытать их,
взяли несколько и покрыли землей и стали поливать водой. И вот зерно, которое было,
но ничего не знало про себя, вдруг узнало про себя, что оно есть,
и есть в одно и то же время и зерно, и росток»(57.121).
Из Дневника Льва Толстого 1909 года
1 (21) Прозрение присутствия высшей души в каждом отдельном человеке раскрыло перед Толстым горизонты иной духовной жизни. Если это не общедуховная (общенародная духовная) жизнь, то – какая же? Высшая душа – капля Сына человеческого в человеке, и потому духовная жизнь высшей души есть жизнь Сына человеческого, то есть всеобщая, всечеловеческая духовная жизнь. Толстой вышел из рамок Общей души и общедуховности (духовной жизни русской Общей души) и вышел на просторы всего человечества и всечеловеческой духовности. Это всему человечеству Лев Толстой – как в эсхатологические времена! – предвещал конец века сего и наступление нового века. Если завтра конец света, то сегодня естественна проповедь сверхземного состояния души: всепрощения, вселюбви, ненасилия и прочее. Так жила Иудея две тысячи лет назад, во времена Христа. Но что ж Россия конца прошлого века? Откуда в ней эсхатологическое нетерпение, приведшее к катастрофам ХХ века? Все российские катаклизмы только что ушедшего века (а, я думаю, и многие исторические катаклизмы везде и во все времена) зачинались с изменения сознания течения исторической жизни и исторического времени. В Х1Х веке, в 70-е, 80-е и 90-е годы, – на совершенно ровном месте Истории – в русском культурном обществе стали заметно преобладать взгляды, которые предвещали скорое и победное завершение Истории или, по крайней мере, светлый всеобщий ее перелом. Людей культурной толпы охватила легковесная, поэтико-лозунговая, декларативная эсхатология, пародийно контрастирующая с грозной эсхатологией двухтысячелетней давности. Чтобы подбодрить Историю, движущуюся прямиком к правде и счастью, культурные люди того времени совершали разные подвиги и, конечно, говорили, говорили, говорили, обещали и заговаривали себя. Почему это было так – сказать трудно. Но Лев Толстой – в высшей степени самобытный и самостоятельный человек, в некотором отношении оказался сыном своего века. В начале 80-х годов, в пору работы над "В чем моя вера?", Толстой переживал современную ему историческую жизнь как "таинственный процесс рождения", который "совершается на наших глазах"(23.448). Послушайте, как художественно: "Только что родившийся ягненок и глазами и ушами водит, и хвостом трясет, и прыгает, и брыкается. Нам кажется по его решительности, что он всё знает, а он, бедный, ничего не знает. Вся эта решительность и энергия – плод соков матери, передача которых только что прекратилась и не может уже возобновиться. Он – в блаженном и вместе в отчаянном положении. Он полон свежести и силы; но он пропал, если не возьмется за соски матери. То же самое происходит и с нашим европейским миром. Посмотрите, какая сложная, как будто разумная, какая энергическая жизнь кипит в европейском мире. Как будто все эти люди знают всё, что они делают и зачем они всё это делают. Посмотрите, как решительно, молодо, бодро люди нашего мира делают всё, что делают. Искусства, науки, промышленность, общественная, государственная деятельность – всё полно жизни. Но всё это живо только потому, что питалось недавно еще соками матери через пуповину. Была церковь, которая проводила разумное учение Христа в жизнь мира. Каждое явление мира питалось им и росло, и выросло. Но церковь сделала свое дело и отсохла. Все органы мира живут; источник их прежнего питания прекратился, нового же они еще не нашли; и*) они ищут его везде, только не у матери, от которой они только что освободились. Они, как ягненок, пользуются еще прежней пищей, но не пришли еще к тому, чтобы понять, что эта пища опять только у матери, но только иначе, чем прежде, может быть передана им. *) И потому, отметим мы про себя, возвратились, уже в наше время, в церковное лоно. Дело, которое предстоит теперь миру, состоит в том, чтобы понять, что процесс прежнего бессознательного питания пережит и что необходим новый, сознательный процесс питания"(23.449). Миру необходимо новое религиозное жизнепонимание, и Толстому кажется, что достаточно раскрыть глаза миру на его подлинное состояние, и Царство Божье на Земле осуществится – пришла его пора. У всечеловеческой духовной жизни должна быть и своя Вершина и своя Вера. И эта Вера всеобщей духовной жизни должна работать на Вершину всеобщей духовной жизни. Новую Веру и новую Вершину всеобщей духовной жизни Толстой открывает там же, где прежде – в Евангелии. Вершину всечеловеческой духовной жизни Лев Толстой видит в образе Иисуса Христа. Веру же устанавливает на основаниях Нагорной проповеди, которая всегда была особенно близка Льву Николаевичу. Евангельская Нагорная проповедь произнесена, по-видимому, в убеждении (вере) что по Воле Господа Царство Божье вот-вот наступит и потому в ожидании конца света человеку следует превзойти общедуховную праведность книжников и фарисеев – ни на кого не гневаться, со всеми скорее мириться, не вожделяться на женщину, не разводиться с ней, не клясться, не противиться злому, любить всех /даже врага/, не копить богатства, не судить, жить настоящим днем и прочее. Толстой же повторял слова Нагорной проповеди для того, чтобы указать людям, как надо жить им, чтобы их усилиями осуществилось Царство Божье. По Толстому, человечество в Истории само уже дожило до Царства Божьего на Земле, и теперь для его практического осуществления необходима вера в действенность Евангельских заповедей и прежде всего заповедей Нагорной проповеди. В «В чем моя вера?», над которой Толстой работал с 1882 по 1884 год, он и провозглашал эту Веру. «В чем моя вера?» это не «В чем моя вершина духовной жизни?», как может показаться. В книге этой Толстой выставил заповеди Нагорной проповеди не как вершину нравственной жизни человека как такового, а как этическую норму для человечества. Этим он не возвысил значение Нагорной проповеди, а, напротив, понизил вершину духовной жизни, сделал ее должной и доступной всем и каждому. Для учителя духовной жизни (а не для общественного деятеля или философа) это – тупик. Или временное отклонение, промежуточный этап. Так оно и было в духовной биографии Толстого. Основная ценность, достоинство и сила учения Христа, по "Соединению и переводу четырех Евангелий", в том, что оно наполняет жизнь смыслом. В "В чем моя вера?" утверждается, что "сила учения Христа не в его объяснении смысла жизни, а в том, что вытекает из него – в учении о жизни. Метафизическое учение Христа не новое. Это все одно и то же учение человечества, которое написано в сердцах людей и которое проповедовали все истинные мудрецы мира. Но сила учения Христа – в приложении этого метафизического учения к жизни"(23.451). И еще: "Напрасно говорят, – убеждает Толстой на первых страницах "В чем моя вера?", – что учение христианское касается личного спасения, а не касается вопросов общих, государственных"/23.317./. Первейшая задача Толстого состоит уже не в том, чтобы развить метафизическое учение, а в том, чтобы выявить правила, которыми принципы такого учения прилагаются к общественной жизни. Эти-то "самые простые, легкие, понятные правила приложения" и найдены Толстым в Нагорной проповеди /63.117 и сл./. Издержки при трансформации вершинных принципов (заповедей) Нагорной проповеди в общественный закон, разумеется, неизбежны. Этическая тирания Толстого, на которую сетуют многие его критики, – образчик такого рода издержек. "В чем моя вера?" более, чем другие книги Толстого, дает критикам возможность видеть учение Льва Николаевича в нужном им общественно-политическом или религиозно-политическом свете. Поэтому-то религиозная и философская критика учения Толстого и до сих пор почти всегда основывается на анализе слов и фраз этой книги. От некоторых немаловажных положений "В чем моя вера?" Толстой, как мы расскажем, впоследствии отказался, другие в значительной мере переосмыслил, третьи опустил или затушевал. Изучая учение Толстого по "В чем моя вера?", надо помнить, что это раннее и далеко не зрелое произведение его как учителя духовной жизни, что впереди у Льва Николаевича четверть века продуктивнейшей работы над своим учением и своей проповедью.
2 (22) "В чем моя вера?" прославилась проповедью ненасилия. Но, как мы теперь знаем, ненасилие ненасилию – рознь. Одними людьми ненасилие возвещается по слепой и односторонней ориентации в жизни или по склонности к простым и грубым решениям. Другими – декларативно и мнимодушевно, по «наклеенной совести», как говорил в таких случаях Толстой. Для третьих, как для Ганди, ненасилие – явление общедушевное, сила общедушевного жизнеощущения и жизнечувствования, и в таком качестве может быть использована для политической борьбы. Ненасилие же у Толстого изначально связано с его нравственным вдохновением и с его реальным переживанием абсолютной нравственной вершины жизни. Однако в «В чем моя вера?» ненасилие имеет свое особое звучание. Пятая заповедь Нагорной проповеди – четвертая по толстовскому счету, – заповедь ненасилия, поставлена Толстым в этой книге в центр внимания, во-первых, потому, что насилие "всегда противоположно любви"(23.313), и, во-вторых, потому, что это место Евангелия, по заявлению Толстого, "было для меня ключом всего"(23.310). На первых страницах "В чем моя вера?" даже утверждается, что непротивление злому есть "основа учения" Христа. "Положение о непротивлении злому есть положение, связующее все учение в одно целое, но только тогда, когда оно не есть изречение, а есть правило, обязательное для исполнения, когда оно есть закон. Оно есть точно ключ, отпирающий все, но только тогда, когда ключ этот просунут до замка"(23.515). Мысль непротивления и в "Соединении и переводе четырех Евангелий" звучала несколько раз, но как-нибудь особенно не была выделена и не была представлена в качестве спасительного закона всеобщей жизни, а выставлялась для демонстрации проявления истинной жизни, жизни высшей души. Да и вся Нагорная проповедь, по «Евангелию от Толстого», обращена не столько к народу или ко всем людям, сколько к ученикам Иисуса, к апостолам, для которых зла нет, и которые только и могли правильно понять слова Иисуса. Кроме того, Власть и всегда связанное с ней насилие того или иного рода есть родовой признак общедушевной жизни, и ненасилие – естественное оружие против некоторых грехов её. "Положение, связующее все учение в одно целое" в "Соединении и переводе четырех Евангелий" это учение о "Разумении жизни", о Сыне человеческом, о жизни и смерти, но никак не ненасилие. Конечно, надо верить Льву Николаевичу, когда он сообщает, что заповедь непротивления злу "была первая заповедь, которую я понял и которая открыла мне смысл остальных"(23.362). Но верно и то, что непротивление злу насилием было нужно проповеди Толстого и стало ударным орудием, ударной мыслью именно в его проповеди, обращенной ко всем и каждому. Проповедь "В чем моя вера?" направлена на установление мира с помощью "заповедей мира". "Все пять заповедей имеют только одну цель – мира между людьми". Я подчеркиваю в этой фразе слово "между" потому, что слово Толстого тех лет более всего нацелено в интердушевное пространство. Точку приложения духовных сил Толстой устанавливал тогда не в человеке, а между людьми – где, на взгляд автора "В чем моя вера?", главные соблазны и корень зла. В "В чем моя вера?" Лев Толстой переводит разговор с идеала внутридушевной жизни в плоскость правил интердушевного бытия. На глазах читателей он производит сложнейшую операцию: превращает сугубо личный принцип непротивления в основной принцип нового общественного учения о "неуступании злу силою". Заповедь непротивления потому и стала для Толстого "ключом", открывающим все учение, что с нею им произведена первая операция такого рода, открывшая саму "возможность приложения" установок еще не провозглашенной и не поставленной в центр жизнепонимания личной духовной жизни в качестве обязательных для исполнения законов всеобщей жизни, в правила поведения, действительные для всеобщей жизни. Ключ, о котором говорит Толстой, открывает дверь из жизни единичной души в жизнь общечеловеческую. По прошествии некоторого времени взгляды Толстого существенно изменились. Этап всечеловеческой духовной жизни оказался в духовном развитии Толстого переходным этапом, ведущим от общенародной духовной жизни к приватной духовной жизни, к жизни лично-духовной. "Христианское учение тем отличается от всех других и религиозных и общественных учений, – пишет Толстой в 1894 году, – что оно дает благо людям не посредством общих законов для жизни всех людей, но уяснением каждому отдельному человеку смысла его жизни: того, в чем заключается зло его жизни и в чем его истинное благо»(67.257). Не осталось без изменений и учение о непротивлении злу насилием. В конце концов Толстой приходит к выводу, что "мое утверждение о невозможности допущения противления злу при исповедании закона любви относится к личной жизни отдельного человека, т. е., что каждый, следовательно и я, не имею права ни в каком случае употреблять насилие, всегда могущее привести к самым злым преступлениям, даже к убийству. И как только вопрос поставлен так, то не может быть никакого вопроса о том, выгодно ли это воздержание от насилия или невыгодно"(79.110). В 1909 году Толстой еще так объясняет свою позицию: "Всякий нравственный закон указывает, как компас, только абсолютное направление, приближение к которому составляет задачу деятельности человека. Как закон око за око, так и закон непротивления, так и всякий нравственный закон не может быть всегда исполнен. Важно и нужно наибольшее приближение к исполнению его"(80.187). Запись в дневнике от 11 июля 1910 года: "Я не ожидал того, что, когда тебя ударят по одной, и ты подставишь другую, что бьющий опомнится, перестанет бить, и поймет значение твоего поступка. Нет, он напротив того, и подумает, и скажет: вот как хорошо, что я побил его. Теперь уж по его терпению ясно, что он чувствует свою вину и все мое превосходство перед ним. Но знаю, что несмотря на это, все-таки лучшее для себя и для всех, что ты можешь сделать, когда тебя бьют по одной щеке – это то, чтобы подставить другую. В этом «радость совершенная». Только исполни. И тогда за то, что кажется горем, можно только благодарить"(58.78). Если во времена "В чем моя вера?" Толстой упирает на мир между людьми и отвергает насилие прежде всего по той причине, что оно производит вражду и разъединяет людей, то в его работах 90-х и 900-х годов насилие есть зло прежде всего потому, что с его помощью осуществляется лжеединение государственности, что на нем держится ложное общественное жизнепонимание, которое правит в мире и не дает осуществиться единению людей на основах любви. "Закон насилия" – закон лжеобщедуховной государственной жизни. "Закон любви" – закон подлинной духовной жизни, жизни по Воле Бога, преследующего Свои, нам неведомые цели. Говорят, что любовью нельзя победить злодеев, совершивших преступление. «И они правы, – отвечает Толстой, – но дело только в том, что любовь есть такое огромное в сравнении с обычными рассудочными делами действие, что последствия никогда не видны тому, кто его производит. Любовь не победит тех двух-трех злодеев, которых мы знаем, но победит тысячи, которых мы не знаем»(53.146-7). Отсюда: «Для практических целей всегда кажется выгодным насилие. Но достижение этих целей обманчиво. Для духовных целей нужно непротивление злу, и достигаются невидимые цели»(55.288). В главе 7 "Учения Христа, изложенного для детей" (1908 год) сказано, что заповеди Нагорной проповеди даны не для того, чтобы жизнь стала лучше, а для того, чтобы "мы имели жизнь истинную". Ненасилие – не правило, не предписание, а то, что дано Богом в качестве идеальной цели. "(Очень важное). Непротивление злу насилием – не предписание, а открытый, сознанный закон жизни для каждого отдельного человека и для всего человечества – даже для всего живого… Закон этот, как всякий закон, есть идеал, к которому само собой бессознательно стремится все живое и должен стремиться каждый отдельный человек. Закон этот кажется неверным только тогда, когда он представляется требованием полного осуществления его, а не (как он должен пониматься) как всегдашнее, неперестающее, бессознательное и сознательное стремление к осуществлению»(56.75-6). В 90-х годах, на поприще личной духовной жизни, Толстой отчетливо различает "учение Христа вообще" и "проявление его в общественной жизни непротивлением злу"(28.147). В 900-х годах, на поприще вселенской духовной жизни, закон ненасилия имеет для Толстого метафизический смысл: ненасилие поглощает зло. На эту тему и написан "Фальшивый купон". Начиная с середины 90-х годов учение Толстого различает в человеке три пласта укоренения злого и ложного: первый – самый глубинный (духовный) пласт ложной веры, суеверий, второй – пласт соблазнов, душевных ловушек, ложных представлений об отношениях между людьми, и третий – пласт деятельности, грехов, поступков. В 1908 году, когда Толстой составлял "На каждый день", ненасилие принадлежало к числу суеверий, укоренялось на духовном уровне человека, вместе с суевериями церкви, государства и науки. В 1910 году, в "Пути жизни", Толстой понижает статус ненасилия, выводит его из числа суеверий и вводит его в состав двух соблазнов: "соблазна устроительства, т. е. ложного представления о возможности и праве одних людей насилием устраивать жизнь других людей" и "соблазна наказания, т. е. ложного представления о праве одних людей ради справедливости или исправления делать зло людям"(45.14). Одним этим тема ненасилия разжижается и неприметно отодвигается на второй план. Такой поворот мысли был в большой мере предрешен в конце 80-х годов, когда Толстой переосмыслил само понятие "заповеди" в Нагорной проповеди. В феврале 1891 года Лев Николаевич так пишет В. В. Рахманову: "Когда мы (Толстой и Чертков. – И. М.) прочли то место, где вы говорите о том, что у Христа нет заповедей (вернее бы сказать, что учение его не в заповедях) и Христос научил достижению Царства Божьего, которое сделает невозможным нарушение заповедей, когда я прочел это, я напомнил ему то, что я говорил ему то же вчера. Именно, что учение Христа состоит в постановке идеала Царства Божьего, для достижения которого надо быть совершенным, как Отец, т. е. идеал совершенства внешнего и внутреннего, а что заповеди, 5 заповедей, суть только зарубки на этом бесконечном пути того места, ниже которого в настоящий период жизни человечества не следует, желательно, можно не спускаться…» И далее: "Христианское учение тем отличается от всех других, что оно не в заповедях, а в указании идеала полного совершенства и пути к нему, и это стремление заменяет для ученика Христа все заповеди и оно же указывает ему все соблазны… В прежней вере и вообще в нехристианских верах заповеди стоят впереди (они так стояли для нас по "В чем моя вера?" – отчасти*)), в христианстве заповеди стоят назади, т. е. в известный период развития человечества сознание его говорит ему – стремись к полному совершенству, но, стремясь вперед, не спускайся ниже известных ступеней… Христианская жизнь не в следовании заповедям, не в следовании учению даже, а в движении к совершенству, в уяснении всё большем и большем этого совершенства и все большем и большем приближении к нему. И сила жизни христианской не в различной степени совершенства (все степени равны, потому что путь бесконечен), а в ускорении движения. Чем быстрее движение, тем сильнее жизнь. И это жизнепонимание дает особую радость, соединяя со всеми людьми, стоящими на самых разных ступенях, и не разъединяя, как это делает заповедь. Разбойник на кресте и Закхей живут более христианской жизнью, чем апостолы и т. п."(65.261-3). *) В том же письме: "Не думайте, что я защищаю прежнюю точку зрения в "В чем моя вера?". Я не только не защищаю, но радуюсь тому, что мы пережили ее. – Вступив на новый путь, нельзя не обрадоваться тому, что первое увидел впереди себя. И простительно принять то, что на начале дороги, за цель пути. Но, подойдя ближе, и только благодаря тому, что видел сначала, нельзя не радоваться тому, что увидел впереди бесконечную даль". Мысли этого письма станут в центр учения, изложенного Толстым в "Царстве Божьем внутри вас". *)Да и в борьбе со злом Толстой в последнее десятилетие жизни более уповает на воспитание детей, чем на успех проповеди ненасилия.
3 (23) Всечеловеческой духовной жизни нет, во всяком случае, нет ещё. Пока реально существуют две сферы духовной жизни человека: общедуховная (совокупная, соборная, конфессиональная) жизнь и жизнь личная духовная, заключенная не в какой-либо общности душ, а проистекающая из самой по себе единичной обособленной души с заключенными в ней силами. Трудность в различении двух этих сфер духовной жизни состоит в том, что общедуховная жизнь, абсолютно доминируя в человечестве, не дает приватной духовной жизни вполне явить себя. Всё, что, так или иначе, принято считать духовной жизнью (вероисповедание и культ, культура и мораль и пр.), всё, что веками накапливается и передается в наследство другим поколениям, – все принадлежит жизни общедуховной. Своей собственной духовной жизнью человек считает не свою обособленную, а свою особенную, отличную от других, но все же общедуховную жизнь. За общедуховные устои люди тысячелетиями кладут жизни, ей они служат, только ее и разрабатывают, ею вдохновляются и на нее уповают. Личная же духовная жизнь не отчленена от общедуховной жизни, не достаточно вычерчена в осознании и не принята людьми как самостоятельная духовная жизнь. Люди склонны рассматривать свою личную духовную жизнь исключительно с позиций и во благо общедуховной жизни. Как будто опыт частной духовной жизни ценен лишь тогда, когда этим опытом можно воспользоваться для общедуховной жизни. Неосознанные потребности лично-духовной стороны души смутно заявили о себе совсем недавно – тогда, когда общедуховная жизнь стала размываться и терять прежнюю устойчивость. Человек нашего времени догадывается, что в его приватной духовной жизни заключены огромные невостребованные возможности и вот-вот настанет пора, когда они реализуются. Частная духовная жизнь стремится наравне с общедуховной стать правящим началом жизни. Все более и более ударение духовной жизни перемещается с общедуховной стороны на личную духовную. Уже возможно признать и увидеть самодеятельность двигателя личной духовной сферы. На него-то век назад указывал людям Лев Толстой. Двое могут быть общедуховно солидарны и при этом несовместимы по складу личной одухотворенности. И наоборот, чувствовать близость друг друга в приватной духовной жизни, но, принадлежа, скажем, к разным вероисповеданиям, отвергать друг друга в общедуховной жизни. Так что есть личная одухотворенность /обусловленная "Богом своим", как сказал бы Лев Николаевич/ и есть одухотворенность, обусловленная сочлененностью душ в составе определенной духовной сплоченности. Последняя, хотя и в разной мере, доступна всем, взывает к каждой душе, которой нужно лишь внедриться в нее, чему люди охотно обучают друг друга. Обучить жить приватной духовной жизнью никого нельзя. Хотя, конечно, можно помочь тому, кто может и желает. В этом деле Лев Толстой, безусловно, великий мастер. Общедуховная жизнь любого рода допускает изучение со стороны. Личную духовную жизнь трудно постичь, самому не живя ею. Но еще труднее, даже зная ее в себе, зафиксировать опыт частной духовной жизни, передать его другим или сохранить этот опыт для будущего. Людям издревле свойственно закреплять и хранить память только об общедуховных явлениях и именах, чаще всего оставляя в безвестности носителей высшей личной духовной жизни.*) Лев Толстой – счастливое исключение. При всех замалчиваниях и намеренных искажениях критиков его опыт личной духовной жизни сохранен и через воспоминания о нем, через его художественные произведения и статьи и способен стать всеобщим достоянием. *) "Хороша бы история неизвестного Христа", – читаем мы в Дневнике Толстого за 1890 год. Без учения о личной духовной жизни нельзя понять ни жизнь Толстого, ни его личность, ни его художественные произведения – начиная с "Детства" и кончая "Посмертными записками старца Федора Кузьмича". Все герои Толстого*), близкие сердцу автора, обитают в лично-духовной сфере жизни. – Даже отец Сергий, который по статусу не может, казалось бы, не участвовать в жизни общедуховной. Когда читаешь "Холстомера", создается впечатление, что даже лошадь у Толстого силится жить обособленной духовной жизнью. Апофеозом художественного выражения приватной духовной жизни должна была бы стать повесть о старце Федоре Кузьмиче /императоре Александре 1/ – последнее крупное художественное произведение, начатое Львом Николаевичем в 1905 году. Личная духовная жизнь – основная и постоянная тема всего художественного творчества великого писателя. *)В отличие, скажем, от героев Достоевского, которые, несмотря на их специально отчерченную исключительность, живут преимущественно общедуховной жизнью.
4 (24) Лев Толстой – гениальный художник мысли, создавший новую, до сих пор не оцененную форму трактата, в которой личная духовная жизнь способна адекватно предъявить себя в ряду последовательных аккордов мысли. "Есть огромное преимущество в изложении мыслей вне всякого цельного сочинения. В сочинении мысль должна часто сжаться с одной стороны, выдаться с другой, как виноград, зреющий в плотной кисти; отдельно же выраженная, ее центр на месте, и она равномерно развивается во все стороны"(52.51). Форма мудрых изречений, над которой десятилетиями трудился Толстой, доведена им до совершенства в "Пути жизни" и "На каждый день". Показательно, что в этих произведениях наиболее широко использованы изречения людей именно личной духовной жизни: Паскаля, Марка Аврелия, Эпиктета, отчасти Эмерсона и Амиэля. И конечно, Иисуса Христа, который предстал у Толстого не столько основателем мировой религии, сколько страстным проповедником личной духовной жизни как таковой. Толстой не верил в благую весть воскресения и искупления, но всей душой верил в благую весть любви, которую, как он полагал, принес в человечество Иисус. Это – Вера, и ничего, кроме Веры, хотя и нельзя сказать, что вера общедушевная. Три последних десятилетия своей жизни Толстой шаг за шагом устанавливает понятие Веры в личной духовной жизни. Лев Толстой – не ересиарх*) и не сектант. Его речи и дела обращены в другую сторону – от какого-либо исповедания. Он – учитель сугубо личной, приватной, принципиально внеконфессиональной духовной жизни отдельно взятого человека. Лев Толстой стремится перевести ударение духовной жизни в человеке с общедуховности в область личной одухотворенности. Задача эта была поставлена им во времена абсолютного правления общедуховности, которая перекрывала пути самоосуществления личной духовной жизни. Личная духовная жизнь могла быть поставлена на рабочее место во внутреннем мире человека только при пробое общедуховной жизни в нем. *) "Толстовство и другие учения суть вариант древних ересей и ничего больше" /Полный православный богословский энциклопедический словарь, СПб. изд. Сойкина, 1914 год, стр.870/ Ненасилие у Толстого носит антиобщедушевный характер. Это – ударная сила, с помощью которой Толстой пытается разрушить правящие Общей душою суеверия ("ложные веры"), прежде всего суеверие духовной Власти и ее институтов и суеверие государства, государственной Власти. Но это не разновидность антигосударственного общественного учения, не анархизм. О чем не раз говорил сам Толстой (см. 81.235). Толстой бьет по общедушевности как таковой, бьет, может быть, не всегда правомерно, но делает это для того, чтобы освободить в душе человека место для частной духовной жизни и впустить ее на освободившееся место. Все евангельские понятия, изречения, притчи (как и некоторые изречения священных книг других религий) Толстой сумел переосмыслить для нужд учения о личной духовной жизни. Толстовское "христианское учение" и церковное вероучение разнонаправленны в душе человека и, по сути дела, не имеют прочных точек соприкосновения. Конечно, установки личной духовной жизни и установки общедуховной жизни не следует сталкивать друг с другом, как это получалось у Толстого. Конфронтация между общедуховной и приватной духовной жизнью незаконна. Более того, внеконфессиональная личная духовная жизнь может служить мостом между конфессиями. Толстой пытался делать и это. Общедуховная жизнь так или иначе привязана к Природе, Миру, мирам и потому активно пользует магическое сознание, которое вовсе не задействовано в личной духовной жизни. Поэтому в частной духовной жизни нет и не может быть религиозного культа и его служителей. Личная духовная жизнь существует только тогда, когда в человеке образовалась непосредственно действующая связь с "Богом своим" (с духовным Я) и только в силу этой связи. Общедуховная жизнь проистекает так и в такой связи с объектом религиозных переживаний, что между человеком и Всевышним оказывается неизбежным "посредничество", против чего так активно восставал Толстой. Посредничество духовенства столь же законно в общедуховной сфере, сколь не нужно и невозможно в сфере лично-духовной. Общедуховный человек чувствует ответственность перед Кем-то или кем-то над собой. Личнодуховной человек сознает ответственность в себе, перед кем-то в себе. В отличие от общедуховной жизни молитва в личной духовной жизни не просьба, не "мольба" и не воспевание, а удовлетворение настоятельной душевной потребности "молвить", дабы ответно вызвать на себя из своих глубин свет Бога своего. "И такая молитва бывает не праздное умиление и возбуждение, которые производят молитвы общественные с их пением, картинами, освещениями и проповедями, а вызывает в себе наиболее ясное сознание Бога и своего отношения к Нему"(73.12). Молитва личной духовной жизни не приурочена к определенному часу, дню и месту, а совершается только "в минуты высшего душевного настроения", "в лучшие минуты", которыми "человек должен дорожить как высшей драгоценностью и пользоваться ими для все большего и большего уяснения своего сознания, потому что только в эти минуты совершается наше движение вперед и приближение к Богу". Такие минуты редки, но "находят на каждого человека, иногда вызываются страданиями или близостью смерти, иногда же приходят без всякого внешнего повода. .."(39.185 и сл.). Самостоятельность как таковая и самостояние как таковое претят общедушевной стороне души. Для приватной духовной жизни самостоятельность и самостояние суть родовые признаки, достоинство которых есть показатель ее достоинства. Общедуховная жизнь в значительной мере обращена в прошлое, к истокам традиции, и в будущее, к осуществлению чаемого. Личная духовная жизнь проистекает, и проистекает только в минуту настоящего. Прошлое в ней имеет значение следа в настоящем, будущее же не имеет значения, так как не будущее устанавливает в ней направление движения. Личная духовная жизнь вдохновляется не грядущим, а нынешним, направлена так и туда, как и где Богу своему нужно явить себя сейчас. А это определяется чувством себя заданного, в совершенстве выраженного – того, что Толстой называл "религиозным чувством". Религиозное чувство личной духовной жизни порождается Богом своим и есть, по определению Толстого, "такое явное представление того, что должно быть, что это представление служит руководством жизни" в минуту настоящего /52.51/. Личная духовная жизнь движется не от подлинника к подобию и не от подобия к подобию, а от подобия к подлиннику, которого не было и не будет, который есть сейчас в чувстве провидения себя должного. Между общедуховной и частной духовной жизнью существуют и этические различия. Общедуховность диктует чувство долга, моральной ответственности. Личная духовная жизнь озарена свободным нравственным чувством, выражающим активную свободу души, а не ее этическую подотчетность. Отсюда парадокс: "Зло можно делать сообща. Добро можно делать только поодиночке"(52.274). Свободное нравственное чувство не бывает ригорично, ибо оно основано не на непреклонности, как общедушевное моральное сознание, а исключительно на духовной чистоте и Искренности. Искренность – необходимое условие полноценности приватной духовной жизни. Общедуховная жизнь держится на приверженности и непреклонности, устанавливаемой верой-доверием. В личной духовной жизни нет вопроса приверженности вере – есть вопрос мнимости душевной жизни и ее подлинности, душевного лицемерия и искренности. Неискренний человек не способен на личную духовную жизнь так же, как неверующий не способен на жизнь общедуховную. Искренность в личной духовной жизни столь же могучая осуществляющая сила, что и духовная сила любви или разума. Единственный культ, существовавший в толстовском кругу, был культ душевной Искренности /с большой буквы/ и честности перед собой. Особое одухотворение духом честности и искренности в частной духовной жизни происходит само собой. Быть может, личная духовная жизнь ныне задействуется для того, чтобы общедушевная сторона человека могла взглянуть на себя со стороны и осознать тупик, в который она попала. В этом смысле личная духовная жизнь призвана выручить современного человека. Недаром импульсы личной духовной жизни останавливают "живого" человека, чрезмерно разогнавшегося в движениях общедуховной жизни. Про эту благодетельную (с личнодуховной точки зрения) "остановку жизни" много раз писал Толстой. Современники Толстого, как лишний раз показывает критика Толстого, и не представляли, что можно вести речь о духовной жизни единичной души самой по себе. Духовная жизнь в те времена все еще исключительно общедуховная жизнь; она могла быть внецерковной, внеконфессиональной, но никак не лично духовной. В отличие от общедушевной жизни в личной духовной жизни нет определенных правил или заповедей, устанавливающих исполнение. "Пределы того, что может произойти, даны сознанием. Но от чуть-чуточных изменений, которые совершаются в области сознания, могут произойти самые невообразимые по своей значимости последствия, для которых нет пределов". Сознание выявляется не столько высшим или низшим пределом возможностей нравственной воли человека, сколько тем "максимальным нижним пределом, ниже которого вполне возможно не спускаться" ему – то, что данный человек по его уровню сознания «имеет полную возможность уже не делать»/27.280./. Конкретное указание на эту максимальную отметку нижнего предела нравственного поведения, которую должен устанавливать себе человек и ниже которой он в настоящее время может не спускаться, Толстой и называл заповедью – заповедью своей, личной, установленной собою и только на ныне переживаемый этап собственной жизни. Толстовское неприятие общедуховности, как мы уже говорили об этом, по большей части было вызвано одним корневым и неустранимым ее свойством: духовной властью. Даже самого сознания власти и подвластности нет и быть не может в частной духовной жизни. «Богу своему» незнакома власть, так как не он внедряет себя в душу человека, а душа сама ищет вместить его в себя, осуществить его в себе. Это предполагает совершенно свободные усилия человеческой души. Готовя биографию Толстого, П. И. Бирюков спросил его о том, как он в начале 60-х годов воспринимал все происходившее вокруг него. Ответ Толстого чрезвычайно важен для нашей темы: "Что касается до моего отношения тогда к возбужденному состоянию всего общества, то должен сказать (и эта моя особенная хорошая или дурная черта, но всегда мне бывшая свойственной), что я всегда противился невольно влияниям извне, эпидемическим, и что если тогда я был возбужден и радостен, то своими особенными, личными внутренними мотивами, теми, которые привели меня к школе и общению с народом. Вообще я теперь узнаю в себе то же чувство отпора против всеобщего увлечения, которое было и тогда, но проявлялось в робких формах. Кажется, я не так отвечаю на Ваш вопрос. Если не так, то не взыщите. Я хочу сказать, что во мне всегда шла такая внутренняя, не скажу работа, а тревога, волнение, борьба, что я не замечал внешнего современного настроения и был равнодушен к нему"(76.100-1). Письмо П. И. Бирюкову написано в начале 1906 года. Понятно, против какого "всеобщего увлечения" Толстой узнает в себе "то же чувство отпора". Этим чувством проникнуто написанное за месяц до того письмо к сыну Льву: "…вся эта общественная деятельность не только никогда не содействует улучшению состояния людей, но самым решительным и верным способом ухудшает ее. Ухудшает тем, что, как мы это видим теперь, страшно понижает общий уровень нравственности. А понижение уровня нравственности выгодно и удобно всем людям безнравственным, а потому, чем безнравственнее люди, тем они усерднее занимаются общественными переворотами. Что же делать? Людям не религиозным ничего другого нельзя делать, как то, что они и делают, пристать к какой-нибудь партии и бороться, ненавидеть, вредить… Людям же религиозным – жить своей жизнью, стараясь исполнять перед Богом свой долг, в который входит обязанность жалеть людей, любить их, служить им, чем можешь, но никак не устраивать ту или иную думу или учредительное собрание и тому подобные глупости"(76.71). По своей натуре Лев Толстой – не общественный человек. И его легко понять. Для общественной и, шире, общедушевной жизни органична зависимость, несвобода воли в составе "мы". В личную духовную жизнь заложена потребность свободы, и она неизменно стремится к свободе назначающей воли высшей души. Общедуховная жизнь красна самопожертвованием, всегда связанным с подвигом или восторженным стремлением к нему. Высший акт личной духовной жизни – самоотречение, но не самоотрицание, не аскетизм, не жертва своим или собою, не гибель того, от чего отрекаешься, и даже не умаление его силы. Для самоотречения в личной духовной жизни ничего подавлять в себе не нужно. Это процесс не подавления, а переноса ударения сознания и центра тяжести жизни в себе, тот процесс, который Толстой связывал с процессом рожания духовного существа в человеке. Самоотречение есть внутреннее отречение от продолжающей активно жить "личности" и, в отличие от самопожертвования, не совершается волевым актом, а добывается в результате "духовного рождения" после долгого и напряженного пути духовного роста. Нагорная проповедь имеет разное значение для общедуховной и частной духовной жизни. Если говорить о ее заповеди непротивления и заповеди любви к врагу, то они имеют огромное значение в личной духовной жизни, но не в жизни общественной и общедушевной, к которой они вряд ли приложимы. Не странно ли, что 6-я заповедь Нагорной проповеди (любовь к врагу) трактуется Толстым в пацифистском и антинационалистическом смысле. Основания для такой трактовки минимальны. Но этим самым Лев Николаевич ликвидирует общедушевность как область нормативной душевной жизни, выводит ее за пределы разговора, оставляя законно действующей только область личной душевной и личной духовной жизни. При такой постановке вопроса нравственно значимой остается лишь личная душевная жизнь, ее задачи и ее требования. Заповедь ненасилия Нагорной проповеди особенно важна для личной духовной жизни. Положим, какой-то человек оскорбляет или бьет меня. С межличностной точки зрения это воспринимается как стремление унизить меня, отомстить мне или заставить подчиниться чужой воле. С внутриличной же точки зрения более всего важно то, что чужая враждебная воля вынуждает меня снять контроль сознания со своей души и перенести все внимание с себя на нее. При этом моя душа, введенная в состояние борьбы, будет не в состоянии жить духовной жизнью. Принцип "непротивления" 5-й заповеди Нагорной проповеди, имея в виду душевную провокацию борьбы, требует – именно в целях личной духовной жизни – ни в каких случаях не переключаться душою на обиду и обидчика. Любовь в общедушевности есть чувство, ориентирующееся на любовь к себе и определяемое идеалом силы любовного чувства – такой же, как к себе. "Ближний" как объект чувства любви задан в общедуховности, определен той духовной сплоченностью, в которой состоит душа человека. В частной духовной жизни "ближний" не дан и не задан, а создается в трудной и сложной душевной работе. В общедуховности – со-чувствование, со-мыслие, со-действие людей. В личнодуховности – сожизнь Я и Ты, своего Я и своего другого Я. На принципе сопряженности в лично-духовной любви Толстой основал, в частности, и свое учение об искусстве. "Настоящее произведение искусства, – пишет он в "Что такое искусство", – делает то, что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником…" Воспринимающий переносится в душу художника и через нее чувствует так, словно автор – он сам. В свою очередь автор сообщает читателю, слушателю,зрителю нечто самое сокровенное о себе, свое "откровение нового познания жизни", без которого, говорит Толстой, нет истинного произведения искусства /см.30.224-225/. Дело тут не в уникальности или оригинальности автора и не в мощи его таланта, а в "особенности" его сугубо личного задушевного опыта, выражение которого освещает нечто важное в душе того, кто воспринимает этот авторский опыт души. Тут, впрочем, нельзя не отметить, что к культурной и интеллектуальной жизни человек по преимуществу прилеплен своей общедушевной стороной. Приватная духовная жизнь обычно лишь индивидуально раскрашивает общекультурную жизнь. Но и здесь Лев Толстой исключение. Художественный метод Толстого – то, что некогда было названо толстовским "отстранением", – есть взгляд на действительность с собственной высоты личной духовной жизни. Это то, что никакому другому художнику перенять у Толстого при всех стараниях невозможно. Общедушевная сторона с трудом выносит сомнение, незнание, поиск. Общая душа – душа поневоле твердая, и твердо верующая. Сомнения, поиски, страдания мысли, даже нерешительность и робость*) для личной духовной жизни естественны и составляют могущество ее жизненности. *) см. 55.221 В первой части мы уже говорили о понятии "разумного сознания" у Толстого. Разумное сознание – это собственное сознание жизни «Бога своего», которое он сообщает разуму человека и тем самым дает ему возможность обрести особое качество познания истины. Некоторые критики Толстого отождествили понятия "разумного сознания" и рационального познания и поставили на мыслителе Толстом штамп "рационалиста". На самом деле "разумное сознание" личной духовной жизни противостоит у Толстого не иррациональному познанию, а "неразумному внушению" общедуховной жизни /см. 28.259/. В процессе общедушевной жизни потребность самоосмысления значительно слабее, чем в частной духовной жизни. Жизнь в общедушевном потоке куда более "бессознательна", не держит себя под ударением "разумного сознания", к чему так настойчиво призывал Толстой. Общедушевная жизнь более склонна руководствоваться чувствами. Лично-духовная жизнь постоянно стремится осознать себя. Отсюда опора Толстого на разум-мудрость, на разум сердца. Про этот разум нельзя говорить, что он у кого-то слабее или сильнее. Когда он отсутствует – человек легкомыслен, когда он присутствует – человек глубок. Присутствуя в душе, разум сердца («разумное сознание» высшей души*)) может больше или меньше проявляться в человеке, что определяет глубину его мысли, а не силу его ума (интеллекта). *) Присутствие «разумного сознания» отличает высшую душу от низшей души. "Разумное сознание" или "разум" человека – не от ума его, а от Бога своего, и дает душе человека не знания, не аналитические способности и не эзотерические или экзотерические умения, а знание "своей истины", глубинной мудрости Бога своего, восходящей, быть может, к Разуму, который внедрен Господом во Всё существующее. С общедушевной точки зрения истина есть то, что провозглашено в таком качестве вероисповеданием или, на худой конец, каким-либо способом объективно доказано. С личнодуховной точки зрения истина есть элемент собственного духовного сознания; это – "своя истина", личная разумность, мудрость своего сердца. "Своя истина" есть та или иная степень проявления сознания жизни Бога своего ("разумного сознания") и обретается человеком не благодаря доказательствам, доверию к ней или общей уверенности в ней, как истина общедуховная, а благодаря ее личностной состоятельности, достоверности и внутренней убедительности. "Своя истина" все более рождается в душе вместе с Богом своим. "Рождение" это происходит не по одному хотению человека, а по мере созревания в нем духовного Я. Проповедническая деятельность Толстого имела прежде всего две задачи. Первая – установление признаков исполнения человеком воли Сына (Бога своего) – а следовательно, и Воли Господа. Вторая – совершить пробой лично духовной жизни сквозь сковывающую ее со всех сторон общедуховную жизнь и заложить основы (основные принципы, понятия, приоритеты) движений личной духовной жизни в человеке. Толстой возвестил начало эры личной духовной жизни. На поприще личной духовной жизни он верил в то, что человеку надлежит «искать Царство Божье и правду его», что в самом этом поиске (то есть личном духовном росте) все и дело, а «все остальное» (в том числе и Царство Божие на Земле) приложится тогда, когда придет время. Таков девиз личной духовной жизни.
5 (25) Структура внутреннего мира человека, на взгляд Льва Николаевича, имеет два полюса. На одном полюсе, полюсе животной личности, человек есть "зверь" и "не может перестать быть им, пока живет в теле". На другом полюсе, полюсе высшей души, он – "ангел", "духовное существо, отрицающее все животные требования человека".*) Человеческая жизнь зажата между этими двумя полюсами и тяготеет то к одному, то к другому, центр тяжести человека мечется между ними. От этих метаний – основное противоречие человеческой жизни, которое состоит в том, что "человек хочет быть зверем или ангелом, но не может быть ни тем, ни другим". Противоречие это заложено во внутреннем мире человека и определяет побуждения его. Разрешение этого противоречия – в понимании того, кто есть человек и зачем он живет в этом мире. *) Еще раз обращаю внимание на то, что духовное существо отрицает не животную личность как таковую, а "животные требования человека", заявляющие свою власть над ним. Человек, учит Толстой в "Христианском учении", "ни зверь, ни ангел, но ангел, рождающийся из зверя, – духовное существо, рождающееся из животного. И все наше пребывание в этом мире есть не что иное, как это рождение." /39.123./ Когда Толстой говорит о рождении духовного существа, то он имеет в виду не акт рождения, а процесс рождения, "рожание", как он говорил. Назначение человека, его задание на жизнь и смысл его жизни – рожать "новое духовное существо". В этом смысле Толстой переосмысливает евангельские слова: "Должно нам родиться снова". Учение Толстого о личной духовной жизни есть учение об этом рожании и во благо дела его. Вся человеческая жизнь представлялась Толстому как трудный, мучительный процесс родов, как родовой процесс. Проникнитесь этим толстовским образом хода всей человеческой жизни и в редкую тихую минуту отвлеченного видения панорамы жизни вспомните его и про себя решите – сколь он достоверен. Но – кто ж рождается? Что за "ангел"? Рождающееся в человеке духовное существо, отвечает Толстой в "Христианском учении", есть, в сущности, то же самое, "что дает жизнь всему существующему, – есть Бог", но Бог в земном существовании, Бог в животной оболочке человека /39.125./. "Сказано люби Бога твоего. Мой тот, который во мне"(50.205). Библейскую заповедь о любви к Богу "всем сердцем твоим, и всей душою твоею и всеми силами твоими"/Втор.6:5/ Толстой в конце 80-х годов стал понимать "как закон к Богу моему,*) к тому, что во мне Божественно. И любовь эта обязывает или влечет к чистоте, к соблюдению и возращению в себе Божественной сущности… Да, человек, который будет любить Бога своего, будет любить неизбежно ближнего (как и сказано у Иоанна)"(64.287). *) Напомню, что выделенное Толстым у нас выделяется курсивом; свои шрифтовые выделения мы обозначаем подчеркиванием. К концу 80-х годов Толстой окончательно отошел от провозглашения "Царства Божьего на Земле" и всечеловеческой духовной жизни и перешел к провозглашению "Царства Божьего в себе" и личной духовной жизни. "Церковь, государство, собственность. – Говорит Толстой в 1888 году, то есть всего через несколько лет после завершения работы над "В чем моя вера?". – Все это надо уничтожить только в себе; в себе уничтожить признание действительности этих дел, а разрушать ничего не надо"(50.83). Отказ от государственной службы есть одно из самых категорических требований толстовской проповеди первой половины 80-х годов. Во второй половине 80-х годов Толстой уже не настаивает на этом. В 1897 году он так пишет об этом предмете – и не кому-либо, а духоборам! "И потому, братия, не упорствуйте в своем отказе от государственной службы, если вы это делаете для того, чтобы не укоряли вас в слабости. Если можете делать то, что от вас требуют – делайте, – избавьте этим самым слабых жен, детей, больных, старых от мучений. Если не вселился в человека дух Христов, который не позволяет делать ему противное воле Бога, то всякий из вас должен ради любви к своим отказаться от прежнего и покориться; никто не осудит вас за это. Так должны вы поступать, если можете. Если же дух Христов вселился в человека, и он живет не для себя, а для исполнения воли Бога, то он и рад бы согласиться сделать все для своих страдающих ближних, да нельзя ему сделать этого, как нельзя одному человеку поднять 100 пудов; а если так, то Христов дух, который противится делам дьявола, научит, как поступать, и утешит в страданиях и своих и близких"(70.127). Основной мотив начальной толстовской проповеди начала 80-х годов – скорейшее осуществление предписанного Господом Царства Божьего на Земле. Впоследствии Толстой учил, что людям надо знать не что делать, а как делать то, что приходится им в жизни делать*) и что вообще не следует выставлять внешние цели, отождествляя их с Волей Бога, в том числе и практическую цель установления Царства Божьего на Земле. *) «При животном сознании главное дело: что я сделаю; при духовном – как я себя поведу, как буду жить»(55.172). "Христианство, – сказано в его письме 1904 года, – истинное христианство, по моему мнению, тем и отличается от религий, которые можно называть общественными, как католичество, православие, магометанство, я думаю даже конфуцианство, что оно обращается к душе каждого отдельного человека, для каждого отдельного человека разрешает его вопрос жизни, указывает ему его назначение»(75.61). На переход Толстого к поприщу личной духовной жизни указывает и перемена в его отношении к заповеди любви к ближнему: "Заповеди люби Бога и ближнего всегда кажутся сначала не ясными, не точными, разрозненными, – пишет Толстой в августе 1889 года в письме И. И. Горбунову-Посадову, – и только на известной ступени, которую я недавно проходил, сознаешь не только связь, но единство обоих заповедей. Сначала кажется, что центр тяжести в любви к ближнему, и что любовь к Богу только риторическая фигура. Но потом наступает просветление, т. е. подымаешься на точку повыше, с которой виднее, и ясно, что сущность заповеди, как и сказано, в одной любви к Господу, Богу твоему, а другая только подобная ей. Я бы перевел: подобие, тень ее, неизбежное последствие, могущее служить поверкой первой. Есть тень – есть и предмет… Разница для меня этого взгляда и прежнего*) та, что установление Царства Божьего на земле через любовь к ближнему, которая прежде представлялась мне целью, теперь представляется только одним из бесконечного ряда последствий любви к Богу своему". *) То есть того, что выражено в "В чем моя вера?" и других работах тех лет, на которые, как мы не раз уже говорили, преимущественно и опираются критики Толстого. Свой новый взгляд Толстой объясняет так: "Любовь к Богу – направление, а выражение его внешнее есть любовь к ближнему. Любовь к ближнему одна сама по себе не имеет смысла. Зачем мне любить ближнего, когда я себя люблю? Только любовь к Богу твоему имеет тот смысл, который вполне удовлетворяет и при котором ни о чем дальше спрашивать нельзя. Люблю я себя, и если в себе я люблю находящегося во мне Бога моего, только тогда всё ясно, и разрешается та задача потребности и эгоизма, и самоотвержения, которые борются в душе проснувшегося человека. Бог мой любит всех людей, и только потому я люблю людей, что люблю его". И далее: "Любовь к ближнему не включает в себя всего того, что вытекает из любви к Богу своему: из нее вытекает многое и многое меньше любви и многое больше любви к ближнему. Меньшее видимо и понятно, но большее чувствуется, хотя и не может быть ясно выражено. Меньшее – есть почитание Бога своего, уважение к Нему, соблюдение чистоты своей, соблюдение справедливости по отношению к ближнему (не делать зла), проявление Его (да светит свет ваш), признание того же Бога в других и многое другое, что вытекает из сознания своей Божественности. Большее любви к ближнему есть то последствие от любви к своему Богу, которое не выражается здесь (то есть в этом мире. – И. М.) в любви к ближнему, но должно выразиться там, за пределами моего духовного зрения.*) Человек один, безвестно погибший ради любви к своему Богу, знающий и любящий своего Бога, знает, что эта любовь есть одна истинная действительность, и потому, если бы он и не видал последствий действия этой действительности, он не может сомневаться в этом действии, хотя оно за пределами его взора духовного. Я и не сомневаюсь… Дело мое творить волю Отца, воля же Отца в том, чтобы не погубить ничего из того, что Он мне дал, но воскресить это вложенное в нас Божественное начало… И это определение смысла жизни, состоящего в том, чтобы исполнять волю Отца, именно ту, чтобы блюсти, возрастить и воскресить ту искру Божью, которая вложена в меня, или иначе в том, чтобы любить Бога своего всем сердцем, всею душою и всем разумением своим, это определение самое широкое и, вместе с тем, для меня самое ясное и радостное"(64.290-1 – август 1889 года). *) В этом смысле: "Любовь есть проявление в этой жизни стремления, которое полное осуществление свое получит только после смерти"(88.299). Назначение и задача человека – быть в процессе "рожания" Бога своего – "той вечной сущности, живущей в человеке", для которой "нет и не может быть смерти". Для каких-то недоступных нам целей Отец "послал в мир Своего подобного Себе Сына для исполнения в нем (в Боге своем. – И. М.) Своей Воли"/39.126./. Бога своего человек непосредственно познает "своим сознанием в самом себе". "Царство Божие внутрь вас есть"(28.293), – завершал Толстой одну из главных своих книг, указывая этими словами на направление течения и цель личной одухотворенности. Сознание Бога своего исполняет в учении о личной духовной жизни ту же роль, что исповедание в жизни общедуховной. Учение Толстого – так, как оно сложилось у него в начале 90-х годов, – есть учение о личной духовной жизни единичной души. И все же Лев Толстой не стал пророком личной духовной жизни человека. Одной из причин этого было неустранимое противоречие между агапическим жизнесознанием Толстого, требующим равенства всех людей в единстве Сына человеческого, и элитарностью личной духовной жизни. Элитарность – отличительное качество личной духовной жизни. Знал ли Толстой об этом? Вот несколько цитат на эту тему. "Разницы между людьми в телесном отношении очень мало, почти нет; в духовном огромная, неизмеримая»(55.106). О ком-то в Дневнике 1888 года: "Это один из тех людей, которые только занимают место и проходят по времени, но которых нет"(50.4.), т. е. которые совершенно неспособны духовно расти, быть или становиться "живыми". "Зачем родятся и детьми умирают, зачем одни век в нужде и образованы, другие век в роскоши и безграмотны, и всякие кажущиеся неравенства? – всё это могу объяснить. Но отчего одни люди, как Саламахин, весь горит, т. е. вся жизнь его руководима религией, а другой, другая, как ложка не может понять вкус той пищи, в которой купается?"(81.231). «Есть аристократия не ума, но нравственности. (Сначала Толстой написал "есть аристократия не ума, но жизни", но потом все же зачеркнул «жизни» и написал "нравственности" – И. М.). Такие аристократы те, для которых нравственные требования составляют мотив поступков»(54.52). "Как недоступны учению истины мужики. Так полны они своими интересами и привычками. Кто же доступен? Тот, кого привлечет Отец – тайна"(51.89). Наконец, своего рода прозрение о себе и людях: "Удивительное дело: Я знаю про себя, как я плох и глуп, а между тем меня считают гениальным человеком. Каковы же остальные люди?"(54.135). Лев Толстой не мог признать элитарность какой-либо духовной жизни потому, что это разрушало бы его проповедь и в силу того особого значения, которое он придавал агапической любви, вселюбию. И все же это он пробил дорогу учению о самой по себе личной духовной жизни для тех, кто по его следам пожелает войти в этот пробой.
6 (26) "Я последнее время часто думал об одном давно известном соображении, – пишет Толстой в августе 1889 года А. В. Алехину, – но которое с особенной живостью мне приходит всё это время в голову и бодрит меня, а именно: Если выразить только одним наипростейшим и яснейшим предложением – смысл, сущность, цель жизни, то я для себя выражаю ее так, как сказано Ин. VI,38 и в особенности 39, возрастить в себе, довести ее до высшей возможной степени Божественности ту искру, то разумение, которое дано, поручено мне, как дитя няньке. Это определение смысла жизни шире всех других, включает все другие. Что же нужно для того, чтобы исполнить это, возрастить это дитя? Не нега, а труд, борьба, лишения, страдания, унижения, гонения, то самое, что сказано много раз в Евангелии. И вот оно самое, то, что нужно нам, и посылается нам в самых разнообразных формах и в малых и в больших размерах. Только бы мы умели принять это, как следует, как нужную нам, а потому радостную работу, а не как нечто досадное, нарушающее нашу, столь хорошо устроенную жизнь". И ниже в том же письме: "Говорят: "вот обстоятельства, которые нарушают или грозят нарушить нашу хорошую жизнь; надо как-нибудь поскорее обойти, превозмочь эти обстоятельства, с тем, чтобы продолжить свою хорошую жизнь". В действительности надо смотреть на дело совершенно не так: "Вот была жизнь, которую мы установили с большой внутренней борьбой и трудами, и жизнь эта удовлетворяла нашим нравственным требованиям, но вот являются новые обстоятельства, заявляющие новые нравственные требования: давайте же постараемся ответить наилучшим образом на эти требования". Эти обстоятельства не случайность, которую можно устранить, но требования новых форм жизни, в которых я должен испытать себя, как я готовил себя к предшествующей форме жизни"(64.297-8). Через семь лет Толстой то же самое повторит в письме Черткову: "Главное, знать и помнить, что то, что мучает, не есть неприятная случайность, которую надо устранить или пережить, а есть то самое дело, к которому я приставлен"(87.387). Поразительно, но буквально то же самое, вплоть до текстуальных совпадений, Толстой писал 33 года назад в письме, адресованном Боткину и Тургеневу. Письмо это было опубликовано в 1924 году, но потом, при разборе рукописей Толстого, оказалось, что из него самим Толстым был вырван и не отправлен адресатам один лист. Вот он. "Уж не раз мне случалось в жизни натыкаться на тяжелую действительность и выбирать, карабкаться вверх по этой грязи или идти в обход, и всегда я выбирал обход…» – пишет здесь Толстой и добавляет, что теперь он уже этого делать не может: «… я не мог, как прежде бывало, вспорхнуть над жизнью, и с ужасом увидел, что вся эта тяжелая, нелепая и нечестная действительность не случайность, не досадное приключение именно со мной одним, а необходимый закон жизни". "Грустно мне было расстаться с мечтой о спокойном и честном счастии без путаницы, труда, ошибок, начинаний, раскаяний, недовольства собой и другими, – продолжает он там же, – но я, слава Богу, искренно убедился в том, что спокойствие и чистота, которую мы ищем в жизни, не про нас; что одно законное счастье есть честный труд и преодоленное препятствие"(60.232-3). О том же самом Лев Николаевич говорит и в письме А. А. Толстой того же времени: «Вы спрашиваете у меня совета успокоительного: а я к вам приеду за этим, и оба мы не найдем, чего ищем». Почему? Потому что душевное спокойствие, которого мы ищем, губительно для души. "Вечная тревога, труд, борьба, лишения – это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек". Для души необходимо преодоление – а значит, нужны и препятствия. Поэтому в жизни и в активном коридоре души необходимо как хорошее, так и дурное. "Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называется счастьем. – Да что счастье – глупое слово; не счастье, а хорошо», то есть законно, как должно, честно. Хорошо, счастливо – честная тревога, дурно, несчастливо – тревога, но бесчестная: «а бесчестная тревога, основанная на любви к себе – это, – несчастье». Ну а основанное на любви спокойствие – что это? Хорошо? Дурно? «Мне смешно вспомнить, как я думывал и как Вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь все только хорошее. Смешно! Нельзя, бабушка. Все равно, как нельзя, не двигаясь, не делая моциона, быть здоровым». Нельзя и потому, что невозможно, как нельзя жить не двигаясь, и потому, что не должно, вредно для здоровья душевного. «Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться». Хорошая, честная, должная жизнь – борьба, тревоги, ошибки, вечное напряжение души. Приспособленчество же душевное, или психотерапевтическое нажатие пружины приятного расположения духа, или даже любовь как средство достижения душевного комфорта – все эти и другие «обходы», к которым стремится временами душа наша, не то что бесчестны (бесчестна открытая эгоистическая тревога), а подлы. "А спокойствие – душевная подлость. От этого-то дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного, не человеческого, а ОТТУДА". Этим нескольким фразам из письма Толстого особенно повезло; с момента опубликования письма к А. А. Толстой в 1911 году и по сегодняшний день место это постоянно цитируют. И часто понимают превратно: в смысле утверждения Толстым своей активной общественной позиции, как страстный призыв к борьбе со злом, как неприятие пассивности и обличение уклонения от обязанности бороться за лучшее устроение действительности. Получается как-то так, что Лев Толстой, не приемля действительность, предлагает человеку ежесекундно бороться с ней. На самом деле Толстой уже в то время смотрел на жизнь и действительность совсем другими глазами. Он не отрицает и не принимает существующую действительность, а признает ее за то, что необходимо душе человека в качестве препятствий жизнепрохождения, без которых нельзя душе. Душа подла в состоянии спокойствия, которого так желают люди, особенно современные люди, душе нужна борьба, но это борьба не с действительностью и не за улучшение действительности, и вообще не там, где "действительность", а где душа, где то Царство Божие, которое "внутрь есть". Разумеется, душевная борьба и преодоление в душе завязаны с борьбой и преодолениями в текущей действительности, но принципиально важно, какая из них должная работа жизни, а какая – лишь последствие и приложение ее. В марте 1910 года, за полгода до смерти, Толстой перечитывал свои старые письма к А. А. Толстой. Особенно он выделил то из них, которое мы разобрали. "Вечер опять читал с умилением свои письма к А. А. Одно о том, что жизнь – труд, борьба, ошибки – такое, что теперь ничего бы не сказал другого"(58.23.). В подтверждение этого приведем несколько цитат из писем и дневников Толстого. 1899 год: "Прожив жизнь, я убедился, что это большое и вредное заблуждение думать, что жизнь может сложиться так, чтобы идти без затруднений; вся жизнь всякого человека есть постоянное развязывание, распутывание узлов. И не надо сердиться на эти узлы, думая, что это исключительная неприятность, а внимательно и осторожно распутывать их, и что в этом задача жизни"(72.6-7). 1908 год: "Вы спрашиваете, как Вам быть со всеми этими противными Вашему сознанию условиями, в которых Вы живете: и закон Божий, и уроки, и Боже царя храни, и паспорт, и т. д. Но ведь не эти только препятствия для осуществления того, что нужно для Вашей души, стоят теперь перед Вами. Наверное, стоят еще сотни других, более или менее сознаваемых Вами, стоят теперь и будут стоять в будущем, так же, как они теперь в мои 80 лет стоят передо мною и перед всеми людьми, живущими не одной животной жизнью. Все препятствия эти не только не помехи для осуществления высшего закона любви, но для человека, живущего религиозной жизнью, они необходимы, представляя из себя тот материал, над которым человек призван работать. И человек, который поймет и начнет работать над этим материалом, тотчас же увидит, что борьба с этими препятствиями и работа над ними и есть истинное, неизменное благо жизни"(78.285-6). 1890 год: "Соблазны не случайные явления, приключения, что живешь, живешь спокойно и вдруг соблазн, а постоянно сопутствующее нравственной жизни условие. Идти в жизни всегда приходится среди соблазнов, как по болоту, утопая в них и постоянно выдираясь"(52.72). Общедуховная жизнь всегда стремится организовать течение жизни человека под свои нужды. Личная духовная жизнь проистекает в специально никак не организованном житейском потоке. Так и должно быть. "Всякая разумная жизнь есть не что иное, как непрестанное развязывание узлов, которые постоянно завязываются, надо не скучать этим и не ожидать гладкой нитки"(88.147). "Никогда не отчаивайтесь в борьбе: не считайте борьбу предшествующим действием чего-то; в ней-то и жизнь: тяжелая, мучительная, но истинная жизнь, где бы она ни происходила – на верху или на низу лестницы"(87.187). "Да, дорогой М. В., обрывать одну путу и затягивать другую, и так до гроба и с тем умереть… Прекрасна эта жизнь тем, что, во-первых, обрывая одну путу, более связывающую и крепкую, затягиваешь другую, менее связывающую и крепкую, идешь вперед к освобождению, и в этом радость"(66.300). Общаться с Толстым – духовное удовольствие. Не откажем себе и приведем еще две цитаты. "Если жалуешься на страдания – и телесные и душевные, – то жалуешься на жизнь: страдания – это трение жизни, без которого не было бы жизни, не было бы того, в чем сущность жизни: освобождение души от тела, от ошибок тела, от страданий, связанных с телом. Малые страдания – медленное движение освобождения; большие страдания, как телесные, так и душевные – более быстрое освобождение. А мы жалуемся на страдания. Пойми это – и будешь видеть благо в страданиях, и не будет страдания, как нет его для работника"(56.108-9). "Ведь разве может постигнуть тщету наслаждений плоти человек, не испытавший наслаждений, и благость страданий, тоже не прошедший через них (…) И нет той судороги во всей этой кишащей жизни, которая бы не имела смысла и не вела бы к тому, во имя чего мне хочется осуждать эту кашу. Вот если бы кончилось это кипение, вот тогда тотчас ужасно было бы и можно отчаяться" (64, 330—331). Мысль о необходимости "препятствий" жизни и их преодоления – сквозная у Толстого. Это одна из основных мыслей в его учении о личной духовной жизни. Она связана у Толстого с другой основной его мыслью – мыслью о "кресте". "Устроиться так, чтобы все пошло по маслу, нельзя, – пишет он в июне 1889 года Д. А. Хилкову, – а в том-то и жизнь христианская, чтобы выбиваться из одной ямы в другую, чтобы трудиться, нести крест и не думать о том, что выйдет из моего труда и несения креста» (64, 277). Через полгода И. Д. Ругину: "Крест дается по силам, и Вам выпал страшно тяжелый. Радуюсь слышать, что Вы уже чувствуете силы легко нести его, если нужно продолжать нести его. Благодарите Бога за это; то, что Вы приобретаете и приобрели в душе от этого испытания, то, что передумали, перечувствовали из-за этого, дало или дает Вам такую силу и радость, в сравнении с которой ничто Ваши страдания. Верите ли Вы в это? Я верю и не могу не верить, потому что опытом знаю, что чем тяжелее были страдания – если только удавалось в христианском духе принимать их, а Вы так принимаете Ваши – тем полнее, сильнее, радостнее, значительнее становилась жизнь. – Так часто повторяется не искренно, что страдания нужны нам и посылаются Богом, что мы перестали верить в это. А это самая простая, ясная и несомненная истина. Страдания, то, что называется страданиями, есть условие духовного роста. Без страданий невозможен рост, невозможно увеличение жизни – от этого-то страдания и сопутствуют всегда смерти. Если бы у человека не было страданий, плохо бы ему было… Я понимаю, что человеку может сделаться грустно и страшно, когда долго его не посещают страдания. Нет движений роста жизни. Страдание есть страдание только для язычника, для непросвещенного истиной и в той мере для нас, в которой мы не просвещены. Но страдание перестает быть им для христианина – оно становится муками рождения, как и обещал Христос избавить нас от зла. И это всё не риторика, а всё это для меня по разуму и по опыту так несомненно, как то, что теперь зима"(64.341-2). Через десять лет, в 1898 году, Толстой скажет: "Всегда мне в тяжелые минуты памятны слова Христа: не на этот ли час я и пришел? И эти слова всегда поддерживают меня, если удается вспомнить их вовремя. Трудные минуты тем должны быть дороги нам, что для них-то мы и жили и набирались силы всю предшествующую жизнь. Претерпевший до конца спасен будет"(71.469). Страдание для Толстого есть своего рода искупление, искупление грехов – своих и других людей. "Все мы тем же страдаем – все мы несем грехи своего прошедшего, своих живых и умерших братьев. И слава Богу, что мы страдаем, т. е. чувствуем страдание. Страдание и есть искупление. Разве можем мы, испорченные до мозга костей и воспитанием, и привычкой, и праздностью, и исключительностью положения, из которого мы, частью по слабости, частью по другим причинам, не можем выйти, – разве можем мы не страдать"(65.269). Это, разумеется, не то искупление, которое по церковному вероучению совершил Христос на кресте, а нечто даже противоположное ему. И вот в каком смысле: "Искупление тем особенно дурно, что оно, вопросы о нем, могут занимать только тогда, когда человек духовно празден в настоящем; то, что я делаю дурного, не зная, что оно дурное, не мучает меня, и искуплять нечего; то же, что мучает меня, это то дурное, которое я делаю теперь, такое же, как и то, которое я делал прежде; и оно мучает не тем, что сделал дурно, а тем, что я чувствую, что теперь способен сделать его, – что я не справился с этим врагом, не уяснил себе истину, не принял в себя Бога так, чтобы не быть уже в силах делать дурное. И искуплять нечего и некогда; нужно бороться, идти вперед. Если же бы я и победил, опять искуплять будет некогда, потому что откроется новая неусвоенная истина и непобежденная под ней сторона плоти"*)(87.187). *) Толстой часто говорит «плоть», подрузумевая «животную личность». Такая же терминологическая путаница встречается и у Шопенгауэра, откуда она, возможно, перешла к Толстому. Но как же так? Лев Николаевич обещает ничем нерушимого блага жизни, но приветствует страдания ее. Вот ответ Толстого: "Вопрос о том, что христианское учение дает благо, и потому кто следует ему, тот не может мучаться; а борьба есть мучение – вопрос действительно многих вводящий в заблуждение. Оправдание верою в искупление, причащение и исповедь, все это попытки уничтожить борьбу. – Христианское учение требует совершенства, подобного совершенства Отца, а мы все исполнены грехов, и потому приближение к совершенству есть борьба, а борьба представляется всегда, как страдание, мучение и потому христианское учение ведет к страданиям, к мучениям. Так и понимают его многие. С другой стороны, христианское учение есть благодать, откровение блага, и Христос избавил людей от страданий и мучений. Как это соединить? Все исповедания христианские суть попытки разрешения этого противоречия. А разрешение одно только и возможно, то самое, которое в приводимом Вами месте Паскаля (жаль, что нет у меня и не помню верно), разрешение одно: благо в борьбе, то есть в движении вперед к совершенству, подобному совершенству Отца"(86.172). Сама наша горестная жизнь, со всеми страданиями и несчастиями, которые есть в ней, используется Толстым для дела самооживления и духовного роста. В этом не одна лишь установка на преодоление препятствий, на борьбу и движение к Царству Божьему в себе, но и центральный принцип движений личной духовной жизни. *)Поэтому монастырь для Толстого – "духовное сибаритство"(51.23).
7 (27) "Во мне, я чувствую, вырастает новая основа жизни, – пишет Толстой в октябре 1889 года, – не вырастает, а выделяется, высвобождается из своих покровов, новая основа, которая заменит, включив в себя стремление к благу людей, так же как стремление к благу людей включило в себя стремление к благу личному. Эта основа есть служение Богу, исполнение Его Воли по отношению к той Его сущности, которая поручена мне. – Не само совершенствование, нет. Это было прежде и включает любовь к личности; это другое. Это стремление чистоты Божеской (и не чистоты телесной, нечистота телесная противна, но она не нарушает этого, нарушает главное ложь перед людьми и перед собой), соблюдение в чистоте порученного от Бога дара и вступление в жизнь, где нет осквернения Его, в жизнь другую: стремление к лучшей, высшей жизни и соблюдение себя в готовности к ней. Стремление это начинает все больше и больше охватывать меня, и я вижу, как оно охватывает меня всего и заменит прежние стремления, сделав жизнь столь же полною. Я не ясно выразил, но ясно чувствую» (50. 171). Новая "основа жизни", о которой говорит здесь Толстой, это "новое жизнепонимание" личной духовной жизни. Стремление, о котором говорит Толстой, это стремление к вершинам частной духовной жизни. Установление основного принципа личной духовной жизни Лев Толстой приписал Иисусу Христу и возвестил его сначала в статье "Первая ступень" (1891 год), а затем в книге под названием "Царство Божье внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание" (1893 год). Христос по Толстому полностью отверг религию евреев. Но сделал это не потому, что провозгласил религию других народов или всего человечества, а потому, что установил совершенно иной и новый тип религиозного понимания жизни в учении о личной духовной жизни. "1800 лет назад среди языческого римского мира явилось странное, не похожее ни на какое из прежних новое учение, приписывавшееся человеку Христу"(28.40). Всякое религиозно-нравственное учение выставляет в качестве образца некоторое высшее состояние души и учит достижению его. Это может быть то или иное состояние святости, праведности, просветленности, веронаполненности и прочее. Достоинство человека внутри религиозной сплоченности определяется по достигнутой им ступени на пути к заданному совершенству. Чем выше ступень, тем выше достоинство человека. По "новому жизнепониманию" это совсем не так. "Коренное отличие учения Христа от всех предшествующих учений, основанных на общественном жизнепонимании"(28.79), состоит вот в чем. "Жизнь по учению христианскому есть движение к Божескому совершенству. Ни одно состояние по этому учению не может быть выше или ниже другого. Всякое состояние по этому учению есть только известная, сама по себе безразличная ступень к недостижимому совершенству и потому само по себе не составляет ни большей, ни меньшей степени жизни. Увеличение жизни по этому учению есть только ускорение движения к совершенству. И потому движение к совершенству мытаря Закхея, блудницы, разбойника на кресте – составляет высшую степень жизни, чем неподвижная праведность фарисея. И потому-то для этого учения не может быть правил, обязательных для исполнения. Человек, стоящий на низшей ступени, подвигаясь к совершенству, живет нравственнее, лучше, более исполняет учение, чем человек, стоящий на гораздо более высокой ступени нравственности, но не подвигающийся к совершенству. В этом-то смысле заблудшая овца дороже отцу не заблудившихся. Блудный сын, потерянная и опять найденная монета дороже тех, которые не пропадали. Исполнение учения – в движении от себя к Богу» (28. 79). "Большее или меньшее благо человека зависит по этому учению не от той степени совершенства, до которого он достигает, а от большего или меньшего ускорения движения"(28.41), то есть ускорения духовного роста. О том же самом – в 1909 году: "Да, не важно то место, на котором находится человек в данное время, а то направление, в котором он движется, и быстрота, энергия движения. Вот эту-то, – если я позволю себе высказать свое мнение, – верность направления и энергию движения я видел в Вас и при личном свидании и в письме Вашем. Помогай Вам в этом Бог. Желаю этого Вам, потому что по себе знаю, что в этом всё большем и большем исправлении направления и усилении быстроты движения лучшее, да едва ли не единственное настоящее благо жизни"(79.62). И так, по этому "странному, не похожему ни на какое из прежних новому учению" важна сама по себе скорость духовного роста, нацеленного не на "большое", не на со-стояние, а на "всё большее и большее", на ускорение движения, ибо только "ускорение движения к совершенству" дает человеку "увеличение жизни". Рост жизни, писал Толстой, есть "наше единственное и неотъемлемое богатство, приобретенное жизнью"(65.168). Личная духовная жизнь человека есть процесс все большего и большего оживления, проявления и роста духовного Я в душе. Нет этого процесса, нет и личной духовной жизни. "При всякой деятельности настоящей важно не то, что из нее вышло, а усилие того, кто в ней участвует. Человек вытащил другого из огня. Тут дело Божье не в спасении человека (он может быть не нужен или вреден, себе даже), а в том росте духа, который совершился, когда спасавший боролся, т. е. рос духовно и вырос – решился"(87.42). Изначально никто не высеян лучше другого. Хотя одно семя может попасть на проезжую дорогу, а другое в хорошую землю. Успех – только в росте духа, а до какого конечного состояния, не имеет решающего значения. "Она напрасно думает, что она очень дурна и развратна перед Богом. Его этим не удивишь. И на Его мерку самый святой человек, борющийся со своими слабостями, и она, борющаяся со своими, ничем не отличаются друг от друга. И первый не ближе от Него, чем она (! – И. М.). Ближе к нему тот, кто страстнее стремится прочь от зла и ближе к Нему"(87.246). "Человек живой" для Толстого это всегда человек духовно растущий. Даже праведники, если они сейчас духовно неподвижны, – мертвы, обитают "в гробах своих". Образ святого по этому "странному" жизнеучению таков. "Мы так давно приучены к этому, – пишет Толстой в 1889 году, – так с молоком всосалось нам это представление о жизни такой, в которой мы можем быть спокойны и довольны собой, что то самое естественное неизбежное состояние живой души человеческой, в котором мы чувствуем, что мы стремимся от худшего к лучшему, т. е. несоответствия жизни с сознанием, представляется нам чем-то исключительным. Я себе часто представлял героя истории, которую хотелось бы написать: человек, воспитанный, положим, в кружке революционеров, сначала революционер, потом народник, социалист, православный, монах на Афоне, потом атеист, семьянин, потом духоборец. Все начинает, все бросает, не кончая, люди над ним смеются. Ничего он не сделал и безвестно помирает, где-нибудь в больнице. И умирая, думает, что он даром погубил свою жизнь. А он то – святой"(86.265). Понятно, что никакая общедуховная жизнь не может строиться на таких устоях. Динамика духовных процессов важна и для общедуховной и для личной духовной жизни. Но для лично-духовного роста только она и важна. Тот рост, про который говорит Толстой, не улучшение уже имеющихся качеств, не совершенствование данных свойств и способностей души и не обогащение дополнительно обретенными свойствами и талантами. Основной критерий лично-духовного роста – "увеличение жизни", приращение жизненаполненности души, наполнение ее высшей, чем та, которая есть, жизненностью и разумностью. «Подняться на ту высоту, с которой видишь себя, как постороннего – очень полезно, нужно. Это высший акт человеческой души. Удивительное дело, сознание сразу же останавливает всякую деятельность, но только на время. Надо посредством сознания остановиться, а потом уже продолжать деятельность пропущенную сквозь сознание»(55.175). Душа в акте лично-духовного роста становится выше и глубже себя самой, добывая в себе до того ей неведомые глубинные пласты жизни и разума. Такого рода скачок на более высокую степень одушевленности, духовной полноценности и свободы и составляет, по учению Толстого, "движение от себя к Богу"/28.79), движение, при котором происходит преображение (и, значит, отмена) уже устоявшейся, неподвижной душевной жизни. «Недовольство, усталость, уныние, потребность того, чего нет, все это от того, что мы составляем планы, что хотим достигнуть чего-то видимого. Стоит только ясно понять, что я ничего удовлетворяющего меня, видимого достигнуть не могу, и что потому большее или меньшее достижение теперь безразлично, а что дело только в том, насколько я не спускаю постромки и везу, что успокоение мое не в том видимом, что я достиг, а в том, что я знаю и люблю общее дело Божье и своею жизнью участвую в нем, и делается хорошо и радостно»(86.147). В резервуаре общедуховности все готово для жизни каждого, которому остается брать из этого резервуара для достижения того, что достигалось до тебя и будет достигаться после тебя. Тут всё зависит от возможностей данной души, ее целенаправленных усилий и предоставленных ей условий. В результате же броска лично-духовного роста в душе что-то "рождается" – потому и рождается /а не просто обретается/, что это то, чего еще не было и что одними своими потугами произвести нельзя. Душа всегда должна находиться в готовности, в рабочем, "рожающем" состоянии; остальное же зависит не от нее, а от Бога своего, решающего ожить в ней. Частная духовная жизнь – свободна, но в ней нет той опоры, того многовекового настоя, той определенности и авторитетности, которые обеспечивают надежность общедуховной жизни. Броски лично-духовной жизни обычно неожиданны, непредсказуемы, необоснованны и в этом смысле таинственны. Тут не только движения души к Богу своему, но и ответные движения Бога своего в душу – момент рождения "духовного существа" в человеческую жизнь на Земле. Личная духовная жизнь по большей части проявляется в борьбе и преодолении. Просто так, без дела, духовное сознание (если оно не фикция) не вызывается. По толстовской тактике личной духовной жизни, надо жить без усилий, а «взлетать» тогда только, когда "препятствия". "Сознание, чувствование Бога, живущего во мне и действующего через меня, не может быть ощущаемо всегда. Есть деятельности, которым надо отдаться вполне, безраздельно, не думая ни о чем, кроме как об этом деле. Думать жепри этом о Боге невозможно, развлекает и не нужно. Нужно жить просто, без усилия, отдаваясь своему влечению, но как только является внутреннее сомнение, борьба, уныние, страх, недоброжелательство, так тотчас сознавай в себе свое духовное существо, сознавай свою связь с Богом, переносись из области плотской в область духа, и не для того, чтобы уйти от дела жизни, а, напротив, для того, чтобы зарядиться силами для совершения его, для того, чтобы победить, одолеть препятствия. Как птица должна двигаться вперед на ногах, сложив крылья, но как скоро препятствие – так раскрыть крылья и взлететь. Я делаю это и мне хорошо. Как только сердито, жутко, уныло, больно – раскрыть крылья, вспомнить, кто ты, и с этим сознанием вернуться к своему месту и делу, и всё легко, и всё тяжелое исчезает"(52.151). И об этом же в другом месте: "Жить можно и должно всей материальной жизнью, работая в ней; но как только препятствие, так развернуть крылья и верить в них и лететь. И эта духовная жизнь всегда свободна, всегда радостна, всегда плодотворна»(67.261). "И никакие внешние события, несчастья не могут помешать этому; напротив, ничто так не содействует этому, как то, что мы называем несчастьями. Это всё самые удобные случаи для того, чтобы подняться, или подвинуться, как ветер для парусного судна. А плакаться на свои несчастья это значит прорвать парус и сидеть сложа руки"(71.258). Лев Толстой обладал огромной подъемной силой крыльев личной духовной жизни. И был способен на максимально возможное для смертного человека ускорение духовного роста. Это спасало его в самые трагические минуты его старости. И тогда, когда умирал сын Ванечка, и тогда, когда умирала любимая дочь Маша, Лев Николаевич свершает то, что другим и представить невозможно. Вспомянет, кто он, раскроет крылья и – взлетает. Максимальное ускорение духовного роста, как и учит Толстой, приводит к максимальному "увеличению жизни". И ему действительно становится "всё легко, и всё тяжелое исчезает".
8 (28) Лев Николаевич Толстой имел смелость возвестить миру о личной духовной жизни самой по себе и – против всякой очевидности – предречь ее победу. И не только в душах некоторых исключительных людей. Одних мировоззренческих причин для такой уверенности недостаточно. Тут должны быть и мистические основания. "Царство Божие внутри вас" имеет второе название: "Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание". И это несмотря на то, что Лев Толстой уже с начала 90-х годов носил в себе мистические прозрения, и не только носил, но чем дальше, тем больше руководствовался ими в своем учении. Прежде всего это прозрения о жизни после смерти. О них мы расскажем в четвертой и пятой части этой книги. Сейчас же – несколько предваряющих замечаний. Толстой не верил в рай и ад и не считал земную жизнь человека специальным местом, созданным для решения того, куда после смерти попадет человек. Совершенно чуждо ему и представление о реинкарнации, и даже представление о возможности повторной жизни, воскрешения человека в земную жизнь. Человек, согласно мистическим прозрениям Толстого, последовательно проходит ряд Обителей существования. До земной Обители, до своего рождения человек существовал в предшествующей Обители. После земной Обители, после своей смерти человек переходит – или может перейти – в другую, следующую Обитель существования. Только прохождение через все Обители составляет целостную и бесконечную жизнь. Так что можно жить всей, бессмертной жизнью и можно жить здешней земной жизнью, частичной и смертной. Земная человеческая жизнь есть или, вернее, должна быть частью этого целого, жизни всей. Никаких окончательных целей земная жизнь сама в себе не имеет. Она должна быть прожита так, чтобы стать подогнанной ко всей целостной и бесконечной жизни в цепи Обителей, то есть двигаться к недоступной и неведомой человеку цели. Процесс этот полностью определяет значение и достоинство человеческой жизни, он идет вплоть до последней минуты жизни и может оборваться в любую минуту, в том числе и в последнюю. "С особенной новой силой понял, что жизнь моя и всех есть только служение, а не имеет цели в самой себе"(53.12). «Человек может и должен знать, что благо его жизни не в достижении стоящей перед ним цели, а в движении для цели высшей, недоступной ему»(56.131), – писал Толстой за три года до смерти. О том же он говорил в середине 90-х годов: "Личность ищет продолжение жизни и боится потерять. Душа не только не боится потерять жизнь, но творит ее. Желание блага себе, это – жизнь личности; желание блага другим, это – жизнь души. Истинная жизнь состоит в том, чтобы в этой жизни достигать цели, которая вне ее"(52.145). То же Толстой говорил еще в 1889 и 1890 годах: "Мы хотим что-то совершить в жизни, подвиг или хоть дело какое бы то ни было. Этого нельзя… Сделать что-нибудь, совершить нам не дано, потому что жизнь наша не есть что-либо цельное, законченное, а есть часть чего-то несоизмеримо огромного, есть конечная часть бесконечного. Дело все только, чтобы часть прилаживалась, как должно, к целому". Земная жизнь человека есть "одна из обязанностей, должностей всей жизни" (50.45). Делать надо только "свою всю жизнь, до последнего издыхания, так что все-таки не узнаешь, что ты совершил… Как ни стар, как ни болен, как ни много, как ни мало сделал, все твое дело жизни не только не кончено, но не получило еще своего окончательного, решающего значения до последнего издыхания… Прибавить еще хочется то, что самая кажущаяся хорошей и значительной жизнь может сделаться ничтожной последними годами или часами и наоборот"(87.9-10). При таком подходе чрезвычайно важно каждое движение жизни. Но не жизни низшей души, "личности" (животной личности), которая проживет только в этой Обители существования и умирает, исчезает по выходе из нее, а жизни высшей души, которая и переходит из Обители в Обитель. "Бессмертная душа не может удовлетвориться смертным, конечным делом; ей нужно дело бесконечное и бессмертное, как она сама. Ложное понимание жизни в том, что считать собою свою умирающую личность, а не свою вечно растущую душу"(52.155). Главный признак бессмертия высшей души и основание для ее бессмертия – духовный рост. «Жизнь есть увеличение своей души, – комментирует Толстой в 1905 году евангельскую притчу о талантах, – и благо не в том, какая душа, а в том, насколько человек увеличил, расширил, усовершенствовал ее. Зачем это? Никто не знает и не может знать. Но что это есть, это мы все, если не знаем, то смутно чувствуем и можем знать»(55.94-5). "Есть в человеке бесконечное – он свободен, нет – он вещь. В процессе движения духа совершенствование есть бесконечно малое движение – оно-то и свободно – и оно-то бесконечно велико по своим последствиям, потому что не умирает"(52.12). Перефразируя Павла, можно сказать, что человек, по Толстому, спасается не "верой" и не "делами", а личным духовным ростом. В этом суть мистических прозрений Льва Толстого. У хорошей знакомой Толстого и последовательницы его учения, Елизаветы Владимировны Джунковской, умерли дети. И она спрашивает у Льва Николаевича: где они теперь, после смерти? Случилось это в 1891 году, когда ей было 30 лет. "Ведь нельзя, милый друг Лизавета Владимировна, сказать нам этого. – Объясняет ей Толстой. – Нельзя, потому что это секрет, касающийся всех нас и который нельзя поверить нам. Если бы мы знали, где они – любимые наши, мы бы знали и где и что будем мы. А если бы мы это знали – не было бы жизни. Жизнь есть движение вперед, а движение только тогда движение вперед, когда мы из известного переходим в неизвестное. Таково все движение жизни; завтрашний день в его истинном значении для меня, для моей души – не внешние события, что я буду с тем же лицом, телом, в том же платье, в том же доме и т. п. – есть движение в неизвестное – только довольно близкое, доступное взгляду, но загробный день есть более отдаленное неизвестное, не видное мне, но тем более манящее, если я верю в свое движение. А движась, нельзя не верить в него"(66.115). Определиться в том, что вечное и что временное, преходящее, только земное, есть первейшая необходимость для любого религиозного мыслителя. Затем ему надо определить назначение человека относительно этого вечного в себе: дано ли оно человеку, которому в этом случае следует только сохранить или подтвердить его в себе, или человек должен добыть его, сам, своими усилиями обрести его в самом себе? И если добыть, самому создать это вечное в себе, то – как, какими усилиями души? Вечное и Божественное в человеке, по Толстому, – это его высшая душа, Бог свой. Назначение человека в этой жизни – рост Бога своего. Духовный рост есть ращение в себе Бога своего по любви к нему и в силу любви к нему. Человек призван растить духовное Я из земной Обители в Обитель посмертную. «Все яснее и яснее мне становится то, что только единое на потребу – одно нужно: блюсти в себе свое Божественное Я и растить его, с тем, чтобы перенести его в другую жизнь возращенным, – след же, который оно оставит в этой жизни, есть только неизбежное последствие этого возращения, совершенствования»(67.157). Истинная (что значит у Толстого бессмертная) жизнь определяется только духовным ростом. "И моя жизнь истинная есть только та, которая взращена мною"(51.106). Нельзя сказать, что "моя жизнь истинная" есть жизнь моей высшей души. Это было бы не совсем точно. Переходящая из Обитель в Обитель истинная жизнь создается из движений приращения жизни духовного Я, его все большего и большего "оживления", достигаемого в ускорении движений духовного роста. Этим же определяется и полноценность всей земной человеческой жизни. "Красота, доброта жизни, оцениваемая всегда верно воспоминанием, определяется не внешними условиями, а внутренним движением, ускорением движения"(65.307). В неподвижной высшей душе истинной жизни, собственно говоря, нет. И, значит, нечему переходить в следующую Обитель существования. В этом смысле Толстой говорил, что люди часто делают из жизни высшей души себе "пуховик, на котором лежать, не работать. Все дело в том, что они признают свою жизнь неподвижною, а не текущею"(53.3). «Видел во сне, что мне говорит кто-то: «Помни, что ты едешь, а не стоишь. В этом все»(55.198). Растить Бога своего, значит выделять Бога своего из пределов личности, в которые он заключен в человеке. Течь, творить, растить свою духовную сущность, значит переносить ударение жизни из формы в содержание, отделываться от формы личности, чтобы явить содержимое, духовное Я, которое вне формы личности. "Дух жизни уходит из формы моего тела, и я ухожу вместе с ним. С ним спускаюсь, умаляюсь, перехожу в бесформенность, но не отделяюсь от него, остаюсь с ним, не перестаю сознавать себя им. Нельзя духу жизни (которым был я) перейти в другую форму жизни иначе, как так, чтобы не перестать сознавать себя в этой форме"(52.36). Главное заблуждение человека христианского мира состоит в убеждении, что жизнь дана человеку для его блага и имеет цель – его благо. Для Толстого сама жизнь человека ему не принадлежит и не может принадлежать. "В кратчайшей форме смысл учения Христа: – Жизнь моя – не моя, не может иметь целью мое благо; а Того, Кто послал меня; и цель ее – исполнение Его дела. И только через исполнение Его дела я могу получить благо"(87.185). Человек в учении Толстого начала 80-х годов – это работник Божий. В учении же Толстого середины 90-х годов человек – это самодеятельная лопата, которой работает Бог. «Человек это орудие Бога. Сначала я думал, что это орудие, которым призван работать сам человек. Теперь же я понял, что это орудие, которым работает не человек, а Бог. Дело человека только в том, чтобы себя держать в порядке»(53.107). Отсюда и вся толстовская стратегия борьбы с "препятствиями" и весь пафос этой борьбы – держать себя в порядке, дать возможность Ему работать через себя. "Как возрастить ее (душу – И. М.)? Я для себя знаю, что мне нужно: в чистоте блюсти свое животное*), в смирении свое человеческое, в любви свое Божеское»(86.247). *) Отсюда отношение Толстого к труду: "Трудовая жизнь есть не пустяки, а есть одно из условий чистоты"(64.245). И все же Толстой постоянно озабочен не тем, чтобы "сделать", а "как бы не ошибиться и не сделать того, что не хочет Пославший меня, и не помешать не своему, а Его делу"(87.347). "Я так убежден в том, что для того, чтобы сделать хорошо какое бы то ни было человеческое дело, надо все силы свои напрячь на то, чтобы не мешать делу Божью, а то само выйдет"(там же). "Самое главное, что думал, это о том, что самому самого победить нельзя. Самый святой сам – сам черт. Надо устроить в себе обиталище достойное Бога, чтобы он пришел и вселился"(51.48). Признаки того, что человек устроил в себе обиталище Бога и живет по воле Пославшего его (или, в другом варианте, по воле Проводящего человека по жизни – 50.56) таковы: "Самый первый, главный, несомненный признак, которым мы склонны так пренебрегать, это отсутствие ощущения духовного страдания… Другой признак, поверяющий первый, это не нарушение любви с людьми… Третий признак, опять поверяющий первый и поверяемый им, есть рост духовный"(50.142; см. еще 64.311) Царство Божье – уже есть, его не надо создавать человеку. У человека другая задача: "Мир идет вперед к Царству Божьему, как золото промывается. Золото не прибавляется, а только песок промывается"(50.15). Промывать песок – это работать духовную работу, хотя результат этой работы и скрыт от человека. "Дано одно: возможность участия в работе, слияние интересов с хозяином". Благо человека – в самой работе. "Дано пользоваться только благом самой работы"(50.67). «Прежде бросался на работу, желая как можно скорее кончить, и ослабевал и бросал. И только недавно как я*) в работе узнал, что дело не в том, чтобы кончить, а в том напротив, чтобы иметь счастье работать, (часто я жалею теперь, что работа кончается), так и в христианской жизни я начинаю чувствовать радость в самой работе над своими грехами и над приближением к Отцу»(86.173). *) Письмо от 20 сентября 1888 года Бог свой стремится освободиться в человеке и приблизиться к Отцу. Эти движения "всей жизни" Бога своего в человеке, особенно первые его движения, вызывали у Толстого священный ужас. "Как таинственны, вечно таинственны, вне нашего наблюдения и соображения пути, по которым души человеческие приближаются к Богу. Мы знаем, я по крайней мере знаю, только то, что зарождение духовной жизни в другом человеке возбуждает во мне священный ужас, страх чем-нибудь, не то, что уж словом, дыханием, взглядом, знанием того, что началось и совершается что-то – помешать рождению; как примета есть, что не надо, чтобы знали люди, когда женщина рожает"(87.232).
9 (29) Личная духовная жизнь это – род прохождения, то есть чего-то спонтанно совершающееся при условии динамичности и глубины душевной жизни, ее вдумчивости, любовности и обновленности. Вернее сказать, личная духовная жизнь и есть та глубинная жизнь, которая создается, совершается в душе и, совершаясь, обновляет весь внутренний мир человека и переводит этот мир в новое и высшее качество. "Не знаю, как другие существа, через которых действует сила Бога, но про себя мы люди знаем, что нам дано сознавать это как бы прохождение через нас силы Бога. Как только я стану поперек этой силы, и она не проходит через меня, так мне больно и страшно, стану по направлению ее, согласно с ней, и мне радостно, спокойно и бесстрашно. Я даже думаю, что все движение этой нашей жизни есть ничто иное, как прохождение через нас, стоящих не по направлению этой силы, и установление нас по ее направлению. Если бы я стоял совсем по ее направлению, я бы и не двигался, не сознавал своей плотской жизни, а только ту силу жизни Божью, которая проходит через меня. И это-то и делается с нами в этой жизни. Это сознание очень и всегда без исключения успокаивает и утверждает меня, если я в тяжелую минуту успею только вспомнить об этом»(86.281). В составе человека Толстой в конце 80-х годов выделял: "1/ тело, животное, 2/ человек разумный и 3/Бог. Вот из чего я состою"(50.95). Отсюда видно, что в структуре человека есть некоторый деятель (Я, человек) и две души, две жизни: высшая – духовное Я, душа, Бог свой, жизнь Божеская, духовная, и низшая – тело, личность, животная личность, животная природа, животная жизнь, "плоть". Человек складывается из его духовного, его высшей души, и его животного, его низшей души. Однако деятель человеческой жизни, его "Я", приложено, как можно понять Толстого, не отдельно к высшей душе и не отдельно к низшей душе, а к их равнодействующей в человеке. Направление жизни высшей души и направление жизни низшей души складываются, как складываются два вектора, и вместе определяют общее направление жизни человека в данный момент. "Я" человека воздействует на эту геометрическую сумму, на этот вектор состояния жизни и сдвигает его положение либо в сторону духовной жизни, либо в сторону животной жизни. Для верности картины важно понять, как эти две жизни воздействуют друг на друга (и воздействуют ли?), то есть определить, под каким углом состоят друг относительно друга направление жизни высшей души и направление жизни низшей души. Духовная жизнь человека, учит Толстой, направлена не против течения его животной жизни, а поперек этого течения. Человек складывается из животного и духовного, но обе эти силы в нем направлены не встречно, на столкновение, а таким образом, что каждая из них сама по себе не воздействует на другую. Человек не арена борьбы противоборствующих сил в том смысле, что одна сила в нем подавляет другую, а точка приложения независимых друг от друга, конкурирующих сил, каждая из которых отклоняет или сдвигает его общее состояние жизни. Человек – как вектор, имеющий две проекции на перпендикулярные оси: вертикальную духовную и горизонтальную животную. И в каждый данный момент жизнь человека определяется не этими «проекциями» самими по себе, а только их отношением, то есть углом сдвига вектора, а не его «модулем», величиной. Это положение Толстой иллюстрирует в образе движения лодки по реке. Лодочник (духовная сила человека) направляет лодку прямо на другой берег, поперек движения реки (животной силы человека), и движение лодки в действительности складывается из того и другого движения. "Христос признает существование обеих сторон параллелограмма, обеих вечных, неуничтожимых сил, из которых слагается жизнь человека: силу животной природы и силу сознания сыновности Богу. Не говоря о силе животной, которая, сама себя утверждая, остается всегда равна самой себе и находится вне власти человека, Христос говорит только о силе Божеской, призывая человека к наибольшему сознанию ее, к наибольшему освобождению ее от того, что задерживает ее, и к доведению ее до высшей степени напряжения"(28.77). "Ангел рождается из зверя", то есть освобождение духовной силы от того, что задерживает ее, происходит по этой геометрической притче при определенном изменении положения вектора общего состояния жизни, при подъеме этого вектора от его горизонтальной (животной) составляющей к его вертикальной (духовной) составляющей. Духовный рост – увеличение угла между вектором общего состояния жизни и его горизонтальной (животной) составляющей. При подъеме вектора состояния жизни от горизонтальной к вертикальной оси животная составляющая уменьшается, а составляющая духовная увеличивается. Происходит своего рода трата (утрата) животного ради прибытка духовного – кто погубит душу (низшую), тот обретет душу высшую. Производит духовный рост (увеличение угла) некоторая поворотная сила вектора состояния жизни – "Я" человека, которое все более и более устанавливается в высшей душе и тем сдвигает человека, производит духовный рост, увеличение угла в векторной притче. "В этом перенесении своего "я" из животного в духовное – сущность учения Христа, подробности же этого учения, начатые Христом и продолжаемые всем человечеством, состоят в уничтожении, разоблачении тех соблазнов, которыми люди животной жизни, по инерции предания, стараются скрыть от человека его погибель в животной жизни и поддерживать его на этом ложном пути. Разоблачение этих соблазнов есть работа жизни людей: есть то, что хочет Бог от людей"(69.65-6). Напомним, что, по взглядам Толстого, важно не только "безостановочное движение", непрекращающийся духовный рост, но и ускорение этого движения роста, то есть не положение вектора состояния жизни и не столько скорость его подъема, сколько постоянное увеличение скорости этого подъема. Но как осуществить это? У поворотной силы "Я" нет раз и навсегда установленного направления; для каждого состояния, для каждого положения вектора состояния жизни она имеет свое, строго определенное направление действия. Чтобы обеспечить максимальный поворот, вся она должна тратиться только на этот сдвиг и, следовательно, не должна никак влиять на величину вектора состояния жизни, то есть должна быть направлена как бы перпендикулярно ему. То есть она почти вертикальна на нижнем положении вектора и почти горизонтальна при его верхнем положении. Это означает, что на низших ступенях одухотворенности в стратегии безостановочного ускорения роста должна преобладать духовная сила, и тем более преобладать, чем меньше угол вектора относительно горизонтальной оси; на высших же ступенях одухотворения должна преобладать сила противоплотская, аскетическая, и тем более преобладать, чем духовно совершеннее человек. В начале процесса духовного роста, рост обеспечивается преимущественно духовными усилиями, аскетические же усилия самоподавления приобретают все большее значение только на высших ступенях совершенства души. Достаточно бегло ознакомиться с "Христианским учением" Льва Толстого, чтобы убедиться, что такова и стратегия его учения. Тактика «Христианского учения» обеспечивает непрерывное, постоянное, хотя и малое приращение скорости движения роста. Но в ней нет той особой динамичности, которая присуща движениям подлинной жизни, всегда состоящей из череды взлетов и падений, приливов и отливов, побед и поражений и опять побед – всего того, без чего нет процесса совершенствования и что заложено в самой мысли о высшей полноте истинной жизни, обретаемой в ускорении (увеличении скорости) духовного роста. "Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь – уж мало осталось времени, описать те различные фазы, возрасты духовные, которые мы все (духовно растущие люди. – И. М.) проходим…" – пишет Толстой в сентябре 1894года, когда он уже завершил "Царство Божие внутри вас" и начал работу над "Христианским учением". Ставя в центр своего внимания живущего в духовном росте человека, Толстой, несомненно, понимал жизнь динамично и вместе целостно. Изучение духовных возрастов при таком взгляде на жизнь необходимо для того, чтобы увидеть течение глубинной жизни души в общих для всех людей личной духовной жизни периодах и стадиях, подъемах и спадах – ступенях восходящего Пути жизни. Восхождение на Пути совершается в процессе непрерывной и на пределе сил душевной работы, что может происходить только в условиях ускорения духовного роста. Духовный рост человека, по учению Толстого, идет в направлении к идеальному состоянию никогда не достигаемого совершенства, в таком качестве заданного заповедями Нагорной проповеди Христа. Но это не значит, что человек духовно растет в бесконечность. Это невозможно. "Живой", растущий человек идет к некоторой поворотной точке Пути восхождения, после которой он входит в качественно иную стадию жизни. На новой стадии Пути его духовный рост обретает иное содержание и направление. Только это может обеспечить процесс постоянного и максимального ускорения духовного роста. «Человечество и каждый человек переходит от одной поры к другой, следующей, – учил Толстой в конце жизни (1909 год), – от зимы к весне, сначала ручьи, верба, трава, береза и дуб пробрался, а вот цветы, а вот и плод…» (57, 62). В личной духовной жизни должны быть периоды цветения и оплодотворения, завязи плода и его созревания, отпадения плода и оживания семени, его пророста, выхода на поверхность и укоренения. Каждый период жизни, каждый возраст имеет позади и впереди себя такие точки перелома, которые могут быть поняты и как завершение утробного развития, и как проявление заданного, просветление уже имеющегося, т. е. могут быть поняты и как рождение, и как повторное возникновение, воскресение. Личная духовная жизнь есть рост. У каждого периода жизни свой рост (или свой характер роста), и именно рост ведет к путевому рождению. Можно даже сказать, что рост есть такие душевные движения, которые ведут к следующему на Пути скачку жизни, в новую плоскость жизненности и разумности, на новую кривую путевого движения. Смысл личной духовной жизни – в путевом прокладывании самого себя. В личной духовной жизни есть свой последовательный ряд рождений. Весь Путь восхождения идет от рождения к рождению и через рождение. На Пути этом кое-что отживает, но ничто не умирает, напротив, все – воскресает и воскресает, то есть неизменно происходит процесс, обратный смерти. И потому: как же предположить, что в конце пути последовательных воскресений неизбежно произойдет авария, ликвидирующая весь ряд рождений?
10 (30) Еще одно отличие личной духовной жизни от жизни общедуховной – в их динамике. Общедуховная жизнь для отдельного человека – статична, она динамична только для Общей души – в веках. Жизнь же личная духовная динамична на дистанции отдельной жизни – на ее Пути восхождения и в сюжетах, связанных с прохождением Пути восхождения. В общедуховности человек включен как целое в течение общедушевной и общедуховной жизни. Из-за этой целостности и своего рода монолитности общедушевной жизни и создается впечатление, что в структуре человека лишь одна душа. Человек в общедушевной жизни видится как сумма или собрание духовных, душевных и плотских сил. В определенных пределах он способен осуществлять выбор, что-то усиливая и что-то подавляя в самом себе из того, что поступает в него от Общей души. В общедушевности человек состоит из сталкивающихся и взаимодействующих общедушевных потоков, которые и есть он сам – ячейка Общей души. В личной духовной жизни человек – самобытийственная точка приложения разнородных сил, которая подвигает его каждая в свою сторону. Человек в личной духовной жизни – не ячейка, а центр отклоняющих или сдвигающих его конкурирующих сил. Тут он не выбирает и не отбирает, а дирижирует ими. Без Общей души подавляющее большинство душ чувствовали бы себя в беспризорности. Во избежание душевной беспризорности люди стремятся встать под духовную власть. Личная духовная жизнь всегда ведет куда-то. Личная духовная жизнь всегда – Путь. В общедуховной жизни человек становится существом родившимся, как только включился в эту жизнь, стал под знамена той или иной конфессии. В личной духовной жизни человек – "ангел, рождающийся из зверя", он всегда существо рождающееся, всегда неродившееся, всегда находящееся в утробном развитии. Личная духовная жизнь есть процесс рождения и сюжет рождения – Путь. В общедушевности чем духовно выше, тем рост медленнее. В общедушевном святом рост останавливается, и все усилия идут на сохранение достигнутого. В личной духовной жизни наоборот: чем духовно выше, тем больше должен ускоряться рост. Что возможно только на Пути восхождения. Без учения о Пути восхождения нет полноценного учения о личной духовной жизни. Чтобы увидеть всю жизнь человека как работу души на Пути восхождения, надо прежде знать, что Путь такой есть: что есть общие закономерности продвижения личной духовной жизни человека. Только после этого можно пытаться уловить то, что продвигает душу из одного путевого состояния в другое, обозреть всю дистанцию жизни в целом как движение по должному, восходящему Пути, имеющему некоторый сюжет. «Человек восходящий» идет не по прямой, а по «кривой восхождения», разбитой на размеченные по возрастам периоды и поприща Пути, каждый из которых надо суметь выделить и описать с точки зрения движущих им духовных мотивов и собственного душевного наполнения; потом сочленить их все и увидеть общую перспективу Пути и его "путевые рождения" – последовательные выявления личной духовной жизни на Пути. Человека можно рассматривать двояко: как носителя семени и как само семя, высеваемое Богом в Мир. На человека можно смотреть двояко: как на носителя процесса плодо- и семятворения и как на сам процесс. По учению Толстого, человек не столько рабочий, сколько работа или даже орудие работы. Только в этом смысле он есть сосоздатель и плода, и семени плода, и новой, иной жизни этого семени. Прежде всего человек есть Путь, а потом уже идущий по Пути. Возможно, что Путь этот – из одной Обители в другую, т. е. из предшествующего существования в существование последующее. Главное не в том, переходит или не переходит человек сам, и когда переходит, и когда не переходит. Главное для Толстого все же в том, что человек переносит некоторую духовную сущность или, вернее, некоторая духовная сущность переносится человеком (как орудием или процессом) из одной Обители в другую. Не Бог работает на человека и не человек для Бога, а Бог работает человеком, то есть человек – самостоятельно волящий труд Бога и Его самодвижущееся орудие. Человек от Бога имеет призвание быть работой и исполнять предписанную Им работу, не думая при этом ни о последствиях, ни о личном переходе-спасении. Да, человеком Бог творит Пути Свои, человек есть не носитель, а носильщик Бога и вместе с тем сам процесс ношения. Но в его воле (хотя и вполне ли?) нести или не нести, быть или не быть носильщиком. Человек – процесс, но процесс самовластный. Его можно уподобить течению или волне, но такой волне, которая может держать корабль, а может потопить его и выбросить на берег, и такому течению, которому отчасти дано самому выбирать, куда течь, во власти которого течь быстрее или медленнее, превращаться ли в пруд, болото или струю, ручей, водопад или уйти в песок. Человек в здешнем мире создан для блага и во благо дела ношения, а не для приятности и облегчения носильщика, так как легче всего свалить ношу и жить вхолостую. Так что все то или многое из того, что представляется носильщику злом, есть добро для ноши, либо есть сам процесс ношения, либо возникает в результате нежелания носильщика нести. Если есть Сеятель, есть семя и то, куда высевается семя, то человек – высеянное на плоти семя Бога. Если же есть Отец – Хозяин ноши и есть тот, которого Толстой называл "сыном человеческим" – одновременно и ноша хозяйская и носильщик, то человек – сам Путь Божий и Его носильщик, способный вступать на Пути в самые различные отношения сродства и отчуждения со своей ношей. В первом случае человек – готовый светильник, который надобно только зажечь, во втором человек – лишь разрозненные части светильника, который надо в строгой последовательности собрать, заправить горючим, зажечь и обеспечить его независимое горение. Смысл жизни для человека как семени Бога – одухотворение, возгорание. Смысл жизни человека, понимаемого как Путь (или – носильщиком Бога), – в самом прохождении Пути, в безостановочном движении по нему, в совершении, самосозидании, самотворении, в прокладывании Пути восхождения своей жизни. Разумеется, человек не способен сам задать Путь себе, он способен только идти или сойти с него. Сам же Путь, его план – его этапы, вехи, повороты, подъемы – должен быть дан ему, хотя и далеко не столь жестко, как природой задается план возникновения новой яблони из яблони старой. Конечно, каждый имеет свою путевую судьбу, но должный Путь восхождения – для всех один и тот же. В ином случае у человека просто не хватит срока жизни на прохождение его. В книге "Путь восхождения" мы попытались определить этот нормативный Путь. Сама эта книга, в известном смысле, не о реальном течении человеческой жизни. Она – о жизни человека в росте и восхождении на Пути. Путь – не реальность. Жизнь, такая, какой мы ее знаем, не путевая, она на обочине Пути, не на нем самом. Поэтому изучить Путь, изучая действительную жизнь, нельзя. Путь можно только видеть, как видение. Для этого нужно смотреть не туда, где его нет, а по возможности только туда, где Путь есть, – в неосуществленность, в истоки души. Для человека, озабоченного текущей действительностью, Путь восхождения – не то мечта, не то фантазия, во всяком случае, нечто такое, что не имеет практического отношения к его жизни и интереса в ней. Житейской мудрости – даже самого высокого разбора – учение о Пути восхождения не нужно. У Толстого нет учения о Пути в нашем понимании этого слова. И все же изучение Пути восхождения это изучение движений личной духовной жизни, то есть основ того "нового жизнепонимания", которое в середине 90-х годов прошлого века возвещено Толстым и во многом построено на толстовских принципах духовного роста. Вслед за Толстым мы утверждаем духовный рост и Путь в качестве фундамента мировоззрения и жизневоззрения, по которому человек определяет ценность и достоинство всего существующего в его мире.
11 (31) Если в начале 80-х годов Толстой выставлял ударение на "приложениях" к учению, на "правилах", способных осуществить на Земле Царство Божие, то лет через 10, в начале 90-х годов, Царство Божие на Земле для него есть то "остальное", которое "прикладывается" к осуществлению Царства Божьего внутри себя. Взгляд Толстого определенно переключился с общей интердушевной жизни на внутреннюю жизнь единичной души, на духовную жизнь отдельной личности – личную духовную жизнь. Соответственно этому изменились и его представления о методах осуществления Царства Божьего на Земле. Если раньше он апеллировал к людскому сообществу в целом, которое и должно было перейти на "новый, сознательный процесс питания", то теперь он считает, что "освобождение всех людей произойдет именно через освобождение отдельных личностей"(28. 175). "Переход людей от одного устройства жизни к другому совершается не постоянно так, как пересыпается песок в песочных часах: песчинка за песчинкой от первой до последней, а скорее так, как вливается вода в опущенный в воду сосуд, который сначала только одной стороной медленно и равномерно впускает в себя воду, а потом от тяжести уже влившейся в него воды вдруг быстро погружается и почти сразу принимает в себя всю ту воду, которую он может вместить. То же происходит и с обществами людей при переходе от одного понимания, а потому и устройства жизни, к другому. Люди только сначала постепенно и равномерно один за другим воспринимают новую истину внутренним путем и следуют ей в жизни; при известном же распространении истины она усваивается ими уже не внутренним способом, не равномерно, а сразу, почти невольно… Люди, переходящие на сторону новой, дошедшей до известной степени распространения, истины, переходят на ее сторону всегда сразу, массами и подобны тому балласту, которым нагружают всегда сразу для устойчивого уравновесия и правильного хода всякое судно. Не будь балласта, судно не сидело бы в воде и изменяло бы свое направление при малейшем изменении условий. Балласт этот, несмотря на то, что он кажется сначала излишним и даже задерживающим ход судна, есть необходимое условие правильного движения его. То же и с той массой людей, которая всегда не один по одному, а всегда сразу под влиянием нового общественного мнения переходит от одного устройства жизни к другому. Масса эта всегда своей инертностью препятствует быстрым, не проверенным мудростью людской, частым переходам от одного устройства жизни к другому и надолго удерживает всякую долгим опытом борьбы проверенную, вошедшую в сознание человечества истину"(28.197-199). При такой постановке вопроса следует обращаться не к каждому человеку и не ко всем людям, а к людям активной личной духовной жизни, способным усваивать истину внутренним путем и самостоятельно. «Нельзя научить людей – каково большинство людей теперь – тому, чтобы они жили, понимая все значение своей жизни, т. е. жили, руководствуясь религиозным сознанием. Люди такие только начинают вырабатываться – являются один на тысячи, и являются совершенно независимо от образа жизни, материального достатка, образования, столько же и даже больше среди бедных и не образованных. Количество их постепенно увеличивается, и изменение общественного устройства зависит только от увеличения их числа»(55.154-5). Многим людям XXI века близко представление о том, что лучшее будущее, если и достижимо, то не через общественные преобразования, и не посредством какого-либо внушения, и не от непосредственного вмешательства Божества в нашу земную жизнь, а только усилиями личного духа тех, которые способны на эти усилия. Нащупав в самых разных сферах существования человека пункты перевода частной духовной жизни в жизнь всобщедуховную, Лев Толстой обнаружил, что строительство всеобщей жизни на базе личной одухотворенности не невозможно. Толстой надеялся на некоторых, немногих, "живых" людей (тех, в ком "быстрее движения" духовного роста и, следовательно, "сильнее жизнь"), которые составят новую духовную сплоченность, за которой пойдет вся составляющая "балласт" масса людей. Дважды – один раз, завершая тему любви в книге "На каждый день"/см.44.333-335/, и другой раз, сокращенно, в статье "Закон насилия и закон любви" /см.37.190 и сл./ – Толстой приводит обширную /даже по его меркам/ выдержку из "удивительного, вдохновенного письма" Дюма-сына. В письме этом французский писатель призывает верить в то, что человечество уже "вступает в эпоху осуществления слов: "любите друг друга" без рассуждения о том, кто сказал эти слова: Бог или человек". Вглядываясь в общественную жизнь вокруг себя, Дюма видит то же, что и Лев Толстой, что "во всем этом нет души: она перешла в иное место". В жизни людей создается "новая душа" – вот близкая Толстому мысль Дюма-сына: "Те несколько индивидуальных душ, которые отдельно желали общественного перерождения, мало-помалу отыскали, призвали друг друга, сблизились, соединились, поняли себя и составили группу, центр притяжения, к которому стремятся теперь другие души с четырех концов света, как летят жаворонки на зеркало; они составили, таким образом, общую коллективную душу, с тем, чтобы люди вперед осуществили сообща, сознательно и неудержимо предстоящее единение и правильный прогресс наций, недавно еще враждебных друг другу". В этих словах Дюма-сына для Толстого не плоды либеральной идеологии, а выражение задушевной его задачи: создать в составе человечества новую духовную сплоченность, основанную не на "общественно-семейно-государственной" религии, а на религии "Божеской". Первая видит смысл жизни в приобретении личностью наибольшего блага – ею отдельно или вместе с другими, в ее земной жизни или в ее посмертном существовании. Вторая видит смысл жизни только в Боге и признает значение человека "только в служении той Воле, которая произвела его и весь мир для достижения не своих целей /целей личности – И. М./, а целей этой Воли"(39.9-10). Добро, по убеждению Льва Николаевича Толстого, не будет распоряжаться в мире до тех пор, пока в нем поверх общедушевной и общедуховной жизни не возникнет новая духовная сплоченность людей личной духовной жизни. Всякая духовная сплоченность возникает вокруг кого-то, кто взошел на вершину духовной жизни определенного рода и не только в проповеди, но и своею жизнью показал ее людям и повел за собой. У Толстого были и есть единомышленники и единоверцы, находящиеся под тем или иным влиянием великого старца, но не было и нет того толстовского внеобщедушевного Дома, той единой семьи, которая собрала бы вместе людей личной духовной жизни. Отчего же? Не пришло время? Или есть другие причины? Стремление души к вершине – чисто духовное движение. Для личной духовной жизни это и заглавное ее стремление. Но это не стремление к идеалу, который может быть дан, скажем, в «заповедях» Нагорной проповеди. Идеал – не вершина духовной жизни, а маяк, указатель направления для личной духовной жизни и ее «маршевый двигатель». Вершина духовной жизни не задается идеалом, хотя бы только потому, что она недоступна умозрению или воображению. Вершина духовной жизни – определенное состояние жизни. Для личной духовной жизни это состояние предельного ускорения духовного роста, которое раскрывается только при приближении к нему. Испытал ли его Толстой? Был ли он на вершине личной духовной жизни? Сама по себе вершина личной духовной жизни – финал никогда не прекращающегося убыстрения духовного роста – есть нечто невообразимое. Раньше или позднее человек неизбежно приближается к некоторому предельному для себя состоянию жизни и либо останавливается в своем духовном росте, либо, хотя бы, замедляет его скорость. Движения духовной жизни Льва Николаевича в последние три десятилетия его жизни постоянно отражаются в его дневниках, письмах, статьях, книгах и могут быть прослежены буквально по годам, месяцам, а то и неделям. Конечно, у него были недели духовной спячки. Но, не считая их, исследователь вряд ли зарегистрирует в духовной биографии Толстого месяцы духовной неподвижности. Толстой не жил без духовного роста. Каждое же последующее движение духовного роста требует большего напряжения, чем предыдущее, и может совершаться только при условии ускорения духовного роста, то есть при все большем и большем приближении к вершине личной духовной жизни. Так достиг ли ее Лев Толстой? Вопрос, как мы теперь понимаем, общечеловеческой важности. В своем месте*) мы, как сможем, постараемся ответить на него. *)В моей книге «Драма любви Льва Толстого», которая сейчас готовится к печати.
Часть 3. Смерть и жизнь
1 (32) "Смерть, смерть, смерть каждую секунду ждет вас. Жизнь ваша всегда совершается в виду смерти. Если вы трудитесь лично для себя в будущем, то вы сами знаете, что в будущем для вас одно – смерть. И эта смерть разрушает все то, для чего вы трудитесь. Стало быть, жизнь для себя не может иметь никакого смысла. Если есть жизнь разумная, то она должна быть какая-нибудь другая, то есть такая, цель которой не в жизни для себя в будущем. Чтобы жить разумно, надо жить так, чтобы смерть не могла разрушить жизни"(23.388,9). Вопрос о неразрушаемой смертью жизни (о бессмыслии жизни перед лицом смерти или о смыслонаполненности жизни) возникает, будем думать, у всех, но важно, чтобы это был требовательный вопрос, обращенный к таким глубинам (к "разумному сознанию" высшей души), где он уже не может быть стерт и где он своим присутствием лишает душу спокойствия, не прекращая настойчиво требовать от нее искреннего ответа. Учение Льва Николаевича выросло из ответов на вопросы, задаваемые жизни о смерти. Такой требовательныйвопрос к жизни о смерти впервые встал перед Толстым на тридцать третьем году жизни. В сентябре 1860 года на руках Льва Николаевича умер его любимый старший брат Николай Николаевич – "всегда серьезный, неловкий, кроткий, некрасивый, слабый, мудрец"(70.168-9), человек, отчасти заменивший ему отца и с детства заметно влиявший на его мировоззрение. Бюст Николая Николаевича Толстой держал перед собой в яснополянском кабинете. Смерть брата Николая одно из самых значительных событий во всей жизни Льва Толстого. Тут своего рода взрывная исходная точка в его духовной биографии и начало того процесса, который через четыре десятилетия привел его к прозрению через смерть. В этом смысле Толстой и говорил в 1893 году, что «эта смерть и все связанное с ней осталась одним из лучших воспоминаний моей жизни"(66.115). Этот мощный взрыв в душе от смерти брата запечатлен Толстым в нескольких страницах замечательного письма к А. А. Фету, написанного по горячим следам, сразу же после похорон Николая Николаевича. Через 23 года Толстой повторит мысли этого письма в "В чем моя вера?". "Ничто в жизни не делало на меня такого впечатления. Правду он говаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, то и хуже жизни ничего нет. Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что было Н. Н. Толстой, для него ничего не осталось. Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым шагом ее следил и верно знал, что еще остается. За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: «да что же это такое?» – это он ее увидел – это поглощение себя в ничто. А уж если он не нашел, за что ухватиться, что же я найду? Еще меньше… Из земли взят и в землю пойдешь… К чему все, когда завтра начнутся муки смерти, со всею мерзостью подлости, лжи самообманывания и кончатся ничтожеством, нулем для себя. – Забавная штучка". Николай Николаевич Толстой по чувству любви к нему его младшего брата Льва был человеком идеальным, вершинным. Ужас в том, что и он,– как и всякий смертный! – «погружается в ничто», в пропасть жизни. Вопрос к жизни о смерти поставлен перед Толстым столь требовательно и искренно, что "разумное сознание" не даст ему спокойно жить, покуда не будет найден ответ. В 1907 году Лев Толстой запишет в Дневнике ошеломительную фразу: "Жизнь не шутка, а великое, торжественное дело. Жить надо бы всегда так же серьезно и торжественно, как умираешь"(56.70). Незадолго до своей смерти, словно вспоминая переживания полувековой давности, Толстой скажет так: "Вас мучает мысль о том, что будет, когда всё кончится и останется только ничего. И вы спрашиваете, что такое это ничего. В этом странном вопросе Вашем есть ясный ответ в самом вопросе. То, что останется все-таки ничего, показывает то, что всё, что есть, всегда духовно, есть произведение нашей духовной силы (мысли). И эта духовная сила одна есть и потому не может уничтожиться. Это то, что мы называем Богом вне себя и душою в самих себе"(82.65). Но в 1860 году у Толстого другая, "ужасная правда". "Будь полезен, – продолжает Толстой письмо к Фету, – будь добродетелен, будь счастлив, покуда жив, говорят века друг другу люди да мы, и счастье, и добродетель, и польза состоят в правде, а правда, которую я вынес из 32 лет, есть та, что положение, в которое нас поставил кто-то, есть самый ужасный обман и злодеяние, для которого мы не нашли слов (мы либералы), ежели бы человек поставил бы другого человека в это положение. Хвалите Аллаха, Бога, Браму. Такой благодетель. "Берите жизнь, какая она есть", "Не Бог, а вы сами поставили себя в такое положение". Как же! Я и беру жизнь, какова она есть, как самое пошлое, отвратительное и ложное состояние. А что поставил себя не я, в том доказательство, что мы столетия стараемся поверить, что это очень хорошо, но как только дойдет человек до высшей степени развития, перестает быть глуп, так ему ясно, что все дичь, обман, и что правда, которую он все-таки любит лучше всего, что эта правда ужасна. Что как увидишь ее хорошенько, ясно, так очнешься и с ужасом скажешь, как стоит: "Да что же это такое?"… Я зиму проживу здесь по той причине, что я здесь, и все равно жить, где бы то ни было"(60.357,8). Прошел месяц. "Скоро месяц, что Николенька умер. Страшно оторвало меня от жизни это событие. Опять вопрос: зачем? Уже недолго до отправления туда. Куда? Никуда. – Пытаюсь писать, принуждаю себя и не идет только оттого, что не могу приписывать работе такого значения, какое нужно приписывать для того, чтобы иметь силу и терпение работать. Во время самих похорон пришла мне мысль написать материалистическое Евангелие, жизнь Христа материалиста"(48.29-30). Мысль о "материалистическом Евангелии" пришла Толстому "во время самих похорон", в минуту особого потрясения души и разума после смерти брата. Это не фантазия*), а прозрение – прозрение того, где ему следует искать ответ на вопрос "зачем?" и "что это такое?", на вопросы смысла жизни, завершающейся смертью. Такое не забывается душою. *) Как мысль об «основании новой религии» (см. 47.37-38), которая пришла Толстому лет пять тому назад и которую часто и в урезанном виде цитируют, придавая несвойственное ей значение. С момента этого прозрения требовательные мысли о смерти, о бессмертии, о смысле жизни не оставляют Толстого и притягивают его к Евангелию. Через полгода Толстой записывает в Дневник загадочную фразу: "Бог восстановлен – надежда в бессмертие"(48.320). Трудно сказать, что это значило реально. Первые ответы на вопрос смерти и бессмертия Толстой получит только лет через семь.
2 (33) В начале 1900-х годов, просматривая чью-то статью, устанавливающую прообраз капитана Тушина, Толстой написал на ее полях: «брат Николай». И действительно, в рукописях 1864-5 годов выведен артиллерийский штабс-капитан Тушин, у которого "была тысяча с лишним душ вместе с двумя братьями" и который отличается от знакомого нам персонажа «Войны и мира» европейским воспитанием и, вообще, тем, что "находился в несравненно высшем общественном положении, чем большинство офицеров и пехотных и артиллерийских, среди которых он жил". Однако, добавляет автор, "он незаметно для себя так скрывал это превосходство, что не только не возбуждал зависти, но находился со всеми в самых товарищеских отношениях" – все черты Николая Толстого, который «со всеми был одинаков, с полковниками и юнкерами», и которому, в отличие от капитана Тушина окончательного текста романа не нужно было кого-либо заставлять уважать себя. Мнения такого Тушина об ученых предметах в полку "считались непреложной истиной". Особое место в рукописи Толстого занимают пространные беседы Тушина о смерти и бессмертии, ни одна из которых не вошла в окончательный текст. В одной из бесед собеседник Тушина офицер Белкин рассказывает о своем сне: "…дверь отворилась, и чувствую я, что умер. Она вошла… и кончено. И так я этого испугался, что со страху проснулся. Проснулся, да и обрадовался, так обрадовался, что я не умер. Значит, я думал – умер, а я проснулся". В ночь на 11 апреля 1858 года сам Толстой видел примерно такой же сон и, видимо, запомнил его: "Я видел во сне, что в моей комнате страшно, но я старался верить, что это ветер. Кто-то сказал мне: поди, притвори, я пошел и хотел притворить сначала, кто-то упорно держал сзади (держал дверь. – И. М.). Я хотел бежать, но ноги не шли, и меня обуял неожиданный ужас. Я проснулся, я был счастлив пробуждением" (48.75), – пишет он в Дневнике. Образ этого давнего сна с его мыслью смерти-пробуждения завязан в сознании Толстого не только с братом Николаем, но и с князем Андреем. Беседа Тушина и Белкина должна была предшествовать гибели князя Андрея на батарее Тушина в Шенграбенском сражении. Перед самой смертью князь Андрей, по этому варианту рукописи, видит какой-то сон, и что-то прозревает в видении бреда. Видимо, разговорами о смерти и бессмертии, в которых, по одним вариантам, участвует и князь Андрей, Толстой ставил вопрос и тем самым подготавливал прозрение своего героя перед смертью. В каноническом тексте романа князь Андрей тоже видит сон о смерти: "Засыпая, он думал все о том же, о чем думал все время, – о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней. "Любовь? Что такое любовь?" думал он. "Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь.*) Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Бог, и умереть – значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». *) Жизненность как таковая переживается в чувстве любви, любовь есть чувство жизни, чувство себя живущим; наличие чувства жизни исключает смерть. Такого рода мысли мы встречаем во многих работах последних трех десятилетий жизни Толстого. Но к тому времени они обеспечивались таким огромным духовным опытом и такими откровениями жизни, которых не было у автора "Войны и мира". Хорошо бы кому-нибудь проследить, как мысль Толстого постепенно обретает очевидность и становится на свое, уготованное ей место. "Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне личное, умственное – не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул". Он заснул, чтобы вскоре проснуться в холодном поту. Во сне он видит, что здоров, что вокруг него какие-то люди. Он «смутно припоминает», что у него есть иная цель, «другие, важнейшие заботы», но он продолжает говорить. Потом все исчезает куда-то и "заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее". Его охватывает страх смерти: "за дверью стоит оно", смерть. "Еще раз оно надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер. Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся. "Да, это была смерть. Я умер – я проснулся. Да, смерть – пробуждение"*), вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его". *) В мыслях (в которых нет очевидности) смерть – возвращение к Источнику Жизни; в прозрении, в душевном просветлении («вдруг просветлело в его душе») смерть – пробуждение от сна этой жизни. Впоследствии мысль сна-пробуждения десятки раз в разных вариациях повторяется в писаниях Толстого. Вспомним, что Николай Толстой перед смертью "задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: "да что же это такое?" – это он ее увидел – это поглощение себя в ничто". И князь Андрей во сне «ее увидел», и он незадолго перед смертью «задремал и вдруг очнулся». Но если Николай Толстой увидел "поглощение себя в ничто", то князь Андрей, когда "задремал и вдруг очнулся", почувствовал, что "завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором". Это значит, что все эти годы Лев Николаевич носил в себе образ смерти брата, пока не нашел «за что ухватиться». Очнувшись от сна, князь Андрей оказался в совершенно ином состоянии жизни, которое Толстой определяет как состояние пробуждения от жизни. "С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна – пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения. Ничего не было страшного и резкого в этом, относительно медленном пробуждении"*). *) Когда Наташа рассказывала Пьеру о смерти его друга, то он с удовлетворением отметил про себя, что князь Андрей не боялся смерти. Нет сомнения в том, что сцена умирания князя Андрея написана Толстым в противовес тому, что он сам испытал, когда на его глазах умирал брат Николай. Княжна Марья и Наташа "видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть, и что это хорошо". Когда князь Андрей умер, они плакали, "но они плакали не от своего личного горя; они плакали от благоговейного умиления, охватившего их души перед сознанием простого и торжественного таинства смерти, совершившегося перед ними".
3 (34) Еще при жизни князь Андрей стал тем, кем становится человек после смерти. Это его состояние "пробуждение от жизни" Толстой описывает через восприятие Наташи и княжны Марьи. Через два дня после его "пробуждения" в Ярославль вместе с Николенькой приехала княжна Марья. Состояние, в котором застала брата княжна Марья, в рукописи-конспекте Толстой определяет так: "Князь Андрей испытывает не страх смерти, но теперь холодное сознание отчужденности, и не столько конца, сколько грозного вступления в неведомое, но существующее, ощущаемое". В каноническом тексте романа сказано: "Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытал сознание отчужденности от всего земного и радостной, странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей жизни, теперь для него было близкое и – по странной легкости бытия, которую он испытал, – почти понятное и ощущаемое". Княжна Марья хорошо поняла, что все его поведение "доказывало, как страшно далек он был теперь от всего живого", "что что-то другое, важнейшее было открыто ему" – "такое, чего не понимали и не могли понимать живые и что поглощало его всего". Ввиду обстоятельств кончины брата Николая Николаевича, все тексты эти имеют для самого Льва Николаевича особое значение. Они предваряют его прозрение в смерть. Но такое прозрение, как мы помним, должно, по другому прозрению Толстого (во время похорон брата), обнаружить себя в Евангелии. Так оно есть и в тексте "Войны и мира". Когда сына князя Андрея Николушку уводили от его постели, княжна Марья заплакала. Князь Андрей "пристально посмотрел на нее. – Ты о Николушке? – спросил он. Княжна Марья, плача, утвердительно нагнула голову. – Мари, ты знаешь Еван… – но он вдруг замолчал. – Что ты говоришь? – Ничего. Не надо плакать здесь, – сказал он, тем же холодным взглядом глядя на нее". Сам Толстой тотчас объясняет этот разговор читателю: "Когда княжна Марья заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собою, он постарался вернуться назад в жизнь и перенесся на их точку зрения. "Да, им это должно казаться жалко!.. – подумал он. – А как это просто!" "Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но Отец ваш питает их, – сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне; но нет, они поймут это по-своему, они не поймут!.. – И он замолчал". С той достигнутой князем Андреем, уже вне пределов этой жизни, высоты взгляда все – и затаенные мысли княжны Марьи о замужестве, и сожаления о пожаре Москвы или о его маленьком сыне – все чувства и мысли живущих и думающих о живом людей ничтожны и чужды. Евангельскую фразу о птицах небесных при желании можно понять в том же смысле. Но заметьте, что именно в тот момент, когда князь Андрей говорит о птицах небесных, он смотрит на сестру совсем не "тем же холодным взглядом", которым он оглянул ее и Наташу, когда они вошли к нему в комнату. В начале и в конце своей речи князь Андрей находился в двух различных и несовместимых состояниях сознания жизни. Сначала он "с большим усилием над собою постарался вернуться назад в жизнь", опять войти "в жизнь" и взглянуть "из себя", а потом вновь возвратился из жизни, "в себя". Первый момент соответствует той части его речи, где он, стараясь перенестись на точку зрения людей, понимает, что "им должно это казаться жалко". "А как это просто!" – думает он. – Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но Отец ваш питает их". Это-то он и хотел сказать сестре: "Мари, ты знаешь Еван…" Его тон тут отнюдь не холодный, не тот, которым он разговаривал о пожаре Москвы, а даже задушевный, словно он собирался сообщить сестре что-то важное, какую-то тайну, которую он стремится сообщить при помощи фразы из Евангелия. Но он обрывает себя: нет, не поймет, не смогут понять и т. д. "Мы не можем понимать друг друга!" – подытоживает он, и взгляд его опять стал холодный и спокойный. Если бы князь Андрей в ответ на слезы сестры просто запретил ей "плакать здесь", а про себя подумал, что все мысли и чувства живущих не нужны и что то же самое сказано в евангельской фразе о птицах небесных, то это была бы еще одна демонстрация того, в какой степени князь Андрей стал чужд земной жизни. Так оно и есть, конечно. Но только в той части, где он оборвал княжну. В целом же смысл его речи не столько в том, что чувства и мысли ее и людей не нужны, а в том, что люди, потому что они живут и думают о живом, не смогут понять всю глубину и значение, которые он вкладывает в слова о птицах небесных. Что же это за загадочный и вместе простой ("как это просто") смысл ясного стиха Евангелия, который доступен только герою Толстого? Ведь не о каких-то частностях собрался поведать князь Андрей, а о том высшем понимании жизни и смерти, которое он сам – уже ушедший от жизни – обрел только после "пробуждения" в последние дни своего пребывания на земле. За две недели до описываемых событий князю Андрею "открылось новое счастье". То, что происходило с князем Андреем тогда в Мытищах, подобно озарению. "Все силы его души… действовали вне его воли", – говорит Толстой. Князь Андрей здесь не создатель, а как бы адресат своих "неожиданных представлений". "Бред" князя Андрея в Мытищах приводит нас к пониманию той загадочной фразы о птицах небесных, с помощью которой он пытался объяснить сестре какую-то тайну. В понимании князя Андрея птицы небесные – не галки, стрижи и воробьи, не вороны, как у Луки, а то, что прежде, при жизни, связано в человеке, что освобождается в нем в момент "пробуждения от жизни", образ того "неведомого", что вновь воскресает в нем. Это есть иное, «пробужденное», новое, небесное бытие. Птица Небесная – та "странная легкость бытия", в которой после плотской смерти пребывает исходно вложенная в человека бессмертная сущность его души. Птица Небесная в речи князя Андрея – образ жизни души в высшем мире, в мире вечной Жизненности. Голос этой Птицы Небесной князь Андрей и слышал в своем бреду в Мытищах. Он лежит в темноте и, "глядя вперед лихорадочно-раскрытыми, остановившимися глазами", думает о счастье, которое "вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека". "Но как же Бог предписал этот закон? Почему сын?.."*) – спрашивает он, и тут мысль его обрывается и, как бы в ответ на его вопросы, заменяется "неожиданным представлением": *) Может показаться невероятным, но ведь ответ на вопрос "Почему сын?.." дан Толстым, как мы знаем, в "Соединении и переводе четырех Евангелий". Это значит, что вопрос этот был поставлен Толстым задолго до духовного рождения, во времена работы над "Войной и миром". "И князь Андрей услыхал (не зная, в бреду или в действительности он слышит это), услыхал какой-то тихий шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: "И пити-пити-пити" и потом "и ти-ти" и опять "и пити-пити-пити" и опять "и ти-ти". "Вместе с этим под звук шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок.*) Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было держать равновесие, для того, чтобы это воздвигающееся здание не завалилось, но оно все-таки завалилось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. "Тянется! Тянется! растягивается и все тянется", – говорил себе князь Андрей". *) Еще цитата из "Пути жизни": "Смерть уничтожает тело так же, как строители уничтожают леса, когда здание готово. Здание – духовная жизнь, леса – тело. И тот человек, который построил свое духовное здание, радуется, когда умирает, тому, что принимаются леса его телесной жизни". В своих воспоминаниях сестра Софьи Андреевны Т. А. Кузминская рассказывает, что, заболев в 1863 году, она в бреду просила стоявших возле ее постели Льва Николаевича и сестру: "Тянется, тянется, снимите с меня", – ей чудилась какая-то густая паутина, которая обвила ее и от которой она не могла освободиться. "Сколько раз позднее уже, когда ему (Л. Н-чу) неможилось, – продолжает Т. А. Кузминская, – и когда, бывало, спрашивали, что с ним, он жалобным голосом отвечал: "Тянется… Тянется". "Тянется" – тут значит "вытягивается" жизнь, душа из тела. В бреде князя Андрея не то важно, что "тянется", уходит жизнь, а то, что что-то новое воздвигается "при звуках равномерно шепчущей музыки". Под небесные звуки, под хор Птиц Небесных воздвигается (семь раз повторил Толстой здесь это слово) какое-то неведомое, странно легкое, "воздушное", но так тяжело рождающееся новое здание (тело?) "из иголок или лучинок". Смерть князя Андрея оставила в Наташе и княжне Марье впечатление "таинственного, величественного, дальнего хора": "Все в этой вольной жизни, не касающееся смерти, казалось им оскорбительным, все нарушало тот таинственный, величественный, дальний хор, к пению которого они продолжали прислушиваться с напряженным вниманием". В светлое откровение Смерти, в прозрение Птицы Небесной входит и то "неожиданное представление" воздвигающегося воздушного здания из тонких иголок или лучинок, которое появилась "как бы в ответ на его вопросы" о счастье, которое "вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека" и о законе любви. Пройдет еще десять лет, и он скажет, что "Бог в каждом человеке есть единый Христос"(24.493) и: "Велено ему верить в то, что он сын Бога и любит брата. Те, которые так поступают, те соединяются с Богом и становятся выше мира, потому что то, что в них есть, больше и важнее всего мира"(24.935). *)О том же Толстой говорит и в 1910 году, в "Пути жизни": "Умирающий с трудом понимает всё живое, но при этом чувствуется, что он не понимает живого не потому только, что ослабели его умственные силы, а потому, что он понимает что-то другое, такое, чего не понимают и не могут понимать живые и что поглощает его всего"(45.463).
4 (35) 16 июля 1866 года Лев Николаевич выступал защитником на суде солдата Шабунина, который ударил по лицу своего ротного командира. Солдат был приговорен к расстрелу и 9 августа расстрелян. «Случай этот, – вспоминает Толстой через 40 лет, – имел на всю мою жизнь гораздо больше влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких людей". Толстой был потрясен не фактом смертной казни (которой, если бы не неосмотрительность самого Толстого, упустившего в просьбе о помиловании название полка, можно было избежать) и не жалостью к несимпатичному и душевно неполноценному солдату, а тем, что произошло на самом суде. Суд состоял из трех офицеров. Прапорщик Стасюлевич, который и уговорил Толстого выступить защитником, сочувствовал солдату. Другой, полковник Юноша, стоял за смертную казнь. Так что казнить или не казнить солдата решал голос третьего офицера, совсем еще мальчика на красивой лошадке, товарища брата Софьи Андреевны подпоручика Гриши Колокольцева, который мнения своего не имел и сам решать ничего не мог. На его решение, с одной стороны, воздействовал полковой командир, а с другой, Лев Толстой. И что же? – Одолел Юноша. И Лев Толстой понял, "что свершилось нечто такое, чего не должно быть, не может быть, и что это дело не случайное явление, а в глубокой связи со всеми другими заблуждениями и бедствиями человечества, и что оно-то лежит в основе всех заблуждений и бедствий человечества". Это «ОНО», которое лежит в основании бед человечества, нес в себе полковник Юноша, – совсем не злодей, а «толстый, румяный, добродушный, холостой еще человек», как вспоминает о нем Толстой. Но «он был один из тех так часто встречающихся людей, в которых человеческого совсем не видно из-за тех условных положений, в которых они находятся, и сохранение которых они ставят высшей целью своей жизни. Для полковника Юноши условное положение это было положение полкового командира. Про таких людей, судя по-человечески, нельзя сказать, добрый ли, разумный ли он человек, так как неизвестно еще каким бы он был, если стал бы человеком и перестал бы быть полковником, профессором, судьей, министром, журналистом. Так это было и с полковником Юношей. Он был исполнительный полковой командир, приличный посетитель, но какой он был человек – нельзя было знать. Я думаю, не знал и он сам, да и не интересовался этим". Гриша Колокольцев был горд знакомством с аристократом и знаменитым писателем графом Толстым. И этот «добрый, хороший мальчик, хотя и, наверное, желал сделать мне приятное, все-таки подчинился Юноше…». В душе мальчика Гриши столкнулись две разнонаправленные воли: сила духа Льва Толстого, его личная нравственная мощь, способная, как мы знаем, оказать влияние на всё человечество, и некая безучастная сила рядового функционера власти, который лично даже и не желал казни солдата. Приговорил солдата к смерти не Юноша и не Гриша. Так кто же? Этот вопрос задает себе Пьер перед расстрелом: "Кто же это, наконец, казнил, убивал, лишал жизни его – Пьера со всеми его воспоминаниями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто. Это был порядок, склад обстоятельств. Порядок какой-то убивал его – Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его". Пьер в плену познал невидимую и темную силу того рокового и страшного «ОНО», действие которого потрясло Льва Николаевича на суде Шабунина. "Вот оно!.. Опять оно! – сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В неизменном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную и безучастную силу, которая заставляет людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами и увещеваниями к людям, которые служили орудиями ее, было бесполезно. Это знал теперь Пьер". Дело солдата Шабунина заставило Толстого признать могущество и силу «темного ОНО» в человеке. Это привело к обострению его интуиции на природу Власти, насилия, покорности, подчинения. Не исключено, что без этого темного прозрения Толстого не было бы и проповеди ненасилия. Ненасилие – боевое оружие Льва Толстого, специально применяемое против «темного ОНО». Ненасилие лишает «темное ОНО» действенности, обессиливает и разоружает его. Об этом мы подробно рассказывали в другой книге. Толстой проводит Пьера через опыт ожидания неминуемой смерти ("ее") и затем через прозрение "роковой силы" ("оно"), на его глазах порождающей "ее". В результате "в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым,*) и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожалась вера и в благоустройство мира, и в человечество, и в свою душу, и в Бога". Только после встречи с Каратаевым Пьер почувствовал, "что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, двигался в его душе"(12.48). *) Все люди представлялись Пьеру "спасающимися от жизни: кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. «Нет ни ничтожного, ни важного, все равно: только бы спастись от нее как умею!» думал Пьер. – «Только бы не видать ее, эту страшную ее"(10.299). С роковой силой «темного ОНО» в душе Пьера сочленена светлая сила, которая борется с ней и побеждает ее: Пьеру "было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни."(12.105.) Откровению «темного ОНО» противостоит некоторое светлое откровение Толстого. На следующий день после Бородина, еще до встречи с Каратаевым, в Можайске, Пьер видит сон, в котором "кто-то вне его говорил их (мысли. – И. М.) ему. Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии так думать и выражать свои мысли". «Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит всё. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтоб уметь соединять в душе своей значение всего. Всё соединить?» сказал себе Пьер. – «Нет; не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли, вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос". Объясняя в конце романа духовную эволюцию Пьера, Толстой пишет, что прежде, до Каратаева и плена, "во всем близком, понятном, он видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное. Он вооружался умственною зрительною трубой и смотрел в даль, туда, где это мелкое житейское, скрываясь в туманной дали, казалось ему великим и бесконечным, оттого только, что оно было неясно видимо. Таким ему представилась европейская жизнь, политика, масонство, философия, филантропия…" Потом Пьер узнал, что соединять надо не увиденное в умственной зрительной трубе, а "надо сопрягать ", и не мысли, а "всё" и «значение всего». Но как это: сопрягать всё? Сон в Можайске – сон-вопрос, на который от автора надо ждать ответ. В книге "Сокровенный Толстой" /М. 1992г./ Б. И. Берман рассказывает о превращениях малоизвестного этюда "Сон", который Толстой в 50-60-ые годы четырежды переделывал и – единственный раз в жизни – хотел опубликовать под чужим именем. Мотивы "Сна" ясно слышны в "Утре помещика" и "Альберте", в "Казаках" и "Семейном счастье". Работа над "Сном" связана с началом работы над "Войной и миром", в текст которого автор дважды пытался включить его. "Сон" – сокровенное видение Льва Николаевича о самом себе, о "своем" и "чужом" счастье и о какой-то неясной свободной силе "позади себя", которая воплощена в образе величавой и спокойной женщины. В видении "Сна" автор видит себя, стоящего высоко над жадно внимающей ему толпой людей, вдохновенно и властно говорящего "все, что есть в его душе" и радостно слушающего свой голос. "Но вдруг среди восхищенной мною толпы, среди безразличных, восторженных, страстно устремленных на меня взоров, я почувствовал сзади себя неясную, но спокойную силу, настоятельно разрушающую мое очарование и требующую к себе внимания". Это была ОНА, и "в ней было все, и к ней сладко и больно тянула непреодолимая сила". "Она" не столько художественный образ, – констатирует Б. Берман, – сколько некоторая авторская мифологема, к которой сам носящий ее в себе автор обращается снизу вверх". Б. Берман предлагает "воспринимать "Сон" как род исповедания перед кем-то и как установление высшей точки душевного зрения" автора. Этюд этот, продолжает Б. Берман, служил "целям отыскания той духовной инстанции, от которой можно было бы судить самого себя и жизнь". Три десятилетия спустя Толстой, наверное, сказал бы, что "она" – "ближайший центр тяготения" его души. Устремленный в него сверхземной взгляд ее, взгляд, который он "уже не мог вынуть из себя", заставил его устыдиться себя и своей шумной публичной деятельности, требовал остановиться, проникнуться этим ее взглядом и переменить свою жизнь /7.117 и сл./ – то самое, что произошло с Толстым много лет спустя. "Сон" для автора имеет и пророческое значение. Именно сонное видение женщины «Сна», в которой "было все, что любят", должно было в черновых рукописях "Войны и мира" произвести в душе Пьера то перерождение, которое в каноническом тексте свершилось в результате общения с Каратаевым. Платон Каратаев занял в романе место женщины "Сна", которой «никого не нужно было, и от этого-то я чувствовал, что не могу жить без нее…". Главное в Каратаеве для Толстого то, что жизнь его для него самого «имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал». В нем, как и в женщине "Сна", олицетворено само материнское начало жизни, которое одно есть истина, счастье, величие, спокойствие, простота и правда. От этого Каратаев даже «не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь… Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова". В Каратаеве Пьер обнаружил могучую силу жизненности, но не ее земной страстности, а ее вечной сущности и в этом смысле*) ее высшего и небесного естества. Тут вершина Жизни как таковой. Сознание вечного материнского начала жизни, этой вершины Жизни, и установило ту высшую точку душевного зрения автора, с которой видно все, с которой можно судить самого себя и других и, глядя с которой уже нет страха смерти и опасности "ее" *) То есть не в пантеистическом и материалистическом, а во вселенском и духовном смысле. Поток Вечной Жизненности проходит в глубинах души земного человека. Но обнаруживается этот поток только при некоторых определенных состояниях, указывающих на жизнь вечную и предваряющих ее выход наружу. Каратаевские душевные качества – это то положение человеческой души в мире, при котором, по Толстому времен "Войны и мира", в человеке проступает жизнь вечная. Поэтому-то Пьер и "узнал, что Бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной". Князь Андрей Болконский перед смертью стал Птицей Небесной, которую непосредственно питает Бог, – вступил в Жизнь истинную и вечную. Та же самая вечная и истинная Жизнь проступает в земной жизни Платона Каратаева. Откровение этой вечной Жизни, запечатленное, с одной, земной стороны, в образе Каратаева (и, ранее, женщины «Сна») и, с другой, небесной стороны, в образе умирающего князя Андрея, есть важнейшее и основополагающее откровение всей жизни Льва Толстого. Все дальнейшие мистические откровения Толстого, так или иначе, связаны с этими откровениями, явленными в образах Каратаева и умирающего князя Андрея. Лев Николаевич работал над главами о пребывании князя Андрея в Ярославле одновременно с главами о пребывании Пьера в плену. Солдат часовой не пустил Пьера из балагана, в котором находились пленные. И Пьер захохотал. Обратите внимание, что Пьер смеется не над тем, что неразумные люди хотели умертвить его бессмертную душу, а над тем, что эту душу поймали и держат взаперти. Тут не тема Птицы Небесной, то есть тема бессмертной души и смерти, а тема бессмертной души и земной жизни. Представление Пьера о бессмертной душе имеет прямое отношение к жизни любого человека. Толстовское же прозрение Птицы Небесной не имеет отношения к жизни человека, а тем более любого. То обстоятельство, что князь Андрей "пробудился от жизни" Птицей Небесной, вовсе не означает, что то же самое должно (или, хотя бы могло) произойти с Николаем Ростовым, Платоном Каратаевым, фельдмаршалом Кутузовым, Анатолием Курагиным или любым другим человеком. Если в прозрении Птицы Небесной Лев Толстой "нашел за что ухватиться", то, похоже, для одного себя. Работа духовной жизни человека, как мы уже говорили, совершается в процессе непрерывной и на пределе сил работы души. Но куда ведет эта работа, к какому финальному состоянию? Что разглядел Толстой в прозрении Птицы Небесной? Есть основания полагать*), что прозрение состояния Птицы Небесной имело для самого Толстого путеустанавливающее значение, то есть вело его к некоторой Вершине Жизни. *) См. И.Б.Мардов "Путь восхождения", часть первая. Как и Пьер Безухов, Лев Толстой "не умел прежде видеть великого, непостижимого и бесконечного ни в чем. Он только чувствовал, что оно должно быть где-то, и искал его… Теперь же он выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем,*) и потому естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его созерцанием, он бросил трубу, в которую смотрел до сих пор через головы людей, и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь". *) А не так, как прежде, когда Пьер чувствовал себя "частью этой огромной невидимой цепи, которой начало скрывается в небесах" и думал, что "кроме меня надо мной живут духи", могущие обеспечить посмертную жизнь земного человека. Но прежде, чем выучиться так воспринимать "всё", Пьер видит сон, сон-ответ на сон-вопрос в Можайске: "Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина. Опять события действительности соединялись с сновидениями, и опять кто-то, сам ли он или кто другой, говорил ему мысли и даже те же мысли, которые ему говорились в Можайске. «Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог. Всё перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества. Любить жизнь, любить Бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий». – «Каратаев!» вспомнилось Пьеру. И вдруг Пьеру представился как живой, давно забытый, и кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. – «Постой», сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею. – Вот жизнь, – сказал старичок учитель. «Как это просто и ясно», подумал Пьер. «Как я мог не знать этого прежде». В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать Его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он Каратаев, вот разлился и исчез". Мысли эти всегда притягивали читателей "Войны и мира", но воспринять их значение мы пока еще не можем. Именно эти мысли о Боге и Жизни разрабатывались Толстым через 30-40 лет, в последнее десятилетие его жизни. В пятой части этой книги, где мы попытаемся понять мистические прозрения старца Толстого, мы, разумеется, вспомним эти фразы из "Войны и мира" и постараемся вникнуть в них. *)См. И.Б.Мардов "Общая душа" М. "Гендальф" 1993г.
5 (36) В середине 80-х годов Толстой решает раздать свое имущество. "Это намерение его, – свидетельствует Бирюков, – встретило столь страстный протест его семьи, преимущественно со стороны жены, что Лев Николаевич усомнился в правильности своего решения. Ему было категорически объявлено, что если он начнет раздавать имущество, то над ним будет учреждена опека за расточительство вследствие психического расстройства". Толстому угрожали домом умалишенных (будем думать, лишь в пылу супружеской полемики), что навело его на мысль назвать историю своих религиозных исканий не без иронии – "Записки сумасшедшего". По этим "Запискам" можно попытаться в самых общих чертах проследить этапы религиозных прозрений Льва Толстого. Толстовские «Записки сумасшедшего» (26.466-474) широко известны, несмотря на то что это лишь конспект задуманного произведения, несколько черновых листов, набросанных в разное время. Сама их тема столь приковывает внимание, что попытки интерпретации этого произведения не прекращаются до сих пор. Читатель чувствует, что в «Записках» сделана заявка взглянуть на нашу жизнь откуда-то, откуда нам, обычным людям, взглянуть не дано. В первом же абзаце "Записок сумасшедшего" Толстой делит свою жизнь на две части – до и после известного события в его жизни, которое читатели назвали "арзамасским ужасом". Оно произошло летом 1869 года, когда выше-разобранные сцены пребывания Пьера в плену и смерти князя Андрея из четвертого тома «Войны и мира» были уже созданы. Прервав работу по завершению романа, Толстой поехал покупать имение. По дороге, в повозке Лев Николаевич задремал и проснулся: «стало чего-то страшно». Он искал причину. Но причины для страха не было. Пришла мысль, что он тут, в чужом месте умрет. «И мне стало жутко». На постоялом дворе в Арзамасе он прилег и задремал. И опять пробудился в тоске и тревоге. "Зачем я тут?" – его первая мысль и недоумение. «Куда я везу себя?» Куда убегаю? «Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я, вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое имение ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя". Он вышел из комнаты и попытался разобраться, что происходит с ним, отчего ему так страшно и такая тоска и тоска. И опять пришла мысль о смерти. Но совсем другая, чем та, которая завладела Толстым после смерти брата Николая Николаевича. «Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть. Если бы она мне предстояла, я не мог бы испытать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, я видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно… Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть». К этому времени Толстой уже знал, что как таковой смерти нет и не должно быть по самой природе «всего», по вечности жизни истинной. Теперь же, в Арзамасе, он явно чувствовал «совершающуюся смерть» в себе. То, конечно, не был знакомый каждому страх смерти, во всяком случае, не страх того обрыва жизни, которого так боятся люди. Смерть в обычном понимании Толстому тогда не угрожала. Он страшился чего-то такого, что объяснить нельзя, – смерти при жизни. Мало того, он в себе чувствовал смерть при жизни, и это знание и чувство доставляло ему такое страдание, которое он запомнил навсегда. Страдание «арзамасского ужаса» – это в чистом виде страдание «погибающей жизни», страдание от сознания своего неизбежного поражения в жизни. В этом смысле можно сказать, что «арзамасский ужас» – антивершина жизни Толстого. «Я пробовал думать, что занимало меня: о покупке, о жене – ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь… И тоска, и тоска, такая же духовная тоска, котораябывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что*)-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать… Рвется что-то, а не разрывается. *) Сливалось в одно, но уже не в смысле «пробуждения от жизни», а в смысле слияния несовместимого: смерти и жизни. Герой Записок «страдал невыносимо»: что-то раздирало душу на части, что-то рвалось внутри, но не могло разодраться. – Вот образ высшей степени духовного страдания. Но не только. Толстой пишет «Записки сумасшедшего» в середине 80-х годов и, в отличие от своего героя, отчетливо знает, что должно разодраться внутри, на какие части: на ту часть души, которая живет истинной жизнью и для которой нет смерти, и ту часть души, которая живет "умирающей жизнью", жизнью-смертью. Только такой разрыв в состоянии уничтожить ужас отчаяния перед неподлинностью той жизни-смерти, которой живут люди, и, тем самым положительно разрешить «арзамасский ужас». Разделение на высшую душу и низшую душу есть непосредственный, хотя и отдаленный по времени результат «арзамасского ужаса». "Духовная тоска" героя Толстого происходит оттого, что он вдруг и беспричинно вошел в состояние полного погашения "блага личности" и ее жизни, полного разодушевления животной личности. От этого он стал несносен и мучителен сам себе. И в то же время не мог забыться, забыть себя или уйти от себя. "Я всегда с собою и я-то и мучителен себе" – вот темное прозрение героя, прозрение того, что должно отодраться внутри. Животная личность – вот она, но блага ее, то есть ее жизни, в ней нет. Жизнь личности оказалась не жизнью, а "совершающейся смертью". Открылась "дыра души", и в ней "жизнь и смерть сливались в одно". «Записки» разбиты на пять главок, и в первой из них описаны воспоминания детского состояния вселюбия героя и его ужас и отчаяние, когда в надышанный теплотой, добротой и любовью мир детства вдруг ворвалось что-то страшное и непонятное, что смяло и разорвало любовь и мир. Этот детский ужас первого эпизода связан с "арзамасским ужасом" тем, что то был не ужас перед смертью пожившего человека, не ужас смерти после жизни, а ужас наступающей жизни, ужас перед вступлением в нее. Мучительная тоска "рвоты духовной" происходит оттого, что герой разом сознает и то, что смерти нет, и то, что "ничего нет в жизни, а есть смерть". Подлинная Жизнь несовместима со смертью и вместе с тем смерть – умирающая жизнь, а жизнь – совершающаяся смерть. Жизнь и смерть рвутся и не могут разорваться. Страшно не смерти как таковой, а погибающей жизни. Другое духовное страдание героя состояло в том, что место утраченного блага жизни личности остается пустым,*) что на этом месте не оказывается никакого другого блага жизни, что, кроме жизни личности, несносного я, нет никакой иной жизни. Поэтому-то то, что рвется, не может разорваться. *) Невольно вспоминается расхожее русское пожелание: "Чтоб тебе пусто было" – не плохо или горестно, а "пусто". "Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало", то есть на Бога. Этому темному духовному страданию героя "Записок" уже не сопутствует никакое светлое прозрение. "Арзамасский ужас" в том, что свет в темноте не светит. Об этом Толстой в середине 90-х годов (примерно в то время, когда он правил "Записки сумасшедшего") написал в письме к Черткову: "Все мы на черном фоне одинаковом и как только иссякает, останавливается, нарушается жизнь истинная, открывается этот ужасный черный фон своей мерзости ничтожности"(87.77). "Что меня сделало? – продолжает герой "Записок". – Бог, говорят, Бог. Молиться, вспомнил я… Я стал молиться. Господи помилуй, Отче наш, Богородицу. Я стал сочинять молитвы. Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят. И я лег. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня". Он встал и уехал. Стало лучше. "Но я чувствовал, что что-то новое осело мне в душу и отравило всю прежнюю жизнь"*). *) Я думаю (и надеюсь когда-нибудь рассказать об этом), что это переживание "отравления жизни" отчасти мотивировало замысел "Анны Карениной". «Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать" – вот прозрение в образ движения всей "личной жизни" человека и в ее двигатель.*) "Но, – рассказывает Толстой в третьей главе «Записок», – страх этой тоски висел надо мной с тех пор всегда" и без остановки гнал его по жизни. *) Об этом см. И.Б.Мардов "Путь восхождения", гл. 5 и 6 Второго Междусловия, с.412-423. Известно, что приступы "арзамасской тоски" у Толстого были и после. Следующий такой приступ произошел (во всяком случае, по "Запискам сумасшедшего") в конце того же года в Москве, после спектакля в Большом. Был ли этот случай в действительности, точно неизвестно. Прежний ужас опять шевельнулся в узком и продолговатом номере московской гостиницы, разделенном перегородкой. Перегородка продолговатого номера играет тут решающую роль. Она – образ разделенных "частей", которые не могут разорваться. Попав в этот номер перед театром и почувствовав знакомый ужас в себе, герой не испугался, а возмутился. Но и в театре и после он все время помнил о перегородке, и когда во втором часу ночи попал в номер, началось то, чего он страшился. "Всю ночь я страдал невыносимо, опять мучительно разрывалась душа с телом". Он спросил себя: "Зачем же жить? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дожидаться смерти, когда придет? Боюсь еще хуже. Жить, стало быть? Зачем? Чтоб умереть. Я не выходил из этого круга". Прежде, в Арзамасе, был только ужас, теперь – тот же ужас и еще вопрос. "Бог сделал это. Зачем? – говорят: не спрашивай, а молись. Хорошо, я молился". Но молился, вопрошая: "Если Ты есть, открой мне: зачем, что я такое?"… И я затихал и ждал ответа. Но ответа не было, как будто не было никого, кто мог бы отвечать. И я оставался один, сам с собою. И я давал себе ответы заместо Того, Кто не хотел отвечать. Затем, чтобы жить в будущей жизни, отвечал я себе.*) Так зачем же эта неясность, это мучение? Не могу верить в будущую жизнь. Я верил, когда не всей душой спрашивал, а теперь не могу, не могу. Если бы Ты был, Ты бы сказал мне, людям. А нет Тебя, есть одно отчаяние. А я не хочу, не хочу его. Я возмутился. Я просил открыть мне истину, открыть мне Себя. Я делал все, что все делают, но Он не открывался. Просите, и дается вам, вспомнилось мне, и я просил. И в этом прошении я находил не утешение, а отдохновение". *) Как видите, отвечал не самовольно, а так, как отвечают все, как положено отвечать. "Если Ты есть, открой мне: зачем, что я такое?" – вот тот вопрос Толстого, с которого он после "арзамасского ужаса" начал активный духовный поиск. Двигателем духовных движений Толстого и мотивом всех его религиозных исканий был не страх смерти, как полагают одни и как можно понять "Записки сумасшедшего", невнимательно читая их, и не стремление к смыслонаполненности жизни, как считают другие, и уж, конечно, не желание повыше выставить себя перед людьми, в чем постоянно упрекают Льва Николаевича, а душевная необходимость в обнаружении назначения человека в земной жизни, поиск задания человеческой жизни как таковой – прозрение в высший Замысел человека. Исполнение этого Замысла само собой дает ничем не уничтожимое благо человеческой жизни и наполняет ее подлинным смыслом, то есть дает человеку жизнь истинную. Другим исходным пунктом духовного восхождения Толстого тех лет стало прозрение: нет личной будущей жизни, нет бессмертия животной личности, не может быть и ее повторного воскресения в земную жизнь. Но что же остается? – Отчаяние… "Записки сумасшедшего" – даже не черновик произведения, а черновой конспект его. И в конспекте этом прямо выражена мысль, которая должна стать ключевой в произведении: "Может быть, я не просил, я отказался от Него. – Ты на пядень, а Он от тебя на сажень. – Я не верил в Него, но просил, и Он все-таки не открыл мне ничего. Я считался с Ним и осуждал Его, просто не верил". Как видите, сам Толстой через многие годы осмысливал страдания «арзамасского ужаса» как страдания безбожия в душе и в этом смысле безверия, отсутствия Веры в знакомом нам толстовском смысле Веры. И муки Левина, прятавшего от себя веревку, – тоже муки безверия. Или, быть может, лучше сказать, муки обретения Веры душою. Четвертый эпизод "Записок" еле-еле намечен Толстым. Герой заблудился на охоте, "испугался, остановился и на меня нашел весь Арзамасский и Московский ужас, но в сто раз больше". Различие в том, что когда он "хотел по-прежнему допрашивать, упрекать Бога", то вдруг "почувствовал, что я не смею, что считаться с Ним нельзя, что Он сказал, что нужно, что я один виноват". В результате "я стал молить Его прощения и сам себе стал гадок". Духовному подъему часто сопутствует (у Толстого особенно) сознание "своей мерзости". Именно сознание своей гадкости, то есть, как мы понимаем теперь, свободное отречение от своей животной личности, сделало то, что, хотя сам страх смерти не прошел ("руки и ноги все так же дрожали, и сердце билось"), "но мне радостно было". Потом, уже дома, он молился, вспоминал свои грехи "и они мне гадки стали". Таким образом, ужас перед жизнью-смертью изжит тогда, когда герой обрел Веру и Бога в себе и сам, свободно и сознательно, отрекся от блага своей животной личности. На это событие указывает запись в Дневнике Толстого от 26 марта 1870 года: "Заповедь Христа: любить Бога и ближнего – была всегда непонятна для меня в первой половине – люби Бога. Теперь я понимаю. Люби Бога – значит, люби себя, люби в себе то, что есть Бог, то есть все, что в тебе неразумно (разумное есть признак Дьявола). Люби ближнего включено в первом, но сказано для помощи слабости нашей". Отсюда – один шаг до прозрения о том, что любить ближнего следует "как Его самого".*) Но на шаг этот Толстому потребовалось десять лет. *) Евангельский стих "возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мк.12;31) Толстой в «Соединении и переводе четырех Евангелий» переводит: "Будешь любить ближнего своего, как Его самого" (24.621), то есть как сына Божьего, сына человеческого, свою высшую душу. В пятой главе "Записок сумасшедшего" рассказывается о том, что произошло после Пробуждения героя. Так же, как было в действительности, когда Лев Толстой искал и нашел учение об истинной жизни в Евангелии, так и его герой "начал читать священное писание. Библия была мне непонятна, соблазнительна, Евангелие умиляло меня. Но больше всего я читал Жития Святых. И это чтение утешало меня, представляя примеры, которые все возможнее и возможнее казались для подражания. С этого времени еще меньше и меньше меня занимали дела и хозяйственные и семейные. Они даже отталкивали меня. Все не то казалось мне. Как, что было то, я не знал, но то, что было моей жизнью, переставало быть ею". Все это хорошо известно по духовной биографии Толстого. Но в дальнейшем описании некоторые важные события личной жизни автора переставлены в "Записках". Случилось, что герой опять поехал выгодно покупать имение. Возвратившись после удачной покупки домой, он стал рассказывать о ней жене и "вдруг устыдился. Мне мерзко стало. Я сказал, что не могу купить этого имения, потому что выгода наша будет основана на нищете и горе людей. Я сказал это, и вдруг меня просветила истина того, что я сказал. Главное, истина того, что мужики так же хотят жить, как мы, что они люди – братья, сыны Отца, как сказано в Евангелии. Вдруг как что-то давно щемившее меня оторвалось от меня, точно родилось. Жена сердилась, ругала меня. А мне стало радостно". С героем "Записок" произошло то самое, что с Иваном Ильичом. Он признал, что вся его жизнь, прошедшая во власти животной личности, "не то", пожалел братьев-мужиков и через это обрел истинную жизнь. То, что разрывалось в душе и не могло разорваться, теперь разорвалось. Животная личность потеряла свои властные полномочия на жизнь. "Что-то давно щемившее меня", – его высшая душа – "оторвалось от меня" (то есть оторвалась от личности, вышла из подчинения и стала автономной), "точно родилось", стало действующей высшей душой и захватило жизнь. Но это было только "начало моего сумасшествия". "Но полное сумасшествие мое началось еще позднее, через месяц после этого. Оно началось с того, что я поехал в церковь, стоял обедню, хорошо молился и слушал, и был умилен. И вдруг мне принесли просвиру, потом пошли к кресту, стали толкаться, потом на выходе нищие были. И мне вдруг ясно стало, что этого всего не должно быть. И мало того, что этого не должно быть, что этого нет, а нет этого, то нет и смерти и страха, и нет во мне прежнего раздирания, и я не боюсь уже ничего. Тут уж совсем свет осветил меня, и я стал тем, что есть. Если нет этого ничего, то нет, прежде всего, во мне". Обряд нацелен на спасение личности, тем самым как бы служит ей, утверждает ее в существовании. А ее-то в существовании и нет. И, значит, мало того, что этого не должно быть, а "этого нет". Нет того, что поддерживает фиктивное существование личности в жизни. "Нет, прежде всего, во мне". А раз "нет этого, то нет и смерти и страха, и нет во мне прежнего раздирания, и я не боюсь уже ничего". Свет осветил истинное положение в душе, – где жизнь, где смерть, – и нечего стало страшиться: ни смерти, ни жизни. В завершение рассказа – особенный, собственный, толстовский образ: "Тут же на паперти я роздал, что у меня было, 36 рублей, нищим и пошел домой пешком, разговаривая с народом".
6 (37) Сцена умирания князя Андрея сдана в печать в феврале 1869 года. А в Арзамасе Толстой ночевал с 3 на 4 сентября этого года. Между этими двумя событиями, летом 1869 года, Толстой усиленно читал Шопенгауэра и Канта и, по свидетельству Софьи Андреевны, "много и мучительно думал, говорил часто, что у него мозг болит, что в нем происходит страшная работа" (запись дневника С. А. от 14.02.1870). Когда-то я попытался вникнуть в его "страшную работу" того времени, но не смог, нет данных. В конце 1870 года на Толстого "Бог наслал эту дурь"(61.247) – изучение древнегреческого языка. Произошло это, по свидетельству С. А., "вдруг" и продолжалось несколько месяцев, нередко с утра до ночи. "По ночам во сне говорю по-гречески", – сообщал Толстой Фету 6 февраля 1871 года. Зачем греческий тогда понадобился Толстому, сказать никто не может, да и сам Лев Николаевич не понимал этого. Нашло, и все тут. Но без знания греческого языка он через девять лет не смог бы задумать и осуществить грандиозный замысел перевода текста четырех Евангелий – труда, совершенно необходимого Толстому для самоуяснения и изложения своего религиозного учения. Что это? Совпадение? Едва ли. В начале 1871 года Толстой учил греческий в видах неведомого ему будущего. Тут не совпадение, а прозрение будущего, заготовка для него. Ничего необычайного в этом для высоко восходящего на Пути человека нет. Где-то на пятом десятке жизни у всякого мужчины наступает момент, который мы в «Пути восхождения» назвали «главным перевалом жизни». В эту пору, за какие-то год-два, человек в самоощущении впервые становится смертным, реально преходящим. На главном перевале что-то щелкает в душе, переключая жизнесознание человека на совершенно новое направление. До этого момента человек, падая и поднимаясь, шел как бы вперед, в жизнь. С этого момента он как бы возвращается обратно, с жизни. В глубине сознания произошло что-то, от чего человек узнает, что жизнь его пошла на спуск, к смерти. И раньше этого иногда казалось, что ты уже не идешь в жизнь, а уходишь из нее. Но то были разного рода уменьшения скорости "вхождения" в жизнь, временно переживаемые как ее утрата. То были погашения, снижение, теперь же, впервые, отстранение, ненужность того, что гасло и далеко еще не погасло в тебе. Переживается это по-разному. Кто-то начинает, гадая, считать оставшиеся годы. Кто-то не хочет, не может пылать тем, чем мог и хотел год назад. После главного перевала всякий без видимых перемен оказывается в каком-то совсем другом состоянии хода своей жизни. Когда после главного перевала безотчетное сознание своей смертности входит в человека, то ему ничего не остается, как смириться. Но для человека духовно восходящего это изменение состояния хода жизни обладает взрывной силой. И Толстой воспринял это новое состояние как вдруг возникшую в нем силу схода с жизни. В "Исповеди" он оставил нам замечательные описания этой "силы" и прохождения главного перевала жизни. "Так я жил, но пять лет тому назад*) со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки выражались всегда одинаковыми вопросами: Зачем? Ну, а потом? Сначала мне казалось, что это так – бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это все известно и что если я когда и захочу заняться их разрешением, это не будет стоить мне труда, – что теперь только мне некогда этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая все на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно"(23.10). *) Т.е. в 1874 году, когда Толстому было 46 лет В конце концов "жизнь мне опостылела – какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, что я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотения. Это была сила, подобная прежнему стремлению к жизни, только в обратном направлении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла ко мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни"(23.12). "Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидел, что впереди ничего нет, кроме погибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти – полного уничтожения" (там же). Мысль о смерти и жизни до главного перевала и после него – не одна и та же мысль. До главного перевала человек, зная, как завершится его жизнь, тем не менее живет, как живет, словно грядущая смерть не имеет отношения к его текущей жизни. И в этом несоответствии для него нет ничего удивительного. Иначе – после главного перевала. "Все это так давно всем известно. – Продолжает Толстой в "Исповеди". – Не нынче завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие они ни были, все забудутся – раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить – вот что удивительно! Можно жить только покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман!"(23.13). До главного перевала ("покуда пьян жизнью") в человеке действует страх смерти как таковой – смерти ли при жизни, как в "арзамасском ужасе", или "поглощения себя в ничто", как во времена смерти брата Николая; после главного перевала ("как протрезвишься") действует страх жизни, самого обратного ее хода, которым живешь и не жить которым уже не можешь. "Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и, между тем, чего-то еще надеялся от нее"(23.12). Принципиально важно понять, что не страх смерти двигал Толстым во времена его духовного кризиса, а ужас перед сознанием схода жизни в себе. Создается впечатление, что для Толстого это новое состояние сознания жизни оказалось полной неожиданностью и произвело на него чрезвычайное действие. Мысли его вроде бы все те же самые, что и после смерти брата Николая, но это уже не то возмущение ума и сердца, после которого душа разряжается, и жизнь продолжается, как шла. Тут иное. После столь страшного прозрения о своей жизни душа не может сама собой прийти в себя. "Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то кем-то*) сыгранная надо мной глупая и злая шутка… Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30-40 лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она, – как дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. "А ему смешно…"(23.13). *) В черновиках Толстого к этому месту слово "кем-то" выделено(23.495). Жизнь оказалась обманом. Но ведь никто никогда не обещал Льву Николаевичу Толстому в результате его жизни ничего другого, кроме смерти! Откуда такое негодование? И растерянность? И ужас "протрезвления"? И в чем, собственно говоря, обман? Вопросы к жизни о смерти, которые Толстой задавал себе после смерти брата, благополучно разрешились в светлых откровениях, в прозрении вечной Жизни и прозрении Птицы Небесной. Птица Небесная потому есть высшее проявление полноты жизни и ее неистребимости, что она есть итог все возрастающей и возрастающей жизни, обнаруживающий себя по смерти. В умирающем князе Андрее Птица Небесная возникает как результат постоянно возраставшей в нем "силы" жизни. Прозрение Птицы Небесной есть своего рода обещание не только бессмертия, но и высшей силы и полноты жизни после смерти. Однако в реальном течении жизни после ее главного перевала внезапно объявилась другая сила, действующая подобно "прежнему стремлению к жизни, только в обратном направлении". Вместо ожидаемого возрастания сил жизни произошло – и произошло на самой вершине жизни! – ее умаление, сход жизненных сил. Птица Небесная не может объявиться в результате умаляющейся жизни, и цена прозрения о ней неизбежно девальвируется в душе. Поманилось, и опять – "не за что ухватиться". Что это, как не обман, не жестокая и злая шутка над человеком! Но это, разумеется, не обман, а закономерное развитие личной духовной жизни. Путь к вершинам личной духовной жизни проложен через пропасти. И «поглощение себя в ничто», и темное ОНО, и «арзамасский ужас», и, наконец, сход с жизни после главного перевала суть те впадины Пути восхождения, те его антивершины, спуститься в которые необходимо для того, чтобы смочь подыматься выше и выше. Сознание смерти брата Николая как «поглощения в ничто» привело Толстого к откровению Птицы Небесной. Темное ОНО – к откровению Пьера. «Арзамасский ужас» – к Вере, к откровению Сына человеческого. И переживание своего схода с жизни для Толстого не крах, а новый виток в развитии сюжета его духовного восхождения. "Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это – мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Если б я был как человек, живущий в лесу, из которого, он знает, что нет выхода, я бы мог жить; но я был как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечется, желая выбраться на дорогу, знает, что всякий шаг еще больше путает его, и не может не метаться. Вот это было ужасно"(23.15). Как известно, Лев Толстой перестал «метаться» и "вышел на дорогу" в самом конце 70-х годов, на шестом десятке жизни. *)В четвертом отрывке "Записок сумасшедшего" герой ночью тоже заблудился в лесу, испугался смерти, "хотел по-прежнему допрашивать, упрекать Бога, но тут я вдруг почувствовал, что я не смею, не должен, что считаться с Ним нельзя, что Он сказал, что нужно, что я один виноват. И я стал молить Его прощения и сам себе стал гадок. Ужас продолжался не долго. Я постоял, очнулся и пошел в одну сторону и скоро вышел. Я был недалеко от края. Я вышел на край, на дорогу"(26.473).
7 (38) Сознание благости жизни и чувство благодарности за высший дар жизни в себе, как мы уже упоминали, характерно для жизнеощущения Толстого во все годы его жизни. Толстой благоговел перед жизнью и, значит, перед Источником ее, и это чувство благоговения не покидало его и тогда, когда он в 50-60-х годах создавал "Казаков", и тогда, когда в 900-х создавал "Хаджи Мурата". Переживание Жизни самой по себе и жизни в себе – основополагающее переживание Льва Толстого. Понятие Жизни и тайна Жизни – главное и ударное в его учении. Для Толстого есть только один Источник жизни – Бог, Бог Жизни, Тот, Кто в Истоке всякой жизни, Кто и есть Жизнь, То высшее духовное Начало, Которое несет в Себе и устанавливает в мире закон Жизни, ее Разум, не совсем внятно названный им на первых порах "Разумением жизни". Бог – Дарующий жизнь. Благодарность за дар жизни – фундамент религиозного чувства Льва Толстого. Напряженность и укорененность жизни в существе есть для Толстого напряженность и укорененность бытия Бога Жизни. Существует один поток вечной жизненности. В нем живет Бог. Или это и есть Бог. Плотская жизнь, психическая жизнь, духовная жизнь для Толстого – из одного и того же Источника. Так что и плоть, и животная личность, и Сын человеческий живут не в разных потоках жизненности, а в одном и том же. И если обнаружен обратный ход жизни, то он по логике толстовского взгляда должен иметь отношение к жизни всякого рода. Чтобы "выйти на дорогу", Толстому предстояло разобраться в этом. В результате он признал и провозгласил, что есть истинная, настоящая и есть неистинная, не подлинная жизнь. Одна – Божья, другая – животной личности. И потому обратный ход движения жизни после главного перевала это есть в чистом виде ход неистинной жизни, разоблачающей себя таким образом перед истинной жизнью в Боге. Дело спасения человека в том, чтобы разделить («разодрать», по «Запискам сумасшедшего») субъекты этих двух родов жизни, отречься от блага жизни одного, низшего субъекта, субъекта неистинной жизни и установить свою жизнь в истинной жизни и в составе ее Субъекта. Отречение от блага животной личности это отречение от того, что несет в себе смерть, от носителя смерти в человеке. Отсёк смертность – осталось то, в чем жизнь. Учение об этом и о том, как это следует делать, Толстой искал в Евангелии и впервые попытался основательно изложить в трактате "О жизни". Впоследствии Толстой видел в этом своем произведении "много папиросочного тумана и возбуждения"(86.244). "О жизни" – слабо, неясно"(50.295), – понял он, поправляя рукопись в 1899 году. Положительная мысль трактата – о высшей душе человека, о ее жизненности и разумности, обо все большем и большем переносе центра своей жизни в высшую душу – забивается при помощи вводящих в заблуждение терминов яркими, эмоциональными опровержениями и разоблачениями. "О жизни" – черновик только-только складывающегося мировоззрения. Трактат этот написан в 1886 году, через пять лет после завершения работы над переводом Евангелий. Профессор А. А. Козлов, критика которого, как мы сказали выше, оказала существенное влияние на формирование общественного мнения относительно религиозных трудов Льва Толстого, ярко и убедительно раскрывает философскую манеру, в которой написан трактат "О жизни". И до сих пор не многие читатели не согласятся с его анализом: "Может показаться весьма странным утверждение, что такой писатель, как гр. Толстой, в совершенстве владеющий литературным и художественным языком, представляет для понимания не меньшие затруднения, чем Гегель, Кант и еще кто-либо из немецких философов, известных по темноте изложения… У них она происходит от технического, условного, специально им принадлежащего языка и терминологии… Но гр. Толстой употребляет общий литературный язык, в котором нет специальных, искусственных, ему только принадлежащих терминов; кроме того в его изложение входят множество образных, поэтических выражений, примеров и уподоблений, которые как бы рисуют перед нами всякую высказываемую им мысль… Он не только не дает точных определений смысла, в котором употребляет слова своего общелитературного и картинного языка, но даже постоянно грешит и в том, что одно и то же слово употребляется ad libitum*) в разных смыслах. Правда, это произвольное употребление чрезвычайно выгодно для целей его проповеди или для возбуждения у его читателей чувств и настроений, ей соответствующих, но чрезвычайно невыгодно для тех очень немногих читателей, которые хотели бы получить от гр. Толстого ясные понятия и прочные убеждения, способные выдержать более или менее строгую критику". *) по собственному усмотрению – лат. И еще на ту же тему: "Упрек, который мы делаем гр. Толстому, есть собственно упрек не за художественный его язык, а за неясность и неточность его понятий и за следствие их, т. е. трудность уловить значение этих понятий и разобраться в них …Гр. Толстой, при посредстве своего языка, прикрывает неясность мысли и не убеждает, а как бы гипнотизирует своих читателей"*). *) Там же, с.139-140 На это Толстой мог ответить так, как он сразу же после опубликования "О жизни" отвечал в одном из писем Черткову: "Я пишу главное для себя: тот, на кого я нападаю, кого я убеждаю – это я. Что же делать, что я еще такое непривлекательное лицо, с которым надо говорить таким путаным языком. Бог даст я сам сделаюсь яснее и проще, тогда только мне и можно будет говорить просто с собой и через себя с другими – как Вы хотите. А напустить на себя тон учительский Вы сами знаете – что нельзя»(86.101). Не многие способны разговаривать на том языке мысли, на котором говорил с читателем Лев Толстой. Толстого понимает тот и только тот, кто ему внемлет. Лев Толстой обращен сначала к человеку, внемлющему ему и только потом к человеку, понимающему его. Смыслы Толстого надо воспринимать на слух, их, как и всякий сакральный текст, надо уметь слушать и слышать. Но не слухом, слышащим звуки слов и их сочетаний, а слухом, улавливающим поступь подлинной мысли и ее тайное тяготение. Интонации мысли Толстого завораживают всякого, кто способен уловить их. Вслушайтесь, как подобраны друг к другу интонации первого абзаца главы первой «О жизни»: "Живет всякий человек только для того, чтобы ему было хорошо, для своего блага. Не чувствует человек желания себе блага, – он и не чувствует себя живущим. Человек не может себе представить жизни без желания себе блага. Жить для каждого всё равно, что желать и достигать блага; желать и достигать блага – всё равно, что жить"(26.324). Для кого-то это тавтология. Кто-то в этой поступи ясно расслышит поданный разуму его высшей души сигнал, призывающий его откликнуться и занять рабочее положение. Чтобы читать Толстого, не нужно умственных усилий – они иногда мешают пониманию, – а нужно усилие того, что Толстой называет "разумным сознанием", то есть сознанием, которым обладает высшая душа человека. Толстого нельзя вымерять мерилами философии. Лев Николаевич обращается не к умозрителям и имеет в виду тех «живых людей», которые понимают его не по усвоенным понятиям слова, а живо, по опыту живого переживания того, о чем он говорит. И потому от него не следует ждать четких определений, логики понятий, терминологии. Толстой обращается не к интеллекту читателя и не крутит мыслью перед ним, он подает читателю сигнал глубокой мысли и рассчитывает на ответную работу его интуиции на глубокую мысль. Живущему и думающему с охлажденным сердцем возбраняется читать Толстого. Профессионально поставленная голова не всегда воспринимает Льва Толстого потому, что он вне какого-либо цеха умельцев мысли, вне того негласного заговора, который устанавливает и признает некий определенный тип мышления или образ мысли не в последнею очередь для того, чтобы скрыть от других и себя ответ на вопрос: есть ли то, для чего стоит мыслить, или мыслить не для чего. Отсюда упреки в примитивности мысли Толстого, в слабости его разума, в неумении строго и последовательно разбирать предмет и прочее. Толстой пишет религиозные и философские работы не для самовыражения в умозрении, а потому, что всей душой чувствует: молчать нельзя, нравственно невозможно: «Спрашивал себя: зачем я пишу это? Нет ли тут личного желания чего-либо для себя? И уверенно могу ответить, что нет, что если пишу, то только потому, что не могу молчать, считал бы дурным делом молчать, как считал бы дурным не постараться остановить детей, летящих под гору в пропасть или под поезд»(56.99). Религиозные писания Толстого, как это ни странно сказать, есть род устной речи Учителя-мудреца к ученику. Для такой речи требования устроенной терминологии не столь существенны. Прежде всего Учителю важно любым сопровождающим его мысль способом пробиться к душе ученика, чтобы затем суметь передать трудновыразимую в слове мудрость по непосредственной связи, из своей души в его душу. Пробой этот, эта связь душ, и эта передача мысли устанавливается, конечно, не "точными определениями", способными "выдержать более или менее строгую критику" ученика, а своего рода художественными приемами – то самое, что А. А. Козлов (а за ним множество других критиков) принял за гипнотизацию читателей с неумышленной целью прикрытия неясности авторской мысли. Читая того или иного знаменитого философа, видишь, что он, как правило, всей душою желал бы "гипнотизировать" своего читателя (пусть даже за счет строгости мысли*)) и посильно (в силу своего дара художественной мысли) делает это. Но у Льва Толстого тут, разумеется, нет достойных конкурентов. *) С другой стороны, упорная логическая стройность повествования сама часто служит для такого рода "гипнотизации". Лев Толстой – не обозреватель, а прозреватель. И, как всякий прозреватель, чужд теоретической систематизации. Наиболее соответствует адекватному выражению пронизывающей иглы прозревателя и потому наиболее удобная для Толстого форма есть, как было сказано выше, форма отдельных изречений, доведенная до совершенства в "На каждый день" и "Пути жизни". В середине 80-х годов форма эта создана еще не была, и Толстой укладывает свою пророческую мысль на ложе философского трактата. Но все равно Толстого боязно выжимать и пересказывать; это все равно что корежить поэму, пытаясь передать ее не в стихотворной форме. Глава первая трактата "О жизни" называется: "Основное противоречие человеческой жизни". Толстому надо еще раз в самых общих чертах обрисовать ту ситуацию, в которую поставлен человек на Земле. На это отведено две страницы художества пророческого слова. Открывая следующую, вторую главу, Толстой по своему обыкновению резюмирует содержание первой: "Единственная представляющаяся сначала человеку цель жизни есть благо личности, но блага для личности не может быть; если бы и было в жизни нечто, похожее на благо, то жизнь, в которой одной возможно благо, жизнь личности, каждым движением, каждым дыханием неудержимо влечется к страданиям, к злу, к смерти, к уничтожению". "С древнейших времен разум человека был направлен на познание такого блага человека, которое бы не уничтожалось бы борьбой существ между собой, страданиями и смертью"(26.327). Люди же, которые живут одной "животной жизнью", "для личного блага"(26.335), не понимают основного противоречия человеческой жизни и либо учат "тому, что жизнь человеческая есть не что иное, как личное существование"(26.328), либо полагают, что "в жизни человека, как животного, и нет ничего неразумного"(26.329). Именно в "О жизни" Толстой вводит смущающее многих и вряд ли удачное понятие "животной личности" ("животного человека", "личности", "личного существования человека" и пр.). Толстой, как и всякий пророк, находится в борьбе, ему надо пробить непробиваемую человеческую массу, отсюда, надо полагать, и "папиросочные" терминологические накладки. Понятие животной личности, повторим еще раз, удобно в качестве противовеса понятию "неживотной" высшей души. Под животной личностью разумеется все то в человеке, что не есть его высшая душа. Человек живет только как животная личность до тех пор, пока в нем не пробудилась и не вошла в автономное существование его высшая душа. Разумеется, человеческая животная личность чрезвычайно многогранна. "Потребностей существования животного человека столько, сколько сторон этого существования, а сторон столько же, сколько радиусов в шаре. Потребности пищи, питья, дыхания, упражнения всех мускулов и нервов; потребности труда, отдыха, удовольствия, семейной жизни; потребности науки, искусства, религии, разнообразия их. Потребности, во всех этих отношениях, ребенка, юноши, мужа, старца, девушки, женщины, старухи; потребности Китайца, Парижанина, Русского, Лапландца. Потребности, соответствующие привычкам пород, болезням… Можно перечислять до конца дней, не перечислив всего, в чем могут состоять потребности личного существования человека"(26.376). Животного человека учения Толстого, наверное, точнее было бы назвать самостным человеком, самостью. Но Толстой сказал "животная личность", и мы будем следовать за Толстым. Все, что есть, существует по своему закону. Вещество – по-своему, плоть – по-своему, личность животного – по-своему, человеческая животная личность – по-своему, высшая Божественная душа человека – тоже по-своему. "Закон" тут можно заменить "разумом" и сказать, что плоть, личность, высшая душа обладает каждая своим разумом, дающим закон тому или иному элементу структуры человека. Разум – синоним закона, по которому существует что-либо. Чаще всего Толстой употребляет понятие "разум" именно в этом смысле конституционного закона. Каждый закон-разум в учении должен быть как-то назван, поставлен в общей иерархии. К тому же надо отличать каждый закон-разум от закона, по которому живет то или иное существо, включающее в себя разные инстанции, живущие по своим законам. Причем, закон высшей инстанции, высший закон, и в этом смысле высший разум в составе целостного существа подчиняет себе низший закон, закон низшей инстанции структуры. Так, плоть в живом организме подчиняет своему закону вещество, закон личности подчиняет себе закон плоти, а закон, по которому живет высшая душа, должен подчинять себе закон личности. Следовательно, закон-разум высшей инстанции живого существа есть (или должен стать) закон жизни всего этого существа. Когда Толстой говорит о "подчинении своей животной личности закону разума"(26.348) или просто разуму, то это вовсе не означает призыв к следованию жизни по разумным рационам, рационализирования человеческой жизни, как поняли Толстого некоторые философы. Напротив, ущербной склонностью к рационализации жизни умом обладает, по Толстому, животная личность, неспособная наполнить смыслом и решить свою жизнь. Понятие разума в "О жизни" приписано исключительно к высшей душе человека. Высшая душа обладает своим разумом, своим свободным "разумным сознанием". Разум высшей души (рождающегося в человеке "нового существа") есть то, что Толстой в "Соединении и переводе четырех Евангелий" называл "Разумением жизни". Теперь он переводит Логос Евангелия от Иоанна "разумным сознанием". В человеке есть закон животной личности, который совершается так же, как в жизни кротов и бобров (сравнение Толстого – 26.350), то есть несвободно. Но есть в человеке и другой закон, которому должна быть подчинена его находящаяся в становлении жизнь. "Понять жизнь человека" значит "понять тот закон, которому для блага человека должна быть подчинена его животная личность"(26.351). "И никогда, сколько бы они (люди. – И. М.) ни изучали животного существования человека, не узнают они того закона, которому для блага его жизни должно быть подчинено это животное существование"(26.350). Понять этот закон можно только "разумом", свободным разумом того "нового духовного существа", которое еще не живет, но которому намечено ожить в человеке. Разум существа высшей души устанавливает, что "отречение от блага животной личности есть закон жизни человеческой"(26.363 и далее много раз), не той жизни, которая есть, а которая должна быть. Жизнь человеческую, которая должна быть, "мы не можем понимать иначе, как подчинение животной личности закону разума"(26.360), то есть закону жизни высшей души и ее "разумному сознанию". *)«Ум, энергия ума, быстрота его, – пишет Толстой, – совсем не нужны для понимания и исполнения закона жизни. Скорее напротив: сила Божия в слабости совершается»(55.283).
8 (39) Последние главы "О жизни" – о смерти; точнее, о невозможности смерти, о призрачности смерти; и об обмане страха смерти, владеющего человеком. Каждый видит, что все рождающееся стареет и умирает. Но каждый "знает еще в себе и то, что не портится и не стареется, а, напротив, нечто такое, что чем больше живет, тем больше крепнет и улучшается: знает каждый человек в себе еще свою душу, с которой не может быть того, что совершается с телом". "Жизнь есть только то, что я сознаю в себе. Сознаю же я свою жизнь не так, что я был или буду (так я рассуждаю о своей жизни), а сознаю свою жизнь так, что я есмъ – никогда нигде не начинаюсь, никогда нигде и не кончаюсь. С сознанием моей жизни не соединимо понятие времени и пространства. Жизнь моя проявляется во времени, пространстве, но это только проявление ее. Сама же жизнь, сознаваемая мною, сознается мною вне времени и пространства. Так что при этом взгляде выходит наоборот: не сознание жизни есть призрак, а все пространственное и временное – призрачно. И потому временное и пространственное прекращение телесного существования при этом взгляде не имеет ничего действительного и не может не только прекратить, но и нарушить моей истинной жизни. И смерти при этом взгляде не существует"(26.400). Отчего же люди так боятся смерти? В человеке два голоса: животной личности и высшей души. "Я перестану быть – умру, умрет все то, в чем я полагаю свою жизнь", говорит человеку один голос; "я есмъ", говорит другой голос, "и не могу и не должен умереть. Я не должен умереть, а умираю". Не в смерти, а в этом противоречии причина того ужаса, который охватывает человека при мысли о плотской смерти: страх смерти не в том, что человек боится прекращения существования своего животного, но в том, что ему представляется, что умирает то, что не может и не должно умереть". И неожиданный вывод: "Мысль о будущей смерти есть только перенесение в будущее совершающейся смерти в настоящем". Совершающаяся смерть в настоящем, смерть при жизни – это незабытый мотив некогда пережитого "арзамасского ужаса". Только теперь он изжит окончательно. Недаром "Записки сумасшедшего" создавались в середине 80-х годов, в то же время, что и "О жизни" – тогда, когда Толстому стала совершенно ясна благотворность тех страданий от сознания "дыры души", которые полтора десятилетия назад мучили его. "Являющееся привидение будущей плотской смерти не есть пробуждение мысли о смерти, но напротив – пробуждение мысли о жизни, которую должен иметь и неимеет человек. Не оттого люди ужасаются мысли о плотской смерти, что они боятся, чтобы с ней не кончилась их жизнь, но оттого, что плотская смерть явно показывает им необходимость истинной жизни, которой они не имеют. И от этого-то так не любят люди, не понимающие жизни, вспоминать о смерти. Вспоминать о смерти для них все равно, что признаваться в том, что они живут не так, как того требует от них разумное сознание"(26.401). В глубине души люди не боятся уничтожения жизни в результате смерти тела. Таково одно прозрение Толстого. "Привидение смерти" есть мощной двигатель к истинной жизни. Ужас смерти работает в этой жизни на человека, у этого ужаса есть скрытая благотворная функция в человеческой жизни. Вот другое прозрение Толстого. Человек отгоняет мысль о смерти потому, что, не взрастив в себе истинную жизнь, живет ложной жизнью. Вот третье прозрение Толстого. Ужас смерти при жизни – род духовного страдания, свойственного человеческой жизни. Страдание это сидит в каждом из нас, но только редчайший человек оставался с ним один на один и испытал его в чистом виде. Подспудно ощущая возможность "арзамасского ужаса" в себе, каждый бессознательно знает о невыносимости этого духовного страдания и потому не допускает себя до него. Мы все загодя боимся – не меньше смерти боимся – этого страдания. А когда оно, хотя бы краешком, достает нас, то, кажется, из нас вылезает темень существования. Один из главных мотивов, которые ежемгновенно гонят человека по жизни, есть его стремление прикрыть всегда сидящий в нем холодный ужас смерти при жизни, остановки души. Человек стремится заглушить в себе тот сигнал катастрофы, который через этот ужас подает о себе его душа. Вся суета, азартность, дурман и жадность бега по жизни, которым люди переполняют свое краткое существование, есть средство подмены жизненаполненности, необходимое для того, чтобы не впустить в сознание духовное страдание души, «дыры души», лишенной духовных движений "истинной жизни", как сказал бы Лев Николаевич. Таков один из основных мотивов всей человеческой жизни. Слишком часто вся она нечто иное, как деятельность прикрытия, порожденная и подстегнутая стремлением сокрыть от себя свое духовное равнодушие, то есть свою духовную неполноценность. По одному этому человеческая жизнь оказывается слепой и не может быть иной. Чем больше человек прозревает, тем глуше этот отрицательный мотив его жизни, тем менее деятельность прикрытия и тем менее суета дел жизни удовлетворяет его. Человек постигает тщету жизни и вместе с этим необходимость смены мотива своего жизнепрохождения. Люди словно вынуждаются смотреть в глаза грядущей смерти, которая "явно показывает им необходимость истинной жизни, которой они не имеют". "Смерть и страдания, как пугалы, со всех сторон ухают на человека, – определил Толстой в Заключении трактата "О жизни", – и загоняют на одну открытую ему дорогу человеческой жизни, подчиненной своему закону разума*) и выражающейся в любви". *)Обратите внимание: подчиненной не "закону разума", а "своему закону разума", разума верной дороги человеческой жизни, разума высшей души. *)Ср. в «Пути жизни»: "Кто видит смысл жизни в духовном совершенствовании, не может верить в смерть – в то, чтобы совершенствование обрывалось. То, что совершенствуется, не может уничтожиться; оно только изменяется". *)То же сказано и в "Пути жизни": "Люди, боящиеся смерти, боятся ее оттого, что она представляется им пустотою и мраком; но пустоту и мрак они видят потому, что не видят жизни".
9 (40) Высшая душа определена своим чувством жизни и своим сознанием жизни. Но определенное и особенное чувство жизни и определенное и особенное сознание жизни с неизбежностью указывают на какое-то Я, которому принадлежит это чувство-сознание. Определенное и особенное чувство-сознание жизни не может принадлежать безличной "высшей душе". Вместе с чувством жизни и сознанием жизни высшая душа должна нести свое Я. В отличие от животной личности "Я" высшей души Толстой в трактате "О жизни" называет "самым коренным и особенным моим Я", "особенным и основным Я человека", "внутренним Я", "моим настоящим и действительным Я", "истинным человеческим Я" и, наконец, "живым Я". Откуда человек в условиях постоянно меняющегося тела знает, что во все времена жизни "я был все один я?", спрашивает Толстой. Ведь "тело мое все было и есть беспрестанно текущее вещество – через что-то невещественное и невидимое, признающее это протекающее через него тело своим". "Невещественное это есть то, что мы называем сознанием: оно держит все тело вместе и признает его одним и своим. Без этого сознания себя отдельным от всего остального я бы ничего не знал ни о своей, ни о всякой другой жизни". Но и сознание себя "есть нечто прерывающееся и переменяющееся". А между тем человек чувствует себя собою во всякое время. Это значит, что "если есть какое-нибудь такое наше Я, которое мы боимся потерять при смерти, то это Я должно быть не в том теле, которое мы называем своим, и не в том сознании, которое мы называем своим в известное время, а в чем-то другом, соединяющем весь ряд последовательных сознаний в одно". "Что такое это самое коренное и особенное мое Я, не слагающееся из существования моего тела и ряда происходящих в нем сознаний, то основное Я, на которое, как на стержень, нанизываются одно за другим различные последовательные во времени сознания?" "Если я в каждую минуту жизни спрошу себя в своем сознании, что я такое? Я отвечу: нечто думающее и чувствующее, т. е. относящееся к миру своим совершенно особенным образом. Только это я сознаю своим Я, и больше ничего". По сознанию своей жизни Я высшей души "есть нечто весьма определенное… и вносится нами в мир из области внепространственной и вневременной; это-то нечто, состоящее в моем известном, исключительном отношении к миру, и есть мое настоящее и действительное Я. Себя я разумею, как это основное свойство, и других людей, если я знаю их, то знаю только, как особенные какие-то отношения к миру". "Мое же особенное отношение к миру установилось не в этой жизни и началось не с моим телом и не с рядом последовательных во времени сознаний". Настоящее и действительное Я человека существует до рождения человека, оно лишь вносится в этот мир человеком, соединяя в единое целое не только "все памятные мне сознания", но и "сознания, предшествующие памятной мне жизни". Впрочем, "особенное отношение к миру" не есть прерогатива высшей души, ее действительного Я и "разумного сознания". Свое отношение к миру имеет и животная личность, обладающая "животным сознанием", и тело, обладающее сознанием плоти. Эти три сознания спутываются и мешают человеку правильно ориентироваться в основах своей жизни. "Человеку кажется, что он происходит из движения вещества, переходящего на ступень личного животного сознания. Ему кажется, что это животное сознание переходит в разумное, и что потом это разумное сознание ослабевает, переходит опять назад в животное, и под конец животное ослабевает и переходит в мертвое вещество, из которого оно взялось. Отношение же его разумного сознания к миру представляется ему при таком взгляде чем-то случайным, ненужным и гибнущим". Человеку, воспринимающему жизнь таким образом, ничего не остается, как уверять себя либо в том, что "животное сознание и есть разумное сознание", либо в том, что "жизнь, никогда прежде не существовавшая, вдруг, появившись в плотском виде и, исчезнув в нем, опять воскреснет во плоти и будет жить". Жизнь человеческая представляется волною: "Из мертвого вещества выделяется личность, из личности разумное сознание – вершина волны; поднявшись на вершину, волна, разумное сознание и личность спускаются туда, откуда они вышли, и уничтожаются". Но человеческая жизнь "не есть волна, а есть то вечное движение, которое в этой жизни проявляется только волною". Человеческая жизнь – "шествие через плотское существование". На входе этого шествия – рождение, на выходе его – смерть, которую почему-то так боятся люди. "Ты пришел в эту жизнь, сам не зная как, но знаешь, что пришел тем особенным Я, которое ты есть, потом шел, шел, дошел до половины и вдруг не то обрадовался, не то испугался и уперся и не хочешь двинуться с места, идти дальше, потому, что не видишь того, что там. Но ведь ты не видел тоже и того места, из которого ты пришел, а ведь пришел же ты; ты вошел во входные ворота и не хочешь выходить в выходные".*) Чего ты боишься? Ведь твое особенное действительное Я "возникло не с твоим рождением: оно существует независимо от твоего родившегося животного и потому не может зависеть от смерти его"(26.416-19). *) Это место целиком помещено в "Путь жизни"(45.476). Людям иногда говорятся такие слова, которые, будь они поняты и взяты в сердце, могли бы перевернуть человеческую жизнь. Таковы слова Толстого о вере в бессмертие. "Веру в бессмертие нельзя принять от кого-нибудь, нельзя себя убедить в бессмертии. Чтобы была вера в бессмертие, надо, чтобы оно было, надо понимать свою жизнь в том, в чем она бессмертна. Верить в будущую жизнь может только тот, кто сделал свою работу жизни, установил в этой жизни то новое отношение к миру, которое уже не умещается в нем"(26.415). Что это значит? "Неизбежное уничтожение плотского существования, которое мы видим на себе", убежден Толстой, "показывает нам, что отношение, в котором мы находимся к миру, не есть постоянное, но что мы вынуждены устанавливать другое". Отношение к миру, которое действительное Я человека вносит в мир вместе с собою, должно не просто изменяться в каком-то отношении, но расти по восходящей. Духовный рост, то есть увеличение полноты, любовности и разумности жизни действительного Я высшей души, есть закон процесса жизни человека. Более того, в результате духовного роста уже в этой жизни можно вступить "в то новое отношение к миру, для которого нет смерти". Установление этого нового отношения, учит Толстой, "есть для всех людей дело этой жизни". Человек, который исполняет свое дело, который живет движениями духовного роста, "приняв свою жизнь из невидимого ему прошедшего, сознавая постоянное непрерывное возрастание ее, не только спокойно, но и радостно переносит ее и в невидимое будущее"(26.410), через смерть. Смерть, как уничтожение себя, вообще представляется только духовно неподвижному человеку, то есть тому, кто "остался при том отношении, с которым он вступил в существование". Он находится в состоянии "остановки жизни" и потому "все существование такого человека есть одна неперестающая смерть"(26.409). Толстой вспоминает предание об Иоанне Богослове: "Чуть двигающийся столетний старичок, со слезящимися глазами, шамкает только одни и одни три слова: любите друг друга! В таком человеке существование животное чуть брезжится, – оно все съедено новым отношением к миру, новым живым существом, не умещающимся уже в существовании плотского человека". Не правда ли, это описание чем-то напоминает описание последних дней князя Андрея. И то "новое живое существо", о котором тут говорит Толстой, вполне можно назвать Птицей Небесной, отчетливо живущей, как мы помним, в образе умирающего князя Андрея, в ином отношении к миру и в ином центре жизни. Прозрение Птицы Небесной некогда возникло у Толстого в ответ на переживание смерти брата Николая. И через 20 лет, в трактате "О жизни" у Толстого опять, но в новом виде возникает связка образов смерти брата Николая и Птицы Небесной. Сразу же вслед за описанием Иоанна в старости Толстой вспоминает давно умершего брата. "Брат мой умер, что же сделалось? Сделалось то, что доступное моему наблюдению в пространстве и времени проявление его отношения к миру исчезло из моих глаз и ничего не осталось… Мой брат умер, кокон его, правда, остался пустой, я не вижу его в той форме, в которой я до этого видел его, но исчезновение его из моих глаз не уничтожило моего отношения к нему". У меня осталось "воспоминание его духовного образа". "Воспоминание это не есть только представление, но воспоминание это есть что-то такое, что действует на меня и действует точно так же как действовала жизнь моего брата во время его земного существования. Это воспоминание есть та самая невидимая, невещественная атмосфера, которая окружала его жизнь и действовала на меня и на других при его плотском существовании, точно так же, как она на меня действует и после его смерти. Это воспоминание требует от меня после его смерти теперь того же самого, чего оно требовало от меня при жизни. Мало того, воспоминание это становится для меня более обязательным после его смерти, чем оно было при его жизни. Та сила жизни, которая была в моем брате, не только не исчезла, не уменьшилась, но даже не осталась той же, а увеличилась и сильнее, чем прежде, действует на меня". Мне, Льву Толстому, никак нельзя считать, что "умерший брат не имеет более жизни". "Я могу сказать, что он вышел из того низшего отношения к миру, в котором он был как животное, и в котором я еще нахожусь, – вот и все; могу сказать, что я не вижу того центра нового отношения к миру, в котором он теперь; но не могу отрицать его жизни, потому что чувствую на себе ее силу". "Но, мало того, эта невидимая мне жизнь моего умершего брата не только действует на меня, но она входит в меня. Его особенное живое Я, его отношение к миру становится моим отношением к миру. Он как бы в установлении отношения к миру поднимает меня на ту ступень, на которую он поднялся, и мне, моему особенному живому Я, становится яснее та новая ступень, на которую он уже вступил, скрывшись из моих глаз, но увлекая меня за собою". Откровение Птицы Небесной было девальвировано после главного перевала, к 49 годам. И теперь возникло вновь, но не так, как прежде. Тогда прозрение Птицы Небесной, в котором Лев Толстой "нашел, за что ухватиться", не имела практического влияния на жизнь. Теперь же представление о "новом живом существе", которое не умещается в этой жизни, властно влияет на все проявления его жизни. Птица Небесная уже реально действует в его жизни и окончательно решает те вопросы к жизни о смерти, которые Толстой ставил после кончины брата. Эту Птицу Небесную теперь можно даже увидеть. У нее есть голова – особенное и действительное Я человека и два крыла: чувство «христианской любви» и разумное сознание. В прозрении на похоронах брата Николая Толстой понял, где ему следует искать ответы на свои вопросы – в Евангелии. И мысль о том, что "жизнь умерших людей не прекращается в этом мире" Толстой тоже почерпнул из Евангелия. Стих 18 главы XIV Иоанна: "Не оставлю вас сиротами; приду к вам", Толстой переводит: "Не оставлю вас сиротами, а остаюсь с вами" в том смысле, что "отошедши от мира, Иисус будет жить в тех, кто будет соблюдать его учение о жизни в отце"(24.724). Стих 23 той же главы Евангелия от Иоанна: "Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим" Толстой переводит: "кто любит меня, тот исполняет мое учение, и Отец мой полюбит его, и мы придем к нему и будем пребывать в нем"; и затем комментирует: "Пребывания есть различные в доме Отца: пребывание в жизни людской и пребывание в Боге. Иисус, отходя к Отцу, говорит, что он вне плотской оболочки придет, будет утешителем и будет жить в душе того, кто будет исполнять его учение"(24.726-7). Показательно, что Толстой, вспомнив на страницах "О жизни" брата, тут же переходит к "разумно-любовной жизни" Иисуса Христа. Свет жизни Христа "таков, что я не только вижу его теперь, но он один руководит мною и дает мне жизнь. Я живу этим светом". "Его отношение к миру – ничье иное, действует до сих пор на миллионы людей, принимающих в себя его отношение к миру и живущих им". "На людях, оставляющих после себя силу, продолжающую действовать… мы можем найти и основу их веры в непрекращаемость жизни и потом, вникнув и в свою жизнь, найти и в себе эти основы". Христос "жил уже во время своего плотского существования в лучах света от того другого центра жизни, к которому он шел (то есть жил в особом состоянии: одновременно и в этой и в иной жизни. – И. М.) и видел при своей жизни, как лучи этого света уже освещали людей вокруг него. То же видит и каждый человек, отрекающийся от личности и живущий разумной, любовной жизнью" (то есть человек, перенесший центр жизни в свое живое духовное Я). Что же в итоге? "Человек умер, но его отношение к миру продолжает действовать на людей, даже не так, как при жизни, а в огромное число раз сильнее, и действие это по мере разумности и любовности *) увеличивается и растет, как все живое, никогда не прекращаясь и не зная перерывов". *) Его, умершего человека, разумности и любовности. Вносимая через человека в мир основа жизни подлинного Я существует до прихода человека в это существование и, как полагает Лев Толстой, складывается "из жизни живших прежде меня и давно умерших людей"(26.414) – быть может это и брат Николай, и Иисус, и Иоанн Богослов, и Паскаль. И если это так, то "всякий человек, исполнивший закон жизни, подчинивший свою животную личность разуму и проявивший силу любви, жил и живет после исчезновения своего плотского существования в других людях". Одного этого достаточно, заключает Толстой, чтобы "ужасное суеверие смерти уже никогда более не мучило меня"(26.414). *)Слова эти разбиты и перенесены Толстым в "Путь жизни"(45.448, 454).
10 (41) Слово Толстого обращено далеко не ко всем людям, как того хотел сам Лев Николаевич, а к тем, кто может и хочет душою воспринять и полюбить его взгляды, – чаще всего не столько за истинность, сколько за благородство и величие образа мысли, за высоту идеальной точки зрения, за подлинность его чувств, за особую нравственную обаятельность его мудрости, которая многим и многим другим совсем не по вкусу. Одна из капитальных основ толстовского учения состоит в том, что жизнь – благо. "Если мы верим, что все, что случается с нами в нашей жизни, случается с нами ради нашего блага, мы не можем не верить и в то, что то, что случается с нами, когда мы умираем, должно быть нашим благом". Отсюда: "Мы живы не потому, что бережем себя, а потому, что делаем дело жизни. Кончается дело жизни, и ничто уже не может остановить неперестающую гибель человеческой животной жизни, – гибель эта совершается, и одна из ближайших, всегда окружающих человека, причин плотской жизни представляется нам исключительной причиной ее". Человек не только живет для своего (духовного, истинного) блага, но он, по Толстому времени работы над трактатом «О жизни», и умирает для увеличения того же блага. "Совершается или нет в человеке работа истинной жизни, мы не можем знать. Мы знаем это только про себя. Нам кажется, что человек умирает, когда это ему не нужно, а этого не может быть. Умирает человек только тогда, когда это необходимо для его блага, точно так же, как растет, мужает человек только тогда, когда это ему нужно для его блага". Основы жизни, заключенные в действительном Я высшей души человека, у каждого свои. Значит, и дело жизни у каждого свое и своего разряда. Люди неравновелики в этом отношении, хотя, конечно, основы жизни в общем случае вносятся в мир через человека и человеком. "Никто из нас ничего не знает про те основы жизни, которые внесены другими в мир, и про то движение жизни, которое совершилось в нем, про те препятствия для движения жизни, которые есть в этом существе, и, главное, про те другие условия жизни, возможные, но невидимые нам, в которые в другом существовании может быть поставлена жизнь этого человека". Перед нами еще один ряд прозрений Льва Толстого. Первое: "жизнь эта (жизнь действительного Я, конечно. – И. М.) началась не с рождением, а была и есть всегда"; второе: "благо этой жизни растет, увеличивается здесь, доходя до тех пределов, которые уже не могут содержать его"; и третье: "и только тогда человек уходит из всех условий, которые задерживают его (блага) увеличение, переходя в другое существование"*). *) То же самое повторено и в "Христианском учении": "Разум знает одно: что сущность Божественная есть, что она росла в этом мире. И, дойдя до известной степени своего роста, вышла из этих условий"(39.191). Переживание ужаса смерти и 30-летнего, и 40-летнего, и даже 50-летнего Толстого сменилось в 60-летнем Толстом переживанием, схожим с радостным ожиданием смерти. Теоретически это понятно: если причина перехода в другое существование есть возникновение таких условий, которые задерживают рост, то есть увеличение блага жизни действительного Я, то смерть хороша для блага жизни Я высшей души. За смерть следует благодарить Господа Бога так же, как за жизнь. Все эти положения о благе и смерти у Толстого вовсе не теория, не "взгляды", не одни проницательные слова, не только убеждения и общие построения, основанные на прозрениях и обеспеченные мудростью, и не только вера. Слова эти выражают конкретное жизнечувствование Толстого, в котором есть нечто такое, что выходит за пределы человеческого понимания. В 60 лет у Льва Николаевича родится сын Ванечка, "последыш", "утешение старости", всегда особенно любимый родителями. К тому же вскоре обнаруживается, что сын Ванечка пришел в эту жизнь, чтобы стать наследником духовной мощи и духовного образа Льва Толстого. Лев Николаевич знал, что этот последний его сын вырастет и будет продолжать начатое им дело. Но Ванечка неожиданно умер. Горе отца таково, что временами Лев Николаевич – впервые в жизни! – чувствует безысходность. И вместе с тем испытывает мощный духовный и религиозный подъем, раскрывающий перед ним тайну жизни, да так, что – страшно повторять его слова! – "откровение возмещает с излишком за потерю". Через 17 дней после смерти Ванечки, 12 марта 1895 года, Толстой пишет в Дневнике (53.10-11): "Смерть Ванечки была для меня, как смерть Николеньки, нет, в гораздо большей степени, проявление Бога, привлечение к Нему.*) И потому не только не могу сказать, что это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это (радостное) – не радостное, это дурное слово, но милосердное от Бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к Нему, событие". *) Тут речь идет не о восприятии смерти брата в 1860 году, когда это произошло, а о том влиянии его смерти, которое сложилось много позднее и которое описано в "О жизни". Из письма Черткову от 8 марта 1895 года: "Мне бывает минутами жаль, что нет больше здесь с нами этого милого существа, но я останавливаю это чувство и могу это сделать (знаю, что жена не может этого), но основное, главное чувство мое – благодарности за то, что было и есть, и благоговейного страха перед тем, что приблизилось и уяснилось этой смертью"(87.320). Софье Андреевне было «неразрешимо мучительно». Она страдала. «Она страдает в особенности потому, что предмет любви ее ушел от нее, и ей кажется, что благо ее было в этом предмете, а не в самой любви. Она не может отделить одно от другого; не может религиозно посмотреть на жизнь вообще и свою. Не может ясно понять, почувствовать, что одно из двух: или смерть, висящая над нами, властна над нами и может разлучать нас и лишать нас блага любви, или смерти нет, а есть ряд изменений, совершающихся со всеми нами, в числе которых одно из самых значительных есть смерть, и что изменения эти совершаются над всеми нами, – различно сочетаясь – одни прежде, другие после, – как волны" (там же). Потрясение от смерти любимого человека часто подымает над собой. И то, что после смерти Ванечки Толстой находится в состоянии особой любовности и духовного восторга приближения к Богу, с некоторым трудом, но понять можно. Однако Толстой здесь не только и не просто говорит о том, что в разных вариациях повторял множество раз – о вечной жизни и о том, что смерти нет; он душою принимает смерть своего Ванечки если и не как радостное событие, то как событие, проявившее милосердие Божье к человеку, – то есть к потерявшему наследника-сына старику-отцу и к умершему семилетнему ребенку… Как рассуждение, как "взгляд" это доступно нашему осмыслению, но, чтобы в такой момент так чувствовать и так знать, надо жить не только одной этой жизнью, а этой и другой вместе. Все положения, подробно изложенные в "О жизни" и казавшиеся "построениями", мистическими прозрениями, откровениями даже, через десять лет оказались фактом реального жизнечувствования Льва Толстого. И до этого у Толстого не раз бывало, что осуществившееся, прежде чем осуществиться, побывало у него в прозрении, в смотрении. Но здесь особый случай. Разумеется, Софья Андреевна, как и всякий земной человек, "не может ясно понять, почувствовать" то, что чувствует и знает ее муж. Не напоминает ли это знакомую ситуацию, описанную в "Войне и мире"? Смертельно раненный князь Андрей "не боялся смерти и не думал о ней". И княжна Марья понимала, "что что-то другое, важнейшее было открыто ему", что-то "такое, что не понимали и не могли понимать живые и что поглощало его всего". Когда сына Николушку уводили от постели умирающего отца, княжна Марья заплакала о том, что он останется полным сиротой. Князь Андрей разгадал это: "Да, им это должно казаться жалко!…" – подумал он. – "А как это просто!" Он хотел ей сказать о Евангелии и Птицах Небесных, но не сказал, так как "они поймут это по-своему, они не поймут! Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все эти мысли, которые кажутся им так важны, что они – НЕ НУЖНЫ. Мы не можем понимать друг друга!" И теперь Толстой говорит, по сути, то же самое: что те чувства, которые испытывает после смерти сына Софья Андреевна, не нужны (так как благо в самой любви, а не в предмете любви), что "Соня не может так смотреть на это", что она не может понять то, что понимает о жизни и смерти он. Конечно, аналогия не совсем полная. Княжна Марья страдает о будущей жизни семилетнего Николушки, оставшегося без отца. Софья Андреевна страдает оттого, что она осталась без своего семилетнего сына Ванечки. Князь Андрей уже покинул Землю и с большими усилиями над собой спускается из своего небесного состояния в земное, понимает, что "им это должно казаться жалко", – тогда как на самом деле "это просто", – и потому ничего не говорит "им", людям. Как и князь Андрей, Лев Толстой уже прошел сквозь то окно, в котором показался Бог, но он продолжает служить Богу на Земле (и как служить!), и потому то, о чем сказано, "что что-то другое, важнейшее было открыто ему" и которое, как и князя Андрея, "поглощало его всего", он всеми силами своей души и таланта старается принести прямо в руки непонимающим его людям, показывая им: "А как это просто!" Вот некоторые записи его Дневника того же дня, что и запись о благотворном влиянии на него смерти сына: "4/ Соня говорила часто: он меня спасал от зла. Я дурная, грубая натура, он любовью своей смягчал, приближал меня к Богу. Как будто он теперь не делает этого". По этой мысли Толстого, Ванечка после своей смерти приближает к Богу. Кого? Его? Софью Андреевну? Мать свою, Софью Андреевну Ванечка приближал к Богу при жизни и приближал фигурально, смягчая ее натуру. Льва Николаевича Ванечка после своей смерти приближает к Богу не так. Он ближе подвигает к Богу своего отца. Бог через Ванечку не фигурально, а в действительности привлекает ближе к Себе особенное Я сына человеческого, высшее Я Льва Толстого, одну из Своих Птиц Небесных, которую Он послал в мир и которую Он непосредственно питает. Вот в этих словах Толстого (как, впрочем, и в словах, что брат Николай после смерти приблизил его к Богу) есть, при всех наших усилиях уяснения, что-то нам недоступное. Если смерть брата Николеньки вела к образу умирающего кн. Андрея, к образу Птицы Небесной, то смерть сына Ванечки вела к самой Птице Небесной, к ее осуществлению, явлению в конкретном человеке, во Льве Николаевиче Толстом. Следующая запись Дневника всё того же дня: "5/ Да, любовь есть Бог. Полюби, полюби того, кто делал тебе больно, кого ты осуждал, не любил и все то, что скрывало от тебя его душу, исчезнет, и ты, как сквозь светлую воду на дне, увидишь Божественную сущность его любви, и тебе не нужно и нельзя будет прощать его, тебе нужно будет прощать только себя за то, что ты не любил Бога в том, в ком Он был, и из-за своей нелюбви не видел Его". Здесь эта мысль звучит по-новому. Она возникла в продолжение предыдущей, о приближении к Богу после смерти сына, и имеет особый вес и смысл. Это – лучшее понимание прежде понятого, это новое понимание, понимание при большем приближении к Богу. После смерти сына Толстой стал ближе к Богу и осознает то, что не дано постигнуть нам, земным людям: "6/ Да, жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я". Это слова не человека земной жизни. "8/ Несколько дней после смерти Ванички, когда во мне стала ослабевать любовь (то, что дал мне через Ваничкину жизнь и смерть Бог, никогда не уничтожится*)), я думал, что хорошо поддерживать в себе любовь тем, чтобы во всех людях видеть детей – представлять их себе такими, какими они были 7 лет. Я могу сделать это. И это хорошо". *) Не уничтожится новое качество жизни в состоянии большего приближения к Богу. Толстой, как видите, озабочен тем, чтобы поддерживать в себе состояние приближения к Богу. Он еще далеко не всегда и не совсем Птица Небесная, а желает быть всегда и совсем. И об этом он думал уже через несколько дней после смерти Ванечки! С другой стороны, отметим, что Птица Небесная не от мира сего и не может "во всех людях видеть детей". На это способны люди, редкие люди. Приближаясь к состоянию Птицы Небесной, Лев Толстой остается человеком гениального воображения, земным гениальным человеком. И последняя запись того же дня: "10/ С особенной новой силой понял, что жизнь моя и всех только служение, а не имеет цели в самой себе"(53.12). Лев Николаевич знал, что Ванечка – наследник его духа и продолжатель его дела на земле. Этим он мощно привязывал своего отца к земной жизни. Теперь Ванечка умер. И это событие, не просто оторвало Толстого от земной жизни, как некогда смерть брата Николая, а оторвало и перенесло его в ту жизнь Птицы Небесной, которую он последние 15 лет все больше и больше ощущал в себе. Лев Толстой «с особенной новой силой понял» то, о чем не раз говорил раньше. Это многого стоит. Не эта ли новая и особая сила его откровений "возмещает с излишком за потерю"? Смерть Ванечки вывела Толстого из этой жизни, да так, что через несколько лет привела его к новому на его Пути жизни «Пробуждению», пробуждению (от «сна этой жизни») в жизнь вселенскую. *)Мысль эта, вероятнее всего, – плод авторского перевозбуждения. Через несколько лет Толстой отказался от нее: "Говорил с В. Горбуновым. Он говорит: "у вас в "О жизни" сказано, что если человек умирает, то так надо. Это неправда". Он прав. Это неправда. Этого нельзя сказать"(52.71).
Часть 4. После смерти
«Я от Тебя не уйду, и Ты от меня не уйдешь,
потому что я часть Тебя. И нет разделения между
Тобою, и нет смерти: а есть ряд перемен, которые
и пережил я и лучше переживу еще"(66.369).
1 (42) Человеческую жизнь в теле Толстой как-то раз сравнил с движением в трубе. Труба – тело. То, что движется в ней, – душа. В юности, молодости движение в трубе легко и свободно, так как труба-тело широка для души. Но чем больше душа расширяется (растет), тем теснее ей двигаться в теле. И в то же время "во все время движения человек все ближе и ближе видит перед собой полный простор и видит, как идущие перед ним скрываются, исчезая в этом просторе. Как же, чувствуя всю напряженность, сдавленность движения, не желать поскорее дойти до этого простора? И как же не желать и бояться приближения к нему?" (45.474). Изучая взгляды Толстого, необходимо помнить о том состоянии вместе этой и иной жизни, в которое последние двадцать лет своей жизни он все более и более погружался. Толстого мы, как говорил князь Андрей, "понимаем по-своему". Это относится не только к его учению о душе или о смерти и посмертном существовании, но и к его учению об отречении от животной личности, о безбрачии и целомудрии, о науке, церкви и государстве и даже о вегетарианстве и "опрощении". И его учение о ненасилии мы можем понять только с точки зрения требований ВСЕЙ (земной и внеземной вместе) жизни.*) Почти всегда и почти по всем вопросам толстовского учения остается нечто такое, что не заметно нам и что, надо полагать, видимо только из центра не этой жизни. Хотя на первый взгляд Толстой изъясняется предельно просто и ясно. *) Поэтому известная работа Ильина о ненасилии у Толстого далеко не во всём может быть использована для оценки взгляда Льва Николаевича на этот предмет. "Как от огня топится воск в свече, так от жизни души уничтожается жизнь тела. Тело сгорает на огне духа и сгорает совсем, когда приходит смерть"(45.471). Если Толстой шел к новому центру не в этой жизни, то, быть может, он усмотрел там что-то такое, что хотелось бы видеть и нам. Но болью своей души Лев Толстой был основательно погружен в дела человеческие, и до конца дней деятельность его в немалой степени была все же обращена к тут живущим людям. Кроме того, Толстой считал, что люди не знают, что будет после смерти и что было с ними до этой жизни, не только потому, что не могут знать, но и потому, что им это "не нужно знать". Основания, например, такие: "И отчего мы не знаем, что будет? Мы и теперь склонны пренебрегать этой жизнью для будущей, теперь, когда мы не знаем, что ж бы было, если б мы знали? – Открыть нам, что будет с нами после смерти, нельзя было: если бы мы знали, что нас ждет дурное, было бы лишнее страдание; если бы мы знали, что нас ждет прекрасное, мы б не жили здесь, а старались бы умереть. Только если бы мы знали, что там нет ничего, только тогда мы бы жили здесь хорошо. Оно почти так и есть. Скорее всего предполагать, что нет такой жизни, которую мы бы нашими орудиями мысли и слова могли выразить"(51.73). Вообще говоря, Толстой всегда неохотно делился и своими мистическими прозрениями, и своим пониманием посмертной жизни. "Это предмет до такой степени мне близкий, важный, что когда я думаю о нем, то только о нем одном, и отвечаю только себе"(88.308). Вот эти его ответы самому себе мы и попробуем обнаружить. В разное время Толстой думал о посмертной жизни по-разному. Однако допускал лишь три возможности, три участи прохода человека через смерть. Про одну из них он всегда говорил чрезвычайно глухо. Но все же имел ее в виду. В результате прожитой земной жизни человек может выйти из существования, уничтожиться. Такой результат предусмотрен еще в "Соединении и переводе четырех Евангелий", где сказано, что высшая душа – корень, а Бог – садовник и что "кто не живет на корне, тот отрезается и погибает". Не уничтожается только то, что приносит плод (см. 24.730-2). Бог может уничтожить совсем, и Лев Толстой в своих молитвах не исключал и такой поворот дела (см., например, 52.110.). Для приносящего плод обнаруживаются два варианта, два исхода, два выхода из земного существования через смерть или, если угодно, два варианта спасения. "Когда мы умираем, то с нами может быть только одно из двух: или то, что мы считали собой, перейдет в другое отдельное существо, или мы перестаем быть отдельными существами и сольемся с Богом"(45.465). Быть с Богом, жить в Боге ВСЕЙ Жизнью, слиться с Ним – величайшая из Вершин Жизни. К ней, как много раз можно убедиться, читая Толстого, всей душой стремился Лев Николаевич. Об этой Вершине он знал давно, с сорока лет. Напомним, что князь Андрей находится в состоянии и этого и того существования вместе, в состоянии Птицы Небесной, но такой Птицы, которую непосредственно питает Бог. Евангельский образ Птицы Небесной для Толстого это образ включенности существа в Жизнь Самого Бога. В Платоне Каратаеве проявлялась не просто высшая жизнь и высшее естество ее, а наивысшая Жизнь и наивысшее Естество ее. Но одно дело – художественные образы, а другое – Вера. Во всяком случае, первые двадцать лет после своего духовного перелома Толстой в глубине души не верил (а иногда и открыто говорил об этом) в реальность перехода человека (его высшей души) прямо в лоно ВСЕЙ Жизни. Всю дальнейшую жизнь со времен "Войны и мира" Толстой развивал каратаевскую мысль, то есть стремился постичь проявления Жизни Бога в земной жизни человека. На кое-какие мотивы его прозрений в этом направлении мы указывали выше. Разовьем тему. Вот что думал Толстой по этому поводу в декабре 1889 года, когда он еще не до конца вошел на поприще личной духовной жизни: "То, что нам кажется движением нашей личной жизни, есть движение нашей формы жизни, когда мы становимся под углом к направлению жизни Божеской. Когда же станем по направлению воли Божьей, то она проходит через нас, переставая нас двигать, и тогда иллюзия пропадает, и тогда мы сознаем, что мы, наша жизнь, нечто иное, как сила Божья. И тогда представляется необходимость перенести свое сознание из оболочки, формы, в силу ее направления. Эта трудность, однако, побеждается сама собой и устраняется вопрос о бессмертии и будущей жизни. Сознание жизни перенесено из движущейся формы в источник силы, в самую волю Божью, вечную, бесконечную. Я из сознания формы перешел к сознанию самой жизни. Так как же мне усомниться, что то, что есть одно, было и будет, что оно не умрет? Я сознаю себя самою силою жизни, которая проходит через меня, движение моей жизни есть колебание этой формы, стоявшей под углом к направлению силы и понемногу устанавливающейся в том же направлении. Устанавливается одинаковость направления, движение прекращается, плотская личная жизнь кончается, я перехожу в силу, проходящую через меня". Всё четче и образнее Толстой разъясняет и дополняет свою мысль. "Ясно думал и радостно о том, что жизнь моя, а потому я заключаю и всего, есть сила Божия, есть вся сила жизни, которая проходит через меня, через (ограниченное и органическое) часть всего, и я могу пропускать через себя эту силу и могу задерживать ее: вот вся моя роль в жизни; задержать я не могу, но могу задерживать. Жизнь мира мне представляется так: через бесчисленные и разнообразные трубочки стремится жидкость или газ, или свет. Свет этот есть вся сила жизни – Бог. Трубочки это мы, все существа. Одни трубочки неподвижны совсем, другие чуть-чуть, третьи больше и, наконец, мы (люди. – И. М.) совсем подвижные трубочки. Мы можем совсем пропускать свет и можем загораживать его на время. – То, что мы называем своей жизнью, личной жизнью – это способность стать поперек свету – не пропускать его, истинная же жизнь есть способность стать так, чтобы пропускать свет вполне, не задерживать его. Но когда человек стал так, движение его жизни кончается. Оно кончается, когда человек уже начинает устанавливаться так. Движение жизни кончается и тогда человек чувствует, что он только тогда сделал всё, что должно, когда он устранился так, что его как бы нет. Когда человек познает эту отрицательность своего личного существования, тогда он переносит свою жизнь в то, что проходит через него, в Бога. Я испытываю это, слава Богу. – Хотел я выразить яснее словами то, что верю, что во мне сила Божия, делающая дело Божье, и потом убедился, что это не нужно: довольно того, что я не я, а сила Божья, делающая во мне. Как и сказано Иоанном, V гл., 19. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и сын творит так же"(50.190-1). Человеку дана сверхъестественная сила задерживать Свет Бога, «загораживает его на время», держать в клетке Птицу Небесную или загораживать ей путь. Её надо освободить или пропустить соответствующими операциями над животной личностью. Но что при этом происходит с духовной личностью, с высшей душою, с духовным Я? И что есть это духовное Я? "Но что ж эта сила бесконечная вся? Ходящее через меня не есть я, а я был частью всего; но как я перестал быть частью, я слился со всем – Нирвана? Так что ли? Представляется так. Тайна, вечная. И не нужно дальше знать. Знаю только, что мне не страшна смерть при этом. В руки Твои предаю дух мой! Обособленность его, составлявшаяся формой, через которую он проходил, кончается, и я соединяюсь со Всем". Упоминание о нирване свидетельствует не о тяготении Толстого к буддизму, а о тогдашней неразрешенности Толстым вопроса «Я» человека. Ответ на этот вопрос найдется у Толстого только через 20 лет. Сейчас же, в 1889 году, он всё ближе и ближе подходит к мысли прохождения духовного Я через ряд существований. "Думается это так: я представляю себе сначала, что я умру здесь и возвращусь к жизни где-нибудь в другой форме – положим, самое простое – существа вроде человека в детстве; и пойду опять развиваться или находить то положение новое, ту форму, при которой проходила бы беспрепятственно сила Божия. Хорошо. Но потом думаю: но если и не буду помнить себя, как не помню прежней жизни, то я ли это буду? Не я. Да, зачем же мне быть тем же я. Всё, что будет, будет я. Только, может быть, свяжется опять часть этого я с какой-нибудь формой. Так что погибели, уничтожения, смерти нет. И прямо буддийское отношение: не то что как бы мне не умереть; а как бы мне опять не ожить? По мне ожить, т. е. связаться опять с формой, прекрасно и не ожить хорошо". Толстой, как видите, находится на полшага от мысли о том, что высшая душа человека может стать как Птицей Небесной, так и духовным существом, связанным с новой внеземной формой действительности. И первый вариант – "хорошо". И второй вариант – "прекрасно". Да и можно ли человеку выбирать между ними? "Но не ожить, т. е. не связаться опять с какой-нибудь формой, не ожить нельзя, потому что сила Божия одна сама в себе без формы есть только мое представление и очевидно неточное, ложное, не полное. Сила же Божья двигающая, направляющая формы жизни, т. е. живое в формах – это не мысль, а это самая действительность". Так какой же вывод? Общего вывода (или одного выбора) у Толстого пока нет: "Сам я, разумеется, не могу быть тем, чем хочу; всё, что я могу, я могу не помешать Божьей силе проявляться в моей ограниченной форме"(50.190-2). Все смутно. Одни вопросы. И на эти смутно заданные себе вопросы Толстой через месяц, в конце января 1890 года получает ответ в видении сна. Но прежде, чем рассказывать о нем, надо сказать несколько слов о понятии "Обителей" у Толстого.
2 (43) В первых стихах главы XIV Евангелия от Иоанна читаем: "Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я". Мысль о многих обителях в доме Отца запала в душу Толстого с молодости. Евангельская фраза эта упоминается в его записях и 50-х, и начала 70-х годов. В "Соединении и переводе четырех Евангелий" Толстой утверждает, что евангельская фраза о многих обителях не метафора, как ее обычнопонимают, а "очень глубокая мысль". Стихи Евангелия от Иоанна он переводит так: "В мире Божьем жизней много разных. Если бы этого не было, я бы сказал вам: я иду приготовить место вам. И когда уйду и приготовлю место, то опять приду и возьму вас к себе, чтобы где я и вы были". Из Евангельского текста следует, что в Небесном Царстве Бога всем (верующим христианам, конечно) места хватит. По толстовскому переводу, "Христос прямо говорит: выкиньте из головы мысль о месте, где вы будете блаженствовать после смерти, – такого места нет". Основная мысль этих стихов, по Толстому, в том, что "в Божьем мире дух пребывает самыми разнообразными проявлениями. Мы знаем проявление духа в живом человеке; но вот я умираю, выхожу из жизни нам понятной, но дух мой где-нибудь, в каком-нибудь новом проявлении будет жить… Что с нами будет, когда мы будем жить после нашей смерти, мы не можем знать. Жизнь в Боге самая разнообразная и непонятная для нас. Сказать, как законники, что я пойду к Аврааму и приготовлю вам там место, я не могу, это была бы ложь. Одно могу сказать, что в жизни я показал вам то, к чему надо стремиться"(24.716-19). О множественности "способов отделения существ от мира", о которой Лев Николаевич говорил в последующих работах,*) пока что нет и речи. Всего существуют два рода жизни: смертная земная жизнь и вселенская несмертная истинная Жизнь «в Божьем мире». И сообщает он, как видите, о разнообразных обиталищах «жизни в Боге», а не о разнообразии Обителей существования, одна из которых – Обитель земная. Во времена работы над Евангелиями у Толстого еще нет двух вариантов «спасения», двух возможностей для перехода из земной жизни после смерти: в Жизнь ВСЕГО (Бога) и в следующую Обитель существования. *) Например, цитата из «Пути жизни»: "Смерть производит во мне такое превращение, если я только не совсем уничтожусь (тут в смысле соединюсь с Богом, стану Его нераздельной частью. – И.М.), а перейду в другое, иначе отделенное от мира существо. И тогда весь мир, оставаясь таким же для тех, которые живут в нем, для меня станет другим. Весь мир такой, а не иной только потому, что я считаю собой такое, а не иное, так, а не иначе отделенное от мира существо. А способов отделения существ от мира может быть великое множество"(45.478). К представлению об Обителях в начале 90-х годов Толстой был приведен всем ходом своего духовного развития. Хождение высшей души через Обители действительно только для личной духовной жизни, как продолжение ее развития после смерти тела. Жизнь же в Боге то же самое, что "не ожить", перейти в состояние, напоминающее нирвану, где "движение его (отдельного существа – И. М.) жизни кончается", где "он устранился так, что его как бы нет", где "всё, что будет, будет я", где "я сознаю себя самою силою жизни, которая проходит через меня", где "я не я, а сила Божья, делающая во мне". Такой вариант исхода высшей души в состояние Птицы Небесной – определенно внерабочий, из работы – куда? В беструдность? «Новое жизнепонимание» – мировоззрение непрестанной работы личной духовной жизни – не допускало осуществления такой возможности; вернее, допускало при условии исполнения всей необходимой духовной работы, что, очевидно, невозможно: действительность проявления силы жизни Бога в мире, знает Толстой, совсем иная. «Сущность учения Христа в том, – пишет Толстой в середине 90-х годов, – чтобы человек узнал, кто он, чтобы он, как птица, не пользующаяся своими крыльями, бедствующая по зиме, понял, что он не смертное животное, зависящее от условий мира, а как птица, понявшая, что у нее есть крылья и поверившая в них, понял бы, что он, сам он, никогда не рождался и не умирал, а всегда есть и проходит в этом мире только одну из бесчисленных форм жизни для исполнения воли Того, Кто послал его в эту жизнь»(53.75). "Настоящее только то, что никогда не было, новое; а все новое – трудно, трудно особенно потому, что не видишь конца; не знаешь, дело ли это или не дело, как и не можешь знать, потому что оно не кончено и всякую минуту может перестать быть делом"(87.83). Про Птицу Небесную вряд ли можно сказать, что ее никогда не было, что она есть то новое духовное существо, которая рождается вновь в духовном росте человека. С полным правом это можно сказать только про то "духовное существо", которое творится в нашей жизни для того, чтобы "связаться опять с формой", то есть вновь, в жизни следующей Обители, ожить как "живое в форме". «Когда я думаю о смерти, мне радостно думать о том, как я проснусь к той жизни так же точно, как я просыпался к этой в раннем детстве»(54.110). «Можно только то сказать, что новая жизнь начнется так же, как эта, уяснением своего положения в новых условиях»(54.102). "Одно время, – рассказывает Толстой Черткову, – я живо представил, понял свою, нашу жизнь, как непрестанное скатывание под гору, в середине которой завеса. И не в середине, а мы катимся вниз между двумя завесами: одна сзади, другая спереди внизу, и кто выкатывается из задней, кто скатывается внизу за завесу, и мы все, перегоняясь, цепляясь, разъезжаясь, летим вниз… Весь ужас смерти только оттого, что мы воображаем, что стоим на ровном, а не катимся по покатому. От этого только мы пугаемся, потому что нам кажется, что он оборвался и полетел в неизвестную пропасть"(87.354). На самом деле «смерть есть переход от одного сознания к другому, от одного представления мира к другому. Как бы из одной сцены с декорациями переносишься в другую"(53.198). Правильное понимание жизни – то, при котором человек в этом мире чувствует себя путником. "Перед нами одна станция в знакомых, одних и тех же условиях". И пройти эту станцию надо "бодро, весело, дружелюбно, совокупно деятельно, не огорчаясь тому, что сам уходишь или прежде тебя уходят туда, где опять будем все еще больше вместе»(53.78). "Все больше и больше не то что убеждаюсь, – отмечает Толстой в 1902 году (то есть, войдя на поприще вселенской духовной жизни), – но всем существом чувствую нереальность этого мира, того, в котором мы живем. Не то, что нереальность, что всё это мечта, что его нет, а то что он есть одно из бесчисленных (если уж считать) проявлений жизни, а не то, что мы все думаем в детстве и юности, а многие и до смерти – что это настоящий единственный мир и другого нет. Ужасно жить, думая так. Чтобы хорошо жить, радостно, спокойно в этом мире, надо чувствовать, что этот мир одна точка, как точка настоящего во времени или какого-нибудь места в пространстве"(88.210). Человек проходит последовательный ряд "станций", точек вечной жизни, "сцен с декорациями", разных Обителей существования. Вернее сказать, человек есть одна из таких Обителей, в которых живет его высшая душа. «Я пришел откуда-то и уйду куда-то. Есть требования этой временной, промежуточной жизни, и требования той, из которой я пришел и куда уйду – всей жизни. Надо жить для всей – по ее требованиям и законам»(55.182). Раньше Толстой различал свою земную жизнь и ВСЮ Жизнь Бога. Теперь он говорит о ВСЕЙ моей жизни, то есть сумме жизней «Я» во всех Обителях, и одной моей земной жизни, которая всего лишь "одна из обязанностей, должностей всей жизни"(50.45). Отсюда: "Только при понимании жизни в исполнении воли Пославшего получает смысл смерть и жизнь загробная"(52.87). Ибо "то (то, что после смерти. – И. М.) не будет другое, а то же"(51.111). И в подтверждение – замысел художественного произведения: «Хорошо бы написать историю того, что переживает в этой жизни тот, кто убил себя в предшествующей (жизни, Обители – И. М.): как он, натыкаясь на те же требования, которые ему предлагались в той, приходит к сознанию, что надо исполнить. И в этой жизни понятливее других, помня данный урок»(53.79). То же и в отношении жизни в следующих Обителях: "Какая будет эта будущая жизнь, мы знать не можем, но знаем, что она есть, и что я не умру. Знаю только, что я от Бога пришел и к Нему приду, и то добро, которое я познал здесь, и здесь проводил в жизнь и желал, что эту правду и это добро я найду в той жизни уже готовую, а там будут новые правды и новое добро, которых я буду достигать и достигну, и так без конца все буду ближе и ближе подвигаться к Богу, и как здесь служить Ему, так буду служить там и буду служить вечно"(69.100). Впрочем, и "там" будет такая же, как и здесь, борьба жизни – "и там не будет всегда чувствовать себя в Боге и там будет эта борьба с личностью, разрывание личности – в этом жизнь, а думаю, что и там будет жизнь, к сожалению, как говорят буддисты; к счастью, как говорят христиане"(71.402). «Я думаю, что как в этой жизни дело наше только в том, чтобы проявлять и разжигать в себе искру Божию, так и после смерти дело будет то же, хотя и в другой форме, о которой мы здесь понятия иметь не можем, и потому смерть не изменяет нашего дела, а только ставит нас в новые, лучшие против здешних условия. Лучше же будут условия потому, что всё в мире идет к лучшему – вперед, а не назад»(73.40-1). Впрочем, и в представлениях Толстого в начале 80-х годов – и десять, и двадцать лет спустя – в конце концов достигается жизнь ВСЯ. Но в одном случае она достигается сразу же после выхода из земной жизни, в другом – посредством хождения через Обители. «Вот он я, какой я есть, я жив и ничего не хочу для себя, хочу только делать то, что Ты хочешь от меня, – то, для чего Ты меня послал сюда. Если я плох и был и есть, то ведь все-таки держишь меня, каким я есть, и я плох для себя, а не для Тебя, стало быть, я нужен Тебе. Ну и вели мне делать, что Тебе надо. Я готов на все. Я плох, но с моим телесным и душевным убожеством я готов на все и буду делать это Твое дело, как я делал его прежде бессознательно, теперь сознательно, и не только в этой жизни, но всегда, везде, и во время моей смерти, и после нее. Я от Тебя не уйду, и Ты от меня не уйдешь, потому что я часть Тебя. И нет разделения между Тобою, и нет смерти: а есть ряд перемен, которые и пережил я и лучше переживу еще"(66.369). *)Это совсем не значит, что жизнь в следующей Обители есть жизнь "в телах, более или менее подобным нашим". "Как же может быть жизнь для того духовного существа, которое отделилось от тела, быть в той форме, которую определяет и производит это тело своими чувствами?"(53.119).
3 (44) В середине октябре 1889 года (следите за датами) Толстой пишет в Дневнике: "Старость, иногда не старость, а приближение к смерти, есть переход части существа (части – неверно) в другой, тот дальнейший мир. Я чувствую иногда, что я живу в нем уже, в том мире. Добрая жизнь моя (когда есть таковая) есть последствие сознания той высшей жизни. Младенец, ребенок и юноша часто живут еще там назади, в прошедшем мире, и дурные дела их суть последствия их того сознания прежнего низшего мира. Полная жизнь здесь есть только момент – точка соприкосновения прошедшего сознания с будущим. Все это не так. Все это слова…"(50.158-9). Но уже слова – о разных Обителях существования. Через два месяца после этого, в ночь на 31 января 1890 года или на 13 февраля 1890 года по новому стилю, Льву Николаевичу было сонное видение – прозрение хода через Обители. Наутро он занес в Дневник: "Странное дело: с необыкновенной ясностью и радостью видел во сне

что жизнь человеческая не то, что я думал (нарисован круг с точкой в центре. – И. М.), а

не круг или шар с центром, а часть бесконечной кривой, из которой то, что я вижу, понимаю, имеет подобие шара"(51.15). По очевидности непосредственного взгляда на человеческую жизнь вся она воспринимается в образе шара с центром. Если шар – моя жизнь, то её центр – "Я". Если шар – жизнь человеческая как таковая, то в центре ее – Бог. В прозрении сна Толстому открылось, что человеческая жизнь только представляется шаром с центром, на самом деле нет ни шара, ни центра. То, что видится и понимается шаром, есть часть "бесконечной кривой", вернее, череда переходящих друг в друга сфер или шаров. То, что представляется центром, точкой, в действительности есть стержень (на чертеже видения этого сна он очерчен двумя прямыми линиями по центру), проходящий сквозь все сферы по их общей оси. Человеческую жизнь должно рассматривать не так, что она заключена в одну свою сферу. Она раскрыта в обе стороны и соединена в одно целое, как с предшествующей Обителью, так и с последующей Обителью, переход в которую совершается через особого рода «рождение». Чтобы вполне оценить перелом в мистических взглядах Толстого, произошедший в первой половине 90-х годов, надо четко различить два понятия и соответствующие им два состояния неземной жизни. Это итоговое состояние жизни Птицы Небесной, вообще вышедшей из состояния жизни в Обителях и живущей вечной жизнью в Боге. И состояние жизни некоего духовного существа в следующей Обители, живущего, условно говоря, в будущей жизни. Об этом духовном существе Толстой в "Христианском учении" говорит, что оно "рождается" в этом мире, – в смысле находится в процессе рождения. "Всё пребывание человека в этом мире от рождения и до смерти есть не что иное, как рождение в нем духовного существа"(39.128), – сказано в п.4 главы 10 "Христианского учения". Мистической мысли Толстого в 80-х годах было свойственно противопоставление жизни вечной и жизни будущей.*) Еще два месяца назад, в конце октября 1889 года, Толстой размышлял в Дневнике, почему сын его Миша подражает не ему теперешнему, а тому, какой он был в юности, в 40-х годах: *) Вот что он, например, пишет Черткову за несколько месяцев до видения сна 1890 года: «Опять ужасная уловка дьявола, это легкомысленная, ни на чем не основанная, ложная вера в будущую, а не в вечную жизнь. Я думаю, что если бы не было ложного учения о будущей жизни, никто никогда не усомнился бы в вечной жизни… Опять дьяволу никак нельзя сказать, что вечной жизни нет, когда только есть одна вечная жизнь, и другой никакой мы знать не можем… Опять он придумал штуку: плотская смерть – это переход через реку, пропасть, на другой берег. Переход несомненно твердый, прямо на пути, и нельзя ни миновать его, ни усомниться в прочности его и в том, что он ведет к благу. И вот дьявол надстраивает мост, который кончается обрывом, ведет совсем не туда, куда надо, и заводит людей туда под предлогом, что по его мосту легче перейти. И стоя на его мосту и видя перед собой пропасть, веришь, что нет жизни. Я это испытал. Не верьте ему. Если есть сомнение, то только потому, что Вы хорошенько не разуверились в жизни будущей личности. Это его, дьяволов, обман"(86.265 – 266). "Не происходит ли это от того, что я думал прежде, что ребенок живет не весь тут, а часть его еще там, откуда он пришел, в низшей ступени развития; я же уж живу там, куда иду, в высшей ступени развития; но там я теперь отсталой, ребенок. Очень это наивно. Но никак не могу сделать, чтобы не признавать этого"(50.165). Давняя толстовская идея Обителей в прозрении сна 1890 года дополнилась новым представлением о том, что и в этой Обители существования, как и в любой другой из бесконечного ряда их, жизнь человеческая есть волна, которая при рождении человека возникает из области вечной жизни Бога (а не из "низшего мира", как "думал прежде") и по смерти человека опять возвращается туда же, чтобы возродиться вновь волною жизни в следующей Обители. При таком взгляде никак нельзя сказать, что дурные дела ребенка суть все еще сохраняющиеся в нем последствия сознания прежнего мира. «Мы думаем, – пишет Толстой через 10 лет, в 1899 году, – что душа ребенка – чистая доска, на которой можно написать все, что хочешь. Но это неправда, у ребенка есть смутное представление о том, что есть то начало всего, та причина его существования, та сила, во власти которой он находится, он имеет то самое высокое, неопределенное и невыразимое словами, но сознаваемое всем существом представление об этом начале, которое свойственно разумным людям»(72.265). Что вполне понятно, так как он приходит в этот мир не из низшего мира, а из области непосредственной близости к вечной и высшей жизни Бога. «Умереть значит уйти туда, откуда пришел. Что там? Должно быть, хорошо, по тем чудесным существам детям, которые приходят оттуда»(56.117), – писал Толстой в 1908 году. "Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только чтобы не было детей, или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими свежими от Бога детьми, я бы выбрал последнее"(52.74). Прозрение сна января 1890 года раскрыло перед Толстым ход жизни в каждой из Обителей. В том числе и в нашей. Ребенок приходит сюда от Бога, он ближе всего к истинной и вечной Его жизни. Затем он входит в жизнь, и вместе с тем, как это видно из толстовского рисунка, он все более и более удаляется от Бога и Его жизни. Так это продолжается до некоторой переломной точки, до вершины кривой рисунка Толстого. Эту точку мы назвали точкой главного перевала человеческой жизни, которую мужчина проходит в 40-45 лет, а женщина лет в 35-40. Сознание течения жизни в точке главного перевала меняется: до него человек сознает, что он идет в жизнь, после него – что спускается, сходит с жизни. И там, и там есть своя законная работа жизни. До главного перевала "должен жить для этого мира". После перевала "начинаешь жить для того, посмертного мира… Оба процесса нормальны, и в обоих есть свойственная состоянию работа»(53.170, 177-8). Так Толстой думал в конце 90-х годов. Но и по прозрении сна 1890 года сход с жизни, начинающийся от вершины кривой, есть в то же время приближение к жизни Бога. Сначала человек идет в жизнь от Бога, а потом – с жизни к Богу. По смерти он, умозрительно говоря, должен превратиться в Птицу Небесную, которую Бог непосредственно питает жизнью. И затем, уже из состояния Птицы Небесной, вновь рождается к жизни в следующей Обители. Где повторяется то же самое. Надо полагать, что в этих циклах хождения "от Бога и к Богу" человеком – вернее, его высшей душою – совершается нужная Господу работа, в результате которой после жизни к Нему возвращается качественно иное существо, не то, которое входило от Господа в эту жизнь. – Отсюда, видимо, и толстовское представление о человеческой жизни как о вдохе и выдохе Бога, о Его дыхании нами. Вот то, что, пожалуй, может быть вынесено из видения сна в 1890 года. Через четыре года после этого сна, в 1894 году, Лев Толстой видит несколько иную картину хождения через Обители. *)О том же самом на следующий день он сообщил и в письме Черткову (87.7-8).
4 (45) 24 января 1894 года Толстой из Москвы приехал в Гриневку, в имение сына Ильи. И тут страдает от давящих воспоминаний "пустой, роскошной, лживой московской жизни и от тяжелых или скорее отсутствующих отношений с женой". "Как ужасна жизнь для себя, жизнь, не посвященная на служение Божьему делу! Ужасно, когда понял тщету и погибельность личной жизни и свое назначение служения. Эта жизнь не ужасна только для тех, кто не увидал еще пустоты личной семейной жизни. Она не ужасна, когда человек бессознательно служит общей жизни, и не ужасна, а спокойна и радостна, когда человек сознательно служит ей. Ужасна она во время перехода от одной к другой. А переход этот неизбежно должен пережить всякий. Я думаю, даже ребенок, умирая". Земная жизнь не ужасна либо тогда, когда человек не знает в себе ВСЕЙ («общей») жизни, либо тогда, когда человек бессознательно (как Каратаев) или сознательно (как Лев Толстой) служит ей. Земная жизнь неизбежно становится ужасной во время перехода от одной к другой. Переход этот может совершиться в течение земной жизни – так он совершился в жизни Толстого; поэтому и земная жизнь его (в первую очередь его личная семейная жизнь) так ужасна. Но если, как обычно бывает, переход из одной жизни в другую жизнь совершается при смерти, то личная земная жизнь в момент умирания – ужасна. Таким образом, ужас перед смертью – ошибка сознания. Смерти нет. Есть ужас земной жизни, возникающий при переходе из нее в другого рода жизнь, и этот ужас законен. Ужас этот "неизбежно должен пережить всякий", "даже ребенок, умирая". Находясь в мучительном состоянии переживания безысходности ситуации семейной жизни, ища и не находя выхода из нее, из ее "ужасности", Лев Николаевич вдруг "расправляет крылья", "взлетает", переводит взгляд на сокровенно выношенные мистические мысли и в этот момент "отвечает только себе". Следующую строку в Дневнике Толстой заполняет одними точками, что у него обычно указывает на особое значение дальнейшего текста (см., например, несколько заполненных точками строк в сцене умирания князя Андрея). Потом он заговорил совсем другим тоном: "Мне очень грустно, серьезно, но хорошо. Как будто чувствую приближающееся изменение формы жизни, называемое смертью. (Нет, и это слишком смелое утверждение.) Не изменение формы, а тот переход, при котором ближе, яснее чувствуешь свое единство с Богом. Так я представляю себе:

и т. д. Прямая линия – это Бог. Узкие места – это приближение к смерти и рождение. В этих местах ближе Бог. Он ничем не скрыт. А в середине жизни он заглушен сложностью жизни"(52.108-110). Сверхчеловеческую информацию, переданную Толстым в этом простом рисунке, переценить нельзя. Лев Толстой раскрывает самое значительное и глубинное из своих прозрений – прозрение мистического хождения высшей души через Обители существования. И, более того, – прозрение конечной цели и общего смысла этого хождения через Обители. Сопоставив рисунок видения сна января 1890 года и рисунок прозрения 1894 года, легко обнаружить различия между ними. Во-первых, изображение сферы Бога, сферы жизни вечной лишилось объема, и превратилось в осевую линию. Во-вторых, каждая последующая Обитель отличается от предыдущей тем, что жизнь в ней меньше удаляется от Бога. Что видно по сравнительному расположению вершин кривой – точек главного перевала в Обителях. Таким образом, высшая душа из Обители в Обитель все больше и больше приближается к вечной жизни Бога, чтобы в конце концов слиться с ней. Для этого, надо полагать, высшая душа и пущена сквозь Обители, в каждой из которых она растет, взрослеет, переходит в следующую Обитель взращенной и потому меньше удаляется от состояния вечной жизни. В третьих, "узкие места" смерти и рождения при переходе из Обители в Обитель лишь приближаются к осевой линии, не достигая ее. "В этих местах ближе Бог", не более того. Может или не может человек, умирая, выходя из этой Обители, все же стать Птицей Небесной? Непосредственным поводом для записи Толстым своего прозрения в январе 1894 года послужила мысль о неизбежности перехода каждого человека из Обители в Обитель через смерть и связанных с этим переходом из жизни в жизнь явлениях. Переход этот – нечто особенное. Взгляд Толстого постоянно прикован не столько к своему новому центру в следующей Обители, сколько к "узкому месту", к самому переходу "смерть – рождение". Толстой не страшился смерти и в некотором смысле стремился к ней потому, что для него момент смерти – это момент перехода, момент наибольшего приближения к Богу, момент единственной возможности слияния с Ним. "Но в момент перехода из одних пределов в другие сущность жизни, частица Бога, живущая в теле, на мгновение*) перехода приближается к полному освобождению; и это – близость к полной свободе от пределов к полному слиянию с беспредельным Богом, хотя и мгновенная, должна быть нечто особенное. Я представляю себе это так. Хотел нарисовать, но не выходит, короткий рисунок. Нарисовать я хотел то, что Я Божеское, перемещаясь из одного я материального в другое такое же материальное я, из одних пределов в другие, при переходе этом на мгновение остается ни в том, ни в другом и сознает себя только в Боге – полное спокойствие и удовлетворение"(88.87). *) Толстой твердо убежден, что "умираешь – рождаешься"(87.359): как только умрешь в одной Обители, так тотчас, в тот же момент рождаешься в другой жизни, в другой Обители существования. Из этого, кстати, следует, что после смерти не может быть награды и наказания – хотя бы потому, что для умирающего "нет перерыва в жизни… нет времени для расчета, когда можно наградить или казнить"(51.88). Высшая душа, Я Божеское в человеке на какое-то "мгновение" оказывается в состоянии Птицы Небесной, в котором Бог становится "мною". И следовательно, высшая душа, гипотетически говоря, может остаться в том высшем состоянии жизни, к которому она и идет через Обители. Именно к такому результату в своей жизни стремится всей душой Толстой. Не следующая Обитель привлекает его, а ось вечной жизни Бога. Словно Путь через Обители предназначен только для тех, кто в момент перехода не сумел стать Птицей Небесной. "Господи, прими меня, научи меня, войди в меня. – Молит он, начертив рисунок хождения через Обители. – Будь мною. Или уничтожь меня. Без Тебя не то что не хочу, но нет мне жизни. Отец!" Если высшая душа человека в момент перехода из Обители в Обитель не стала Птицей Небесной, живущей вечной жизнью в Боге, то в дальнейшем есть два варианта. Либо уничтожиться ("или уничтожь меня"), либо родиться в жизнь новой Обители. Толстой постоянно чувствует опасность, подстерегающую при переходе "смерть-рождение". "Та жизнь начинает привлекать меня, только страшен процесс путешествия. Только бы переехать благополучно, а там уже все будет хорошо»(53.194), – надеялся Толстой во времена работы над "Христианским учением". В 1896 году он пишет дочери Маше, что мучительные родовые схватки бывают не только в этой жизни, но и "в той, при переходе"(69.55). Так что и "там" можно не родить и не родиться… Момент перехода при смерти – своего рода экзамен, определяющий участь каждого. Недаром Толстой считал, что "особенно ценна последняя минута умирания"(45.464), что жизнь продолжается до последнего мгновения, которое может изменить всё. "Призвание определяется после смерти. Последние часы, минуты могут придать смысл всей предшествующей деятельности, или погубить ее, – и потому, пока жив, ни на минуту не надо отвлекаться рассуждениями праздными о том, в чем состоит моя миссия, – от исполнения ее"(65.118). "Только смерть и последние минуты, часы, годы дают смысл жизни. – Учил он. – Так что, может быть, я еще не начал жить"(51.22). И все же, хождения через Обители предполагает возникновение в недрах этой жизни нового и рабочего духовного существа, предназначенного не для вечной жизни, а для жизни в следующей Обители. Но как же в утробе человеческой жизни создается и вынашивается новое духовное существо для той жизни? Ответ на этот вопрос, поставленный прозрением хождения через Обители, и ищет Толстой.
5 (46) В основательно изданном новейшем словаре "Философы России XIX-XX столетий (биографии, идеи, труды)", в статье о Толстом сказано: "В личности Т. различает ее индивидуальность и сферу, живущую "разумным сознанием". Как отмечал В. В. Зеньковский, в учении о "разумном сознании" Т. несколько двоится между личным и безличным пониманием его. С одной стороны, разумное сознание есть функция настоящего и действительного "я", как носителя своеобразия духовной личности; с другой стороны, разум, или "разумное сознание", имеет все признаки у Т. общемировой безличной силы". Речь в Словаре и у В. Зеньковского идет о трактате "О жизни", где привычного общего понятия «личность» вообще нет, а есть низшая душа, животная личность ("индивидуальность") и духовное Я, высшая душа, обладающая своим (разумным) сознанием жизни, своим особым чувством жизни и несущая корневое Я человека ("сфера, живущая разумным сознанием"). Животная личность обладает сознанием отделенности. Высшее (духовное) Я человека обладает сознанием нераздельности. Принадлежащая сразу двум мирам высшая душа человека одновременно личная и сверхличная. Высшую душу, по-видимому, и нельзя понимать иначе. Конечно, она "двоится". Это ее конституционное свойство. Для автора «Соединения и перевода четырех Евангелий» (1880 год) высшая душа – и отдельно существующий «сын Божий» в человеке, и частица «Сына человеческого», всечеловеческой Божественной инстанции. Для автора «Христианского учения» (середина 90-х годов) высшая душа – это и отделенное духовное существо, находящееся в процессе рождения, и посланная частица ВСЕЙ Жизни Бога. Если взять высшую душу только с одной, конечной и "смертной", ее стороны и понимать ее в конкретной человеческой "индивидуальности", где она проходит крохотную часть «всей» своей жизни, то тогда действительно ее восприятие столь неустойчиво и непоследовательно "двоится", что не дает философствующему уму получать твердые ответы на основные вопросы жизни. Вся беда мысли, учил Толстой, состоит в этой, обычно не декларируемой, но невольно правящей сознанием точке зрения. "Человек уставился глазами в маленькую, крошечную частицу своей жизни, не хочет видеть всей ее и дрожит об том, чтобы не пропал из глаз этот крошечный излюбленный им кусочек…. Чтобы иметь жизнь человеку, надо брать ее всю, а не маленькую часть ее, проявляющуюся в пространстве и времени". Ибо "тому, кто возьмет всю жизнь, тому прибавится, а тому, кто возьмет часть ее, у того отнимется и то, что у него есть"(26.398-409). Упрек в недодуманности и неопределенности понимания высшей души впервые высказан все тем же А. А. Козловым, повлиявшим, как мы уже говорили, на восприятие Толстого философской мыслью своей эпохи. Персоналист А. А. Козлов стремился показать, что учение Толстого имперсоналистично, не признает "бытия индивидуальной человеческой субстанции", отрицает его. Некоторые попреки Козлова в истории философии имели для понимания мысли Толстого блокирующее значение. «Я» высшей души, как свое особенное отношение к миру, есть "то, в чем состоит сознание истинной жизни". – Объясняет Толстой в "О жизни". – Но «Я» высшей души есть и то, в чем состоит чувство истинной жизни. "Это – то Я, которое любит это, а не любит этого". "Почему один любит это, а не любит этого, этого никто не знает, а, между прочим, это самое и есть то, что составляет основу жизни всякого человека". "Так что только свойство больше или меньше любить одно и не любить другое, и есть то особенное и основное Я человека, в котором собираются в одно все разбросанные, прерывающиеся сознания. Свойство же это, хотя и развивается и в нашей жизни, вносится нами уже готовое в эту жизнь из какого-то невидимого и непознаваемого нами прошедшего". Это "особенное свойство" любви, замечает Толстой, "обыкновенно называют характером", образование которого связывают с известными условиями места и времени. "Но это несправедливо. – Возражает Лев Николаевич. – Основное свойство человека более или менее любить одно и не любить другое не происходит от пространственных и временных условий, но, напротив, пространственные и временные условия действуют или не действуют на человека только потому, что человек, входя в мир, уже имеет определенное свойство любить одно и не любить другое. Только от этого и происходит то, что люди, рожденные и воспитанные в совершенно одинаковых и временных условиях, представляют часто самую резкую противоположность своего внутреннего Я". По некоторым практическим соображениям Толстой тогда избегал публичной постановки мистико-персоналистических вопросов. Какова внеземная жизнь моего действительного Я, писал он в «О жизни», "я не могу знать, могу гадать, если люблю гадание и не боюсь запутаться. Но если я ищу разумного понимания жизни, то удовольствуюсь ясным, несомненным, и не хочу портить ясное и несомненное присоединением к нему темных и произвольных гаданий". Отсюда, быть может, и применение термина "характер" в «О жизни». Встретив это понятие в работе Толстого, А. А. Козлов парирует: характер не субстанция, не "я", а только – свойство, атрибут, предполагающий субстанцию, которая обладает характером. Это положение критики Толстого с легкой руки А. А. Козлова стало расхожим. Когда Толстой сообщает о "свойстве любить одно и не любить другое", то имеет в виду целостного человека – и пристрастную любовь животной личности (в меньшей степени), и, прежде всего, особенности проявления любви "внутреннего Я" конкретного человека. Это и "степень моей любви к добру и ненависти к злу… составляющее именно меня, особенного меня", это и "известная восприимчивость к одному и холодность к другому, вследствие чего одно остается, другое исчезает во мне", это и то, что "есть основная причина всех остальных явлений моей жизни". Толстой, разумеется, говорит не столько о психологическом характере, который имеет та и иная животная личность, сколько о лично-духовном характере Я высшей души. "Входя в серьезное душевное общение с людьми, – разъясняет Толстой, – ведь никто из нас не руководствуется их внешними признаками, а каждый из нас старается проникнуть в их сущность, т. е. познать, каково их отношение к миру, что и в какой степени они любят и не любят". Совершенно очевидно, что под понятием «характер» Толстой в «О жизни» разумеет конкретное проявление особенного «отношения к миру» данного человека, создаваемого и задаваемого духовным Я. Если животная личность и участвует в этом процессе, то извращая его. Конечно, в термине "характер", примененном не только к животной личности, но и к высшей душе, к Божественному Я в человеке, есть изъян. Сам Толстой обнаружил и исправил его. 25 июля 1890 года*) Толстой сначала думал о расхожем научном утверждении, что все наши мысли и чувства суть продукт мозга. *) Через два года после завершения работы над "О жизни", за полгода до знакомства с первым отрывком критики Козлова и через полгода после первого откровения во сне. "Хорошо. Это правда. Ум, мысли, чувства, но сознание жизни? жизнь, которую я сознаю в себе? Сознание жизни? Это уже не отделение мозга, а жизнь – таинственная сущность, Бог. Что же это? Какое свойство этого? Стремление захватить как можно больше. – Любовь есть стремление обнять больше, уйти от себя и захватить больше… всё – быть Богом. Стремление к Богу. К Нему я иду и приду. Стремление Бога, который во мне – освободиться". Дав далее формулу христианской любви, Толстой продолжает свою мысль: "Думал о том, как я объяснял личное бессмертие в "О жизни". Не верно. Характер, да, это особенность, выросшая в прошедших веках, скрывающаяся в бесконечности, но оно (личное бессмертие такого рода. – И. М.) умирает с плотью и возрождается в потомстве, но не связано с моим сознанием. Мое сознание это Бог – и не иметь характера. – Даже не могу сказать, что моя жизнь должна расти в любви. И этого не могу знать. Моя жизнь есть Бог. Бог есть сознание всей жизни. Для меня с моим ограниченным сознанием сознание всей жизни выражается любовью. Мы и стремимся к наибольшему сознанию, к сознанию всей жизни, она-то и есть любовь". Теперь Толстой, как видите, во-первых, вычитает из того, что он в "О жизни" называл «характером», все, что относится к животной личности, и, во-вторых, оговаривает, что "христианская любовь" (и, следовательно, Птица Небесная, живущая в соответствующей ей жизненности) не совместима с понятием характера. Бог есть сознание "всей" жизни, стремление к которой и есть (агапическая) любовь. Это вносит изменения в представление бессмертия, достигаемого любовью. "Привязанный корнями к своему личному сознанию, я стремлюсь к сознанию всего – это стремление выражается любовью, пока я привязан корнями к своему личному сознанию. Но отрешись я от него – умри, и любовь станет (может быть, это так) сознанием всего, что я люблю. Во всяком случае, мое сознание, отрешенное от личности, станет сознанием Божества, сознанием всего. Мое сознание будет сознанием всего. А я желаю, что мое сознание перестанет быть сознанием, связанным с ограниченной личностью. Я не могу представить себе этого – так это хорошо – и от того боюсь. Если я отрекся или как бы то ни было освободился от своей узкой личности, то почему же всякая жизнь не будет мне то же, что и моя жизнь? Непонятно. Но все идет к тому, что во мне есть Бог, и быть им хорошо всегда, начиная с этого мира"(51.66-7). Мысли такого рода мы уже разбирали выше. Но вот отличие: "всё, что будет, будет я" в том случае, если по смерти "любовь станет сознанием всего, что я люблю". Не «сознанием Всего», не Птицей Небесной, а того, «что я люблю». Ранг возможного в посмертном существовании отчетливо понижается. "Любовь есть сознание единства и стремление к нему"(50.192), – говорил Толстой до видения первого сна в 1890 году. Сразу же после видения сна в этот пункт мировоззрения вводятся коррективы: любовь не только сознание единства как таковое, общее единство безотносительно времени и предметов, но – будущее единство себя, по сути дела, будущее сознание Я, образованное "сознанием всего, что я люблю" в человеческой жизни. Всё это пока что весьма гадательно. "Может быть, это так", – оговаривается Толстой. Картина начинает проясняться после откровения сна 1894 года. Вот запись сентября 1895 года: "Очень смутно то, что хочу написать, но сильно взволновало и обрадовало меня, когда пришло в голову: именно: Отчего «я» – «я», тот же «я», который был 60 лет и 30 лет и 2 часа назад, – потому что я люблю это «я». Потому что любовь связывает этих всех различных, растянувшихся во времени «я», в одно целое. Во времени мне ясно видно, как любовь связывает «я», собирает его в одно. В пространстве, тоже в моем теле… Любовь к своему «я» в известных пределах пространства и времени и есть то, что мы называем жизнью. Эта любовь к своему «я» есть любовь, кристаллизовавшаяся, ставшая бессознательной, а любовь к другим существам во времени и пространстве есть, может быть, приготовление к другой жизни". И тотчас – попытка сделать общий вывод: "Наша жизнь есть плод предшествующей сферы любви, а будущая произойдет от сферы любви в этой жизни. Как? Обителей много. Не вышло»(53.55). В сентябре не вышло. Через месяц, в октябре 1895 года – следующая попытка: «Записал я так: Есть что-то такое – содержание, материал жизни, сама жизнь есть всё – Бог. В этом всем я объединился, и всё на мой взгляд объединилось. Объединено все любовью. Я возлюбил прежде тело свое, и оно стало «Я». Я возлюбил теперь дух, и оно (новое духовное существо? – И. М.) станет после смерти другое «Я». Постараюсь сказать это точнее: Когда я очунаюсь к жизни – сознаю себя, я вижу себя и по времени и по пространству объединенной частью какого-то бесконечного целого, в котором я вижу такие же объединенные чем-то части, подобные мне, которые я называю людьми, или живыми существами, или даже растениями; это объединенное любовью существование, которое я сознаю в себе и вижу в других существах, я называю жизнью. Дает эту жизнь, т. е. объединяет всё то, что объединяет меня, любовь, т. е. я люблю всё то, что составляет меня и по времени и по пространству. Такое же объединяющее начало любви я вижу во всех отдельных существах". Эта часть рассуждений относится к теперешней земной жизни человека, к жизни в этой Обители. Теперь – о переходе в другую жизнь, в следующую Обитель существования: "В жизни этой, по мере того, как живу, начинаю все больше и больше любить нечто, находящееся вне меня и не составляющее меня: я люблю и вещи и людей и более всего нечто отвлеченное – добро, благо, как я понимаю его, и все меньше и меньше люблю то, что объединенное любовью составляло и составляет меня, мою жизнь в этом мире. Из этого – из того, что я все меньше и меньше люблю то, что составляет меня, свою жизнь, и все больше и больше люблю то, что вне меня и, главное, нечто нематериальное, недоступное моим 5 чувствам, нечто духовное, и из того, что жизнь есть объединение любовью, я заключаю, что моя все уменьшающаяся любовь к этой жизни и все увеличивающаяся любовь к чему-то, находящемуся вне этой жизни, есть движение перехода от этой жизни к другой, еще не доступной мне, до тех пор, пока я не вступил в нее. Физическое умирание и все большая и большая любовь к тому духовному, что вне этой жизни, подтверждает меня в этом предположении". В нашем земном бытии происходит как бы перевязывание узла жизни: тот узел, который был завязан в прежней Обители и с которым я вошел в эту жизнь (этот узел жизни Толстой в "О жизни" и пытался выразить через понятие «характера»), теперь постепенно развязывается и любовью завязывается новый узел жизни, для моей жизни в последующей Обители. У Толстого начинает вырисовываться общая концепция движения через Обители. "Я предполагаю именно то, что есть то, что представляется мне всем – Богом, и в этом всём проявляются различные единицы объединения, различные степени любви, делающие существа тем, что они суть. Я – одно из таких объединенных существ. В прежнем существовании я, не будучи человеком, любил то, что составляет духовное существо человека, и перешел из низшей ступени существования на ту, которую я любил. Теперь я люблю нечто высшее и перейду в ту форму существования, которая соответствует моей любви. И так форм существования может быть бесчисленное количество. Отца моего обители многи суть". Что же это за Обители? Где они: в этом мире или в каком-то ином? "Мир представляется мне таким, каким я его вижу и понимаю, – продолжает Толстой, – подразделенным на такие единицы не только существ, но планет, звезд только потому, что мое объединение такое, а не иное. Как только мое объединение будет иное, и мир для меня будет иной. Иной, но не всякий, а только такой, какой соответствует моим духовным требованиям, моей любви, разрастающейся в этом (в том, в котором мы живем. – И. М.) мире. Для разрастания же этой любви есть определенный закон, по которому оно (разрастание. – И. М.) совершается, закон нашей нравственной жизни, которому подчиняются все люди, так что всех людей ожидает одна и та же новая форма, новое объединение жизни", то есть новые рабочие духовные существа в следующей Обители существования. "Всё это – предположения, – заключает Толстой, – но для меня не менее, но более достоверные, чем вращение земли вокруг солнца»(53.62-3). В 80-х годах Толстой подчеркивал значение "характера", в силу которого человек исходно любит одно и не любит другое. Через 10 лет он пришел к мысли о значении характера самой любви, которая определяет и то, какой весь мир "для меня" сейчас, и то, какой он будет "для меня", для моего сознания в следующей Обители существования. Новое духовное существо и его новый образ любовной духовности возникает здесь, в человеческой жизни, но определяет "моё" самосознание там, в жизни следующей Обители. «Как это люди не видят, что жизнь есть зарождение нового сознания, а смерть – прекращение прежнего и начало нового»(55.172). *)Вот цитата из "Истории русской философии" В. Зеньковского (том первый, ч.2, гл., п.11): "Сам, обладая исключительно яркой индивидуальностью, упорно и настойчиво следуя во всем своему личному сознанию, Толстой приходит к категорическому отвержению личности, – и этот имперсонализм становится у Толстого основой всего его учения, его антропологии, его философии, культуры и истории, его эстетики, конкретной этики". *)Имного лет спустя Толстой писал, что «с первых моментов сознания я одно люблю, понимаю, другое не люблю, не понимаю» – потому, что это как бы воспоминания, потому что с этим пришел в эту жизнь из преджизни – см. 55.117
6 (47) Жизнь в следующей Обители Толстой представлял вне времени. "Свойство отдельной личности в том, что она не может себя понимать иначе, как в пространстве и времени; смерть же уничтожает личность и потому условные, свойственные только личности, понятия пространства и времени; и потому, когда мы спрашиваем: где или буду после смерти, мы спрашиваем, в каком пространстве и времени мы будем, когда для нас не будет ни пространства, ни времени… По учению Христа истинная жизнь есть и потому не нарушается смертью. Смерть же только разрушает те преграды, которые в этой жизни отделяют нас от всего мира, и уничтожает для нас пространство и время. Какое это будет состояние без пространства и времени, мы не можем себе представить, но, по Иоанну, Христос говорит: у Отца вашего обителей много есть"(68.128). Однако представление о движении духа через Обители не может обойтись не только без представлений о следующей, "будущей" жизни, но и о жизни предыдущей, "прошлой". «Мы говорим о жизни души после смерти. Но если душа будет жить после смерти, то она должна была жить и до жизни. Однобокая вечность есть бессмыслица»(58.10-11). То, что здесь вновь полюбил, по смерти выносится отсюда туда. Сюда же внесено то, что полюбил в предшествующей Обители, до рождения. Что же это такое? Прежде всего, говорит Толстой, это стремление к радости силы жизни как таковой, к счастью состояния самой цепкости жизни в себе; импульс этого стремления к радости и счастью жизненности человек и получает из предшествующей жизни. Были дни, когда Лев Николаевич особенно остро чувствовал это. Запись 7 октября 1892 года: "Нынче, рубя дрова, вдруг живо вспомнил какое-то прошедшее состояние, очень незначительное, малое, ничтожное, вроде того, что ловил рыбу и был беззаботен, и это прошедшее показалось таким значительным, важным, радостным, что как будто такого уже никогда не может быть, и вместе с тем это только жизнь. Так что все мое стремление к жизни есть только стремление к этому. Так что моя жизнь, цепкость к жизни, не есть ли это смутное сознание того, что пережито мною в прежней, скрытой от меня за рождением жизни… Это кажется неясным, но je m`entends*). Я стремлюсь к такому же счастью в теперешней и будущей жизни, какое я знал в предшествующей"(52.74). *) я понимаю, что хочу сказать (франц.). Запись 8 октября 1892 года: "Верочка подошла к шкафу, понюхала и говорит: как пахнет детством. Маша подошла: да, совершенно детство, и радостно улыбается. Я подошел, понюхал – а у меня очень тонкое чутье – ничем не пахнет. Они чувствуют чуть заметный запах, потому что этот запах соединился с сильным сознанием радости жизни. Если бы этот запах был еще слабее, если бы он был доведен до бесконечно малого, но совпал бы с сильным чувством жизни, он был бы слышен. Все то, что пленяет нас в этой жизни, красота, это то, что соединилось с сильным сознанием жизни до рождения. Некоторое – потому, что оно нужно вперед, некоторое – потому, что оно прежде было. Впрочем, в истинной жизни нет ни прежде, ни после. Только то, что сильно чувствуешь, это какой-нибудь момент жизни. (Неясно)"(52.75). Из прошлой жизни в эту мы вынесли силу ввинченности чувства-сознания жизни в себе. И значит, все те свои страсти, которые связывают человека в этой жизни. В 1900 году Толстой развил эту мысль дальше: «Другой, поразивший меня стих, это стих 18.*) «Что свяжете на земле, то связано будет и на небе». Как грубо нелепо толкуется это исповедью! Нигде так ясно, как здесь, не говорится о вечности жизни в разных формах, представляющимися нам последовательными во времени. То, чем я чувствую себя связанным здесь: своими страстями, есть то, что я не развязал в прежней жизни. Если я не развяжу их здесь теперь, я буду связан ими в будущей"(54.65). *) Мф. 18:18. Узел жизни в нашей Обители (как и в каждой) перевязывается: одно (в личности) развязывается, другое, для новой внеземной личности, завязывается. Но то, что не развязал (в земной личности!), не погибает вместе с животной личностью, а переносится в другую Обитель, где, надо полагать, создает рабочие препятствия для трудов личной духовной жизни. Преодолевать эти препятствия, развязывать недоразвязанное здесь суждено новому духовному существу, которое тоже создается здесь. "Тоже с новой стороны представились мне стихи 19 и 20*) о том, что все, что вы желаете, получите вы, если вы соединитесь. Потому что больше ничего не нужно для блага людей, как их соединение. Все, чего они желают, будет им, если они соединятся" (там же). *) Мф.18:19,20. Этому способствует естественный ход жизни. "Естественный ход жизни такой: сначала человек ребенком, юношей только действует, потом, действуя, ошибаясь, приобретая опытность, познает и потом уже, когда он узнал главное, что может знать человек, узнал, что добро, начинает любить это добро: действовать, познавать, любить". Тот же самый ход и через Обители: "Дальнейшая жизнь (жизнь в следующей Обители. – И. М.) (также и наша теперешняя жизнь (жизнь в земной Обители. – И. М.), которая есть продолжение предшествующей), есть прежде деятельность во имя того, что любишь, потом познавание нового, достойного любви и, наконец, любовь к этому новому, достойному любви (которое открывается в следующей Обители. – И. М.). В этом круговорот всей жизни"(53.21). "Всей" – вечной, истинной. Входя в жизнь (и удаляясь от Бога) в каждой из Обителей, действуешь, дабы опытом жизни познать в ней главное, потом познаешь это главное и затем, вновь приближаясь к Богу, идя с жизни после главного перевала ее, любишь вновь познанное главное жизни этой Обители. Таков круговорот духовного роста в Обителях и через Обители. В следующую Обитель выходит все, что собрано воедино любовью в этой жизни. Любовью производится все большее и большее расширение духовного существа при его прохождении через Обители. В этом, надо думать, одна из задач лично-духовной жизни вообще. Впрочем, в других Обителях это расширение может производиться и не любовью, а чем-то иным. И даже производиться параллельно с тем, что производится в этой Обители любовью. «Человек, начиная жить, любит только себя и отделяет себя от других существ тем, что он любит не переставая то, что составляет его существо, но чем больше он живет сознательной жизнью, тем большее и большее количество живых существ он начинает любить, хотя и не такой прочной и неперестающей любовью, какой он любит себя, но все-таки так, что он желает блага всему тому, что он любит, и радуется этому благу и страдает от зла, которое испытывают любимые им существа и соединяет воедино все то, что он любит. Так как жизнь есть любовь, то почему не предположить, что мое «я», то, что я считаю собою и люблю исключительной любовью, не было такое же соединение любимых мной предметов (любви. – И. М.) в прежней, как и то соединение этих предметов, которое я делаю теперь? То совершилось уже, а это совершается. Жизнь есть увеличение любви, расширение своих пределов, и это расширение совершается в разных жизнях. В теперешней жизни это расширение представляется мне в виде любви. Это расширение нужно мне для моей внутренней жизни (для движений личной духовной жизни. – И. М.), и оно же нужно для жизни этого мира. Но жизнь моя может проявляться не в одной этой форме, она проявляется в бесчисленном количестве форм. Мне видна только эта. А между тем движение жизни, понятное мне в этом мире увеличением любви во мне и единением существ любовью, в то же время производит и другое, одно или много, невидимые мною действия, как, например, я составляю 8 кубиков в картинку на одной стороне их и не вижу других сторон составного куба, но на других сторонах составляются такие же правильные, невидимые мне картины. Все это было очень ясно, когда пришло мне в голову, теперь же все забылось, и вышла чепуха»(53.74). В мистических вопросах Толстой не всегда и не во всем верит себе. Но мысль Обителей настолько близка и важна ему, что он включает ее в текст "Христианского учения". В пункте 4 главы 10 "Христианского учения" говорится о "рождении духовного существа" посредством "расширения пределов области любви" – мы выше приводили это место. В следующем 5 пункте Толстой осторожно сообщает читателю: "Можно себе представить, что то, что составляет наше тело, которое теперь представляется как отдельное существо, которое мы любим предпочтительно перед всеми другими существами (что, кстати, и определяет ту радость цепкости жизни в себе, которая создана в предшествующей Обители. – И. М.), когда-нибудь в прежней, низшей жизни было только собрание любимых предметов, которые любовь соединила в одно так, что мы его в этой жизни уже чувствуем собою; и точно так же наша любовь теперь к тому, что доступно нам, составит в будущей жизни одно цельное существо, которое будет так же близко нам, как теперь наше тело (у Отца нашего обителей много)"(39.128). Обычные в философской критике упреки в терминологической путанице у Толстого не безосновательны. Говоря "тело", "плоть", "телесное я", "плотское существо", Толстой обычно подразумевает то, что в других местах он называет "личностью", "животной личностью" и прочее. Так что приведенную мысль надо понимать так, что в предыдущей Обители ткется именно наша "личность", которая, в соответствии с толстовским учением, является в этой Обители объектом самоотречения. "Можно себе представить", что необходимая для духовного роста работа самоотречения производилась и "в прежней, низшей жизни" и должна производиться в "будущей жизни". В предыдущей Обители создается животная личность нашей Обители и, таким образом, определяется работа самоотречения в нашей Обители. А в будущей? Что такое "одно цельное существо" будущей жизни? Это – высшая душа будущей жизни или это – "животная личность" будущей жизни? Неясно. И что за странная, совершенно не свойственная Толстому обтекаемая формулировка о "нашей любви теперь к тому, что доступно нам"? О ком или о чем идет речь? О том, что познано главным в этой жизни, о добре или о людях, которые оказались доступны для нашей любви к ним? И – какого рода любви? Толстому всегда была особенно близка евангельская мысль о том, что «когда двое или трое соединятся во имя его, то и Он среди них. (Под Он я разумею Отца жизни.) Соединение во имя Его есть соединение с Ним, с источником вечной жизни»(67.72). Это для Толстого не построение, не теория, а действительность: "Не на словах, а часто вполне реально чувствую, что если мы живем для Бога, а не для себя, то мы неразлучны"(71.262) и в этой жизни и после смерти. "О том, что Вы спрашиваете о возможности узнать друг друга там, скажу, что не знаю; но знаю, что будет лучше того, что я желаю, – что желания мои, как и то, чтобы узнать там друг друга, есть желание здешнее, и я не имею права переводить его туда, по нем строить тот мир. Бога я узнаю, это наверно, и больше, и лучше, чем здесь; а в Нем узнаем всех, кого любили здесь.*) А этого довольно"(87.182). *) Эти подчеркнутые мной слова вписаны Толстым над строкой Так Толстой отвечал Черткову, с которым в жизни этой был связан исповеданием одной и той же истины и с которым мог предполагать быть единым в Боге. А с кем – единым в другой Обители? Вот что 2 марта 1894 года Толстой пишет не кому-нибудь, а своим детям, Тане и Леве. Особой, разумеется, ответственности слова: "А ты, Таня, милая, не падай духом. Кроме хорошего ни с кем, ни с тобой, ни с Левой, ни с нами быть не может. Может быть новое – смерть, и самое не дурное. Я знаю, что ты этого терпеть не можешь, да ведь это я не для того, чтобы agacer*) тебя, говорю, а ведь такая это веревка, что, сколько ее ни перебирай, на конце ее эта шишка – смерть. Надо не обижаться на это, а, напротив, рассмотреть ее хорошенько и убедиться, что она не только не неприятна, но в ней самый-то главный интерес, самое лучшее спрятано, самый лучший сюрприз. Не надо очень думать о сюрпризе, но бояться-то его нечего. А если его не бояться, то и нечего бояться. Как мужики говорят: упадешь не кверху, а книзу, так и о смерти можно сказать: умрешь не к уничтожению, а к оживлению. *) дразнить (франц.). Вчера я думал об этом и думал: ну, я для вас умру, или вы для меня умрете, как говорится: вы меня потеряете, или я вас. Ну, что же тут страшного, и разве не ясно, что это неверно сказано? Ни вы меня, ни я вас не могу потерять, потому что мы вместе, и наше соединение не то что гораздо сильнее смерти, а смерть бессильна перед ним. Потерять? Да я про себя знаю: я потеряю и теряю беспрестанно людей и самых близких, а они живут и будут жить еще долго, а с мертвыми я соединяюсь. И мало того, когда люди потеряют, как это говорится, человека, т. е. он умрет, они могут найти его и соединиться с ним. И я даже надеюсь, что многие из тех, которых я потерял, когда мы были живы, соединятся со мной, когда я умру. И этим еще хороша смерть. Ну, да что я всё про смерть говорю, я только хочу тебе внушить, что напрасно tu te cramponnes*) за берег руками, когда твердое дно под ногами"(67.58-9). *) Цепляешься (франц.) То же самое и в письме ко всю жизнь ближайшему другу А. А. Толстой по поводу смерти ее сестры Софьи Андреевны: "Не удалось мне увидеть Sophie до ее смерти, и я очень жалею об этом, хотя уверен, что не только не разлучился с нею, но соединюсь истинно и навсегда, как и со всеми, кого любил и кто меня любил"(68.99). Со всеми самыми близкими людьми (в том числе, конечно, и с сыном Ванечкой) Лев Николаевич предполагал стать "одним целым существом" не в источнике "всей" жизни, не в Боге, а в следующей Обители существования. Если мое "целое существо" в будущей жизни собирается из любимых мною личностей этой жизни, то кем же ему быть там, как не "личностью"? Но ведь "животной личности" в следующей жизни быть не может, так как в этой жизни уже происходит ее отмена. К тому же "любовь есть стремление уйти от того, что уничтожается в личности"(51.19). Тут не все сходится, даже если говорить о 8 кубиках и о картинке "с той стороны". Полностью достоверной остается, конечно, мысль бессмертия при перенесении себя в жизнь вечную, в Бога. И мысль эта помогает мысли Обителей стать более достоверной. Момент перехода из Обители в Обитель есть момент наибольшей близости к Богу. Высшая душа при смерти переходит "в дух", растворяется в Боге, чтобы затем опять стать душою в другой Обители. Вот что решает дело. «Душой мы называем Божественное – духовное, ограниченное в нас нашим телом. Только тело ограничивает это Божественное – духовное. И это-то ограничение дает ему форму, как сосуд дает форму жидкости или газу, заключенному в нем. А мы знаем только эту форму. Разбей сосуд, и заключенное в нем перестает иметь ту форму, которую имело, и разливается, разносится, соединяется ли с другими существами, получает ли новую форму? Мы этого ничего не знаем, но знаем наверное то, что оно теряет ту форму, которую оно имело в своем ограничении, потому что то, что ограничивало, разрушилось. То же и с душой. Душа после смерти перестает быть душою и, оставаясь духом – Божественной сущностью, становится чем-то другим, таким, о чем мы судить не можем»(53.174). Но это положение не совсем работает, так как в следующей Обители моя душа не просто "становится чем-то другим", а становится одним целым вместе с любимыми мною в этой жизни душами. Где же все эти души ("личности"? высшие души?) сливаются в одно целое – до перехода "смерть-рождение", то есть в этой жизни, или после перехода, то есть в жизни будущей? Умер сын Ванечка, и Толстой пишет 28 апреля 1895 года в Дневнике: «Смерть есть уничтожение той плотской оболочки, которая сдерживала в своих пределах духовное. После смерти остается (в этом мире – И. М.) от человека одно духовное. Скажут: не духовное, а материальный отпечаток в мозгах людей. Но отпечаток – отпечаток, а я говорю не об отпечатке, а о моей любви к человеку, усиленной его жизнью и смертью. И вот когда разрушается то временное и пространственное, которое скрывало для меня отчасти духовное, когда это духовное освободилось и слилось с моим внепространственным и вневременным духовным существом, с моей любовью, тогда мы стараемся это освободившееся духовное опять приурочить к пространству и времени: ставим памятники на месте могилы, кладем цветы, поминаем 6 недель, год и дни смерти и т. д.»(53.27). Еще за год до этой записи, 13 июня 1894 года, Толстой отмечал существование особой связи между смертью и любовью: "Какая-то связь между смертью и любовью. Любовь есть сущность жизни, и смерть, снимая покров жизни, оголяет ее сущность любовью. Когда человек умер, только тогда узнаешь, насколько любил его"(52.119). Нельзя сказать, что любовь создает новое цельное духовное существо в той Обители, в которой ему предстоит жить; нельзя сказать и то, что это происходит в нашей Обители. Новое совокупное духовное существо реально создается после смерти каждого из тех, кто войдет в него, и творится усилением любви к нему со стороны тех, которые вместе с ним могут составить новое духовное единство. Расширяясь после смерти каждого, новое духовное существо как бы постепенно перетекает через смерть из этой жизни в будущую. Лев Толстой находит точный образ этого процесса: "Совершается нечто похожее на развитие бабочки из гусеницы. Мы здесь гусеницы: сначала родимся, потом засыпаем в куколку. Бабочкой же мы сознаем себя в другой жизни"(45.477). Вопрос "спасения", вопрос о том, стать или не стать бабочкой, вопрос о том, вошел или не вошел человек в новое единство жизни, решается уже после его смерти, когда он из гусеницы становится куколкой. И решается уже не им, а теми гусеницами, которые связаны с ним любовью в этой жизни и, надо полагать, теми бабочками, которые ушли из нашей жизни до него.
7 (48) В апреле 1898 года, когда Чертков готовил к печати так и незавершенный текст "Христианского учения", Лев Николаевич просит его вычеркнуть из 10 главы тот самый пункт 5, в котором говорится об Обителях и который мы только что анализировали. "Мысль, выраженная там, мне очень дорога, но выражена совсем дурно и не точно и вводит в соблазн людей, как я это видел на опыте"(88.92). Мысль об Обителях действительно была выражена там не совсем ясно. Но в чем соблазн ее? Чертков отвечал Толстому, что, кроме типографских обстоятельств, препятствующих исполнению желания Толстого, он сам проверил реакцию людей на эту мысль, не нашел соблазненных ею и просит Толстого оставить текст, как есть. Толстой согласился. И все же: какого соблазна так опасался Толстой, что решил убрать столь дорогую ему мысль из текста одного из основных своих произведений, которое он одно время считал главным делом своей жизни? Положение о том, что нечто подобное "животной личности" будет существовать и в следующей жизни, что и там будет что-то схожее с "телом" – и, следовательно, предусмотрена работа самоотречения, только на более тонком уровне, – ничем не "соблазняет". Соблазн, по Толстому, есть такое ложное понимание практики человеческой жизни, которое ведет к раздорам, к нарушению единения между людьми. Метафизический тезис о том, что то, что составляет нашу личность "когда-нибудь в прежней, низшей жизни было только собрание любимых предметов", и о том, что "наша любовь к тому, что доступно нам, составит в будущей жизни одно цельное существо, которое будет так же близко нам, как теперь наше тело", не нарушает любовь, а подтверждает ее необходимость и призывает к любви. Но – какой любви? И какое "я" любит? Понятно, что речь у Толстого не может идти о плотском я или животной личности, самостные претензии которой следует всеми силами гасить уже в этой жизни. Соответственно, речь не идет ни об эротической любви (даже в том широком смысле, в котором слово "эрот" употреблялось во времена Толстого), ни о любви-влюблении, которая в лучшем случае служит прелюдией к любви иного рода. Значит, то "одно цельное существо, которое будет так же близко нам, как теперь наше тело", создается взаимодействием высших душ людей. Сблизившись друг с другом и завязавшись в единый узел, высшие души нашей Обители создают то, что будет низшей душою (своего рода "личностью" или телом) в следующей жизни. Высшая же душа будущей жизни, как и нашей жизни, происходит от Бога и включается в следующую (как и в любую другую) Обитель в момент перехода через "узкое место", из Обители в Обитель, когда Бог ближе всего. В таких представлениях есть что-то новое для нас. Мы знаем, что Птица Небесная – это состояние на абсолютной вершине Жизни, жизни в Боге, жизни, которой гипотетически достигает человек, и то после смерти. Теперь оказывается, что человек является в земную жизнь непосредственно от Бога, Птицей Небесной, и она-то и действует в его духовной жизни. Это она во взаимодействии с другими такими же Птицами Небесными и в преодолении той «личности», которая досталась человеку в наследство от существования в предшествующей Обители, перевязывает узлы жизни, саморасширяется любовью, создает новое духовное существо, которому предстоит жить в следующей Обители. Это крайне интересный, важный и продуктивный взгляд. И в нем вроде бы не видно соблазна. Развить его, учитывая слепоту, в которой живет человек, значит оказать ему неоценимую услугу, способствуя его прозрению самого себя. Ни к этому ли стремился Толстой? Чертков, видимо, не понял Толстого. Толстой оставил в тексте этот параграф, не объяснив, в чем его соблазн, но и не стал развивать то, что заложено в нем и что выработано прозрениями многих лет жизни Льва Николаевича. Более того, он вообще уклонился от дальнейшего развития учения о личной духовной жизни и, вместе с ним, от учения хождения духовного существа сквозь Обители к Богу. В чем дело? Попытаемся понять.
8 (49) Толстой говорил, что любовь и есть жизнь. Это не следует понимать в том смысле, что любовь повышает тонус и полноту жизни, или что любовь есть самое важное проявление жизни, или в том, что любовь есть существенное свойство жизни, или в том, что любовь есть одно из главнейших переживаний, свойственных жизни, или даже в том, что сама жизненность адекватно выражается в переживаниях любви. Любовь есть жизнь потому, что чувствовать жизнь в себе, чувствовать себя живущим есть то же самое, что любить, что любовь совпадает с чувством жизни (с чувством себя живущим) и с самой жизненностью, которой живешь. Любить и жить – одно и то же. Поскольку в Структуре человека две саможивущие инстанции, то каждая из них должна жить своей жизненностью и любить свойственной ей любовью. Любовь животной личности есть непосредственное чувство предпочтения к кому-то или чему-то, чувство особого пристрастия, которое человек почему-либо начинает испытывать. "Страстность проявления этих предпочтений только показывает энергию животной личности"(26.389). Такая любовь, такая жизненность есть лишь подобие истинной любви и истинной жизненности и потому не приносит плод. Истинная любовь и подлинная жизнь высшей души не дается, а добывается, "становится возможным только при отречении от блага животной личности*)"(там же). Это значит, что "все соки жизни переходят в один облагороженный черенок истинной любви, разрастающийся уже всеми силами ствола животной личности. Учение Христа и есть прививка этой любви, как Он и сам сказал это. Он сказал, что Он, Его любовь, есть та одна лоза, которая может приносить плод, и что всякая ветвь, не приносящая плода, отсекается» (там же). *) Не от самой животной личности, конечно, а от ее блага. Отречься от самой животной личности, как специально и множество раз разъяснял Толстой, нельзя, невозможно. И не нужно. "Истинная любовь, прежде чем сделаться деятельным чувством, должна быть известным состоянием. Начало любви, корень ее, не есть порыв чувства, затемняющий разум, как это обыкновенно воображают, но есть самое разумное, светлое и потому спокойное и радостное состояние, свойственное детям и разумным людям. Состояние это есть состояние благоволения ко всем людям, которое присуще детям, но которое во взрослом человеке возникает только при отречении и усиливается только по мере отречения от блага личности"(26.390). Истинная любовь человека – это чувство Бога своего, живущего в человеке. Толстой не раз описывал это чувство жизни Бога своего в человеке. "Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного, и чаще всего только в самом раннем детстве, когда душа не была еще засорена всей той ложью, которая заглушает в нас жизнь, того блаженного чувства умиления, при котором хочется любить всех: и близких, и отца, и мать, и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одного, – чтоб всем было хорошо, чтобы все были счастливы, и еще больше хочется того, чтобы самому сделать так, чтоб всем было хорошо и радостно. Это-то и есть, и эта одна есть та любовь, в которой жизнь человеков"(26.394). Такой любовью любят не за что-нибудь, не для чего-нибудь и не почему-нибудь. «Какая ни с чем несравнимая, удивительная радость – и я испытываю ее – любить всех, всё, чувствовать в себе эту любовь или, вернее, чувствовать себя этой любовью. Как уничтожается все, что мы по извращенности своей считаем злом как все, все – становятся близки, свои… Да*) не надо писать, только испортишь чувство. *) Многоточие в подлиннике. Да, великая радость. И тот, кто испытал ее, не сравнит ее ни с какой другой, не захочет никакой другой и не пожелает ничего, сделает все, что может, чтобы получить ее… Ах, как бы удержать ее или хоть изредка испытывать ее. И довольно»(56.153-4). Высшей душой (а не животной личностью) можно любить и отечество (и тогда это не будет национализмом, против которого воевал Толстой), и искусство (и тогда возникнет другое искусство, за которое ратовал Толстой), и науку (и тогда это будет другая, чем наша, сегодняшняя, зашедшая в тупик, наука). Но наиполнейшим и высочайшим проявлением жизненности высшей души и ее чувства жизни в человеке является любовь к врагу. Любовь к врагу, в этом смысле, маркирует агапическое чувство жизни. «Если у тебя есть враг, отравляющий твою жизнь, – спрашивает Толстой, – надо ли тебе желать избавиться от него?" – И отвечает: "Нет. Если ты сумеешь воспользоваться своим врагом так, чтобы выучиться на нем: прощать, любить врагов, то, что приобретаешь этим, гораздо больше благо, чем то, которые ты бы имел, избавившись от врага. И не только больше; но то было благо временное, а это – вечное, не для одной только этой жизни»(54.108). Любовь-благоволение, то есть та жизненность, которой живет высшая душа, Толстой в проповеднических целях называл "истинным", "подлинным", "христианским", "евангельским" чувством. У меня есть причины пользоваться понятием агапической любви, которое бытует в евангельском лексиконе и выражает тот смысл, который вкладывал Толстой. Агапическая любовь, пишет Толстой, "любовь не к близким, симпатичным людям (это не любовь), а к ближним ко всем одинаково"(80.209). "С точки зрения христианина любимое существо есть только одно – Бог сам в себе и тот Бог, который проявляется без исключения во всех людях, и потому исключительно любимого существа для христианина не должно быть. Исключительная любовь есть для христианина та эгоистическая слабость, с которой он должен бороться"(79.91). Агапическая жизненность связана с любовью делать Добро, с благожелательностью в прямом и точном смысле слова. Делай другому то, что желаешь себе, – принцип благожелательности как таковой, принцип, выражающий устремленность сил агапической жизненности. Любить "как самого себя" в общем случае означает относиться ко всем и каждому с той же благожелательностью, с какой относишься к себе. Это может стать желаемым правилом внешнего поведения. Но может быть и агапической заповедью, по которой человек старается быть обращенным к другим людям своей высшей душой. Такая заповедь непосредственно обращена к душе человека, требует поворота в нем (к высшей душе) и не имеет специального отношения к кому-то, кто вне внутреннего мира человека, в том числе и прежде всего – к "другому" человеку, к "другому Я". Для агапической любви "не нужно предмета", как говорила княжна Марья в романе Толстого, она обращена к другому через Бога, ей вообще не нужно «образа», в котором выражалось бы «Я» другого человека. Каждый для агапической любви есть «свое другое Я». Но высшая душа человека стремится не только к такого рода любви. Ей зачем-то необходимо свиться своей душою с душою другого, и конкретного, человека, да так, чтобы он для тебя перестал быть "другим человеком", "другим Я", а стал бы "другим своим Я". Зрелая высшая душа взрослого человека всегда стремится совместить себя с высшей душой другого (любимого) человека, слиться с ней в единое (двуединое) существо, образовать из "Я" и из "Ты" новое единство жизни, обладающее большей одушевленностью и большей полнотой жизни, чем каждый из них обладает по отдельности. Если животная личность увеличивает свою энергию жизненности за счет другого, то высшая душа приращивает свою жизненность при создании новой душевной целостности в единстве двух или многих. Надо полагать, что именно такой род любви имел в виду Толстой, когда говорил об образовании нового духовного существа для жизни в следующей Обители существования. Для обозначения такого рода любви высшей души нет названия. Я в своих прежних работах пользовался беспризорным понятием сторгической любви. Мы берем это слово в такой модификации (не стергия, а сторгия) потому, что даем ему смысл чувства, в силу которого "Я" другого человека становится "своим другим Я". Это чувство мы называем сторгическим чувством. Агапическая духовная жизнь обращена к "Я" Всевышнего как к Подлиннику и стремится воссоединиться с Ним. Сторгическая духовная жизнь обращена к другому человеческому "Я", к своему второму "Я", к другой высшей душе, чтобы воссоединиться с ней и в этом воссоединении создать еще не бывалую в существовании новую высшую душу. Любить агапической любовью значит любить человека в силу любви к Богу, любить «как Его самого», по слову Толстого. Любить сторгической любовью значит любить так, словно он, ближний, есть ты сам, словно он уже не "он", а единое с тобою, твое "я". Любить сторгической любовью конкретного человека значит в душе и душою делать себя им и его собою – делать "свое Я" и "другое Я" сторонами двуединого (в общем случае – многоединого) существа. Жизнедеятельность высшей души в человеке во всех случаях ценна сама по себе, вне зависимости от того, какой результат – всеобщий или частный – может быть получен в ее жизнедеятельности. Агапическая любовь склонна расширять поле самоизлияния, беспредельно множить объекты любви. Сторгическая любовь, напротив, всегда точечная и ведет к локальному единению высших душ субъектов любовного взаимодействия. Возможности агапической любви варьируются от готовности к милосердию до любви к врагу. Возможности сторгической любви варьируются от душевной привязанности, образованной длительным житейским соприкосновением тел и душ, до таинственной свитости душ на самом глубинном их уровне. В сторгическом единении двух высших душ – это особенно важно для разговора об Обителях – возникает новое, третье духовное существо, которое не есть высшая душа одного или другого или их сложение. Это духовное существо не заложено в земной жизни, возникло (рождено, создано, сформировано) вновь и потому не подлежит уничтожению при отживании плотского человека. Сторгическая любовь есть особое проявление жизни тех, которые живут в поле жизненности высших душ. Сторгическое чувство жизни – чувство жизни кого-то, какого-то нового духовного существа, которое оживает в глубинной свитости высших душ людей. Сторгическая жизнь – в полном смысле духовная жизнь, так как в ней оживает вновь рождаемое духовное существо, в которое человек, участвующий в его зарождении, не только вполне может, но не может не перенести свою жизнь. Но эта духовная жизнь иного рода, чем агапическая духовная жизнь. Есть два типа любовной духовности, две струи духовной жизни высшей души, одна из которых оживлена агапической любовной духовностью, другая – сторгической любовной духовностью. Сторгиа и агапиа суть разные любовные духовности, трудно сводимые друг к другу. Сторгиа не предполагает агапиа. И агапиа не обязательно предполагает сторгиа. Агапическая струя духовной жизни общедушевно востребована христианством. Сторгическая река любовной жизни в чистом виде религиозно не востребована, нигде не ставится в центр религиозной жизни, хотя именно эта река любовной жизни людей течет везде и заполняет большую часть общего поля любовной жизненности человека. Сторгическое действие – это более всего действие не в общедушевной, а в личной духовной жизни человека. Сторгической любовью любят и сторгической жизненностью живут в личной духовной жизни. Сторгическое единение в личной духовной жизни порождает дружба, братство, супружество. И то, и другое, и третье, безусловно, следует причислить к самым высшим ценностям человеческой жизни. Агапиа не направлена на личность, ей вообще не нужен объект переживаний, а тем более личностный объект. Враг – соответственное личное восприятие и восприятие личности. Врага можно любить, исключив из переживания любви все личностное или пристрастное. Сторгия, конечно, носит личностный характер. Но это не характер психики животной личности, а лично-духовный характер высшей души – тот самый, о котором Толстой говорил в «О жизни». Создавать типологию любви ныне стало любимым занятием не только философов (как было прежде), но и психологов. Но у нас особый случай. Различение агапической любви и сторгической любви необходимо потому, что первая ведет в Жизнь Бога, к Птице Небесной, а вторая – к жизни нового духовного существа в следующей Обители. Сторгиа и агапиа имеет два разных выхода из земного существования и хотя бы по одному этому – не одно и то же. Чтобы состоять в сторгической паре и чувствовать другое Я как свое, хорошо бы прежде как можно яснее сознавать свое собственное Я и знать, что личностно ему нужно. Сторгиа – начало индивидуальности высшей души, создающее своеобразие ее проявлений. Без сторгиа высшая душа единообразна, одна и та же во всех. Вся проповедь Льва Толстого построена на утверждении одной – агапической – души во всех. При этом сторгическое действие не отвергается, а включается в агапическое действие и даже поглощается последним. Вот два примера: "Любовь есть стремление сознавать жизнь другого так же, как я сознаю свою – войти в другого, быть им. И когда любишь, то стремишься быть не собой одним, а всем (?! – И. М.), стремишься быть тем, что Бог, и познаешь Бога. – Это одно. Другое же то, что если свята любовь, то как же я не люблю NN? И я вспоминаю, кого я не люблю, и стараюсь войти в его душу, говорю себе, что буду стараться войти в общение с ним, искать его, сближаться с ним, вызывать его на высказывания себя"(87.40). "Опять о любви: любовь есть стремление сознавать другие существа как себя. Все существа сознают себя или включены в сознание чье-либо. Все существующее сознается всемирным существом Богом, как мое тело мною. Любовь есть стремление к тому, чтобы быть как Бог, а не так, как сказал Иоанн, что Бог есть любовь. Путь к достижению стремления есть отрешение от себя – смерть личности и переход во всемирное сознание. Только проходя через всемирное сознание (через Бога), я могу сознавать других как себя"(51.68). Лев Толстой то и дело отождествляет агапиа и сторгиа, что так же продуктивно, как его усилия по совмещению идеи Обителей и идеи вселенской Жизни в Боге. Более того, Толстой стремился расширить пространство сторга с одного лица (естественное сторгическое пространство) на всех людей. Лев Николаевич учил, что всякого и каждого человека можно любить сторгически (как любишь ближайшего человека), и сам стремился любить так. Если это и ошибка, то ошибка великой души. Сын человеческий живет в человеке агапической любовью, никого в отдельности не предпочитающей. Агапическая любовь расширяется, растекается, поглощает все, что заливает, но в конкретности никого специально не собирает. Для самоистечения силы вечной жизненности для агапической любви не нужно "предмета" и «образа». Ясно, что составлять будущее "отдельное цельное существо" способна только любовь "предметная", любовь "к тому, что доступно нам", – своего рода "пристрастная любовь", которой человек любит того, кого за что-то любит, и любит на пределе своих возможностей, особенно и исключительно. Чтобы в любовном единении людей образовался новый узел неумирающей жизни, им нужно суметь пробиться друг к другу, вступить в непосредственное тайное душевное общение, стать неразрывно близкими, прочно свиться душами друг с другом, всем сердцем полюбить друг друга "усиленной", определенно направленной друг на друга любовью, которой любят верные друзья или супруги. Хотел или не хотел того Лев Толстой, но Обители в его учении преемственны не по Вселенской ("всей") жизни Птицы Небесной и не в силу агапической любви, а преемственны по личной духовной жизни и в силу сторгической любви. Такая преемственность обеспечивает весьма высокую степень личного бессмертия, но не одного себя, а себя вместе с тем или теми, кого в этой жизни ты специально избрал для любви и кого особенно полюбил. Вникая в мысль Толстого, нельзя не увидеть, что любовь, составляющая "в будущей жизни одно целое существо", может быть только глубоко личностной сторгической любовью. И не просто любовью сторгического типа, а – что тут, пожалуй, имеет решающее значение! – полноценной взаимной сторгической любовью, обеспечивающей уже состоявшуюся сторгическую связь. Что совершенно противоречит исключительной нацеленности толстовского учения на агапическую любовь и, значит, с толстовской точки зрения, "вводит в соблазн людей". *)Сторгическая сплоченность существует и в Общей душе народа, но это особая тема (об этом: И.Б.Мардов "Общая душа" М. 1993г.). Во всяком случае, общедушевная сторгиа куда слабее выражена, чем сторгиа лично-душевная.
9 (50) Агапическая любовь – адекватное выражение вечной, истинной, "всей" жизни, осью проходящей сквозь Обители. Пристрастность любви – фактор ее локальности, ограниченности, вроде бы свойственной уничтожаемой жизни – жизни отдельной личности. С позиции вечности, может быть, это и так. Но не с позиции смены Обителей существования. Конкретный "личностный" субъект жизни каждой последующей Обители появляется (рождается) в ней при переходе, при одномоментном погружении в жизнь вечную (откуда обретается новое духовное Я), но вяжется не в вечной жизни, а в лоне предшествующей жизни и, значит, не в поле агапической жизненности, а в поле сторгической жизненности высшей души. Если агапическая любовь и собирает, то собирает безличностно, всех и каждого, по формуле "один ко всем". Сторгическое объединение собирает штучно, предметно, личностно, по одному, "один к одному". Агапическая любовь ткет паутину или раскидывает сеть, куда попадает все, что попадет. Сторгическая любовь закидывает единичный крючок, предназначенный для того, одного, кто выбран для такой любви, и, далее, для совокупного существования в едином узле будущей жизни. Агапическая любовь всех и все складывает, но ничего не связывает в узел. Узел нового духовного существа вяжется в сторгической любви. В учении об Обителях Толстой, хотел или не хотел того, раскрыл мистическое значение сторгического действия в человеческой жизни и его роль в создании субъекта будущей жизни. В личной духовной жизни предшествующей Обители, как и в личной духовной жизни последующей Обители, должна быть своя сторгиа. Сторгиа прежней жизни, если верить Толстому, создала цепкость нашей жизни и ее страстность, которую "я не развязал в прежней жизни". Сторгиа прежней жизни знаема человеком знает по той страстности жизни, которой "я чувствует себя связанным (в единое целое. – И. М.) здесь". Сторгию нынешней жизни я буду чувствовать как страстность, радость и цепкость своего нового узла жизни в следующей Обители существования. Ибо "я стремлюсь к такому же счастью в теперешней и будущей жизни, какое я знал в предшествующей"(52.74). Так же, как всё, "что пленяет нас в этой жизни, красота, это то, что соединилось с сильным сознанием жизни до рождения", так и сторгиа в этой жизни станет тем, что будет пленять нас в будущей жизни, станет красотой и радостью жизни в следующей Обители существования. Сторгически любящие друг друга люди завязывают в этой жизни узел, который целостно и самостоятельно живет как единое духовное существо уже не в этой жизни. Весь вопрос в крепости натяжения, прочности и надежности этого узла. Но это особая и совсем не развитая Толстым тема. Додумывая мистические прозрения Льва Толстого, можно прийти к поразительным выводам. По прозрениям Толстого, стиль одухотворенности и образ любовной духовности нового духовного существа, предназначенного к жизни в следующей Обители, не только соответствует чувству и сознанию жизни в ней, но и в некотором роде образует эту Обитель для нового духовного существа. Одним этим положением человеческая сторгия выдвигается на место творящего Обители начала жизни. Но и этого мало. Единый "характер" сторгических связей высших душ не один и тот же во всех людях. Есть разные виды сторгической свитости, и "можно себе представить" (выражаясь словами Толстого), что каждому виду сторгической связанности соответствует свой тип нового "цельного существа" и своя будущая Обитель существования. Почему бы, в таком случае, не представить, что из нашей жизни есть разные выходы, в разные Обители существования?.. Высшая душа человека может любить агапической любовью и в идеале жить вечной жизнью в состоянии Птицы Небесной; это один из вариантов ее "спасения". Высшая душа человека может любить сторгической любовью и на пределе своих сил жить будущей жизнью в состоянии нового духовного существа следующей Обители; это другой вариант ее спасения. И той и другой любовью любит высшая душа. Противопоставлять их или сталкивать их нельзя. Вполне может быть, что какая-то Обитель более предназначена для спасения в сторгической любви, а другая – в агапической. Толстовский образ хождения духа через Обители предусматривает, что Река Обителей в конце концов впадает в Океан вечной Жизни, неся его воды (высшие души) в себе и все более наполняясь ими. Те или иные Обители находятся выше или ниже по течению этой Реки. Первый вариант спасения – спасения в Боге, включения в вечную жизнь Птицей Небесной, теоретически говоря, возможен в любой Обители, но чем ниже Обитель по течению Реки, тем менее движения жизни в ней удаляются от оси вечной жизни, и тем спасение в Богеосуществить легче и возможнее. В нашей Обители легче и возможнее, чем в предыдущей, и в следующей легче и возможнее, чем в нашей. В какой-то из череды Обителей вариант спасения в Боге, быть может, станет преобладающим. Но это явно еще не наша Обитель, в которой только редчайшие люди способны на агапическую любовь, даже после многолетних усилий развития души в этом направлении. Эта вершина – еще не для земной Обители. В нашей жизни стать едиными по агапиа практически невозможно, хотя бы потому, что живущих в агапической жизненности людей так мало, что им и не пересечься, что им трудно встретиться на дорогах этой жизни. Не создается ли у Вас впечатления, что агапическая жизненность не предназначена для совместного жизнедействия в нашей Обители? Не исключено, что хотя агапическое состояние жизни принципиально достижимо людьми, но оно все же не предназначено для людей. Куда более наша Обитель определена для другого рода любви высшей души – сторгической любви. Возможно, что способные к агапической любви люди нашей Обители вообще «попали не туда». Общая и всегдашняя устремленность Льва Толстого на ценности агапической любви наводит на мысль, что он оказался не в той Обители, в которую должен был попасть. Его место – ниже по течению Реки Обителей, ближе к ее устью. Оттуда, из той Обители, он видел существующее в нашей Обители и оттуда обращался к нам. Люди, разумеется, не могли понять то, что он говорил, и, как князя Андрея, понимали его по-своему. "Христианское учение" проповедует не то, как достичь бессмертия в сторгической любви, а то, как ожить для жизни вечной в агапической любви. Только в одном пункте этой книги Толстой вплотную подошел к сторгии, как он вплотную подошел к учению о личной духовной жизни, и то и другое отчасти взял на вооружение, но ни то, ни другое твердо не поставил на центральное место в своем мировоззрении. Почему? Сторгическое жизнедействие – величайшее таинство душевной жизни человека. Оно глубинно связано с процессом духовного восхождения человека. Сторгия – одно из явлений Пути восхождения. Если высшее проявление агапической жизненности это любовь к врагу, то высшее проявление сторгической жизни – Сопутство. Сторгическое действие буквально на глазах оживляет человека, делает его более живым. Это приращение жизненности переживается высшей душой как сторгическое благо и придает ей особые силы. Выходить на поле духовной (или духовно-творческой, а то и просто творческой) брани одному, без поддержки супружеской, дружеской или какой-нибудь еще сторгиа значит не биться в полную силу и если и одержать победу в этой битве, то половинную. Это знает каждый, кто когда-либо ставил перед собой задачи на пределе своих сил.
10 (51) Толстой – не мистик-умозритель и в мистическом учении не мог делать ставку на сторгиа хотя бы потому, что он в своей супружеской жизни пережил сторгическую катастрофу, что к концу 90-х годов опыт его личной духовной жизни был сторгически весьма и весьма ограничен. Об этом мы подробнее расскажем в другой книге. И в самом конце 90-х, и в начале 900-х годов Толстой продолжает думать и писать об Обителях, но в его мыслях уже нет сторгических узлов, на которых ранее держался весь ход духовного существа через Обители. Жизнь во всех Обителях есть рост любви. Любовь производит «расширение пределов» высшей души и тем приближает ее к Богу. Но по этому же самому «любовь не есть свойство Бога, как говорят обыкновенно: любовь есть свойство только человеческое»(54.155). И еще яснее: «Как вследствие физического движения: кровообращения, питания, – собирается и растет физическое тело, так точно вследствие духовного движения, любовного общения – собирается духовное тело нашей будущей жизни»(54.39). Любовь доставляет духовному существу пищу и тем растит его, то есть «расширяет пределы» его, которые уже не умещаются в земных пределах отделенности: «Достигнув наивысшего предела расширения жизни через движение в тех пределах тела человеческого, в которых мы находимся, мы начинаем устанавливать новую единицу с новыми более широким пределами, осуществление которой невозможно при теперешних пределах, и которое должно быть возможно при разрушении настоящих пределов»(54.25). «Все существа и я совершаем круг или полкруга или какой другой линии в данных пределах и во время прохождения набираем общение с другими существами – любим их, расширяя свое я в идее, приготавливаем его к расширению в следующей форме»(54.27). «Вся жизнь в этом мире есть только образование новой формы жизни (а не нового духовного существа. – И. М.), которую мы познаем в сознании – в том, что мы любим (любим согласно «характеру» нашей любовной духовности, а не сторгическому тяготению друг к другу. – И. М.). Чувство самосохранения в молодости и вообще до старости есть нечто иное, как противодействие всему тому, что нарушает процесс образования новой формы. Когда же новая форма готова, человек спокойно, радостно переходит в нее, т. е. умирает»(54.35). Представления Толстого, как видно из приведенных цитат начала 900-х годов, изменилось. Переходит через смерть единичное духовное существо, отдельно взятый «человек». «Я», один, прохожу через Обители. «Вдруг так ясно стало, что весь этот мир с моей жизнью в нем есть только одна из бесчисленного количества возможностей других миров и других жизней и для меня есть только одна из бесчисленных стадий, через которую мне кажется, что я прохожу во времени»(54.5-6). Реально это происходит так: «Память в старости теряется на имена и на события настоящего. Это происходит оттого, что память собирает в одно то, что существу нужно для будущей, следующей жизни»(54.51). «Старики теряют память всего недавнего. А память ведь есть то, что связывает совершающееся во времени в одно я. Значит, это я здешнее закончено и начинается новое»(54.46). Совершается переход одного и того же духовного существа из одной формы в другую. Этот переход и есть жизнь. «Жизнь есть переход из одной формы в другую – и потому самоотречения, т. е. выхода из своей формы – мало; нужно образовать новую форму. Жизнь этого мира (а не только человеческая жизнь – И. М.) есть материал для этой новой формы»(54.49). Этим смерть и жизнь становятся в один ряд: «Все в жизни очень просто, связано, одного порядка и объясняется одно другим, но только не смерть. Смерть совсем вне этого всего, нарушает все это, и обыкновенно ее игнорируют. Это большая ошибка. Напротив, надо так свести жизнь с смертью, чтобы жизнь имела часть торжественности и непонятности смерти, и смерть – часть ясности, простоты и понятности жизни»(54.42). Теперь глобальный вывод: «Я говорил о нереальности всего передаваемого внешними чувствами, следовательно, всего материального. Невольно вопрос: что же реально? В чем жизнь, если все материальные явления не составляют ее? Реально и важно в жизни только одно: видоизменение единиц: образование новых единиц из единиц старых»(54.49). Обратите внимание: видоизменение единиц, а не перевязывание или образование новых узлов. Прежние мысли в 900-х годах препарируются на новый лад: «Жизнь есть постоянное творчество, т. е. образование новых высших форм. Когда это образование на наш взгляд останавливается, или даже идет назад, т. е. разрушаются существующие формы, то это значит только то, что образуется новая невидимая нам форма. Мы видим то, что вне нас, но не видим того, что в нас, только чувствуем это (если не потеряли сознания и не признаем видимого внешнего за всю нашу жизнь). Гусеница видит свое засыхание, но не видит бабочки, которая из нее вылетит»(54.49). «Все, что мы считаем существующим, таким, каким мы его признаем, с переменой положения, с прибавлением новых чувств*), с изменением их, может быть совсем иным. В этой жизни мы скоро, в продолжение нашей жизни, исправляем ошибки чувств. Но не будет ли новая жизнь, с изменением положений и чувств, исправлением всего заблуждения этой жизни»(54.191). *) Например, к слуху зрения (примечание Толстого). Задача жизни человека – готовить свою жизнь в следующей Обители: «Удивительно устроен человек. Или здесь работай, или готовься для работы там. Самая же лучшая работа здесь тогда, когда готовишься для работы там»(54.63). «Мне очень было тяжело до тех пор, пока не сознал того, что это то одно и нужно мне: нужно готовить не к будущей жизни себя, а, живя хорошо этой жизнью, готовить будущую жизнь» (54.53). Но делать это очень трудно. «Я могу временами жить для Бога, помня смерть, думать только о своей душе, об улучшении ее таком, какое нужно не только здесь, но и там. Могу и жить для этой жизни, отдаваясь своим стремлениям. Но того, чтобы соединить и то и другое, этого не могу. А это одно и нужно»(54.63) И все же нельзя сказать, что Лев Толстой совсем отказался от сторгиа. Скорее, он отвернулся не от сторгии, а от бога этой жизни, наиполнейшее выражение которого он видел в особенной любви к самым близким людям. Такая особенная любовь законна, только если она "через Бога". Вот как Толстой объяснил это в письме 1910 года, адресованном Л. Д. Семенову. «Очень рад был, милый брат Леонид, получить твое письмо. – Хотя и соединяет нас одно и то же, то, что одно твердо соединяет людей, всегда радостно получить еще косвенное подтверждение". Дальше в письме – чертеж:

Слова "Я Толстой" и "Ты Семенов" обведены кругами, и круги эти соединяет ряд точек. Под точками написано: "Приятно и это маленькое, самое шаткое соединение". От "Я Толстой" нарисована линия; над ней надпись: "Бесконечная линия, ведущая к Богу". От "Ты Семенов" тоже проведена линия, под которой написано: "Бесконечная линия, ведущая к бесконечно отдаленному Богу, линия, по которой Бог входит в души людей. Самое твердое соединение, хотя и кажется далеким". И далее: "Вот глупость, которая пришла мне в голову сейчас, пиша тебе. Может быть, ты поймешь эту чепуху. – Поймешь хоть то, что я не меньше твоего помню и люблю тебя»(82.76). Место непосредственной и наиполнейшей сторгической свитости двух душ в единое существо в конце концов занято "маленьким, самым шатким соединением", но осуществляется оно по линии, "по которой Бог входит в души людей", через "бесконечно отдаленного Бога". Оно "кажется далеким", но оно-то, по взгляду Толстого последнего года жизни, и есть "самое твердое соединение", которое только может быть между людьми. *)И.Б.Мардов «Драма любви Льва Толстого».
Часть 5. Взлёт птицы небесной
«Ошибаюсь или нет, но мне кажется,
что только теперь – хороши ли, дурны ли? – но
созрели плоды на моем дереве» (56.4).
Дневник Льва Толстого, 14 января 1907 г.
1 (52) В 900-х годах, в последнее десятилетие своей жизни, Лев Толстой, продолжая свой одиночный Путь восхождения, все более и более отлеплялся от земной жизни и подымался к жизни вселенской, вечной. Мистические и метафизические представления 900-х годов не противоречат представлениям 90-х годов; они не совсем о том, о чем раньше: не о личной духовной жизни человека, а о Жизни Бога и о вхождении (и запросах) жизни вечной в человека. При всем том Толстой продолжал утверждать, что "для христианина нет и не может быть никакой сложной метафизики"(73.120), что следует особенно остерегаться опасности, состоящей в том, "чтобы в вопросах религиозных желать уяснить себе больше того, что дано нам знать с полной ясностью. Ничто так не лишает людей истинного религиозного чувства, дающего твердую основу жизни, как слишком большие запросы и попытки определения того, познание чего не дано и не нужно нам"(82.83). Так, "при определении того, что мы понимаем под словом Бог, главная опасность не в том, что не вполне определим Его, что невозможно, а что мы скажем что-либо лишнее, умаляющее или извращающее это понятие"(82.83). И это возможно, если ограничить себя и не пытаться искусственно развивать свою мысль. "В самом начале, как бы в программе, в постановке вопросов так всё хорошо, сильно, сжато сказано, что всякое подтверждение, уяснение только ослабляет, охлаждает"(89.60). Дневники Толстого последних лет сплошь заполнены попытками дать сжатые определения того, что такое жизнь? Бог? разум? любовь? Таких формул в дневниковых записях Льва Николаевича великое множество. Иногда они фиксируют изменение взгляда на тот или иной метафизический вопрос, но часто это различные редакции одного и того же взгляда. Раз за разом Толстой упорно искал верную позицию по тому или иному вопросу и точную формулу, соответствующую этой позиции. Для кого и с какой задачей делалось это? «Думал о том, что пишу я в дневнике не для себя, а для людей – преимущественно для тех, которые будут жить, когда меня, телесно, не будет, и что в этом нет ничего дурного. Это то, что, мне думается, от меня требуется. Ну, а если сгорят эти дневники? Ну, что ж? они нужны, может быть, для других, а для меня наверное – не то, что нужны, а они – я. Они доставляют мне благо»(55.209). Толстовские Дневники – нечто вроде завещания потомкам. Поэтому в них он стремится передавать только главное, что вынес из своей жизни и что составляло ее благо. Но в Дневниках неизбежно попадается и случайное, и черновое, и недостаточно ответственно сказанное. Особенно если помнить принцип работы мысли Толстого, в соответствии с которым "надо любить истину так, чтобы всякую минуту быть готовым, узнав высшую истину, отречься от всего того, что прежде считал истиной"(58.170). Лев Толстой специально обратился ко всем с такой просьбой: "Очень важное. Хотя это и очень нескромно, но не могу не записать того, что очень прошу моих друзей, собирающих мои записки, письма, записывающих мои слова, не приписывать никакого значения тому, что мною сознательно не отдано в печать. Читаю Конфуция, Лаотзи, Будду (то же можно сказать и о Евангелии) и вижу рядом с глубокими, связными в одно учение мыслями самые странные изречения, или случайно сказанные, или перевранные. А эти-то, именно такие странные, иногда противоречивые мысли и изречения – и нужны тем, кого обличает учение. Нельзя достаточно настаивать на этом. Всякий человек бывает слаб и высказывает прямо глупости, а их запишут и потом носятся с ними, как с самым важным авторитетом"(57.124). Исполнить пожелание Толстого исследователю нелегко. Толстым сознательно отданы в печать статьи "Единая заповедь", "Закон насилия и закон любви", "Конец века", "Верьте себе" и прочее. Но всё это работы не столько мыслителя, сколько проповедника, да и рассчитаны на аудиторию, восприятие которой далеко не всегда отвечало ожиданиям Толстого. В них он особенно остерегался «соблазнения» «без и полуграмотных» людей (см.89.124) и потому избегал обсуждения метафизических вопросов. Кроме опубликованных при жизни Толстого статей, им сознательно отданы в печать ряд мыслей, которые в том или ином виде содержатся в "Круге чтения", "На каждый день", "Пути жизни". Огромный материал. Но и этим материалом пользоваться надо осторожно. Он так же рассчитан на самый широкий круг, с которым далеко не всегда уместно обсуждать метафизические проблемы. В публичном общении мыслями Толстой если и не понижал, то приноравливал свои мысли к уровню читателей. И делал это намеренно. "Как ни дерзко, самоуверенно это, не могу не думать и не записать себе, что мне нужно помнить в моем общении с людьми, что я с огромным большинством из них стою на такой точке мировоззрения, при которой я должен спускаться часто и очень много, чтобы общение какое-нибудь было возможно между нами"(57.132). Иное дело – письма Толстого по мировоззренческим и метафизическим вопросам. Они, как правило, были адресованы единомышленникам или близким Толстому людям. Толстой был уверен, что они сохранят и опубликуют его письма. Отправлять письмо столь надежному адресату, по сути, значило отдавать его в печать. И все же основная работа духа и разума Льва Николаевича зафиксирована в его Дневниках. К ним отношение особое. «Я прошу Вас взять на себя труд пересмотреть и разобрать оставшиеся после меня бумаги и вместе с женою моею распорядиться ими, как вы найдете это нужным… – пишет Толстой Черткову 26 мая 1904 года. – Всем этим бумагам, кроме дневников последних годов, я, откровенно говоря, не приписываю никакого значения и считаю какое бы то ни было употребление их совершенно безразличным. Дневники же, если я не успею более точно и ясно выразить то, что я записываю в них, могут иметь некоторое значение, хотя бы в тех отрывочных мыслях, которые изложены там»(88.327). Метафизическую работу Дневников Толстого оборвала его смерть. Мы пользуемся тем, что оставил нам Толстой после смерти. Многое из этого наследия выражено Львом Николаевичем и точно, и ясно. Но, конечно, все указанные выше затруднения в работе с Дневниками и с письмами Толстого остались.
2 (53) Вскоре после смерти сына Ванечки, в 1896 году, Толстой осознал, что в нем начался переход на новую, более высокую ступень Пути жизни. "Радостно то, что положительно открылось в старости новое состояние большого неразрушаемого блага. И это не воображение, а ясно сознаваемое, как тепло, холод, перемена состояния души – переход от путаницы, страдания к ясности и спокойствию и переход от меня зависящий. Вот именно выросли крылья. Почему же не всегда на крыльях? А видно, слаб еще. Не приучился, а может быть необходим отдых"(53.183). Птица Небесная еще не умеет летать, но она понемногу высвобождается от земного тяготения и расправляет крылья. Вот как об этом говорит Толстой: "Тот я индивидуальный, который прежде сливался с я Божественным, которого я боялся лишиться и которого любил, все больше и больше отлипает от я Божественного и уже не нарушает жизни этого Божественного я. Не вполне, но я знаю, что наступила новая радостная, заметная ступень"(88.21). Эту новую ступень Толстой называл «своим пробуждением». Это уже второе его Пробуждение, наступившее через 30 лет после первого. Первое его Пробуждение в 40 лет – это пробуждение высшей души к работе выхода ее из "пустыни жизни", как он говорил, на собственно духовный путь жизни. Второе Пробуждение в 70 лет совершилось на выходе Толстого из личной духовной жизни к жизни всеобщей и вечной, к свободе Вселенской духовной жизни. Со второго Пробуждения начинаются роды вечной Божественной Жизненности Птицы Небесной. Конечно, это сказалось на Богосознании Толстого. Лев Толстой отходит от Бога личной духовной жизни (от «Бога своего»), чтобы стать ближе к Богу Самому. "Ев. Ив. сказал, что он не понимает Бога внешнего, что он знает только Бога в себе. – Пишет он Черткову. – Да ведь Бог в себе так связан с той человеческой личностью, в которой он проявляется, что никогда, наверное, не знаешь, чист ли от меня тот голос Бога, который я слышу в себе. По тому затемненному моей личностью Богу, которого я знаю в себе, я знаю Бога чистого, неограниченного, которого нет во мне; или иначе – я должен отрешиться совсем от своей личности, чтобы познать Бога. А когда я отрешился от своей личности, то Бог, которого я познаю, уже не во мне, потому что тогда нет личности. Так что со всех сторон, как ни поверни, – Бога можно знать только вне себя. То, что мы знаем в себе, есть только путь, ведущий к Богу, пуповина, связывающая нас с Богом. А сказать, что Бог во мне, значит сказать, что я не знаю Бога"(88.66). Второе Пробуждение Толстого по времени совпало с перерывом в работе над романом «Воскресение». Что, разумеется, отразилось на его замысле и содержании. Первый блок рукописей романа "Воскресение" создавался до начала 1896 года, потом в работе был перерыв на два с половиной года, а затем – второй блок рукописей. Сдвиг в жизневоззрении Толстого между этими двумя этапами работы достаточно заметен. Сторгическое чувство, которое возникло в молодости героини романа (и которое, вообще говоря, редко окончательно исчезает в человеке, раз возникнув), возрождается в ней по ходу повествования во всех пластах рукописей. Но в первом блоке рукописей роман завершается женитьбой и состоявшейся сторгической связью супругов Нехлюдовых. Во втором же блоке рукописей, работа над которыми шла с конца 1898 года, и в каноническом тексте финал романа иной. Ради Нехлюдова Катюша благородно жертвует любовью к нему (что с точки зрения "одного цельного существа" следующей жизни и преступно, и нелепо). У Нехлюдова же никакого сторгического влечения к Масловой никогда не было и, кажется, быть не могло. Он готов был отдать себя Катюше исключительно по требованиям и вдохновению идеалов, далеких от идеалов сторгической любви. Если он и любит ее, то той любовью-жалостью, которая у Толстого спасала и Ивана Ильича перед смертью. Стремление Нехлюдова к бывшей проститутке Масловой не взаимно и вообще не по любви, а по установкам сознания, порожденным в поле агапической жизненности. В отличие от "Анны Карениной" "Воскресение" в каком-то смысле оказался антисторгическим романом. Итогом всей истории во втором блоке рукописей и в окончательном тексте стала не любовь, а просветление сознания того и другого. Герой романа прозревает и в результате своего прозрения приходит к тому, к чему сам Толстой пришел в начале 80-х годов, во времена "Соединения и перевода четырех Евангелий" и "В чем моя вера?". Лев Толстой никогда не отказывался от своего прозрения Обителей, но началом, образующим новое духовное существо все более в его понимании становилась не любовь, а сознание жизни (восходящее к "разумению жизни" времен его работы над Евангелием), тесно связанное с вечной жизненностью Бога. Вот что по интересующему нас поводу думает Толстой в ноябре 1897 года, то есть как раз в перерыве работы над "Воскресением". О любви в этой цитате уже нет ни слова. «Моя жизнь – мое сознание моей личности все слабеет и слабеет, будет еще слабее и кончится маразмом и совершенным прекращением сознания личности. В то же время, совершенно одновременно и равномерно с уничтожением личности, начинает жить и все сильнее и сильнее живет то, что сделала моя жизнь, последствия моей мысли, чувства; живет в других людях, даже в животных, в мертвой материи. Так и хочется сказать, что это и будет жить после меня. Но все это лишено сознания и потому не могу сказать, что это живет. Но кто же сказал, что это лишено сознания? Почему я не могу предположить, что это все объединится новым сознанием, которое я справедливо могу назвать моим сознанием, потому что оно все составится из моего? Почему не может это другое, новое существо жить вместе с теми существами, которые теперь живут? Почему не предположить, что мы все – частицы сознания других, высших существ, таких, какими мы будем. «У отца моего обители многи суть», не в том смысле, что места разные есть, а в том, что сознания личности разные: одни включаются и переплетаются с другими*). Ведь весь мир, какой я знаю с его пространством, временем, есть произведение моей личности, моего сознания. Как только другая личность, другое сознание, так совсем другой мир, элементы которого составляют наши личности. Как в ребенке, во мне понемногу зарождалось сознание (которое сделало и то, что я себя ребенком, зародышем даже, вижу отдельным существом), так оно зарождаться будет и теперь, уже зарождается в последствиях моей жизни, в будущем моем я после смерти. Церковь есть тело Христово. Да, Христос теперь в своем новом сознании живет жизнью всех живых и умерших и будущих членов церкви. Так же будет жить и каждый из нас своею церковью. И у самого ничтожного будет своя ничтожная и может быть плохая церковь, но церковь, составляющая новое тело его. Но как? Вот этого мы не можем представить себе, потому что ничего не можем представить себе вне нашего сознания. И не обители, а сознания многие суть. – Но тут последний, самый страшный неразрешимый вопрос: зачем это? Зачем это движение. Эти переходы из одних низших, более частных сознаний в более общие – высшие? Зачем? Это тайна, которую мы не можем знать. В этом-то и нужен Бог и вера в Него. Только Он знает это и надо верить, что это так надо»(53.162-3). *) Одни – этой жизни сознания гусениц, другие – иной жизни, сознания бабочек. – И.М. У Толстого были мысли продолжить "Воскресение". Можно не сомневаться, что в этом новом романе Нехлюдов, придя к мысли вечной жизни, в земном смысле жил бы в одиночестве, исключительно повинуясь требованиям сознания своей высшей души. Еще более значителен, на наш взгляд, такой факт. В первом блоке рукописей «Воскресения» Симонсон излагает в качестве своих совершенно чуждые Льву Николаевичу федоровские идеи воскрешения отцов. Во втором блоке рукописей Симонсон излагает сокровенные толстовские мысли, восходящие к представлениям второго сна Пьера Безухова в IV томе «Войны и мира». Прозрение сна Пьера и прозрение князя Андрей перед смертью – одно целое светлого откровения сорокалетнего Толстого. Их связывает вместе мистическое озарение Бога, Мира и Жизни. Князь Андрей, прежде чем заснуть и пробудиться Птицей Небесной, думает о том, что «Любовь есть жизнь» и «Любовь есть Бог» и что умереть, значит, «частице» вернуться «к общему и вечному источнику». «Но это были только мысли» и в них не было той очевидности, которая возникла только тогда, когда «то грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей жизни», стало «почти понятное и ощущаемое". Примерно то же самое произошло и в жизни Льва Николаевича. Светлые откровения сорокалетия даются, по-видимому, на дальнюю перспективу Пути восхождения. Они обычно не действуют сразу, но определяют направление духовного роста путевого человека на десятилетия вперед. Вроде бы и незаметно, что светлые откровения того времени изменили мировоззрение Льва Николаевича после завершения «Войны и мира». Влияние их отчетливо сказалось лишь через сорок лет, когда для Толстого «наступила новая радостная, заметная ступень" и видение сна Пьера стало для него «почти понятное и ощущаемое». Сонное видение Пьера есть то самое первичное откровение, из которого выросло метафизическое древо учения Толстого. Тут тайный глубинный исток религиозного сознания Льва Толстого. В 40 лет Лев Толстой узрел – и не воображением, а в видении – высшую вселенскую Жизнь. Это озарение Бога навсегда укоренилось в нем. Многие и многие годы он хранил в себе это видение, откладывая до того часа, когда оно само заявило о себе в нем и сделалось той точкой и опорой, с которой и на которой стало заново отстраиваться его жизневоззрение, жизневоззрение старости, одухотворенной на вершине жизни. Далеко не все в видении сна Пьера подтверждено духовным опытом и мудростью старца Толстого. Но ключевое положение: «Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог» – так навсегда и осталось основой его Богосознания.*) «Отец мой и всякой жизни!»(53.80) – звал Его Толстой. Бог для Льва Николаевича – Бог Жизни, живой Бог. Он – «сама сущность жизни, которая стремится к благу всего»(54.38). *) При этом Толстой далек от пантеистических воззрений (в чем его часто уличают): "Если же Вы заметили во мне несогласие с выраженной Вами мыслью о том, что Бог проявляется во всем, то это произошло от того, что я действительно боюсь пантеистического воззрения, такого, которое видит Бога в природе, потому что такое воззрение часто сливается с материализмом и покрывает его… Бога мы знаем только по тому, что в нас есть нематериального – невременного, непространственного, разумного и любовного, и помимо этого никаким иным способом познавать не можем"(69.59). Бог для Толстого – Один, одноцентрен. Хотя нельзя сказать, как во сне Пьера, что Он – «в середине». Он – Всё. «Главная непостижимость для нас Бога состоит именно в том, что мы знаем Его как существо единое – не можем иначе знать Его и между тем единое существо, заполняющее собой всё, мы не можем понять… А между тем для того, чтобы знать Бога и опираться на Него, нужно понимать Его наполняющим всё и вместе с тем единым»(53.119). Однако искать Богословие у Толстого бесполезно. «Бог есть, потому что есть мир и я, но думать о Нем не нужно. Нужно думать о Его законах. И мы понимаем Его только в той мере, в которой понимаем и исполняем Его законы. А то мы хотим, не исполняя Его законов, не только понять Его, но и войти с Ним в интимность – разговаривать с Ним, целовать, есть даже. Чем больше исполняешь Его законы, тем несомненнее Его существование и наоборот»(72.187).
3 (54) «Мое пробуждение состояло в том, что я усомнился в реальности материального мира. Он потерял для меня все значение»(53.191. – Дневник 1898 года). Отчасти это высказывание можно отнести к временам работы над Евангелиями, но в большей степени оно справедливо для времен второго Пробуждения Толстого, которое произошло, скорее всего, летом 1897 года. До этого времени природа материи находилась, казалось бы, вне активного философского интереса Толстого. Хотя еще в 1876 году он писал о "важности и несомненности, которую приписывает человек веществу материи", о том, что "нет более важных, простых и несомненных знаний, как знание своей личности и материи" и что "значительность, которую имеют эти два камня знания, надо принимать в соображение и объяснять"(62.276). Отвергнув (в конце 70-х или еще раньше?) Бога-Творца, Толстой рано или поздно должен был определиться в отношении вопроса существования материальности и ее происхождения. К концу 80-х годов Толстой приходит к убеждению, что "материя есть последствие деятельности духа"(50.223). Материя есть нечто производное, возникающее не из «ничего» (из несущего), а из духа, – как «последствие» его деятельности. Материю можно понимать как некоторую разновидность существования духа, как его продукцию. Материя есть один из результатов (неизбежных для нашего мира?) работы духа. Такой взгляд на материю развивался Толстым в середине 90-х годов, во времена работы над "Царством Божьим внутри вас". Для автора «Царства Божьего внутри вас» деятельность духа во внутреннем мире человека состоит в «ускорении движения духовного роста». В мире вообще эта же деятельность духа выражается в «движении от неразумного к разумному»*). Мысль о движении всего существующего от неразумного к разумному Толстой намеревался развить в своего роде Заключении к «Царству Божьему внутри вас», но почему-то оставил свою мысль в черновиках (см. 28.326-330). *) Еще раз замечу, что такого рода глобальные положения говорят не о «рационализме» Толстого, а об ограниченности понимания «разумного» у его критиков. Если материя существует исключительно в подзаконности, вполне определена своими законами и законы эти – неизменны для нее (в ней), то в самой материальности нет «движения от неразумного к разумному». И, значит, она духовно неподвижна. В таком случае материя – это недвижный дух, нечто отработанное в духовной самодеятельности, в ней вполне выгоревшее, своего рода шлак духа. Какова функция материи во Всём существующем? И есть ли у нее какая-либо собственная духовная функция? Есть, и очень важная: Материя обеспечивает особое существование Единого Духа (Бога) – существование Его в отграниченности. Материальность создает пределы (или решающим образом способствует созданию пределов), с помощью которых Единый дух Сам делит Себя на части и живет в отделенности, в бесчисленных отдельных существах – каплях «живого глобуса» сна Пьера. Старичок географ в качестве Жизни Всего показывал Пьеру не воду в пузыре, а плотно сжатые между собой капли в не имеющем размера глобусе. Капли эти потому и капли, что они неслиянные. Отделенность капли от капли создается какой-то пограничной пленкой, состоящей из того же самого, из чего сама капля, но как-то иначе выделанной. Материя есть не что иное, как эта пленка живых капель – «пределы отделенности» живого духа от живого духа. «Все, что мы знаем, есть не что иное, как только такие же деления Бога. Все, что познаем как мир, есть познание этих делений. Наше познание мира (то, что мы называем материей в пространстве и времени) это соприкосновение пределов нашего Божества с другими его делениями. Рождение и смерть суть переходы от одного деления к другому»(53.131). Это сказано в середине 90-х годов, и потому переходы из Обители в Обитель через рождение и смерть представляются Толстому переходом от одной формы пределов отделенности (одной «материальности») к другой форме, к «материальности» другого рода. «Наше Божество» переходит из Обители в Обитель, оставаясь в составе все того же «живого глобуса», Жизни Всего, Бога. Понятно, что работа жизни в других Обителях будет такая же, как наша работа жизни. Человек, будучи одним из бесчисленных делений Бога, заключенных в телесные границы, занимает особое место в мироздании. Если материальный Мир брать как целое, то человек «не часть целого, – а временное и пространственное проявление чего-то вневременного и непространственного»(53.190). В этом смысле «движение по жизни» человека есть род «передвижения своей духовности по материальности мира»(53.134). Материя, как нечто сущее, исходно существующее само по себе, – призрачна. Но в качестве производного от духа она существует в действительности. То, что мы воспринимаем материей, есть пределы делений духа, его границы, форма, которая отграничивает его «капли» друг от друга. Эти пределы (как и «личности») создаются в одной Обители для другой. «Я смотрю и видимые линии пригоняю к форме, живущей в моем представлении. Вижу белое на горизонте и невольно даю этому белому форму церкви. Не так ли и все то, что мы видим в этом мире, получает ту форму, которая уже живет в нашем представлении (сознании), вынесенном из прежней жизни? (Идеи.)»(53.194). «Идеи» взяты тут, по-видимому, в Декартовом смысле, как создаваемые духом образы вещей. Сами эти "идеи", говорит Толстой, создаются в деятельности духа предшествующей Обители. Высшая душа предшествующей Обители в «той» своей жизни (в «той деятельности духа») вырабатывает некоторые формы, которые выносятся сюда из прежней жизни и обуславливают «живущее в моем представлении». То же самое произойдет и в этой жизни относительно жизни в последующей Обители: «Часто думаю, что мир такой, какой он есть, только потому, что я так отделен от всего остального. Как только мое отделение от ВСЕГО кончится, пределы расторгнутся и установятся другие, так мир станет для меня совсем другой»(53.210). Это должно стать явным при переходе из одной Обители в другую: «В момент перехода видно, что то, что мы считаем действительностью, есть только представление, т. к. мы переходим от одного представления к другому. Во время этого перехода видна или хоть чувствуется самая настоящая реальность. Этим важна и дорога минута смерти»(53.198). Для Толстого существование и понятие материи неотделимо от существования и понятия жизни (см., например, 53.232). Взаимосвязь эта уже существует в видении сна Пьера. В середине 70-х годов Толстой писал Н. Н. Страхову: "Я определяю жизнь – отъединением части, любящей себя, от остального. Без этого определения жизни неизбежно повторился бы круг, по которому человек был бы бог, центр всего. – Жизнь есть отъединение части от остального. Человек знает только живое. Поэтому для живущего доступно только живое, подобное ему; все же представляющееся ему мертвым есть живое, недоступное ему. Оно-то и есть непостижимое и не только соприкасающееся, но обнимающее его"(62.243-4). Через четверть века (в конце 1902 года) Толстой в письме Черткову, по сути дела, заново раскрывает представления, заложенные в видении «живого глобуса»: «Хотел нынче отвечать Вам на ваш философский вопрос, да не успел. А очень хочется ответить, тем более что я и не думаю отрицать реальности существования внешнего мира.*) Ответы мои на Ваши вопросы есть в моем дневнике, если у Вас есть список. *) Я подчеркиваю эту фразу для того, чтобы дальше помнить о ней. – И.М. Жизнь человеческая в этом мире есть рост, изменение отдельного ограниченного существа. Рост или изменения в этом отдельном существе мы познаем в виде движения. Отдельность же или ограниченность этого существа – в виде материи, тела. Пределы изменений нашего существа и изменений других существ мы познаем в виде движения. Пределы отдельного отграниченного существа мы познаем в виде материи. Меру изменений отношений, изменений разных существ дает нам время; меру пределов, отношения пределов разных существ, дает нам пространство. Так как мы познаем себя только как пределы изменений нашего существа по отношению изменений других существ и пределы своей отделенности по отношению других существ, то мы не можем не признавать существования существ вне нас. Мы узнаем некоторых из них по нашему отношению к ним и по аналогии их устройства и предельности с нашей. Некоторых же мы, хотя и прикасаемся с ними, как, например, с землей, солнцем, мы, хотя и признаем их нашими пределами, мы не знаем». Капли в «живом глобусе» Пьера «все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею». «Жизнь состоит в изменении, росте и расширении пределов. – Продолжает Толстой письмо Черткову. – Сначала расширяются пределы движения и материи, потом движение и материя не поспевают за ростом, и тогда они разрушаются, и наступает смерть: уничтожение пределов как движения, так и материи в этом мире». Впрочем, мысль Толстого не так проста, как может показаться на первый взгляд. Читаем дальше: «В какой форме переходит жизнь в новое состояние, мы не только не можем знать, но не можем и говорить. Мы скажем – «начнется новая жизнь», и скажем не то, потому что слово «кончилось», «начнется» означает последовательность во времени, а в новой жизни мы не имеем права предполагать изменений и движения, так как и то и другое есть свойство только этой жизни. Точно так и в пределах отдельности в материи и пространстве, так как и то и другое – свойство только этой жизни. Очень может быть, что мы и теперь живем, не сознавая изменений и пределов. Будет очень странно, если Вы что-нибудь поймете из всего этого. Но я очень понимаю, хотя и не умею еще высказать»(88.265-6).
4 (55) "Я знаю, чувствую всем моим существом, что и крепкая морозная земля, и деревья, и небо, и мое тело, и мои мысли – что всё это только произведение моих пяти чувств, мое представление – мир, построенный мною, потому что таково мое отделение от мира, какое есть. И что стоит мне умереть и всё это не исчезнет, а видоизменится, как бывают превращения в театрах: из кустов, камней сделаются дворцы, башни и т. п. Смерть есть не что иное, как такое превращение, зависящее от другой отделенности от мира, другой личности: то я себя, свое тело со своими чувствами считаю собою, а то совсем иное выделится в меня. И тогда весь мир станет другим. Ведь мир такой, а не иной только потому, что я считаю собой то, а не другое. А делений мира может быть бесчисленное количество. Не совсем ясно для других, но для меня очень"(53.211). Из этой цитаты видно, что пределами отделенности человека Толстой считает не собственно материальную его составляющую и даже не его живое тело, а «свое тело со своими чувствами», свою «личность», то есть весь психофизиологический состав человека, – тело и связанную с ним низшую душу человека. Понятие «материальное» у Толстого часто тождественно понятию «животное». Именно низшая душа в человеке исполняет функцию пределов отделенности высшей души человека. Впрочем, после второго Пробуждения Толстой совсем не занят жизнедействием низшей души самой по себе, а только Божественной сущностью человека и её светом. «Каждый из нас это свет, Божественная сущность, любовь, сын Божий, заключенный в тело, в пределы, в цветной фонарь, который мы же разрисовывали нашими страстями, привычками, так что всё, что мы видим, мы видим только через этот фонарь. Подняться, чтобы видеть через него, нельзя – наверху такое же стекло, сквозь которое и Бога мы видим, сквозь нами же разрисованное стекло. Одно, что мы можем – это не смотреть сквозь стекла, а сосредоточиться в себе, сознавать свой свет и разжигать его. И это одно спасенье от обманов жизни, от страданий, соблазнов. И это радостно и всегда возможно. Я делаю это. И хорошо»(53.176). Личность в составе человека – это нами же раскрашенный цветной фонарь и "всё, что мы видим, мы видим только через этот фонарь», через его стекла. Стекла цветного фонаря (своего рода цветная модификация пленки отделенности, через которую «капля» в "живом глобусе" воспринимает то, что вне ее) так искажают наш взгляд, что «мы» видим не то, что есть в действительности. «Мы» иначе и не можем. Но не это определяет ситуацию жизни человека, а то, что его духовная сущность заперта в фонаре личности. После своего второго Пробуждения Толстой все острее и острее осознает это. "Все чаще и чаще наступают времена, когда ничего не хочется в этом мире для себя и когда совсем ясно видишь (чувствуешь), что ты не то сложное телесное существо со всеми своими воспоминаниями, привычками, страстями, а что ты та духовная сущность, которая заперта в этот со всех сторон окрашенный твоими наклонностями, привычками, страстями фонарь; и что ты ничего не можешь видеть, понимать иначе, как через этот фонарь, и что ты и фонарь – две вещи разные; и что скучно смотреть через этот, тобою же разрисованный, все тот же фонарь и хочется смотреть в себя, или подняться выше и смотреть через окрашенные стенки туда, где нет преград и лишений. Хочется только помнить Бога, быть с Ним, и не хочется действовать… Если не смотришь на мир через надоевшие свои рисунки стекол, то больше занят разжиганием огня, света, который горит в фонаре. А то смотреть через стекла в мир – это сновидения действительности, а смотреть на одни стекла – это сновидения во сне"(88.72). На восьмом десятке жизни Толстой четко осознал «что ты и фонарь – две вещи разные». Его индивидуальное я постепенно отлипает от Я Божественного и «уже не нарушает жизни этого Божественного Я». Толстой вошел в такую стадию Пути восхождения, в которой духовная сущность не хочет быть в фонаре (в «личности») и желает вырваться оттуда. Но – откуда? "Жизнь индивидуальная, личная, – постигает Толстой, – есть иллюзия, такой жизни нет, есть только функция, орудие чего-то"(53.220). Жизни фонаря, жизни личности, накрепко завязанной с жизнью плоти, нет для Отца. Жизнь низшей души – функция отделенности духовного Я в человеке и орудие, нужное для осуществления чего-то, ради чего духовное существо послано в этот мир и находится в состоянии отделенности. Так как же вырваться отсюда? Можно ли и нужно ли? Еще в 1894 году Лев Николаевич получил письмо, автор которого писал, что, кроме надежды на получение разрешения его вопросов Толстым, ничто не удерживает его от самовольного ухода из жизни. Толстой ответилему так: «Жизнь есть освобождение души (духовной, самобытно живущей сущности) от тех условий телесной личности, в которые она поставлена. Бог есть то духовное самобытно живущее существо, по воле Которого душа наша заключена в нашу телесную личность. Освобождение души может быть двух родов: посредством одновременного или постепенного самоубийства, т. е. уклонение от исполнения воли Бога, или посредством исполнения в жизни того дела, для которого душа заключена Богом в нашу личность. Первое освобождение есть освобождение только кажущееся, потому что происшедшая от Бога душа, и вся находящаяся в Его власти, не может перестать быть тем, чем она должна быть по воле Бога, и, сколько бы она ни противилась, будет принуждена исполнить то, чего требует от нее Бог; только исполнить это с противлением и страданием; второе же освобождение есть освобождение истинное, состоящее во все большем и большем исполнении воли Бога и большем и большем приближении к Нему и уподоблении Ему…*) И приближение это возможно до бесконечности и в приближении этом благо»(67.268-9). *) Из видения сна Пьера: «каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать Его». Через пять лет, в 1899 году (то есть примерно в то время, к которому относятся все приводимые в этой главе цитаты), Толстой другому адресату отвечает на ту же тему: «Жизнь неистребима, она вне времени и пространства, и потому смерть может только изменить форму, прекратить ее проявление в этом мире. А, прекратив ее в этом мире, я, во-первых, не знаю, будет ли ее проявление в другом мире более мне приятно, а во-вторых, лишаю себя возможности изведать и приобрести для своего Я все то, что оно могло приобрести в этом мире»(72.175). Всё это так. И всё же состояние жизни Толстого теперь таково, что его духовное Я не может не желать «расшириться», вырваться из преград личности – к Богу. И удивительное дело: Толстой полюбил болезнь! "Удивительно и радостно мне, – пишет он в декабре 1899 года Черткову, – что я очень полюбил болезнь – то состояние, которое, разрушая эту форму*), приготавливает к вступлению в новую; прямо жалко выздоравливать. Это в первый раз я испытал в эту болезнь и очень рад этому"(88.185). *) То есть, разрушая пределы отделенности земной жизни И ему же через полгода, в 1900 году: "В чем же очень успел, это сначала в пренебрежении к смерти, а потом в равнодушии, а потом и в желании ее. Я сначала думал, что это нехорошо, но это неправда. Мы всегда желаем идти вперед: из дитяти стать юношей, из юноши – мужем; я желал и старости, и желаю смерти, потому что это всё ближе и ближе к благу. Нынче особенно живо, умиленно чувствую это и, любя Вас, не могу не желать Вам.*) В виду смерти как-то особенно хорошо, нежно и спокойно любишь людей, чувствуя, что люди проходят, но не проходит та связь любви, которая соединяет с ними. Часто не только думаю, но чувствую в мире только любовь и соблазны нелюбви, скрывающие, давящие ее, с которыми она борется; что это только есть, точно есть, а все то, что мы считаем реальностью: типографии, Файфильд, Буры, Чемберлен, Николай II, китайцы – это всё только поводы, к которым придираются соблазны и любовь в своей борьбе"(88.215). *) То есть желать другу смерти!.. В последующие два года Толстой много, долго и тяжело болел. Были и критические минуты, когда и он сам готовился к смерти, и близкие готовились проститься с ним. Но духовные переживания своей болезни и своей смерти, о которых мы рассказываем, лишь закреплялись во Льве Николаевиче. Зимой 1901 года: "Я все хвораю и слаб. Понемногу освобождаюсь от тела. В душе мне хорошо"(88.220). В конце марта того же года: «Вчера вечером, сидя один, живо вообразил себе смерть: заглянул туда или, скорее, представил себе всю ожидающую перемену с такой ясностью, как никогда, и было немного жутко, но хорошо»(54.93). «Сейчас, мая 20, почувствовал верность, близость, радость смерти, т. е. перехода в другую жизнь»(54.101). «Что было мне радостно и хорошо во время болезни, это то, что, умирая, я живу точно так же, как всегда. И что я чувствовал, или скорее: не чувствовал перерыва»(54.108). 22 июля, перед отъездом на лечение в Гаспру: "Вы спрашиваете о моем душевном состоянии во время болезни. Я уже писал Вам, что это было очень хорошее время. Освобожденная от животного духовная жизнь, ее сознание было особенно радостно. Всё, что прежде казалось неразрешимым, так легко и хорошо разрешалось, и как всегда – всеобщей духовной панацеей: осуждением себя, смирением и любовью. Теперь животное оживает, и опять самооправдание, гордость и недоброта. Относительно же смерти я совершенно был равнодушен. Жизнь духовная так интересна, что, будет ли она продолжаться здесь или там, было все равно. Так что мне надо бы сделать большое усилие, чтобы бояться перехода. Как прежде, когда я считал своим я – свое животное, я не мог представить себе жизни после смерти, так теперь я не могу представить себе прекращения жизни при смерти"(88.240). Из Гаспры: «Побывав, как я, в сенях того света, так ясно, что только одно на потребу – пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем»(73.135). И в 1902 году, уже после болезни: «Здоровье мое поправляется. Но это поправление напоминает мне лампу, в которую подлили масла в то время, когда уже начинает светать и было видно и без лампы»(73.267). «Одно могу сказать, что моя болезнь мне много помогла. Много дури соскочило, когда я всерьез поставил себя перед лицом Бога или всего, чего я часть изменяющаяся»(73.279). «Очень мне после болезни стала близка смерть, и я благодарю Бога за болезни, во время которых многое понял»(73.262). То, что Лев Николаевич понял тогда, столь значительно, что мы не смеем сокращать цитату: «По моему убеждению, не рассудочному, но выведенному из опыта длинной жизни, – сущность жизни человека – духовная: человек есть дух, частица Божества, заключенная в известные пределы, сознаваемые нами материей; и жизнь духа не подлежит никаким стеснениям, тем менее страданиям, – она всегда равномерно растет, расширяя те пределы, в которых заключена. Людям же свойственно поддаваться обману, иллюзии о том, что сущность нашей жизни в тех пределах, которые ее ограничивают, то есть в материи. И тогда, под влиянием этой иллюзии, мы смотрим на материальное страдание и в особенности на болезнь и смерть, как на несчастье; тогда как все материальные страдания (всегда неизбежные, как и самая смерть) только разрушают пределы, стесняющие наш дух, и, уничтожая иллюзию нашей материальности, возвращают нас к свойственному человеку сознанию своей жизни в духовном, а не материальном существе. Чем больше страдание материальное, чем ближе самая кажущаяся большим страданием смерть, тем легче и неизбежнее приводится человек к освобождению от иллюзии материальной жизни и к признанию ее в духе. Сознавая же жизнь свою в духе, человек, правда, не получает тех острых наслаждений, которые дает материальная животная жизнь, но чувствует свою полную свободу, неуязвимость, неистребимость, чувствует свое единение с Богом, с основною сущностью всего, – причем смерть не существует или смерть становится только избавлением и возрождением. И тот, кто испытал это состояние, не променяет его ни на какие материальные наслаждения. Я говорю это потому, что с необыкновенной силой и ясностью испытал это во время болезни. Выздоравливая, я испытывал 2 противоположные чувства: одно – радость оживающего животного и – сожаление духовного существа о потере, заглушении той ясности духовного сознания, которое было во время болезни. Но, несмотря на все вступившие при выздоровлении в силу соблазны мирской жизни, знаю верно, что моя болезнь была для меня величайшим благом. Она дала мне то, чего не могли дать ни мои рассуждения, ни суждения других людей. И то, что она мне дала, я уже не потеряю никогда и унесу с собой… Дай Бог вам почувствовать всю благодетельность страданий и приближения к смерти, неизбежной смерти. Правда, что для этого нужно верить в свою духовную сущность, частицу Бога, не подлежащую никаким изменениям или умалениям, тем менее страданиям или уничтожению… Помогай Вам Бог, прежде всего тот, который в вас»(73.295-6).
5 (56) Во время долгой болезни Толстой понял, что «жизнь духа не подлежит никаким стеснениям» и что «она всегда равномерно растет». Что «в этой жизни вспоминаешь не данные прошедшей жизни, а данные другой формы жизни. Жизнь всегда одна, только в каждой форме она кажется отделенной»(54.103-4). «Жизнь будущая, загробная мне так же ясна и несомненна, как и настоящая жизнь. Не только ясна и несомненна – она есть та же самая, одна жизнь»(54.107). Истинное течение нашей жизни, ее естественный духовный рост – это постепенное и незримое заполнение человека, его земной жизни, жизнью вечной. «Жизнь представляется мне так:

круглое подвигается вверх, стержень расширяет, и жизнь становится меньше, тоньше, так:

и, наконец, жизнь совсем сливается со стержнем, с вечным, неизменяющимся»(54.112). Картина «живого глобуса» показывала Жизнь Всего со стороны внешнего наблюдения. Капли сталкивались, расширялись и сжимались, поглощали одна другую, уходили в глубину, уничтожались на поверхности и прочее. Но что происходит во внутреннем мире капли, от ее возникновения (в пределах) и до разрушения ее пределов? В человеке, как всегда у Толстого, есть два начала. Одно – «стержень» – «вечное, неизменяющееся», само по себе не производящее движение человеческой жизни, только присутствующее в ней в качестве высшей души. Другое – «круглое» – жизнь низшей души и тела, жизнь пределов отделенности. Но это «круглое» не похоже на наружную шаровую пленку, отделяющую каплю от капли. Это – плоскость, имеющая круглую форму, круг из одного и того же «материала», круг материальной жизни, жизни низшей души. «Круглое» в рисунке Толстого есть то, что он прежде называл «животной личностью». В самом «круглом» нет высшей души, но он в процессе движения жизни от рождения до старости все более и более надвигается на «стержень» и оттого сам все более и более уменьшается и уступает место вечной жизни. Таким образом, «круглое» (личность) есть реально действующее начало, но оно «не имеет смысла отдельно, но имеет значение и смысл только как переходной фазис жизни»(54.51). Не надо думать, что образ надвигающегося на стержень круга действен только для высших духовных состояний на вершинах Пути. Это у Толстого образ земной навигации человеческой жизни как таковой. В каждой человеческой жизни есть это самонанизывание на стержень вечной жизни, которая в конце концов завладевает ею. Назначение человека и смысл его жизни в том, чтобы пособлять этому процессу. Отсюда «религия есть такое состояние, при котором поступки обуславливаются не соображениями об этой только, временной жизни, а соображениями о всей вечной, бесконечной жизни»(54.117). Религия – не столько вера или мировоззрение, как учил Толстой прежде, сколько состояние души, в котором человек ориентирован на вечную жизнь. «Круглое» уменьшается и разрушается не само по себе, а оттого, что уступает место стержню вечной жизни. Движение жизни личности относительно неизменной вечной жизни таково, что вечная жизнь неизбежно разрушает ее. Смерть при таком понимании движения жизни вообще не имеет значения. Теперь особое значение для Толстого обретает рождение. Вот один из его рисунков в записях конца 1902 года:

«Линии – это жизнь материальная, идущая все усиливаясь, – поясняет Толстой рисунок, – потом она идет ровно, потом к старости спускается. Точки – это духовная жизнь»(54.336). Телесная жизнь пределов отделенности и вечная духовная жизнь завязываются в человеке в одной и той же точке его рождения. Духовная жизнь идет, все расширяясь, и заполняет область, ограниченную телесной жизнью. Но телесная жизнь сама «к старости спускается», сама разрушается, сама по себе смертна. Из земли взята и в землю возвращается. Пучок же духовной жизни продолжает расширяться за пределами земной жизни. Всего интереснее в этом толковании жизни и смерти то, что в нем нет секрета смерти. Рождение – это взрыв, своего рода запуск из вечности в плоть и через плоть беспредельной духовной силы сознания и жизненности. Как и откуда этот запуск? – Величайшая тайна. «Какая удивительная тайна пришествия человека в мир»(56.30). Смерть столь же мало таинственна, как разложение плода, выпустившего из себя семя, или, как вскоре определит Толстой, таяние «оболочки изо льда», в которой разгорается огонь. Сама по себе смерть перестала ужасать душу и возмущать сознание Льва Толстого и стала восприниматься им не более как необходимое и благодетельное отпадение скорлупы созревшего ореха. И это у него не умозрение, а взгляд, подтвержденный опытом ежедневных душевных переживаний. Жизнь телесных («личностных») пределов накладывается на духовную жизнь и вмещает ее, но не у всех людей одинаково: у одних вмещает больше, у других меньше. Интересно, что на рисунке Толстого обозначены не только кривые, очерчивающие область возможного заполнения духовной жизнью. Между рождением и смертью на нем проведена еще и прямая линия, не образующая пространство духовной жизни. Случайно ли сделано это? Или надо понимать так, что возможна и бездуховная жизнь? Или линия эта – своего рода условная ось бездуховности, нужная для отсчета духовных возможностей, предоставляемых земной материальной жизнью в каждом конкретном случае? В том письме Черткову от декабря 1899 года, где Лев Николаевич говорит, что он «очень полюбил болезнь – то состояние, которое, разрушая эту форму, приготавливает к вступлению в новую», он пишет: «Содействовали много этому те последнее время все больше и больше занимающие меня и уясняющиеся мысли о жизни, в которой смерть есть только один из эпизодов, которые я надеюсь изложить ясно. Может быть, они помогут и другим людям так же, как помогают мне и жить и, идя ей навстречу, ожидать такую нестрашную, а радостную смерть"(88.185). Общечеловеческая ценность и важность ясного изложения такого учения о жизни несомненна. Но цельного произведения на эту тему Толстой не оставил. Быть может, потому, что он сразу же решил, что ему «не надо (да и некогда), главное, не надо писать систему»(54.73). Но еще и потому, что в нем из-за непрекращающегося духовного роста никогда не было той стабильности, которая необходима для создания цельной системы. Мы увидим, что мистические представления его год от года изменялись, и постараемся привлечь внимание к тому, что постигал Лев Николаевич, находясь на этой вершине жизни.
6 (57) Для ясного изложения учения о жизни необходимо столь же ясно понять: что есть жизнь сама по себе. О сущности жизни голос во сне Пьера ничего не говорил. «И пока есть жизнь, – сказал он, – есть наслаждение самосознания Божества. Любить жизнь, любить Бога». Бог наслаждается Своим Сознанием, пока есть Жизнь, то есть Сам Он. Основное духовное наслаждение, наслаждение сознания, неотделимо от Бога и Жизни. Наслаждение Божественным Самосознанием есть Любовь. Любить жизнь (наслаждаться ею) значит любить любовью Бога и любить Бога. Вот та мысль из «Войны и мира», которая впоследствии заложена в трактат «О жизни». Если «наслаждение» заменить «желанием блага» и «истинной любовью», а «самосознание Божества» – «разумным сознанием» и «разумом», то связь мысли из «Войны и мира» и основополагающих мыслей «О жизни» становится самоочевидной. И в «О жизни» и в «Христианском учении» твердо постановлено: жизнь есть любовь. Так это говорилось Толстым и в 1901 году. Правда, в новой редакции. Прежняя формула «жизнь есть желание блага» или «жизнь есть любовь» теперь расширена: «Жизнь, которую мы знаем, есть постоянное увеличение блага по мере увеличения любви. Это не только основное свойство жизни, но сама жизнь. И потому, если мы предполагаем жизнь за гробом, то эта жизнь должна быть в основе такая же, как и та, которую мы знаем, хотя и формах теперь непостижимых для нас»(54.106).. Лев Николаевич тяжело болел до середины 1902 года. 6 – 7 февраля – почти безнадежное состояние. Записи в Дневник делала дочь Мария Львовна. Через два месяца, 10 апреля (кризис почти миновал) Толстой диктует дочери. Все тот же вопрос о двух вариантах спасения: «Вопрос в том для нас: сольётся ли моя отдельная жизнь с бесконечным потоком жизни, или опять примет новую отдельную форму? В первом случае это верх невообразимого блаженства: нирвана, непосредственная жизнь в Боге. Во втором – это продолжение жизни в новой форме, обусловленное, по карме, моей здешней жизнью. Вопрос и страх в потере сознания своего «я» в обоих случаях не основателен. Но первый случай невероятен. Мы не имеем права предполагать жизнь вне отделенности, потому что не знаем такой. И потому остается только 2-й случай: новая форма жизни. Но предполагать новую форму жизни с удержанием сознания прежнего «я» мы тоже не имеем права, так как начали эту жизнь без сознания прежнего «я». Но сознание отделенного «я» зависит от пространства и времени. Переход же из одной формы в другую происходит вне пространства и времени. Мы пробуждаемся к новому сознанию (новой отделенности) сами не знаем из чего. Мы существуем вне времени и в той, и в другой, и в тысячной форме. «Прежде, чем был Авраам, Я есмъ»(54.128-9). В последних фразах сказано что-то определенно новое, понятое совсем недавно, во время болезни. Уже после болезни, в начале 1903 года, Толстой формулирует «особенно важное к определению жизни»: «Жизнь есть сознание. Сознаний два: одно – низшее сознание: сознание своей отделенности от Всего; и высшее сознание: сознание своей причастности ко Всему, сознание своей вневременности, внепространственности, своей духовности, сознание всемирности»(54.173). «Первое сознание – своей отделенности – я называю низшим потому, что оно сознается высшим духовным сознанием (я могу понять, сознать себя отделенным). Второе же сознание – духовное – я не могу сознать. Я сознаю только, что я сознаю, и сознаю, что я сознаю, что сознаю и так до бесконечности. Первое сознание (низшее) дает, вследствие своей отделенности, понятие телесности, материи (и движения и потому пространства и времени); второе же сознание не знает ни телесности, ни движения, ни пространства, ни времени, ничем не ограничено и всегда равно само себе. Вся задача жизни состоит в перенесении своего я из отделенного во всемирное, духовное сознание»(54.180). И тут же (читая Франциска Ассизского): «Жизнь есть сознание своего единства с Богом»(54.180), то есть жизнь не есть «низшее сознание», сознание отделенности, сознание человека, а есть сознание нераздельности, всемирности. Подлинно мы существуем в высшем сознании и из него «пробуждаемся*) к новому сознанию (новой отделенности)». Истинная жизнь всегда такая, какая есть – Жизнь Всего, Жизнь Бога, участником которой должен становиться человек. Этому служит и любовь, которая есть стремление сделать «свое сознание» сознанием Бога, слить себя с Ним: *) Толстой так часто использует понятие «пробуждения» потому, что «сон» – это состояние, когда действует и заправляет только животная личность (человек просыпается, как только заговорит душа), а «пробуждение» – когда начинает жить и может заправлять духовное Я. «Любовь есть стремление захватить в себя Все, сделать свое сознание сознанием Всего. В пределах, в которых сознает себя человек в этом мире, это невозможно, и потому любовь указывает ему на иной мир, приближает его к иному миру, в котором осуществится его стремление, когда разрушатся пределы – здешняя жизнь, препятствующая осуществлению его стремления»(54.167). Такова любовь к Богу, сливающая в единое целое Бога и высшую душу человека. Общий вывод – любовь не основополагающее, а производное начало жизни: «Любовь не есть главное начало жизни. Любовь последствие, а не причина. Причина любви – сознание своей духовности (то есть сознание нераздельности, Сознание, которым обладает Бог. – И. М.). Это сознание требует любви, производит любовь»(54.186), – конечно, агапическую любовь, которая, как в те же дни разъясняется, «есть признание собою всех существ мира»(54.183). Эти мысли образовали исходную позицию, с которой Толстой в 1903 году пытается в тезисах изложить свое понимание жизни. «Все это наброски мыслей неясные и часто не верные»(54.176), – предупреждал Лев Николаевич. Но вышло недоразумение. Чертков принял черновики тезисов за нечто завершенное и опубликовал их (вызвав легкое неудовольствие Толстого*)) сначала отдельной статьей под названием «О сознании духовного начала», а через два года и в книжке «Посредника». *) "Я не считаю их выражением своей мысли, а только попыткой неудачной выразить ее"(88.317), – написал Толстой Черткову 19 февраля 1904 года. Последнее время «О сознании духовного начала»*) часто цитируют. Но это совсем сырой материал. Исследователю надо пользоваться им осмотрительно. Когда издателям стало известно, что Толстой работает над «определением жизни», то к нему стали поступать предложения о публикации. Лев Николаевич твердо отвергает их: *) Название это способно создать ложное впечатление, что в этой работе Толстого говорится о сознании человеком духовного начала, – в себе или во Всем, – тогда как на самом деле речь идет о сущности Жизни и о том «высшем сознании», которым обладает Бог; вернее, о том сознании Бога Самого, которое несет в человеке Бог свой. «Работа эта слишком мне близка, важна для меня и не кончена (кончена она никогда мною не будет), и не присоединено к ней то, что нужно, и не приведена она в большую ясность»(74.225). Сознание Богом Себя в отделенности и сознание человеком Бога в себе источником своей истинной жизни, истинным началом себя суть два взгляда с двух сторон на одно и то же. Одно разъясняет другое. Но Толстому важно указать на то, что истинная жизнь везде и во всем одна и та же, что жизнь как таковая есть жизнь Бога. Определение жизни во сне Пьера, по которому жизнь это наслаждение Божества Своим сознанием, через 45 лет превратилось в определение жизни, по которому жизнь есть сознание Бога (неизменного духовного Существа), находящегося в состоянии отделенности от Самого Себя. Лев Толстой ищет точную формулу жизни как таковой. С нее он и начинает изложение: «I. Жизнь есть сознание неизменного духовного начала, проявляющегося в пределах, отграничивающих это начало от всего остального». Так сказано весной 1903 года. Запись Дневника 16 июля 1903 года вносит существенную поправку: «Я говорил и думал прежде, что жизнь есть сознание. Это неправда. Жизнь есть то, что открывается через сознание, и она всегда и везде есть, т. е. вневремена и внепространствена. Наше заблуждение в том, что мы то, что скрывает жизнь, принимаем за жизнь»(54.186). Впрочем, через два месяца в письме к Г. А. Русанову Толстой вроде бы возвращается к прежней формулировке: «Главная, основная мысль моя та, что жизнь – только в сознании. Без сознания мы не имеем права говорить о жизни». Но при этом объясняет: «Для понимания жизни неизбежно выбрать одно из двух: или признать жизнью свое временное существование… или признать то, что кажется сначала странным, но что вполне ясно, точно и разумно, – что наша жизнь есть наше сознание себя вечным, бесконечным, т. е. безвременным и непространственным духом, ограниченным условиями временных и пространственных явлений". На первый взгляд ничего нового нам не сообщено. Нет, – оказывается, сообщено. «Я так представляю себе*): *) С левой стороны каждой из фигурок внутри параллельных линий написано «рождение», с правой – «смерть»; такой надписи справа у последней фигурки нет.
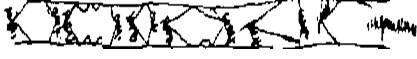
Параллельные линии, теряющиеся в обе стороны, не имеющие ни конца, ни начала, это истинная, духовная, Божеская жизнь. Соединяясь с нею, познаем то, что имеем право назвать жизнью. Фигурки, начинающиеся рождением, более или менее часто соприкасающиеся с вечной истинной жизнью, это жизнь людей с точки зрения внешнего наблюдения. Чем больше человек соприкасается с истинной жизнью, тем больше у него жизни. В стремлении к наибольшему соприкосновению задача совершенствования. Лучшая жизнь та, когда, как в последней фигуре, она сливается с вечной жизнью, и смерть уничтожается. В этом стремлении сущность жизни человека. Зачем это? Не знаю. Знает Тот, Кто владыко жизни, Кто – сама жизнь. Простите за всю эту чепуху. Всё это в таком зародышном и уродливом виде позволяю себе писать только Вам. Пишу потому, что эти смутно, неясно выраженные мысли для меня важны, и я живу ими»(74.244-5). В 80-х годах и, наиболее отчетливо, в середине 90-х годов Толстой помещал Божественное начало внутрь структуры человека и задачу совершенствования видел в перенесении Я в свою высшую душу, в Бога своего. Теперь Божественное начало выносится из структуры человека, так что речь идет о соприкосновении одной, земной человеческой жизни с другой, Божеской жизнью, о вынесении своего Я в нее – о непосредственном слиянии человеческой жизни с жизнью Бога. Не только смерть, но и рождение теперь не имеет значения. Значение имеют только точки соприкосновения с вечной жизнью. В записи Дневника от 24 ноября 1903 года представление о двух жизнях выражено еще яснее: «Две жизни, которыми живет человек, можно графически изобразить так:

Написано поперек: «Рождение]”, «смерть]»; в строку: «или так»; опять поперек: « Рождение]»,. «смерть]» Пунктирные линии обозначают телесную жизнь: рождения, роста, старения и смерти, уничтожения телесной жизни; черные же линии, идущие в обе стороны, обозначают вечную, истинную, неумирающую духовную общую жизнь. Проживая свою телесную жизнь, человек раньше или позже соприкасается с вечной жизнью*), и переносит в нее свое я. Тогда жизнь телесная уже совершается без его признания ее своим я. Телесная жизнь представляется ему нереальной не только в будущем, но и в прошедшем. Как скоро человек достиг до настоящей жизни, он бросает уже не нужную ему жизнь телесную. Она была ступенью для подъема до истинной жизни и не нужна более: она лестница. Она временна, в ней есть прошедшее и будущее, т. к. имеет цель доступную человеку; жизнь же истинная, духовная, общая, изображаемая черными, тянущимися в обе стороны бесконечными линиями, не имеет цели, доступной человеку и потому для нее нет времени. *) На левом рисунке Толстого это совершается в продолжение жизни (на ее духовной вершине), на правом рисунке это совершается при смерти, в последнее мгновение земной жизни. Тогда смерть – духовная вершина жизни. Слияние телесной жизни с вечной, достижение посредством телесной жизни, жизни вечной, иногда совершается незаметно, иногда порывами, иногда рано, иногда поздно. У меня было порывом. Блаженное время.*) Думаю, что слияние это совершается для каждого человека. (Вот и все. Как умел, сказал, но знаю, что это так)»(54.197-8). *) Мы приводили эти слова в части первой. Задача жизни человека достигается посредством телесной жизни, жизни пределов отделенности. Но дело вовсе не в расширении пределов, а в процессе слияния линии жизни человеческой с линией жизни Божественной. «Я прежде думал, что сущность жизни человека состоит во все большем и большем расширении пределов. Но это неверно, не может быть. В чем сущность жизни не дано нам знать. Одно, что мы знаем, это то, что все совершенствование человека состоит в наибольшем слиянии с непостижимой для него вечной жизнью; во все большем и большем слиянии своей линии жизни с теми двумя параллельными бесконечными линиями, которые влекут его к себе. Идеальная жизнь такая

(Бестолково, но мне нужно)» (54.199). В середине апреля 1902 года вариант слияния человеческой жизни с жизнью Божественной даже после смерти признан «невероятным» – «потому, что мы не знаем такой» жизни. Теперь же, всего через полтора года, этот вариант «знаем», и в такой степени, что уже в земной жизни признается нормальным в качестве отдельных соприкосновений, а в качестве полного слияния – «идеальным». Поразительная перемена. Жизнь истинная, вечная изображена на рисунках Толстого не в пространстве между параллельными линиями и не «над» или «под» ними. Божественная жизнь есть всегда и везде – показать ее нельзя. Но «с точки зрения внешнего наблюдения» и в отношении земной жизни человека она изобразима «параллельными линиями, теряющимися в обе стороны, не имеющими ни конца, ни начала", линиями, с которыми земная жизнь может соприкасаться. При таком соприкосновении человеку через высшее сознание «своей причастности ко Всему, сознание своей вневременности, внепространственности, своей духовности» открывается Вершина жизни, к которой всегда стремился Лев Толстой. И теперь, надо полагать, реально приближается к ней. Читая и раз за разом перечитывая Дневники Толстого этих лет, все отчетливее создаетсяь впечатление, что Толстой занят не столько тем, чтобы на основании своих прозрений дать ясную формулу жизни, сколько пробует уяснить – и более всего для самого себя, – то новое состояние сознания себя живущим, в котором он (возможно, неожиданно для себя) оказался. Это свое редкостное состояние сознания жизни он, по своему обыкновению, выставляет нормой и осмысливает всю человеческую жизнь с точки зрения этой нормы. Ему даже кажется, что каждый человек способен посредством телесной жизни достигнуть жизни вечной, что телесная жизнь и существует этого только ради. Более того, что сочленение смертной телесной жизни с вечной жизнью всегда, рано или поздно, совершается в жизни любого человека. То, что сами люди такого не замечают и Льву Николаевичу надобно объяснять им, есть результат недомыслия и недоразумения. И в последующем Толстой (в письмах, разговорах, статьях, книгах) признавал возможность перехода из Обители в Обитель, но его самого этот «вариант спасения» интересовать явно перестал. Сам он устремлен уже не туда. Он взлетает к Вершине Жизни, к Богу, Который непосредственно питает Птиц Небесных. *)Написано поперек: «рождение»; в строку: «и нет смерти».
7 (58) «C точки зрения внешнего наблюдения» низшее сознание человека (сознание телесности, своей отделенности) рисует между параллельными линиями вечной жизни фигурки расширяющихся пределов земной жизни. Само по себе расширение пределов не предоставляет пространство для вечной жизни, не впускает ее в пределы и в этом смысле не имеет значения. Значение имеет только такой вид превращения пределов, при котором земная жизнь входит в соприкосновение с линиями вечной жизни. Что, как хорошо знает Толстой, нередко происходит в результате переносимых страданий: Вот несколько записей из толстовского «Круга чтения» на 23 марта: «Ищи в страданиях их значение для твоего душевного роста, и уничтожится горечь страдания». «Страдания необходимые условия роста как физического, так и духовного». «Признак роста есть страдание. Не может без страдания перейти жизнь из одной формы в другую. Не может, потому что самое страдание вызывает рост». Запись из Дневника 1903 года: «Лишения, горести, страдания (не только тех, кто умеет воспользоваться ими, но всех) загоняют из области низшей, исполненной лишений и препятствий материальной жизни, в область духовной жизни – радостной и свободной. Из этого не следует, чтобы надо было искать страданий, но то, что они, как и всё в мире, для человека благо. Страдания регулируют нашу жизнь. Ацетиленовые фонари устроены так, что карбид, прикасаясь к воде, развивает газ. Когда же газа слишком много, он поднимает карбид, и образование газа прекращается. Так же и материальная жизнь: когда она слишком наполнится страданиями (свойство ее в том, чтобы производить страдания), сознание и внимание поднимается, переходит в область духовную, и страдания прекращаются»(74.81-2). Впрочем, часто такое случается или редко или вообще не случается, но вся остальная земная жизнь – не в счет. Она есть то, «что скрывает жизнь» истинную, и что мы лишь «принимаем за жизнь», поскольку и земная жизнь обладает сознанием. Поэтому сознание земной жизни Толстой иногда называет личностным сознанием или сознанием личной жизни. "Ведь в этом жизнь, чтобы заменить сознание своей личной жизни сознанием Бога"(75.225). К своей земной жизни, к жизни пределов отделенности людям следует относиться как к «лестнице», посредством которой может совершаться подъем к истинной жизни. Взбирается по этой лестнице – «Я» человека. Как только «Я» достигло до последней ступени лестницы и вступило в соприкосновение с истинной жизнью, разъясняет Толстой, так «Я» отбрасывает лестницу, «бросает уже не нужную ему жизнь телесную», и она, продолжаясь в пространстве и времени, «представляется ему нереальной не только в будущем, но и в прошедшем». Толстой, несомненно, сам знаком с этим явлением и делится с нами своим опытом. В соответствии с его собственным трансперсональным опытом истинная жизнь, изображенная им при помощи уходящих в бесконечность двух параллельных линий, неподвижна. Движение жизни происходит только в фигурках земной жизни, которая с позиции истинной жизни нереальна «не только в будущем, но и в прошедшем». Поэтому всякие движения человеческой жизни по сути своей иллюзорны. Все люди, собственно говоря, сознают одно и то же, пишет Толстой Черткову в декабре 1903 года. – «То, что одно есть, одно реально и как будто движется, как будто растет, в сущности же кажется растущим во мне, давая мне этим возможность жизни и блага. Мне мысли эти дороги, и Вы, надеюсь, поймете меня»(88.314). Однако «без движения нет отделения. В сущности же мы, как и Бог, стоим неподвижно, и нам только кажется, что мы разрываем, расширяем пределы. В этом жизнь. Бог нами дышит»(55.3). Когда прежде Толстой говорил о расширении пределов и видел в этом смысл жизни человеческой, то он имел в виду личное совершенствование усилиями любви, самоотречения, преодоления суеверий, соблазнов и грехов. Это и теперь, конечно, не утрачивает смысл, но отходит на другой план. Что требует иного, чем прежде, символа Веры. « Движение есть иллюзия, необходимо вытекающая из нашей отделенности. Признать смысл жизни в нашем отдельном совершенствовании (расширении пределов) нельзя, потому что всякое совершенствование, всякое расширение есть ничто среди бесконечного пространства и времени; признать смысл жизни, как я это делал прежде, в прогрессе – единении существ, опять нельзя, потому что опять всякое единение ввиду бесконечности пространства и времени есть ничто. Так что жизнь наша есть движение только для нас, но в действительности жизнь неподвижна. Для чего-то я есмъ отделенное от всего другого духовное существо, которому кажется, что оно между рождением и смертью движется среди движущихся существ. Существу этому (живется. – И. М.) несомненно твердо, хорошо только в той мере, в которой оно сознает свою духовность. Сознание же этой духовности кажется ему расширением его пределов. И потому я признаю это сознание своей духовности или расширение пределов своим законом, или волей Того, кто поставил это духовное существо, составляющее мою жизнь, в условия отделенности. Отделенность духовного существа и кажущееся расширение своих пределов не имеет для меня никакого смысла, но смысл этот, недоступный для меня, должен быть и есть. – В этом-то, в том, что жизнь моя имеет непонятный для меня, но глубокий смысл, в этом истинная и необходимая людям вера. Я верю, что есть Тот, для Кого моя жизнь имеет смысл, и есть смысл в моей жизни»(55.4-5). Такова новая Вера, которая позволяет Толстому занять прочную жизненную позицию в новом состоянии сознания себя живущим на свете. «Какое заблуждение и какое обычное: думать и говорить: я живу. Не я живу, а Бог живет во мне*). А я только прохожу через жизнь или, скорее, появляюсь в одном отличном от других виде… Бог живет во мне или, скорее, через меня или, скорее: мне кажется, что есть я, а то, что я называю мною, есть только отверстие, через которое живет Бог»(55.6). *) Уже не Бог свой, духовное Я личной духовной жизни, а Бог Сам, Бог вечной жизни. Так это может видеться только в состоянии жизни Птицы Небесной. Однако этим положением представление о «Я», как о духовном существе, не утрачивается. «Я – духовное и потому внепространственное, вневременное, бесконечное, вечное существо, отделенное от своего начала (знаю, что слово и понятие отделенности есть понятие временно-пространственное, но не могу иначе понимать). И это отделенное существо рвется из своих пределов, как сжатый газ; и в этом жизнь, что оно, сознавая свою духовность, свое единство со Всем, стремится соединиться с ним. В этом стремлении, усилении сознания, в этом трепетание Божеской жизни»(55.9). «Мы трепещем в мире, и это трепетание есть жизнь и благо»(55.167). «Трепетание жизни» у Толстого второй половины 900-х годов – это и положение самой высшей силы Жизненности в отделенности, и образ существования жизни в человеке. Жизнь вообще всегда находится в трепетании: то разгорания, то угасания, в каждомоментной готовности вспыхнуть или погаснуть, ожить или умереть, всегда находится в состоянии пограничности, в самонеустойчивости и самоненадежности – в полной своей зависимости от своего Начала. Трепетание самосознающей жизни в человеке при соответствующем «усилении сознания» в нем неизбежно переходит в трепет перед Богом. Вот на таком пике «усиления сознания», переживания «трепета» жизни в себе перед Богом и переживания «трепетания Божеской жизни» в себе у Толстого возникают те мысли, которые с его подачи будут в более определенном и несколько огрубленном виде положены его учеником П. П. Николаевым*) в основание учения "духовного монизма". Но тут мы предоставляем слово самому Толстому: *) О П.П. Николаеве и его трудах смотри мою статью в "Толстовском ежегоднике" № 1 (№4), 2002 год. «Мир состоит из отделенных частей Божества. Отделенность дает материальное движение. Только уничтожься материя – и нет отделенности. Точно так же уничтожься движение – и нет отделенности. И потому материя и движение существуют только для нас, для отделенных существ. Для Бога нет ни материи, ни движения, но есть бесчисленное количество отделенных существ, которые мы можем познавать только в пространстве, т. е. ограниченно, и во времени, т. е. в настоящем и отчасти в прошедшем. Для Него же, для Бога, они все, отделенные существа, существуют без пространства и времени. Все отделенные существа по свойству своему стремятся расшириться и перейти в другую, высшую отделенность. В этом наша жизнь. Для Бога же они уже расширились и перешли в другую и третью и в бесконечное число форм жизни. Мы же всё это переживаем. И в этом жизнь и благо. В сущности, для Бога всё стоит, всё неподвижно и бестелесно, но есть жизнь. Какая? Мы не можем понять и знать. Наша же жизнь состоит в переходах из одной жизни в другую, вечное движение, вечное воскресение, вечный рост.*) Но хотя жизнь наша и духовна, и материя и движение – условия нашей отделенности, жизнь в этом мире не только не призрак, но самая настоящая единая жизнь, и цель нашей жизни – служение той общей жизни, которую мы знаем»(55.12-13). *) Обратите внимание: вечный духовный рост тут – это движение сквозь Обители, из одной низшей отделенности в другую, высшую отделенность – «вечное воскресение». И наконец: «Для себя я – одно цельное существо, составленное из меня, прошедшего через время; для высшего же существа я – только выражение его ограниченного сознания. Трудно понять, но так»(55.14-15). Толстой ищет понятийную формулу, выражающую его состояние жизни и вместе с тем существование вообще, Существование как таковое, формулу, включающую Бога и мир, жизнь и смерть, материю и сознание, смысл и цель, время и пространство, человеческую личность и Божественное «Я». Человеческое «Я» определено здесь как выражение «ограниченного сознания» Бога, сознания Самого Бога в отграниченности. «То, что я называю своим телом, своим организмом, есть то отверстие, через которое я сознаю. Уничтожь организм – закрывается отверстие… Смерть – это захлопнутое окно, через которое смотрел на мир, или опущенные веки и сон, или переход от одного окна к другому»(55.17). «Для Бога всё, что было и будет, всё это есть, все сливается в Его жизни, как в моей жизни сливается в одно всё мое прошедшее, настоящее и (сливается, наступая) будущее»(55.24). Как человек не в силах обнять в одно и то же время настоящее, прошедшее и будущее, «точно так же человек не в силах совместить сознание тела, души и Бога; а они совмещаются в его жизни и живут одновременно в нем»(55.23). «Вся загадка, вся трудность, весь узел определения жизни в том, что жизнь есть сознание настоящего мгновения, и вместе с тем моя жизнь есть жизнь всего мира и в пространстве и во времени, но я не могу ее сознать всю (как может, должен сознавать Бог), но сознаю ее по частям во времени и пространстве. Я – и я в 50, и 30, и 20 лет, и 10, и во время рождения, и до рождения, и в отце, деде, прадеде и во всем существующем. Все это во мне уже есть. И все, что будет со мной при жизни и после смерти, всё это уже есть, но я только не пережил еще этого, но переживу. И только от этого есть движение и материя, время и пространство. Опять на пределах откровения и бреда»(55.30-31). Не мудрено, что иногда Толстому кажется, что он уже перешел грань разрешенного человеческому пониманию. «Мне становится страшно, что я заглядываю туда, куда не следует заглядывать»(55.20).
8 (59) К началу июня 1904 года Толстой осознает, что то, что он переживал последнее время «на пределах откровения и бреда» есть переход еще на одну новую и высшую ступень сознания Жизни. «Все последнее время не только не ослабляется во мне сознание своей причастности Божеству, но усиливается и помогает жить и делать легко то, что прежде делал с трудом. Боюсь ошибиться, но мне кажется, что я начинаю переходить на новую ступень сознания, жизни в Боге, жизни Богом. Начинаю чувствовать не только возможность*), но естественность такого состояния. Еще шатко, но могу уже стоять»(55.39). *) Как прежде было. – И.М. Мистическое творчество Толстого – не плод умозрения или интуиции. «Человек, – учит Толстой, – познает что-либо вполне только своею жизнью»(55.29). Мистика Толстого опирается на его опыт духовной жизни, на его собственную практику жизнесознавания и духовного роста. Еще в начале года Толстой жил, как Ной, «перед Богом»(55.6), теперь же он чувствует в себе жизнь «в Боге», начинает, хотя «еще и шатко», «жить Богом», в обладании сознаниемБога, в Его Свете. Всё, что ни скажет Толстой теперь, в этом состоянии «жизни Богом» всё – чрезвычайной важности. Еще недавно Толстой «представлял себе сознание, как ограниченное отверстие в шару. Сначала границы этого отверстия представляются телесным существом, потом то, что составляет содержание этого отверстия, представляется духовным существом, и под конец самое содержание шара, все содержимое его признается собою. Так что высшее сознание возвращается назад в себя. Но это не так. – Решает он теперь. – Телесным существом представляются те пределы, которые ограничивают то, что сознается собою, потом признается то, что находится в пределах. Потом это как бы стекло или лед все утончается и утончается, и сознание переходит не назад, а вперед, в высшую сферу. Все это чепуха, но не могу отстать»(55.30). Не может отстать и через день пишет: «Сначала кажется, что я – материальное (я принимаю свои пределы за себя), потом кажется, что я – что-то духовное, т. е. что-то, как материалисты говорят, что-то из тонкой материи, отдельное. Потом сознаешь, что ни материального, ни духовного нет, а есть только прохождение через пределы вечного, бесконечного, которое есть Все само в себе и ничто (Нирвана) в сравнении с личностью»(55.31). Чтобы правильно воспринимать то, что говорит Толстой, надо помнить, каково теперь значение «личности» и «Я» в его терминологии и каково различие этих терминов. «Если есть бессмертие, то оно только в безличности. Истинное Я есть Божественная бессмертная сущность, которая смотрит в мир через ограниченные моей личностью пределы. И потому никак не могут остаться пределы, а только то, что находится в них: Божественная сущность души. Умирая*), эта сущность уходит из личности и остается чем была и есть. Божественное начало опять проявится в личности, но это не будет уже та личность. Какая? Где? Как? Это дело Божье»(55.24). *) При смерти человека? –И.М. В соответствии с новым состоянием духовной жизни и новым пониманием ее в 1904 году, фундаментально изменяется данная год назад в «О сознании духовного начала» формула жизни. «Разница моего первого понимания и теперешнего, и великая разница, в том, что духовное существо, Бог, не может быть ограничено, не может быть частью; сознание же этого духовного существа может быть ограничено»(55.16). «Сознание в нас, – не сознание, а то безвременное, внепространственное начало жизни, которое мы сознаем, – неподвижно, нетелесно, вневременно, внепространственно. Оно одно неизменно есть, и жизнь состоит в том, что мы все яснее и яснее, полнее и полнее сознаем его. Сознаем же его яснее и полнее потому, что не сознание растет, – оно неизменно, – а скрывающие его пределы утончаются. Как бы темная, густая туча, сквозь которую с трудом просвечивает солнце, двигаясь, заслоняет солнце все более и более светлыми частями, и солнце выплывает из нее. Тоже с нашей жизнью. В этом все движение жизни. Нам кажется, что движемся мы, а это движется то, что скрывает от нас нашу истинную сущность»(55.48). В конце августа 1904 года на первый план выходит понятие «просветления». «Мне вполне ясно, близко стало то, что жизнь есть просветление, снимание покровов с сущего. Оно стоит неподвижно, но вокруг него все просветляется, снимаются покровы, оно познает все новое и новое, и ему (сущему? – И. М.) кажется, что оно движется и что его жизнь в этом движении. Если бы оно было одно, то просветление это было бы просветление, а не казалось бы движением. Но оно не одно, оно просветляется среди различно просветляющихся существ, и эти различные степени просветления дают понятия движения во времени, которое есть только отношение просветлений… Сравнить это можно с теплом, светом, заключенным в оболочки льда, вообще тающего от тепла вещества различной толщины. Я одна из таких частиц тепла и света и, по мере таяния оболочки, вижу все более и более другие частицы тепла, растопляющие свои различной толщины оболочки»(55.82). «О том же, о просветлении: Я, постепенно просветляясь (живя), выражаю себя… Я не могу и должен не мочь понять все. Но я знаю направление и движение, знаю, главное, что я, истинный я, не бесконечен, не бессмысленен, но сущий и стою неподвижно, а то, что мне кажется, что я движусь и все движется, есть только просветление, в чем жизнь. И это важно и нужно. (Дурно написано, но для меня и для тех, кто войдут в мой ход мыслей, понятно.)»(55.84). «Если же жизнь есть и вне времени, то для чего же она проявляется во времени и пространстве? А для того, что только во времени и пространстве, т. е. в состоянии отделения себя от Всего, может быть жизнь, т. е. движение, то есть, стремление к расширению, просветлению. Если бы не было отделения частей, не было бы движения, не было бы жизни. Бог, говоря общепринятым языком, был бы неподвижный, один; теперь же Он живет с нами, нами – всеми существами мира… Без ограничения пространства и времени не было бы нас, не было бы блага нашей жизни, состоящей в расширении, просветлении»(55.92). Вся «жизнь представляется в освобождении духовного начала от оболочки плоти», считает Толстой. Но это освобождение духа от плоти не то, что бы происходило или произошло, а есть. И человек, каким он стал теперь, и жизнь всего мира теперь – всегда была и есть такая, какая есть. Есть, но делается. Вот сущность «просветления». То, что есть, «открывается мне по мере моего движения по жизни. Это есть, а я делаю это. В этом жизнь. Жизнь моя открывает мне меня самого. В этом открытии себя и есть жизнь. Вся моя жизнь есть один поступок. И поступок этот совершен. Я только не знаю его. – Что же, стало быть, человек не свободен? – Отчего? Я делаю себя и жизнь. И то, что я делаю, этого самого хочет Бог»(55.120-1). Через несколько дней Толстой записывает слова, которые он потом повторял не раз. Мы приведем их в том виде, в котором они сказаны впервые: «Вся моя жизнь от рождения и до смерти – не смотря на то, что я могу находиться в начале или в середине ее – уже есть; и то, что будет, так же несомненно есть, как и то, что было. Так же есть и всё то, что будет с человеческим обществом, с планетой землей, с солнечной системой; я только не могу видеть всего, потому что я отделен от Всего. Я вижу только то, что открывается мне по мере моих сил. Я живу и, переходя из одного состояния в другое, вижу (так сказать) внутренность жизни. И, кроме того, главное, имею радость творчества жизни. То, что всё, что составляет мою жизнь, уже есть, и вместе с тем я творю эту жизнь, не заключает в себе противоречия. Все это есть для высшего разума, но для меня этого нет, и я имею великую радость творить жизнь в тех пределах, из которых не могу выйти. Если допустить Бога (что необходимо для рассуждений в этой области), то Бог творит жизнь нами, т. е. отделенными частями своей сущности»(55.123). Ранее Толстой говорил, что Бог дышит нами или живет нами, как Своими клетками. Теперь: Бог творит нами жизнь – творит Свою Жизнь. Из мысли творчества жизни тотчас вырастает мысль о «Я» человека: «Если будет жизнь – где бы и какая бы она ни была или иначе, если есть жизнь, то есть и я. Жизнь это – я. Без меня нет жизни. Это очень важно. Это ответ на вопрос: кончается жизнь со смертью? Если бы с уничтожением я, т. е. сознания, уничтожалась жизнь, то я бы сказал и знал, что уничтожается и я. Жизни нет без я. Когда я вижу, что человек умирает, и мне перестают быть видимы проявления его сознания, то это не доказывает того, чтобы уничтожилось то, что сознает*)»(55.124). *) Тут «Я» – и сознание, и тот, кто сознает. Пройдет год и Толстой доведет эту мысль до необходимой ясности: «Все открывается, открывается, пока живешь, одним и тем же постоянным темпом. Но наступает смерть, и или перестает открываться то, что открывалось, или перестает видеть тот, кому открывалось. Тот же, кому открывалось, не может не остаться, потому что все, что было, было только потому, что он был. Он один есть»(55.246). 16 апреля 1905 года Толстой отмечает в себе новое качество: «Бывает это последнее время такое – минутами – ясное понимание жизни, какого никогда прежде не было. Точно сложное уравнение приведено к самому простому выражению и решению»(55.134). Через месяц, 24 мая: «За последнее время все яснее и яснее представляется мне смысл, т. е. мое и всех людей положение в жизни. Иногда так ясно, что жутко»(55.140-1). Это «яснее и яснее» относится и к тому, что недавно Толстой называл «философским бредом». «Вещество – это предел, в котором заключено нераздельное духовное начало; движение есть то, что выражает (проявляет) единство, нераздельность духовного существа. Не будь вещества, не могло бы быть отделенности духовного существа. Или иначе: Отделенность духовного существа представляется веществом. Не будь движения, отделенное существо не было бы единым со Всем. Или иначе: единство отделенного существа представляется движением. Не будь нераздельного духовного существа, заключенного в пределы, не было бы жизни. Жизнь есть единство в разделенности, или разделенность в единстве»(55.136-7). «Все в одном»(55.143). Запись в Дневнике о положении человека в жизни. Обратите внимание на совсем не дневниковую четкость и обдуманность формулировки. «Люди учат других, уговаривают их…*) все это недоразумение. Человеку никак ничего нельзя внушить, еще меньше человек может заставить сам себя что-нибудь пожелать, понять, полюбить, даже сделать. – *) Многоточие в подлиннике. Сам человек над собой ничего не может сделать. Он изменяется, переходя из сознания животного в сознание духовное, и эти изменения ему кажутся самопроизвольными. Но это не так: человек так же подлежит неизменным законам в области телесной, как и в области духовной. Разница только в том, что в области телесной он страдает, а в области духовной испытывает постоянное благо… И потому человек не может сам на себя воздействовать. Только другие могут воздействовать на него, и он может воздействовать на других в области духовной. Воздействие в области духовной состоит в воссоединении себя со Всем. Чтобы воздействовать на другого, надо только помогать ему выйти из своего одиночества и соединиться со всем духовным миром прошедшим, настоящим и будущим. (Соединение с будущим есть то, что мы называем идеалом). Самому же надо укрепляться этим единением»(55.141-2). Отсюда – практический вывод: «Ты только передаточное орудие, через которое действует сила Божья. Твое дело только в том, чтобы держать в порядке орудие – себя, свою душу»(55.146). Ибо «Он проявляется через всех нас и не исключительно и больше через кого-нибудь одного, а через всех: в одном в одно время и для одних людей, в другом в другое время и для других людей. Все мы равны, все – органы Бога; в одном он больше открыт в одно время, в другом – в другое. Так и надо смотреть на людей, на всех людей»(55.174). «Человек, живущий духовным сознанием, не может быть несвободен: он живет в Боге. Но приходит человек в духовное сознание не по своей воле»(55.152). «Все совершающиеся изменения в жизни людей, все существенные – совершаются по духовным причинам. Но это не только не значит того, что изменения эти произвольны, но, напротив, показывает, что они непроизвольны, т. к. изменения духовные вне власти человека – они сама жизнь»(55.155). И наконец, еще одна, следующая, формула жизни: «Всем отделенным существам открывается их духовная сущность постепенно. И это открывание есть то, что мы (для себя) сознаем жизнью, движением жизни»(55.154). «Мы видим будущее на длину видимого нами прошедшего. Ребенок – на длину месяцев, года, муж – десятилетий, старец – полустолетий, и перед самым концом, как я, уже видит за пределами жизни»(55.159). «То, что мы называем движением нашей жизни, есть только снятие с нее тех покровов, которые скрывают нам часть ее. Так же, как выступание предметов, прежде залитых водой, когда она сбывает, кажется нам движением этих предметов»(55.160). Общее понимание жизни, как оно сложилось у Толстого в 1905 году, изложено им в письме В. Г. Черткову: «То, что я считаю собою, есть сознание Божественного начала, которое проявляется в одной части Всего. Часть эта ограничена пределами телесности (материи) в пространстве, то есть что Божественное начало в пределах телесности сознает себя, и это я считаю собою. Это Божественное начало по существу своему свободно и всемогуще и также свободно и всемогуще и в пределах телесности, потому что оно проявляется во времени. Эти-то проявления Божественного начала в пространстве и времени и есть то, что мы называем своей жизнью… Божественное начало изменяет и творит жизнь, смотря по степени своего сознания того, что я называю собою. Сознание может быть низшее, животное, руководящее всеми движениями существа, может быть и более широкое, семейное, родовое, общественное, борющееся с сознанием личным, животным. И, наконец, может быть сознанием высшим, несовместимым с проявлением его в пространстве и времени, и тогда жизнь кончается. Во всяком случае, жизнь изменяется и направляется вследствие изменения сознания. Сознание же всегда всё более и более расширяется. Так что жизнь есть освобождение (всё большее и большее) сознания своей Божественности. Не началось сознание Божественности (выражающееся свободой) своего существа, заключенного в телесности, – не началась жизнь. Кончилось сознание своего заключенного в телесность Божественного существа – кончилась жизнь. Умирает не то, что сознаваемо, а то, что сознает… Всё дело в иллюзии себя, своего я, которого нет и никогда не было. Есть только Бог, и я его проявление, и чем больше я сознаю это (а вся жизнь неудержимо ведет к этому сознанию), тем мне легче, тверже и тем лучше всем, с кем я имею дело. Я только отверстие, через которое проходит жизнь (турбина). Я – ничто. То, что происходит, то всё, и я могу слиться с ним"(89.44-45). В начале 1906 года в формуле жизни появляются новые мотивы. Из записи от 18 февраля: «2) То, что мы называем жизнью (своей жизнью, жизнью человека. – И. М.) есть постепенное обнаружение для нас, посредством времени, скрытой от нас цельности своей личности и доступной нам жизни мира. – Посредством времени открывается нам все наше существо и вся связанная с нами жизнь мира. (Ну, как бы сказать?) Без времени я в молодости, положим, до 16 лет, был бы только кусочек самого себя, теперь же я почти весь я, а когда буду умирать, буду весь я: сознаю себя всего. И мир, как я знал его (скажем) до 48 года, был нечто совсем другое, чем то, что я теперь разумею под жизнью мира. Конечно, и я, когда умру, все-таки буду сознавать только кусочек всего себя, и так же и с тем, что я познаю из жизни мира. Когда понял это, понял, что в этом всё большем и большем просветлении и расширении как отдельного сознания, так и сознания мира состоит жизнь и твоя и жизнь мира и что к этому она идет помимо твоей воли, то понятно, что самое лучшее, что я могу делать, это то, чтобы самому стремиться к этому просветлению, расширению, что самое лучшее, спокойное, радостное это то, чтобы самому содействовать тому, что делается помимо тебя: грести, плывя по течению. 3) Зачем это делается? Невольно спрашиваешь себя. Какая цель этого просветления сознания личного и сознания мира? Вопрос этот человеческий, т. е. свойственен существам, живущим во времени (причина и следствия ведь возможны только во времени). Для людей что-то совершается, и естественен вопрос: что будет из совершения. Для Бога же все совершилось или не начало совершаться, а все есть. Движение во времени и вытекающие из него вопросы: зачем, почему, свойственны только слабости человеческой»(55.195-6). Через несколько месяцев – еще важное уточнение: «Мое понимание жизни можно выразить так: жизнь человека это постепенное раскрытие его для самого себя среди окружающих его явлений, раскрывающихся для него по мере его раскрытия»(55.225). К концу года мысль эта уясняется, все более обретает законченность, хотя все еще не удовлетворяет Толстого: «Мне представляется, что я движусь, и весь мир движется, и я называю это временем, тогда как ничто не движется, а происходит только то, что я открываюсь сам себе вместе с открывающимся мне миром… Моя жизнь со всем видимым из моей жизни миром раскрывается мне, но она всегда была и есть и будет; и моя смерть, о которой я знаю по наблюдению и сознанию, тоже уже есть. И есть все то, что сопряжено со смертью. Так что случиться со мной и со всем миром ничего не может, так как все уже есть. Жизнь есть все большее и большее раскрытие того, что есть, и потому смерть должна быть тоже открытие, но открытие чего-то такого, чего мы не знаем и не можем знать, т. к. о том, что открывает жизнь, мы знаем по рассказам людей, о том же, что откроет смерть, ничего не можем знать. Жизнь есть равномерное, постепенное раскрытие себя. При раскрытии я знаю в себе бесконечную, неограниченную силу, и сознание этой силы дает мне чувство свободы. Мне кажется, что то раскрытие, которое составляет мою жизнь, есть мое движение, и я делаю свою жизнь. Но я не делаю ее, а только имею радость участия в ней. Всё, что я сделаю, уже есть. (Все, что я делаю, это только одно из воспоминаний Бога.) Но я имею счастье сознавать себя участником жизни мира. (Не ясно, но я не отчаиваюсь.)»(55.271-2). 19 ноября 1906 года смертельно заболела особенно любимая дочь Маша. Кто-то испытывает Толстого, ставит ему экзамен на твердость и подлинность его сознания жизни. Вот хронология событий. 20 ноября Толстой, по воспоминаниям Маковицкого, рассказывал, что «он так ясно видел во сне, что Маша умерла»(55.576). 23 ноября, по записи Маковицкого: «сегодня утром и днем в полном сознании. Л. Н. очень встревожен и угнетен болезнью М. Л., как и все в доме. Сегодня, сидя у нее, плакал и сказал ей: «Терпи»(55.577). Дневник Толстого от 23 ноября: «Вообще чувствую одну из самых больших перемен, совершившихся во мне именно теперь. Чувствую это по спокойствию и радости и доброму чувству (не смею сказать: любви) к людям. Все почти мои прежние писания последних лет, кроме Евангелия и некоторых, мне не нравятся по своей недоброте. Не хочется давать их. Маша сильно волнует меня. Я очень, очень люблю ее. Да, хочется подвести отделяющую черту под всей прошедшей жизнью и начать новый, хоть самый короткий, но более чистый эпилог»(55.277). 26 ноября Толстой Черткову: «У ней крупозное воспаление легкого, нынче 8-й день, и она очень, очень плоха. Смерть ее эгоистически для меня, хотя она и лучший друг мой из всех близких мне, не страшна и не жалка – мне недолго придется жить без нее, но просто не по рассуждению больно, жалко ее – она, должно быть, и по годам своим хотела бы жить; и жалко просто страданий ее и близких. Жалко и неприятно эти тщетные усилия лечением продлить жизнь. А смерть всё больше и больше, и в последнее время так стала мне близка, не страшна, естественна, нужна, так не противоположная жизни, а связана с ней, как продолжение ее, что бороться с ней свойственно только животному инстинкту, а не разуму»(89.50). Мария Львовна Толстая умерла 27 ноября 1906 года. «Сейчас, час ночи, скончалась Маша. Странное дело. Я не испытывал ни ужаса, ни страха, ни сознания совершающегося чего-то исключительного, ни даже жалости, горя. Я как будто считал нужным вызвать в себе особенное чувство умиления горя и вызывал его, но в глубине души я был более покоен, чем при поступке чужом – не говорю уже своем – нехорошем, не должном. Да, это событие в области телесной и потому безразличное. – Смотрел я все на нее, как она умирала: удивительно спокойно. Для меня – она была раскрывающееся перед моим раскрыванием существо. Я следил за ее раскрыванием, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание это в доступной мне области (жизни) прекратилось, т. е. мне перестало быть видно это раскрывание; но то, что раскрывалось, то есть. «Где? Когда?» это вопросы, относящиеся к процессу раскрывания здесь, и не могущие быть отнесены к истинной, внепространственной и вневременной жизни»(55.277-8). Когда умер брат Николай Николаевич, Толстому было 32 года. С тех пор прошло 43 года. Срок большой. Но все эти годы – лета зрелости, в которые человек растет преимущественно свободным духовным ростом. Дистанция духовного восхождения, которую Лев Николаевич одолел за эти годы в свободном духовном росте, одолел и без наставников, и без опоры на традицию такого восхождения, и даже без предварительно поставленной цели или задачи, исключительно самостоятельным путем, невероятна. *)По течению реки духовной жизни, а не поперек течения реки животной жизни; стратегический образ движения гребца в лодке, действительный для личной духовной жизни, сейчас, в том состоянии жизни, в котором находится Толстой, видимо, не действенен.
9 (60) Толстой, как и прежде, убежден, «что жизнь есть зарождение нового сознания, а смерть – прекращение прежнего и начало нового»(55.172). Но теперь*) он догадывается, что жизнь будущая зарождается в этой жизни непосредственно в процессе духовного роста: *) «Странное испытываю я теперь в хорошие минуты ощущение понимания смысла жизни, такого ясного, что становится жутко. Надо попытаться выразить»(55.157). «Мне приходит мысль, что переход от жизни животной к жизни духовной, от радостей, интересов животных к радостям, интересам духовным, есть начало, зародыш нового отделенного духовного существа, еще не познавшего своих пределов, еще не пришедшего к сознанию. Когда же существо это придет к сознанию, ему представятся его пределы веществом так же, как и теперь в нашей жизни, и так же он поймет жизнь подобных ему существ, как и мы понимаем в нашей жизни»(55.171). Смерть – это роды: «Мы всегда инстинктивно ждем, ищем, желаем будущего, торопим его пришествие. Смерть, правда, приходит со страданиями и трудом перенесения их, но ничто хорошее не приходит, как роды (евангельское сравнение), без страданий. Но женщина, знает, что она рожает, не боится страданий и смело, радостно идет на них. Так же и мы должны встречать смерть. И это не слова, а я верю в это»(55.282-3). Но все это – и возникновение зародыша, и роды в новую жизнь – происходит, «если понял и положил в этом жизнь», то есть при условии свободно совершающегося духовного роста. Что ж: без исполнения этого условия смерть есть смерть, «поглощение себя в ничто»? Свободный духовный рост, в конце концов, есть частный и весьма редкий случай в человечестве. А что же остальные люди? На 75-м году жизни Толстой приходит к выводу, что человек (человек как таковой, всякий человек) живет своего рода «двойной жизнью», как два разных существа. Жизнь наша "не кончается или, скорее, не ограничивается мирской, телесной жизнью от рождения до смерти. Так что мы живем здесь и своею отдельной жизнью и жизнью другого более обширного существа, включающего наши отдельные существования так же, как тело включает в себя составляющие его отдельные клетки. И потому наша деятельность на благо Всего не пропадает так же, как не пропадает деятельность отдельных клеток для всего организма. Смерть поэтому, может быть, есть только перенесение сознания из отдельной личности в более обширное существо, включающее в себя отдельные личности. И это вероятно потому, что вся жизнь человеческая есть все большее и большее расширение сознания»(56.13). Это была запись в Дневнике. О том же самом в письме к Черткову Толстой «с полной несомненностью» высказывает убеждение «в том, что мы живем в этом мире и своей отдельной жизнью и жизнью другого, более обширного существа, включающего наши существования… Так что смерть есть перенесение сознания из личности этого мира в сознание иного, высшего существа, т. е. кажущегося мне высшим, и перенесение это совершается любовью. Все веры в бессмертие, в возмездие есть это самое. То же, что смерть есть только переход в иное, высшее сознание, особенно вероятно, потому что всякая жизнь есть не что иное, как все большее и большее расширение сознания и всё большее и большее увеличение любви»(89.61). Человек живет и жизнью своей отдельной личности (в личных пределах отделенности) и жизнью «более обширного существа» (в более обширных пределах отделенности). Перенесение сознания из отдельной личности «в более обширное существо» совершается тогда и тем больше, когда и чем больше человек работает (работает, разумеется, любовью) на благо этого «более обширного существа». Кто же это существо? Это, может быть, и «люди вообще, всё человечество, весь мир, которого мы составляем частичное проявление» (там же), а может быть, и «Начало Всего». Толстой учитывает возможность первого, но развивает только второе предположение. «Умирая, я перехожу в дальнейшую форму, высшую, т. е. более широкую, неподвижную, и сливаюсь с началом Всего, сознаю свою жизнь, неподвижную Нирвану. Смерть есть прекращение ограничения. Я весь тогда в травке, в слоне, в солнце, во всем – до тех пор, пока не буду опять ограничен»(55.223). В общем случае человек, не совсем погубивший себя эгоизмом, сливается с Началом Всего и продолжает жить во Всем, «пока не буду опять ограничен». Это даже относится (или может относиться) не только к человеку, но и ко всякому существу. «Мне представляется, что все существа совершают круги от рождения к смерти. Вот так:
* * * Одна часть круга скрыта, но это только так кажется мне, потому что я не могу понимать сущностей, какие они действительно суть. Они не движутся, но стоят, но не такие, какие я понимаю»(55.228) Одна, видимая часть круга жизни существа (которая «от рождения к смерти») – в Обители отделенности. Другая, «скрытая», часть круга жизни существа – не в Обители отделенности, в Обители нераздельности. В видимой части "круга" производится далеко не вся работа. Есть работа и в скрытой части, о которой нам, людям, ничего известно быть не может. Но это именно работа, а не отдых и блаженствование, как в раю. В Обители нераздельности действующая часть (и большая часть?) жизни человека, только нам непонятная. Где же она? Быть может, во Всем – в не имеющем размеров живом, колеблющемся шаре, вся поверхность которого состоит из капель, плотно сжатых между собой и стремящихся разлиться? Когда читаешь о скрытой части круга (в которой идет непонятная кипучая жизнь «сущностей, какие они действительно суть»), то образ капель «живого глобуса» Пьера возникает сам собой. Образ этот (образ этот, собственно говоря, есть образ Обители нераздельности, в котором обитают чисто духовные существа-капли) никогда и не исчезал из сознания Толстого. Из скрытой части круга жизни, с поверхности «живого глобуса» капля отправляется (посылается?) в навигацию Обители отделенности, рождается в нее, проходит в ней часть круга, что-то совершает и возвращается туда, откуда вышла, в Обитель нераздельности. Прозрение Толстого состоит в том, что человек живет вместе и «личной» жизнью той Обители отделенности, в которую он родился, и жизнью той «капли» Обители нераздельности, куда он возвращается. Обителей отделенности может быть много, но это не имеет значения, так как каждая из них – «в круге», который замыкается в Обители нераздельности, в Боге. В Боге не при переходе из Обители в Обитель (как виделось прежде), а в Боге в результате процесса хождения «в круге». «Умирая, я не вступаю в новое положение, а только возвращаюсь в то безвременное, беспространственное, бестелесное, бесформенное состояние, в котором был и из которого пришел в эту жизнь. (Хорошо.) Нельзя даже сказать: «в котором был», а в то состояние, которое мне так же свойственно, в котором я нахожусь теперь»(56.125). Высшая Обитель существования – это не новая Обитель отделенности, а Обитель нераздельности – нераздельности человечества*) или еще «более обширного существа». Все мысли Толстого теперь устремлены к этой Обители, – Обители Бога, в которой и истинная единая Жизнь, и подлинное единое Существование, которое для своих нужд может выходить в «круг», в Обители отделенности, чтобы возвратиться назад. Так что, «кроме Бога, ничего не существует»(56.44). *) Бывшего Сына человеческого. «… я могу видеть и буду видеть (в другой жизни) всех людей как одно целое, изменяющееся существо – (Идеи)»(55.228). На этот раз имеются в виду Идеи Платона: «Я никогда хорошенько не понимал того, что Платон разумел под идеями. Не есть ли это те отделенные от Всего существа, из которых я знаю несомненно себя и по себе и другие такие же отделенные существа»(55.219). По сути дела, «Идеи» Платона воспринимаются Толстым в качестве капель «живого глобуса», капель, готовых к навигации в ту или иную Обитель отделенности.. «Бог, все изменяющий и Сам не изменяющийся»(56.38). «Вы спрашиваете, верю ли я в существование загробной жизни и в бессмертие души. Оба вопроса так неточно поставлены, что отвечать на них невозможно. Жизнь, как мы понимаем жизнь, есть только здесь и не может быть загробной; душа человеческая точно так же есть только явление здешней жизни и потому не может быть бессмертна. Бессмертно только то духовное начало, которое составляет сущность и основу всего, что есть, и которое мы чувствуем в самих себе. Духовное начало это мы называем Богом. Если мы сливаем с ним свое существование, что совершается тем, что мы исполняем требования этого начала (Бога), сознаваемого в самих себе, то не может быть и речи об уничтожении того, что соединено с этим началом – едино с ним"(77.13). «Сущность религии в том, чтобы видеть не себя одного и прикасающихся к тебе, а Все, бесконечное Все, и свое отношение к этому Всему – Богу. В этом религия»(56.49). Про «свое отношение к этому Всему – Богу» Толстой рассказывает так: «Про Бога я знаю и могу знать, что Он есть все, не имеющее никаких пределов и ограничений, но я говорю и думаю, не могу не говорить и не думать, что Бог – это Отец, во власти которого я нахожусь, который добр и знает меня и может помочь мне. И говорю: прости мне, Господи, помоги мне, благодарю Тебя»(56.52). "Бога узнаешь не столько разумом, даже не сердцем, но по чувствуемой полной зависимости от Него, вроде того чувства, которое испытывает грудной ребенок на руках матери. Он не знает, кто его держит, кто греет, кто кормит, но знает, что есть этот кто-то, и мало того, что знает – любит его"(52.157). Вот молитва Льва Толстого: «Помоги мне, Господи, уничтожить себя так, чтобы Ты мог жить во мне, проходить через меня – чтобы я мог быть только Твоим проявлением»(56.122). Когда это удается ему, он испытывает полную радость существования. 10 октября 1907 года. «Все чаще и чаще испытываю какой-то особенный восторг, радость существования… разжигается внутренний свет»(56.70). 12 октября 1907 года. «Здоровье – хорошо, а на душе – рай – почти рай. Все больше и больше входит в жизнь то, чтобы, не думая о себе для себя (тела) и о себе во мнении других, жить любя. И удивительно радостно»(56.71-2). «Все больше и больше считаешь все любимое тобой – собою, а любишь все, и потому не на словах, а на деле становишься Богом. Как это совсем особенно, с какой-то охватившей, претворяющей все мое существо в одну радость, силой я почувствовал это ночью. Теперь читаю, пишу, но не могу восстановить чувства радости, восторга, умиления»(56.74). «Отрываюсь от работы, чтобы записать то, что с утра испытываю невыразимую, умиленную радость сознания жизни любви, любви ко всем и ко Всему. Какая радость! Какое счастье! Как не благодарить То, Того, Кто дает мне это»(56.76). И принципиально новое положение, которое высказывалось всегда, уже давно поставлено во главу угла, но теперь обретает особое звучание: «Деятельность жизни проявляется любовью. Увеличивать в себе любовь человек не может, потому что любовь есть сама сущность жизни. Человек может только уничтожать препятствия проявлению любви. И в этом жизнь человеческая, и на это должны быть направлены усилия человека»(56.87). «Все больше и больше сознаю, познаю невозможность жизни во имя будущего. Нельзя устраивать государства, нельзя свою семью, нельзя С Е Б Я. Что будет, предоставь Ему, а сам живи в том, что есть, стараясь делать то, что хотели всегда все люди и чему учили, и что одно ты можешь беспрепятственно делать, чего одного тебе истинно хочется и что одно дает тебе истинное счастье: становиться лучше и лучше, любовнее и любовнее»(56.157). И через несколько дней после этой записи: «Вчера разозлился на лошадь. Как скверно!»(56.158). Бог не есть любовь. «Любовь это – сознание своей истинной жизни, единой во Всем»(56.165). Иными словами, любовь это сознание жизни той «капли», которая живет в Обители нераздельности. «Всё» (Бог живой) проявляется в людях любовью (см.56.101). Любовь – закон Бога для духовного существа, выпущенного в Обитель отделенности, то есть для человека. Высшая душа человека (капля «живого глобуса») выпущена в Обитель отделенности для полноты выражения и деятельности сознания своей истинной жизни. В этом разгадка – зачем пределы отделенности, в которые заключена высшая душа человека. «Мир представляется мне таким устройством, при котором существа (в том числе и человек) одарены самодеятельностью, дающей им сознание блага, в точно определенных пределах, в области которых они свободны, но из которых выйти не могут. Так что существа имеют благо свободы, не могущей нарушить течение жизни целого и его законов. Один из таких законов может быть сознан человеком. Закон этот есть любовь»(56.101-2). Любовь – закон Бога для человека в том смысле, что она основа жизни, и не только жизни человека, но и жизни как таковой – Жизни в Обители Бога. Но откуда же смертному человеку знать об этом? Лев Николаевич всегда, а тем более на Вершине жизни, обладал удивительной способностью ощущать то, что другим и объяснить и вообразить трудно – жизнь как таковую, Жизнь Всего, Жизнь с большой буквы. Толстой чувствовал самою Жизнь так остро, полно и глубоко, как вряд ли кто другой. На самой глубине Жизни он мог переживать ее трепетание и переживать до внутреннего трепета, до сотрепета с нею, до сопереживания трепетности самой Жизни. Ощущение великого дара жизни никогда не покидало его. С годами он стал сознавать свою ответственность не только за общий дар жизни, но и за данную ему способность переживать ее глубины. Отсюда его стремление вынести наружу из практически никому не доступных глубин Жизни то, что люди не ведают: Закон Жизни, постигнутый в ней самой. Непосредственно, от самой Жизни, из «живого глобуса» он знал, что сознание истинной жизни и Закон Жизни для Обители отделенности, для земного человека – в агапической любви. Но как донести это свое знание до людей, которые еще не готовы воспринять его? Это практически невозможно даже из уст Льва Толстого, при его гениальных способностях выражения всего на свете человеческим языком. И Толстой – молился. «Вся моя молитва, – пишет он 12 июля 1908 года совершенно неизвестному ему человеку, – если бы молился к Богу, не может быть ничем иным, как благодарностью за то огромное счастье, какое я не предполагал, что возможно иметь человеку. Вы спросите, какое же это счастье и в чем оно состоит? Состоит оно в том, что то, чего одного я желаю более всего на свете, постоянно и неуклонно совершается, а именно то, чтобы всё больше и больше освобождаться от телесных желаний и чувствовать в себе ту основу жизни, которая вложена во всех людей и которая есть не что иное, как любовь, любовь ко Всему. Думаю, что это приближение к совершенству любви есть неизбежное свойство жизни каждого человека, хочет ли он того или не хочет, и потому понятно, что если человек поставит себе целью то, что в нем совершается, то он и будет постоянно получать удовлетворение, всё большее и большее счастье. Правда, состояние это не постоянное. Бывают, хотя и изредка, минуты, когда я перестаю чувствовать это благо, бывают даже и тяжелые минуты, но все они приходят только тогда, когда я отдаляюсь от той цели, которую я поставил себе и которая свойственна человеку"(78.180). *)В таком состоянии все дорогие прежние мысли вновь находят свое место: «Да, да, любить врагов, любить ненавидящих не есть преувеличение, как это кажется сначала, это – основная мысль любви. Так же, как непротивление, подставление другой щеки не есть преувеличение и иносказание, а закон, закон непротивления, без которого нет христианства. Так же нет христианства без любви к ненавидящим, именно к ненавидящим»(56.55). *)Отсюда: «Если смысл жизни в совершенствовании, то ясно, что он не может быть в усовершенствовании души (она Божественна и потому совершенна), а только в уничтожении того, что мешает проявлению – грехов»(56.91).
10 (61) «Опять, что со мной так часто бывало, приходит мысль, кажущаяся странной, парадоксом, – пишет Толстой в самом конце 1904 года, – но приходит с другой стороны, другой, третий раз, начинаешь думать о предметах и мыслях, связанных с нею, и вдруг приходишь к убеждению, что это не только не парадокс, не случайная мысль, а самая основная, важная, которая открывает новую важную сторону жизни»(55.98). Мысль, которую Толстой здесь имеет в виду, – это мысль монизма жизни. В начале1904 года Толстой не идет дальше утверждения о том, что «все мы – проявления одного существа»(55.25) и «всё живое есть один организм»(55.26). Что такое здесь «все живое» понятно не совсем, но, судя по тому, что «жизнь общая этого организма не есть Бог, а есть только одно из проявлений Его»(55.26), Толстым предполагается, что во Всем (Боге) есть и живое и что-то другое, чем жизнь. В середине 1904 года Дневники Толстого заполняются мыслями о соотнесенности сознания и мира и разъяснениями того, что Мир состоит из общения различных сознаний, разделенных иллюзией вещества в пространстве и времени. Мысль о жизненаполненности Всего не раз подтверждается в 1905 году. Формула жизни, над которой Толстой трудился три года, обретает завершенные черты во второй половине 1906 года. Вот это «мое живое понимание жизни, как сознания Бога»(55.261): «2) То, что я называю своей жизнью, есть сознание Божественного начала, проявляющиеся в одной части Всего. Часть ограничена пределами, представляющимеся мне телесностью (материей) в пространстве. И Божественное начало это не только свободно, но и всемогуще и в пределах через изменения во времени. Эти изменения сознания во времени есть то, что я называю жизнью. Проявилось бы Божественное сознание только в телесности в пространстве – и не было бы движения, не было бы жизни. Жизнь есть проявление Божественного начала в пределах пространства движением во времени. 3) Жизнь есть освобождение (все большее и большее) своей Божественности. Не началось сознание Божественности, свободы – не началась жизнь (сознание это и есть во всем органическом). Кончилось это сознание – кончилась жизнь»(55.256-7). Окончательно позиция монизма жизни установилась только к лету 1907 года, когда Толстой определяется по вопросу: «1) дух = сознание = разум – произведение материи и в зависимости от нее. 2) Материя – произведение сознания и в зависимости от него. 3) Дух и материя нераздельно соединены и ни одна не влияет на другую». И решает: «Душа, сознание, разум, ни откуда не появилось – оно есть, одно действительно есть, так есть, что без него ничего нет»(56.34). И тогда же: «Все, что есть, все это – я же, только ограниченное пространством и временем»(56.42). Примерно в это время Толстой получает письмо и рукопись от П. П. Николаева. Петр Петрович Николаев с молодости решил отдать свою жизнь на всестороннюю философскую разработку метафизических прозрений Льва Толстого. Ознакомившись с его первыми опытами и убедившись в его незаурядных возможностях и его одноцентренности себе, Лев Николаевич поощряет его, давая ему как бы заказ и указывая направление его работы. В письме П. П. Николаеву от 7 июля 1907 года он пишет о присланной им книге: "Много в ней хорошего, но Вы хорошо сделали, что не выпустили ее и хотите еще поработать над ней. Критика материализма прекрасна, но не выяснено, что мы ощущаем и называем материей. Я думаю, что это другие духовные сущности, в которых так же, как в нас, проявляется частично, ограниченно основная сущность (Бог) и что познавать мы эти сущности, так же, как и себя – свое тело, – мы не можем иначе, как через материю"(77.152). В отличие от солипсизма, утверждающего, что мир для каждого субъекта есть только его представление, за которым нет никакой объективной сущности, толстовский монизм жизни учит, что за всеми порождаемыми нашим сознанием компактными образами скрыта реальная, нематериальная и ни при каком обострении наших внешних чувств не разлагаемая сущность – невидимая, неосязаемая, внематериальная Жизнь. Будучи в значительной мере отделенной от жизни мира и его существ, несовершенная человеческая душа далеко не всегда и далеко не вполне способна воспринимать процессы жизни мира непосредственно. Она вынуждена воспринимать в себя из мира различные процессы жизни, как нечто внешнее себе. В этом, собственно говоря, и состоит иллюзия материального образа. «Да, Бог сотворил мир, но не какой-нибудь особый Бог, а тот Бог, который во мне. Он сотворил весь видимый мир»(57.34). Бог во мне, "Бог свой", духовное Я творит в сознании человека видимый им мир. Хотя творить образы, "творить мир", должны, казалось бы, пределы отделенности (низшая душа), которыми человек только и обращен к этому миру и воспринимает его.*) Низшая душа – пределы отделенности для высшей души, то есть принадлежит последней в качестве пределов ее. "Пределы" потому и пределы, что не существуют сами по себе и не обладают творческой мощью и не могут что-то "творить". Если они и творят, то творят от имени высшей души. По Толстому, все творческие силы в конечном счете принадлежат Божественной сущности, которая пользуется для своих целей своими пределами. *) Это хорошо понимал Толстой: «Мы, крошечные отделенные существа с нашими случайными внешними чувствами (таких чувств может быть миллионы разных. Мы и видим разные у животных), мы этими чувствами творим мир, нами познаваемый, с микроскопическими животными и небесными телами, и живем в полной уверенности, что мир действительно такой, и такой только и есть. Какая глупость!»(57.29). «Я – неполное сознание Всего. Полное сознание Всего скрывается от меня сознанием и временем. Пространство и время лишают меня способности сознавать Все»(56.42). «Все, представляющееся бесконечным, всё иллюзорно. Действительно существует только то, к чему не может быть применимо понятие большего и меньшего»(56.93). И все же: «Я могу представить себе более медленный и более быстрый, чем наш, темп раскрытия. И одно это изменение темпа даст возможность бытия самых разнообразных, непонятных нам существ»(56.38). Однако остается вопрос о соотношении духовной сущности и ее пределов. «Я чувствую себя вечным, одним истинно существующим. И я же, когда сужу о себе, вижу себя ничем, бесконечно малой частицей чего-то бесконечно великого. Что же правда: первое или второе? Если второе, то сознание своего первого, вечного «я» – обман. Но этого не может быть, потому что без этого обмана (первого «я») нет жизни, нет ничего,нет, главное, и второго «я». Если же правда – первое, то второе: вся телесная жизнь есть обман. Но этого тоже не может быть, потому что без телесной жизни я не мог бы делать этих рассуждений. И потому есть и то, и другое: Я – духовное, непространственное, невременное существо в телесных, пространственных и временных условиях»(56.19). «Я только один и есть и был и буду, и я – мгновенное проявление во времени»(56.19). «Я – мгновенная вспышка чего-то»(56.20). Это сказано в середине 1907 года. Через полгода, в феврале 1908 года, – еще яснее: «Есть только два возможных последовательных, но неразумных миросозерцания: 1) Тело есть – дух кажется; 2) дух есть – тело кажется»(56.103). И в пояснение этого: «Тело – проявление духа. Движение и тело суть необходимые условия сознания. Без тела и движения не могло бы быть сознания. Без сознания не было бы ни тела, ни движения, пространства и времени тоже»(56.103-4). В августе 1908 года – продолжение темы: «1) В теле каждого человека живет дух Божий. Не было в теле людей единого для всех духа Божьего, не было бы жизни. Не было бы тел людских, разделяющих людей, также не было бы жизни. 2) Любовь человека соединяет его с людьми и с Богом, дает ему высшее благо. Этой любви не было бы, если бы не было тела, и потому тело необходимо для блага людей. 3) Жизнь это освобождение души от тела, и когда освобождение в любви, жизнь – благо… 5) Если бы не было духа, заключенного в теле, не было бы жизни. Мы не имеем никакого права говорить о духе и теле отдельно. Мы не знаем и не можем знать ни того, ни другого в разделении, но мы не можем понимать нашу жизнь без этого разделения, так как знаем, что вся наша жизнь есть неперестающее уничтожение тела и уяснение духа»(56.146-7). Вещественное «тело» по Толстому представляется, конечно, не тем, каково оно в действительности, но оно есть доподлинно – как предел отделенности духовного существа. Пределы отделенности – не иллюзия, иллюстрирующая или скрывающая подлинность духовного существования, а особый род существования духа – существования в качестве пределов. Так, «животная личность» человека, его низшая душа, есть предел отделенности для его высшей души. Плоть – предел отделенности для «животной личности». «Сознание есть условие отделенности, неполноты, ограниченности. То, что ограничено в человеке, – само в себе неограниченное, не нуждается в сознании»(56.104). Телесные пределы – другое проявление духа, чем высшая душа. Их взаимодействие, взаимодействие двух различных проявлений духа порождает («необходимое условие») сознание.*) А сознание, в свою очередь, «творит» пространство и время. *) Еще об этом в то же время: «Источник того, что мы называем сознанием, есть противоречие требований нашего духа с требованиями тела – сознание нашего несовершенства. У совершенного существа не может быть сознания. Если бы было одно тело без требований духа, не было бы сознания тела, не было бы его, а если бы был один дух, то точно так же не было бы сознания его, не было бы духа»(56.95). Из этого следует вывод: «Сознание есть сличение, сравнение своего «я» телесного, своей личности с «я» Божественным, духовным, всеобщим, которое во мне же. Поэтому сознание – основа всякой нравственности. – Есть люди лишенные или почти лишенные этого свойства – сознания. У этих людей часто рядом с огромным знанием, утонченностью нет нравственных требований: мои сыновья, и имя им легион – все ученые… Да, сознание есть признание в себе Бога и суждение Бога во мне о своей личности и о всем открывающемся мне с точки зрения личности»(56.128). «Вывод только тот, – пишет Толстой в начале 1908 года, – что весь телесный мир есть только произведение нашей духовной сущности и что истинное доступное нам знание – только духовное»(56.104-5). Телесный мир есть произведение нашей духовной сущности не в том смысле, что его нет вовсе, а в том, что «мир, который мы знаем», – так-то воображаем, но мог быть воображаем и иначе. Тут, конечно, возникает множество вопросов. Толстой знает эти вопросы и не пытается ответить на них. «Все утро думал и думаю о том, почему Мир представляется нам «становящимся"? Почему меня не было и не будет, а Мир все тот же будет и так же изменяться? Ответ только один: не знаю»(56.105). Через несколько месяцев ответ все-таки нашелся: «Мир представляется мне im Werden*) потому, что я не в силах обнять его весь, как он есть, вне времени, так, как я понимаю, знаю, обнимаю умершего (любимого) человека: Маша, Николенька. То же, что мир будет без меня изменяться, есть ни на чем не основанное предположение. Мир будет представляться другим существам (т. е. мне кажется, что будет представляться другим существам) опять во времени только оттого, что существа не могут понимать вне времени. То же, что эти существа будут, опять только по моей ограниченности кажется мне. Существа эти есть. Тут-то и видно степень своей ограниченности, всей неполности своей в сравнении со Всем, с Богом (Очень хорошо.)»(56.338). *) Совершающимся (нем.). П. П. Николаеву в его работе много помогла бы такая запись Дневника Толстого: «Читал статью Вивикананда о Боге превосходную. Надо перевести. Сам думал об этом же: Его критика «Воли» Шопенгауэра совершенно права. Одно неверно: то, что он начинает с (объективного) рассуждения о мире. Рассуждать об этом не дано нам. И все такие рассуждения, как ни кажутся важными, пустословие. Исход всего и законное рассуждение всегда может и должно начинаться только с личности, с себя. Рассуждать о внешнем, о мире, не сказав о себе, о том, кто видит мир, все равно, что начать рассказ так: "потому что когда он на меня замахнулся» и т. д., т. е. рассказывать, не упомянув о том, кто, где и кому говорит. Основа всякому рассуждению о мире, о Боге одна: сознание человеком своего единства с началом всего, своей Божественности и вместе с тем сознание своей отделенности, своей ничтожности. «Я царь, я Бог, я раб, я червь». Зачем? Отчего я такой, я не знаю, не могу, не хочу и не нуждаюсь знать, но знаю, и всякий знает, что я – и Все и ничто. В соединении этих двух есть то, что мы называем и сознаем жизнью. Я – все, я един и я отделен. От того, что я отделен, от этого я телесен и я в движении, а телесность может быть только при пространстве, а движение – только при времени. Как единое же существо, я бестелесен, неподвижен, вне пространства и времени. Благо мое в сознании этого единства в отделенном. (Думаю, что верно.)»(56.138-9).
11 (62) Им кажется, что они «поймали меня, заперли меня», но они посадили в плен мое фиктивное «Я» – вот нелепость, вдруг открывшаяся Пьеру. И он смеется: «Кого меня? Меня?» Чтобы различать эти два «Я», отделить, разъединить их друг от друга, Толстой в 80-х и 90-х годах терминологически распознает в человеке «Я» и «личность»: «животную личность» (суррогат подлинного «Я» – того «меня», кого «не пустил солдат») и "духовное Я", Божественную сущность, Бога своего («Меня – мою бессмертную душу!»). В начале 900-х годов Лев Николаевич предпочитает говорить о частице неизменного духовного Начала и пределах отделенности, в которые заключена духовная сущность. У духовной сущности – жизнь истинная и вечная, по отношению которой жизнь собственно пределов отделенности – своего рода тень подлинной жизни, но не сплошная фикция и не нежизнь. В сумме жизнь вечная духовной сущности и жизнь пределов образуют жизнь Всю. Теперь Толстой соединяет непосредственно в своем сознании, сливает в единое целое то, что прежде разъединял. После второго Пробуждения и особенно после болезни 1901-2 годов Толстой неизменно обращен к тайне Всей жизни или жизни Всего. Это определило его постоянный интерес к неисчерпаемым проблемам времени, пространства, движения, материи. Во второй половине 900-х годов Толстой определил свою позицию по этим вопросам. И на первый план вышла другая извечная тайна – глубочайшая из тайн, тайна «Я» человека. Вопрос о тайне «Я» поставлен, собственно говоря, только в 1903 году, на 75 году жизни. Вполне может быть, что до этого возраста человеку рано подступать к этой тайне. «Есть одно вневременное существо, которое и есть мое «я». Оно более или менее затемняется, как солнце тучами и атмосферой, моей ограниченностью, но оно всегда едино и вневременно»(54.185). В начале 1904 года Толстой пишет о существовании истинного солнечного «Я» и о его отражении, о воображаемом теневом «я» пределов отделенности человека (см.55.16). Раздумья о «Я» и «я» – примета духовной жизни Толстого в 1904 году. «Я знаю вполне себя, всего себя до завесы рождения и прежде завесы смерти. Я знаю себя тем, что я – я. Это высшее или, скорее, глубочайшее знание. Следующее знание есть знание, получаемое чувством: я слышу, вижу, осязаю. Это знание внешнее… Третье знание еще менее глубокое, это знание рассудком… – рассуждение, предсказание, вывод, наука… Жизнь, я думаю, в том, что и третье и второе знание переходят в первое, что человек все переживает в себе»(55.29). «Я был уже многим. И все, чем я был, все это во мне, все это мое я. И жизнь моя здесь и после смерти будет только приобретением нового содержания моего я. И как бы я не увеличивался, я никогда не перестану быть ограниченным, ничтожным, потому что Все бесконечно»(55.30). «Я теперешний и я в следующую секунду – один и тот же я, но я не могу сознавать я следующей секунды, и потому мне кажется, что есть движение моего сердца, дыхания. Не будь перехода сознания нового я, не было бы движения сердца. Так же не будь перехода сознания нового я, не было бы движения земли вокруг своей оси, дня и ночи»(55.30). «Я» человека для Толстого в 1904 году есть «ограниченное пределами сознание Бога»(55.71). В этом смысле: «Я – это сознание в пределах»(55.125). В начале 1905 года Лев Николаевич разрабатывает мысль творчества жизни. Отсюда вырастает мысль, что «жизни нет без я», которое и творит жизнь. «…если есть жизнь, то есть и я. Жизнь это – я. Без меня нет жизни. Это очень важно»(55.124). Постепенно мысль Толстого уясняется и уясняется. Но он все еще говорит не о «Я», а о «сознании Я». «В сознании своего я есть нечто основное, без чего ничего существовать не может. Я могу допустить, что уничтожится тот мир, который я знаю, но не могу допустить своего уничтожения»(55.141). Человек живет двумя жизнями. У него два сознания и два Я. «У человека два сознания: своего ограниченного, заключенного в пределы «я» и своего неограниченного «я». – Для неограниченного «я» (в Обители нераздельности. – И. М.) не может быть страданий (стеснений), не может не быть постоянное благо (не то страстное благо, которое дает временное удовлетворение желаний, а благо ровное, спокойное, благо сознания себя,*) сознания блага). И человек может переносить и переносить более или менее чаще или реже свое сознание из одного «я» в другое. Человек, живущий одним духовным «я» (святой), не знает несчастий; человек, живущий одним ограниченным «я» (в Обители отделенности – И. М.), не может не страдать. Все мы живем в середине между двумя, все более и более освобождаясь от ограниченного и приближаясь к неограниченному, духовному»(55.134). *) Благо, подобное «наслаждению самосознания Божества», о котором говорил голос во сне Пьера. В том же 1905 году у Толстого возникает совершенно новая мысль: «Понять иллюзию своего я и реальность своего я – одно и то же»(55.124). В другом месте Толстой пишет о «начатом я»(55.144), то есть о «Я» творящемся, пришедшем и постепенно (в духовном росте) становящемся в существовании. В этой мысли есть нечто такое родное Толстому, что должно впредь созревать и созревать в его душе. «Не будь ограничения времени, т. е. будь я сразу, какой я есмъ или буду в момент смерти, т. е. будь я тем существом, включающим в себя все воспоминания, весь опыт прожитой жизни, будь это существо сразу, не было бы жизни, не было бы свободы. Свобода и жизнь есть только потому, что я постоянно раскрываюсь сам себе, и что в каждый момент этого раскрытия я могу так или иначе отнестись к условиям, в которых нахожусь. Я сказал: не будь ограничения времени; но ограничение времени возможно только при ограничении пространственного мира. Если бы – как ни странно это сказать – я был Все, то я не жил бы: я бы только был для кого-то. Если бы я был сразу то, что я есмъ – тоже странно сказать – я тоже не жил бы. Для того чтобы жить и быть свободным, необходимо ограниченное существо в пространстве, проявляющееся во времени. Это самое я и есмъ. (Устал, и не хорошо.)»(55.255-6). Духовное Я человека – общее со всем живым, со Всем, с Богом. И человеку, следовательно, следует «расширять его, слиться им с Богом и со всем живущим (люби Бога и ближнего) – только служа этому я, возможно благо свое и всех людей»(55.187). «Тело мое – не я, разум мой – тоже не я. Не я и мое сознание. Я, мое истинное я, это – то, чтО я сознаю. Сознаю же я свою духовную, Божественную сущность. Я не понимаю эту сущность, но она-то одна и есть настоящий я»(56.47). «Ты еси вечное, непространственное Божеское «я»(55.274), – обращается Лев Николаевич к этой духовной сущности. Даже в состоянии духовного отлива он знает её в себе: «Все это время было состояние такое, как будто «я», настоящий «я» ушел куда-то или во мне же спрятался куда-то, так что я не вижу, не сознаю его, но знаю, что он есть, и что он выйдет опять наружу, и что надо будет отдать отчет, как я вел себя в его отсутствие: не осквернил ли чем его жилище?»(55.205) В самом начале 1907 года родилась определяющая «Я» мысль: «Все думал о том, что время есть, как говорил Амиэль, вращение передо мной сферы. Но я-то где? И вдруг мне ясно стало, что я вращаюсь вместе со сферой (бесконечной) и вместе с тем стою над ней (или в ней, созерцая ее). И мне вдруг пришла удивительная мысль по своей простоте и по тому, что никогда не приходила мне, – именно, что если есть движение (а мы все сознаем движение жизни), то движение может быть только относительно чего ни будь неподвижного. И это неподвижное духовное я и есть то я, которое созерцает движущуюся жизнь. Как удивительно ясно и просто – не доказательство, а уяснение той бессмертной духовности, которая составляет сущность я человека, да и всякого существа. Жизнь трепещет*) в каждом существе именно оттого, что каждое существо движется вместе со всеми и вместе с тем неподвижно, как сознание»(56.6-7). *) «Жизнь не движется, а дрожит в каждом существе»(56.5). – поясняет тут же Толстой уже знакомую нам мысль. Я – созерцает, вернее, несет в себе «созерцание созерцателя», то есть Свет Сознавания. С этой стороны «Я» неподвижно. С другой стороны «Я» включено в движение жизни во времени. «Я» – дрожит жизнью, так как и живет само вместе со Всем и всеми, и созерцает свою и всякую жизнь из неподвижного Источника Жизни и Света Сознавания. Мысль эта – не плод абстрагирования, отвлечения, умозрения. И не только откровения. Нельзя сказать даже, что она есть прямой результат труда и опыта духовной жизни Льва Николаевича. В ней есть нечто недоступное смертному человеку. Среди некоторых других мыслей Льва Толстого она недоступна нам, прежде всего, по преображенному сознанию жизни, проникающему за предметную оболочку мира в глубинную суть вещей. Человечеству знакомо это просветленное состояние сознания жизни, в котором спонтанно постигается, что Я есть во Всем сущем и Все есть в моем «Я», что Я есть и Я и множество других жизней. Человек, наслышанный, скажем, о преображении сознания в состоянии «сатори», сразу же узнает это состояние в изложении Толстого. И все же поостережемся делать скороспелые выводы. В феврале 1907 года Толстой в письме В. Черткову приводит свою формулу жизни в соответствие со своим новым сознанием «Я». «Жизнь наша представляется нам движением. Для того чтобы было движение, нужно, чтобы была точка неподвижная, по отношению которой совершается движение. Такая точка есть то, что называем, сознаем собою – свое духовное я. То, что нам представляется движением, есть снятие покровов с неизменяемого, неподвижного, духовного я». И несколько иначе: «Жизнь представляется нам движением нашего я, с его началом – рождением, и концом – смертью, и мы поэтому и обо всей жизни хотим судить так же: говорим о начале, конце исторического периода жизни человечества, жизни миров, когда понятие начала и конца всякого движения свойственно только нашему ложному представлению, вытекающему из нашей ограниченности»(89.61). Нельзя не отметить, что именно в эти дни Толстой записал фразу, которую мы вынесли в эпиграф: «Ошибаюсь или нет, но мне кажется, что только теперь – хороши ли, дурны ли? – но созрели плоды на моем дереве»(56.4). *)Эта мысль предварялась такой мыслью 1902 года: «Ответ на вопрос, что там будет (пространство и время) состоит в ответе на вопрос, что такое Я? Если я – любовь, то ясно, что нет вопроса ни о там, ни о будет»(54.135). Связь этих мыслей, как и дистанция между ними, очевидны.
12 (63) Мы уже знаем, что Толстой, бывало, на десятилетия опережал самого себя, свое духовное развитие. В конце 90-х годов, в пору второго Пробуждения в Дневнике Толстого промелькнула мысль, отчетливо ассоциирующаяся с прозрениями последних лет его жизни. «Стал думать о себе, о своих обидах и своей будущей жизни и опомнился. И так мне естественно было сказать себе. Тебе-то что за дело до Льва Николаевича? И хорошо стало: Стало быть есть тот, кому мешает подлый, глупый, тщеславный, чувственный Л. Н.»(53.189). Но кто этот «тот, кому мешает» Л. Н.? «Я» ли это? Можно ли про «Я» сказать «тот»?.. Схожую мысль Толстой заносит в Дневник 1905 года: «В человеке два человека: один не настоящий, тот, которого обыкновенно считают собою: Федя, Л. Н., Ив. Ив., тот, который родился мальчиком или девочкой в русской, французской, дворянской, купеческой, крестьянской семье, у которого такие глаза, такой нос, которому столько лет. Это человек не настоящий, а настоящий тот, который живет в этом человеке и с каждым годом, днем, часом все больше и больше проявляется и все больше и больше получает власть над Л. Н., Ив. Ив и т. п.»(55.268). Прошло еще 3 года. На прогулке 20 июля 1908 года. Тут важен сам ход рождения мысли. «Еду верхом в глуши и вижу в чаще какие-то созревшие ягоды. И подумал. Никто не увидит этих ягод, никому они не нужны, и им никто не нужен, а они неукоснительно, во всю делают не свое дело, а то, какое им предназначено, исполняя волю Того «Я», которое в виде отдельного существа живет в этом растении. Так же и человек, отличаясь от растения тем (кажущимся) преимуществом, что может сознавать в своем отдельном существе это всемирное «Я». Да, я – Л. Н., я – писатель, я – нищий, я – царь, это – большое заблуждение. От него все страдания людей. Есть только Один и бесчисленные проявления Его, одно из которых – то, которое я сознаю собой. И благо нам, если мы не признаем Его проявление в себе за отдельное свое «я», а всегда чувствуем в себе то «Я» и живем Им. И мы испытываем самые разнообразные и неизбежные горести и страдания, если живем в заблуждении, что я есть наше Я. Жизнь – в исполнении воли «Я», или, иначе, жизнь – в стремлении к прекращению разъединения, в слиянии со Всем. А это-то приближение к слиянию есть лучшее благо нашей жизни – любовь»(56.141-2). Прошел еще год. Наступил год 1909. Апреля 11—12. Ясная Поляна. Толстой – Черткову: "Дня четыре тому назад, ночью, когда я лучше всего думаю, я стал думать кое о чем тяжелом, и вдруг мне ясно стало, что то, что тяжело, может быть тяжело для Толстого, но для меня*) нет и не может быть ничего тяжелого, трудного, для меня, для моего настоящего Я всё легко, всё благо. *) Можно вспомнить «Меня» Пьера. И когда я понял, ясно понял это, я стал перебирать всё, что беспокоит, мучит меня, и ясно сознал, что это всё разрешает: хочется Толстому дурно думать о человеке, осудить кого в мыслях, не хочется Толстому идти, оторвавшись от занятий, беседовать с человеком, которого считаешь пустым, спроси только у Него, у Я. Он бесповоротно решает, и решения его всегда таковы, что от исполнения их всегда хорошо, радостно. Радостное состояние это, ясного раздвоения на два существа: одного жалкого, гадкого, подлого, и другого всемогущего, чистого, святого, сделалось со мною последние дни, и я хочу поделиться с Вами этой радостью. Если что представляется запутанным, трудным (таково Ваше положение), стоит только ясно разделить эти два, живущие в одном существа, и всё сейчас же станет легко и просто. Чертков хочет вернуться в Телятинки, хочет продолжать руководить сыном, хочет не разлучаться с женою – продолжать многие годы делаемое дело. Всё это может быть хорошо, а может быть и не совсем, надо спросить его, того, кто не родился и не умрет и кто хочет только добра, и не одному Черткову, а всему миру и нераздельно слит с Чертковым. Надо его спросить, и он решит, и решение его будет благо для всех. Пишу Вам это потому, что это ясное разделение себя на Толстого и Я мне вдруг сделалось особенно резко и дало мне новую силу и радость. Может быть, Вам это будет не так, но мне хотелось поделиться с Вами своей радостью… Похвастался я Вам, милый друг, своим душевным состоянием, выделением настоящего Я от меня телесного, и как это всегда бывает, прошло несколько дней и уж нет того, только кое-что осталось»(89.107-9). Все то, о чем Толстой пишет сейчас, – не откровение (и тем более не умозрение), а состояние его души и жизни, хотя и не долговременное. Это состояние души все более становится постоянным. Через полмесяца, 27 апреля 1909 года, – ему же и о том же: "Напишу Вам, милый друг, о том, что в самое последнее время случилось с Л. Н. Толстым. Случилось то, что вместе с Толстым оказался некто, совершенно завоевавший Толстого и не дающий ему никакого хода. Как только Толстой заявит какое-нибудь желание, или, напротив, нежелание что-нибудь делать, так этот некто, которого я называю Я, по-своему решает дело и иногда соглашается, а большей частью, напротив, не позволяет делать того, что хочется, или велит делать то, чего не хочется Толстому. Толстой хочет вспоминать дурные качества неприятного ему человека или осуждать его, хочет думать о том, как его хвалят, или не хочет говорить с бестолковым человеком, не хочет бросить планы и пойти к тому, кто хочет его видеть, а Я не велит думать о дурных качествах других, не велит осуждать, велит бросить занятия и идти к тому, кому он нужен. И удивительное дело, с тех пор, как я ясно понял, что этот Я гораздо важнее Толстого и что его надо слушаться и что от этого будет хорошо, я, как только услышу его голос, сейчас же слушаю его»(89.112). Записи в Дневнике того же месяца: «И теперь самое для меня дорогое, важное, радостное; а именно: Как хорошо, нужно, пользительно, при сознании всех появляющихся желаний, спрашивать себя: чье это желание: Толстого или мое.*) Толстой хочет осудить, думать недоброе об NN, а я не хочу. И если только я вспомнил это, вспомнил, что Толстой не я, то вопрос решается бесповоротно. Толстой боится болезни, осуждения, и сотни и тысячи мелочей, которые, так или иначе, действуют на него. Только стоит спросить себя: а я что? И всё кончено, и Толстой молчит. Тебе, Толстому, хочется или не хочется того или этого – это твое дело. Исполнить же то, чего ты хочешь, признать справедливость, законность твоих желаний, это – мое дело. И ты ведь знаешь, что ты и должен и не можешь не слушаться меня, и что в послушании мне твое благо. *) В записи этого же дня: «Приучать себя думать о себе, как о постороннем; а жалеть о других, как о себе». Не знаю, как это покажется другим, но на меня это ясное разделение себя на Толстого и на Я удивительно радостно и плодотворно для добра действует»(57.46-47). Слово «я» в этом тексте дважды подчеркнуто самим Толстым. «На душе уже не так хорошо, как было. Толстой забирает силу надо мной. Да врет он. Я, Я, только и есть Я, а он, Толстой, мечта и гадкая и глупая»(57.47). «Всё так же слаб, возбужден и раздражен.*) Не могу работать, но думается хорошо, и Я большей частью сознаю отдельно. Чувствую и умиление – плакать и благодарить хочется, и с трудом удерживаюсь от раздражения»(57.48). *) Непрекращающимися столкновениями с С.А. «Да, Толстой хочет быть правым, а Я хочу, напротив, чтобы меня осуждали, а я бы перед собой знал, что Я прав»(57.50). «Разделение себя слабее чувствую. Но чувствую иногда»(57.52). «Помнить о Боге значит перестать помнить о себе, Л. Н.»(57.141). Из письма примерно того же времени: «Стоит мне только вспомнить, что я не Лев Толстой, а проявление Бога, такое же, как во всех людях, и не может быть никакой тоски»(79.195). Это фундаментальное «разделение на Я и Толстого» осталось в сознании Льва Николаевича уже до конца дней. Вот выдержка из письма Черткову, написанного через год, в мае 1910 года: "Меньшикова прочел и Л. Н. огорчился, но когда Он узнал об этом, то очень скоро успокоил Л. Н. и, без прибавления, довел его до того, что Л. Н. пожалел Меньшикова, а за себя, именно вследствие этого, порадовался"(89.186). Кто же тот, кого едко обличал Меньшиков – бывший сподвижник Толстого и один из самых талантливых журналистов того времени? И кто тот, кто довел Л. Н-ча до того, что он пожалел своего обидчика? Кто от кого «разделился»? Высшая душа и низшая душа? Духовное Я от «личности»? Но разве разделение такого рода «сделалось со мною последние дни», в начале апреля 1909 года? Кто же в этих текстах – «Толстой»? И кто есмъ «Я»? «Толстой» – это не только «животная личность» определенного человека, но и не только его обладающая свободной творческой и нравственной волей высшая душа. «Толстой» – это тот целостный человек, кого весь мир величает Львом Толстым, великим писателем и мыслителем, автором «Войны и мира», «В чем моя вера?», «Воскресения», это один из тех редчайших людей, который на века оказался в центре внимания человечества. «Я» – это, разумеется, Бог. «Бог это само в себе без ограничения то духовное начало, которое я сознаю своим "Я" и которое признаю во всем живом»(58.92), – пишет Толстой в августе 1910 года. И в этом смысле в «Пути жизни»: «Спрашивать, есть ли Бог, всё равно что спрашивать: есть ли я? То, чем я живу, это и есть Бог». В дневнике: «Могу в заблуждении своем сказать себе, что я – я, а Бог сам по себе, или нет Его, и могу понять, что я – Он, и тогда все легко и радость и свобода»(58.110). «Я дожил до того сознания, что я не живу, но живет через меня Бог. Это звучит безумной гордостью, а между тем это, насколько это искренне чувствуется, есть самое настоящее смирение»(57.100). В этом же смысле – в «Пути жизни» (1910 год): «Нужно не заслуживать перед Богом, а быть им». Когда Толстой прежде говорил о «Я духовном», то он, различая духовное существо человека от его «личности», хотел особо подчеркнуть нематериальность, внематериальность и даже антиматериальность высшей души человека. Ударение тут делалось на слове «духовное». К сокровенному переживанию каждым человеком своего «Я» это не имело непосредственного отношения. Теперь Толстой, сохраняя и прежнее значение, все же делает ударение именно на «Я» в его собственном смысле. Это «Я» человека, взятое в его собственном смысле, он в последний год жизни (и, значит, в «Пути жизни») называл уже не только отделенным духовным Началом, духовным Я, высшей душою, но и просто: «ДУШОЮ». «Человек, если прожил долгий век, – читаем мы в «Пути жизни», – то прожил много перемен, – был сначала младенцем, потом дитем, потом взрослым, потом старым. Но как ни переменялся человек, он всегда говорил про себя «я». И этот «я» был в нем всегда один и тот же. Тот же «я» был и в младенце, и в взрослом, и в старике. Вот это-то непеременное «я» и есть то, что мы называем душой». Там же: «Что же такое это «я»? Словами мы не можем сказать, что такое это «я», но знаем мы это «я» лучше всего того, что знаем. Мы знаем, что не будь в нас этого «я», то мы ничего бы не знали, не было бы для нас ничего на свете, и нас самих бы не было». Из письма 1910 года: «Знаем мы несомненно только одно: нечто нематериальное свое «я», которые мы и все люди, думающие прежде нас об этом, называли и мы называем душою. Такое нечто нематериальное существо «я» мы сознаем не только в себе, но и во всех живых людях и даже во всем живом. Это же самое нематериальное нечто, дающее жизнь всему живому само в себе, все мудрые люди, прежде мыслившие об этом, признавали существующим, давая ему разные названия, также признаю и я и называю это существо Богом»(82.151). В этом письме к незнакомому человеку Толстой не говорит прямо о соответствии «Я» и Бога, но сам хорошо сознает это соответствие. Запись в Дневнике того же времени: «Да, какое чудное сознание проходящего через меня и составляющего мое «Я» духовного начала, которое я могу сознавать собою. Прекрасно это у Магомета: «Бог захотел быть известным, проявить себя и сотворил людей". *) Разумеется, не сотворил и не захотел. А это выражает то, что я чувствую"(57.173). *) В несколько измененном виде это изречение вошло в «Путь жизни». С тех пор как Толстой при своем духовном рождении сознал в себе духовное Начало, он многие годы звал Его в себя, жил перед Ним и вместе с Ним. И вот теперь он почувствовал, открыл, раскрыл, что Начало это воплощено в «Я» человека, что «Я» человека есть не что иное, как «Всемирное Я», Я Господа. Толстой чувствует в себе Я Господа Бога и узнает в своем «я» Его «Я». Место того духовного Начала, которое в конце 70-х годов, во времена «Соединения и перевода четырех Евангелий», Толстой назвал «Разумением жизни» и которое тогда положил в основание своего учения, теперь, на исходе его дней, заняло «Я». Место той духовной сущности, которую Толстой в ту пору называл «Сыном Разумения», «сыном Бога», «сыном человеческим» заняло теперь человеческое «Я» или его «душа». Перефразировав текст Евангелия от Иоанна, Толстой вполне бы мог сказать так: «В начале было «Я», и «Я» было у Бога, и «Я» было Бог. Все через это «Я» начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В «Я» этом – Жизнь, и жизнь – свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». В начале апреля 1909 года Толстой, по сути дела, познал тайну человеческого «Я». Разгадка тайны «Я» человека состоит в том, что в своей доподлинности это «Я» есть Я Господа. Во Всем существующем есть только одно «Я». И это «Я» – Я Господа. Более того: только это «Я» и есмъ, только оно одно и существует, и ничего не существует, кроме Него. «Я», которое Лев Николаевич отделил от «Толстого» (от поддельного «Я», которое есть «мечта и гадкая и глупая») – это Я Господа Бога. Этим Своим «Я» Господь Бог подписался под данными Моисею Десятью заповедями: «Я Господь, Бог твой…»(Ис. 20:2). Напомним, что Всевышний в Моисеевом Пятикнижии называется то «Богом», то «Господом Богом», то «Господом». Это, как известно, имеет глубокий смысл. «Бог» – Тот, Кто создал Мир и действует в Мире. «Господь Бог» – Тот, Кто ведет человека как такового и управляет человечеством. Слово же «Господь» употребляется в Пятикнижии только тогда, когда Всевышний взаимодействует с отдельной человеческой личностью. В личные отношения с Каином, Авраамом, Моисеем вступает не «Бог» и не «Господь Бог», а «Господь». Именно Я Господа обращено к «Я» человека. Если бы Толстой четко различал понятие «Бога» и понятие «Господа», то вполне можно было сказать, что Всевышний для Толстого три десятилетия был только духовным Началом Всего, Богом, и только в последний год жизни стал Господом – Тем, к Кому человек может обратиться «на Ты», как «я» к «Я». «Я» Господа – это Подлинник того подобия «Я», который человек называет своим «я». Вот что Лев Толстой осознал на вершине духовной жизни. Эта вершина принадлежит одновременно как вселенской духовной жизни, так и личной духовной жизни. В конце 90-х годов Толстой вышел из поприща личной духовной жизни, чтобы войти на поприще вселенской духовной жизни. Теперь оказалось, что на пике духовной жизни это одно и то же, что он на Пути восхождения никуда не сворачивал и продолжал восхождение к вершине личной духовной жизни. Тот переворот, который произошел в душе пятидесятилетнего Толстого, мы называем, и он сам называл, своим духовным рождением. Это – первое духовное рождение его личной духовной жизни. Второе духовное рождение Толстой на пути личной духовной жизни пережил на 81-м году жизни. До этого Всевышний для него был Всем, Жизнью Всего и Светом Сознания во Всем, был Богом недосягаемым в Самом Себе. После этого момента Пути жизни Всевышний раскрылся душе Толстого как Господь, как Высшее «Я». Первое духовное рождение Толстого в 50 лет было рождением Бога в душе. Второе духовное рождение Толстого в 80 лет стало рождением Господа в душе. Примечательно*), что между первым Пробуждением Толстого (в конце 60-х годов) и его первым духовным рождением (конец 70-х годов) прошло столько же времени, сколько между его вторым Пробуждением (конец 90-х годов) и вторым духовным рождением – 10 – 12 лет. *) Примечательно для той темы, которую мы развили в "Пути восхождения". После первого духовного рождения Толстой перешел в новое состояние жизни и обрел свободу духовного пути жизни. После второго духовного рождения Толстой на Пути восхождения вошел в наивысшее состояние жизни – стал Птицей Небесной. *)Тут нет натяжки. Слово «Я», которое употреблено только в этом месте Торы, звучит и начерчено иначе, чем обычное слово «я».
13 (64) Толстой с легкостью проникал за самые разные завесы, скрывающие людские души, и видел их, словно глазами глядел вокруг себя. Прозревал он и Природу, и даже животных. Чем старше он становился, тем его сила прозревания все больше и больше обращалась в глубь себя. Под самый конец жизни в нем совершился тот переворот, который он сам провидел за полвека до того, в полном расцвете земных сил, когда описывал смерть князя Андрея. Ко всем героям Толстого, даже к княжне Марье, даже к отцу Сергию можно обнаружить легкую авторскую улыбку. Но не по отношению к князю Андрею. Толстой, который всегда и везде над своими героями, смотрит на князя Андрея как на равного, а в прощальных сценах – и снизу вверх. Судя по всему, Лев Толстой задумал князя Андрея в целях художественного исследования того, что велико в этом мире и что ничтожно.*) В образе этом испытывается статус и достоинство людского величия, подлинность той или иной достигаемой человеком Вершины жизни. Для Льва Толстого, который знал себе цену, это не литературная, философская или публицистическая тема, а личная проблема. Эту личную задачу истинной Вершины жизни человека Толстой и решал – решал для себя – в образе князя Андрея. *) В ранних рукописях князь Андрей говорит: "Я люблю великое во всем». Он и действительно убежден, что «равных ему никого не было". Войдя к брату, княжна Марья "чувствовала уже в горле своем готовые рыдания", но, "увидав его лицо и, встретившись с ним взглядом, княжна Марья вдруг умерила быстроту своего шага и почувствовала, что слезы вдруг пересохли и рыдания остановились. Уловив выражение его лица и взгляд, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватой. "Да в чем же я виновата?" – спросила она себя. "В том, что живешь и думаешь о живом, а я!.." – отвечал его холодный, строгий взгляд. В глубоком, не из себя, а в себя смотревшем его взгляде, была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу". Потом княжна поняла, что и взгляд брата, и все его поведение "доказывали", как "страшно далек он был теперь от всего живого", "что что-то другое, важнейшее было открыто ему" – "такое, чего не понимали и не могли понимать живые и что поглощало его всего". И если она "виновата" перед ним, то совсем не в том, что, оставаясь жить, она имеет непростительное преимущество перед умирающим, а, напротив, в том, что она "живет и думает о живом", то есть живет такими интересами, которые для него, на его Вершине жизни, ничтожны и чужды. Все земные чувства и мысли людей для князя Андрея ненужны потому, что есть жизнь Птиц Небесных. Князь Андрей Николаевич Болконский вознесся над родом человеческим. Как и положено Птице Небесной, он высоко-высоко парит над людьми со всеми их заботами и чувствами, которыми они так дорожат, и всеми их мыслями, которые кажутся им так важны. В прозрении Птицы Небесной у Толстого возник образ истинного небесно-земного величия человеческого. С некоторого момента работы над "Войной и миром" (я думаю, с описания Аустерлицкого сражения) князь Андрей становится героем, имеющим совершенно особое значение для его создателя: в нем все более отчетливо проявляется идеальное Я автора – "то лучшее, что есть во мне", как говорил Лев Николаевич. Придет время, и эта "лучшая часть души человека"(13.489) будет названа "духовным Я". За два года до своей смерти, 31 января 1908 года Лев Толстой записал слова, которые вполне можно поместить в описание последних дней жизни князя Андрея: «То, что я начинаю испытывать, – как Христос говорит: – иногда будете видеть, а иногда не будете видеть меня, – испытывать какую-то странную радостную свободу от своего тела, чувствую только свою жизнь, свое духовное существо, – какое-то равнодушие ко всему временному и спокойное, твердое сознание истинности своего существования. Впрочем, сказать этого ясно нельзя,*) по крайней мере теперь не умею"(56.95). *) На этом всегда настаивали и те, кто в разные времена достигали такого же, что и Толстой, состояния «просветления». Прошел месяц,: «Душевное состояние все лучше и лучше. – Пишет он 9 февраля 1908 года. – Духовная жизнь, внутренняя, духовная работа все больше и больше заменяет телесную жизнь, (это и есть формула состояния князя Андрея. – И. М.), и все лучше и лучше на душе. То, что кажется парадоксом: что старость, приближение к смерти и сама смерть – хорошо – благо, несомненная истина. Испытываю это»(56.98). И в тот же день: "Я сейчас всё больше и больше теряю память и сознаю то, что приобретаю. И так хорошо!"(56.101) Через полгода, 2 сентября 1908 года – еще определеннее: «Утром и ночью в первый раз почувствовал, именно почувствовал, что центр тяжести моей жизни перенесся уже из плотской в духовную жизнь: почувствовал свое равнодушие полное ко всему телесному и неперестающий интерес к своему духовному росту, т. е. своей духовной жизни»(56.150). На вершинах Пути восхождения у человека "в виду смерти вся жизнь становится торжественна, значительна и истинно плодотворна и радостна"(45.462). Такое состояние было знакомо старцу Толстому в те минуты, часы, дни последних лет жизни, когда он жил вместе и этой и той жизнью и, так же, как по его описанию Христос, "жил уже во время своего плотского существования в лучах света от того другого центра жизни, к которому он шел" и очень хотел видеть "при своей жизни, как лучи этого света уже освещали людей вокруг него". Об этом его состоянии вместе и этой и иной жизни свидетельствовали очевидцы. Вот что видел Петр Струве во время своего посещения Толстого в середине 1909 году, то есть уже после второго духовного рождения: "Самое сильное, я скажу, единственное сильное впечатление, полученное мною от этого посещения, можно выразить так: Толстой живет только мыслью о Боге, о своем приближении к Нему. Он уходит отсюда – туда. ОН УЖЕ УШЕЛ (подчеркнуто Струве. – И. М.). Телесно он одной ногой в могиле, потому что ему 81 год, но он может еще прожить немало дней, месяцев и лет, ибо тело его еще не разрушилось – способен же он чуть не каждый день ездить верхом, что для многих из нас, вдвое его моложе, не только трудно, но и прямо непосильно. Но душевно и духом он там, куда огромное большинство людей проходит только через могилу, незримо и неведомо для всех других. А он ушел, И Я ЭТО ВИДЕЛ, чувствовал в нем и с ним. И в то же время я видел его. В этой очевидности ухода из жизни живого человека было нечто громадное и для меня единственное… Его смерть поэтому так исключительна и значительна. В ней, кроме физиологического состава умирания, не было смерти. Для меня это не "фраза", не "построение", для меня это очевидный психологический факт. Очевидный, ибо я его видел. Я видел не физическое умирание Толстого, не естественный физиологический акт, а таинственное религиозное преображение. Я видел воочию и с трепетом ощущал, как живой Толстой стоял вне жизни. И так же, как я считал своим долгом при жизни Толстого молчать об этом, так теперь, перед всеми здесь собравшимися, объединенными одной мыслью и одним чувством – религиозно почтить отошедшего Толстого, я считаю своим долгом свидетельствовать об этом великом факте его религиозной жизни. Великом, ибо тут была одержана труднейшая победа, тут свершилось величайшее торжество – человека над смертью". Второе духовное рождение на Пути восхождения личной духовной жизни – это рождение Птицы Небесной. Голос Птицы Небесной порою явственно доносится в речах Толстого последнего года жизни. Вот несколько цитат из Дневника первых трех месяцев 1909 года – еще до того, как (по приведенному выше тексту его письма к Черткову) «вместе с Толстым оказался некто, совершенно завоевавший Толстого и не дающий ему никакого хода»: «В старости это уже совсем можно и даже должно, но возможно и в молодости, а именно то, чтобы быть в состоянии не только приговоренного к смертной казни, но в состоянии везомого на место казни. Как хорошо: «Я есмъ – смерти нет. Смерть придет – меня не будет». Мало того, чтобы быть готовым не удивляться тому, что есть смерть, ничего не загадывать; хорошо, главное, то, что вся жизнь становится торжественна, серьезна. Да, жизнь – серьезное дело»(57.4). Запись 27 апреля 1909 года, то есть в день отправления письма Черткову о рождении Птицы Небесной в себе: «Нынче могу написать со смыслом: «если буду жив», потому что чувствую себя слабо очень, спал 10 часов прекрасно, но чувствую близость – не смерти – (смерть скверное, испорченное слово, с которым соединено что-то страшное, а страшного ничего нет) – а чувствую близость перехода, важного и хорошего перехода, перемены. Хотел сказать: перейду к Богу; и это не верно. Если бы во мне не было Бога, то я мог бы сказать: пойду к Богу, а как же я пойду к самому себе. – Чтобы точно выразиться, надо сказать, что я перестану быть человеком. И в этом нет ничего ни дурного, ни хорошего, а только то, что должно быть…»(57.53) В середине мая: «Никогда не испытывал такого сильного желания смерти, спокойного и твердого и радостного желания. Кажется, что нечего делать здесь. Разумеется, только кажется»(57.67). Через месяц, в середине июня 1909 года: «В первый раз вчера испытал очень радостное чувство полной преданности воле Его, полного равнодушия к тому, что будет со мною, отсутствия всякого желания, кроме одного: делать то, чего Он хочет (я сейчас испытываю это). Я и прежде, давно уже познал это, как истину, открытую мне разумом, но только теперь испытал это как чувство – чувство обращения к Нему и желания получения указания от Него: что же делать? – Привык к молитве и к ожиданию ответа на человеческие речи. Но это самообман.Ответ есть в душе. Благодарю Тебя. Как хорошо! Чую ответ, и так радостно, что выступают слезы»(57.81). «И, удивительное дело, в 81 год только только начинаю понимать жизнь и жить»(57.185). Из письма дочери Татьяне Львовне в октябре 1909 года: «Мне хорошо, даже очень хорошо, не по заслугам. Если есть на что пожаловаться, то – усталость, не физическая и не нравственная, а как бы сказать, деловитая усталость жизни. Допахал пашню, а еще рано, а на другую переезжать не к чему. И хочется на ночлег, от нечего делать спать, а мне умереть слишком хочется. Может быть, это временное, но есть очень сильно. Да уж и пора»(80.144). Кончился 1909 год. Наступил последний год жизни Льва Николаевича Толстого. Из Дневника 1910 года: «Чем больше живу, тем меньше понимаю мир вещественный и, напротив, тем все больше и больше сознаю то, чего нельзя понимать, а можно только сознавать»(58.46). «Пора проснуться, т. е. умереть. Чувствую уже изредка пробуждение и другую, более действительную действительность»(58.21). 27 февраля 1910 года, в записной книжке: «Заспался, пора проснуться. Начинаю просыпаться уже, начинаю видеть настоящую жизнь и не верить в одно виденье"(58.153). Из письма, написанного в апреле 1910 года: «Бояться же смерти, слава Богу, не боюсь и, чем ближе к ней, то всё она мне естественнее и роднее»(81.227). Из последних писем Черткову: "Всё ближе и ближе подходит раскрытие наверное благой, предугадываемой тайны, и приближение это не может не привлекать, не радовать меня"(89.202). "Я мало думал до вчерашнего дня о своих припадках, даже совсем не думал, но вчера я ясно, живо представил себе, как я умру в один из таких припадков. И понял то, что, несмотря на то, что такая смерть в телесном смысле, совершенно без страданий телесных, очень хороша, она в духовном смысле лишает меня тех дорогих минут умирания, которые могут быть так прекрасны. И это привело меня к мысли о том, что, если я лишен по времени этих последних сознательных минут, то ведь в моей власти распространить их на все часы, дни, может быть месяцы, – годы (едва ли), которые предшествуют моей смерти, могу относиться к этим дням, месяцам, так же серьезно, торжественно (не по внешности, а по внутреннему сознанию), как бы я относился к последним минутам сознательно наступившей смерти. И вот эта-то мысль, даже чувство, которое я испытал вчера и испытываю нынче и буду стараться удержать до смерти, меня*) особенно радует, и Вам-то мне и хочется передать ее. – В сущности это всё очень старо, но мне открылось с новой стороны. *) Тем, кто исследует мотивы и причины ухода Толстого из яснополянского дома, надо бы особенно внимательно вникнуть в эти слова. Это же чувство и освещает мне мой путь в моем положении и из того, что было и могло бы быть тяжело, делает радость»(89.226). И, наконец, запись Дневника от 23 октября 1910 года, за несколько дней до ухода из Ясной Поляны и за две недели до смерти: «Я потерял память всего, почти всего прошедшего, всех моих писаний, всего того, что привело меня к тому сознанию, в каком живу теперь. Никогда думать не мог прежде о том состоянии ежеминутного памятования своего духовного «я» и его требований, в котором живу теперь почти всегда. И это состояние я испытываю без усилий. Оно становится привычным… И этого не могло бы быть, если бы я жил в прошедшем, хотя бы сознавал, помнил прошедшее. Не мог бы я так, как теперь жить большей частью безвременной жизнью в настоящем, как живу теперь. Как же не радоваться потере памяти? Все, что я в прошедшем выработал (хотя бы моя внутренняя работа в писаниях) всем этим я живу, пользуюсь, но самую работу – не помню. Удивительно… Как хорошо! (58.121-122). Выше состояния человека, чем состояние ежеминутного и без усилий «памятования своего духовного Я и его требований» уже быть не может. Лев Толстой дошел до вершины Пути восхождения. И, дойдя до вершины, ушел из этой жизни, перестал быть земным человеком. «И в этом нет ничего ни дурного, ни хорошего, а только то, что должно быть…». *)цитирую по книге Б.Бермана "Сокровенный Толстой" М. 1992г. с.187-8. *)Это прямая цитата из «Войны и мира». Пробуждение «в более действительную действительность» чувствовал и князь Андрей.
14 (65) Одну черту состояния Птицы Небесной, черту надмирности и полной отвлеченности от всего земного, Толстой точно угадал в образе вознесшегося над людьми и миром князя Андрея. Однако князь Андрей достиг состояния Птицы Небесной – и статичен. В жизни же Толстого оказалось, что и это высшее и надмирное состояние динамично, что и Птица Небесная растет духовно. «Только теперь в 80 лет начинается жизнь»(56.151) – обнаружил Лев Николаевич. И – какая активная, торжественная и строгая жизнь! «Всё подвигаюсь в внутренней работе. Никогда не поверил бы, что это возможно в 81 год. Всё большая и большая строгость к себе и от того всё большее и большее удовлетворение. Главные две черты: преданность Его воле и неосуждение в мыслях»(57.84). «Как будто чувствую и в себе, и в человечестве созревание плода»(57.62). Состояние жизни князя Андрея перед смертью можно точно назвать состоянием полнейшего «эгоизма духовного», о котором немало говорил Толстой в последний год жизни: «Самое лучшее и самое худшее – себялюбие, эгоизм. Вопрос только в том: кто тот, кого я люблю больше всего? Если телесный я – дурно, если духовный я, то самое лучшее, что может быть. И этот-то духовный эгоизм я нынче в первый раз на деле в жизни почувствовал,*) и почувствовал всё благо этого»(57.58). *) Запись от 5 мая 1909 года, то есть на самом пике второго духовного рождения. «Отвратителен эгоизм телесный, и нет ничего выше эгоизма духовного, перенесения своего сознания в духовное, вечное, всемирное я. И перенесение это совершается любовью и дает такое благо, испытывая которое ничего больше не нужно»(57.64). Еще одну грань состояния Птицы Небесной – грань агапической любви – князь Андрей в "Войне и мире" пережил за месяц до смерти (главы о пребывание его в Мытищах). Сорокалетний Толстой не представлял, как в одном человеке и в одно и то же время возможно реально совместить надмирность и любовь; и в романе разводил их. Знание состояния надмирности и, вместе, агапичности пришло к Толстому через много лет, и особенно ясно, когда он сам все более становился Птицей Небесной. «Удивительное дело, только теперь, на девятом десятке начинаю немного понимать смысл и значение жизни – исполнения не для себя – своей личной жизни и, главное, не для людей исполнения воли Бога – Любви, и в первый раз нынче, в первый день Нового 09 года почувствовал свободу, могущество, радость этого исполнения. Помоги мне быть в Тебе, с Тобою, Тобою»(57.3). Состояние жизни старца Толстого, Толстого-Птицы Небесной определялось, прежде всего, агапической любовью, но не специально культивируемой любовью-умилением ко всем и ко Всему, а конкретным любовным чувствованием людей вокруг себя – всякого собою. Вот его собственные описания этого удивительного и так мало знакомого людям чувства: «Сколько ни старался жить только перед Богом – не могу. Не скажу, что забочусь о суждении людей, не скажу, что люблю их, а, несомненно, и неудержимо произвольно чувствую их, так же, как чувствую свое тело, хотя слабее и иначе. (Верно)»(58.51). Общаясь с человеком, Толстой заботился «не столько о том, чтобы он признал в тебе любовное к нему отношение, сколько о том, чувствуешь ли сам к нему истинную любовь. (Очень важно)»(58.55). В дополнение несколько цитат из «Пути жизни»: «Мы сердцем чувствуем, что то, чем мы живем, то, что мы называем своим настоящим «я», то же самое не только в каждом человеке, но и в собаке, и в лошади, и в мыши, и в курице, и в воробье, и в пчеле, даже и в растении». «Поговори с человеком, вглядись хорошенько в его глаза, и ты почувствуешь, что ты родня ему, что ты как будто прежде, давно знал его. Отчего это? Оттого, что то, чем ты живешь, одно и то же в тебе и в нем». Призыв: «Пойми самого себя» для Птицы Небесной слышится по-новому: «Всё живое хочет того же, чего и ты; пойми же самого себя во всяком живом существе». Когда Толстой в последний год жизни сообщал, что «одна душа во всех» (так назван и раздел «Пути жизни»), то он имел в виду, что одно Я – Я Господа – живет во всех и во Всем. И другого в мире Я нет. Так что необходимость агапической любви обосновывалась им уже не только и не столько с позиций высшей агапической жизненности (которой живет Бог), а на том основании, что во всех людях и во всем живом одно и то же Я Господа. О любви, как о стремлении слияния душ в одно целое, Толстой говорил все три десятилетия своей проповеднической деятельности. Но теперь в учении о любви появились два принципиально новых момента. Во-первых, соединение любовью совершается не непосредственно от души к душе, от Я к Я, а опосредованно – через Я Господа. Это графически изображено в письме Л. Д. Семенову от 18 июля 1910 года, которое мы приводили выше в четвертой части. О том же самом Толстой пишет через неделю и В. А. Лебрену (82.88): «Спасибо Вам, милый Лебрен, и за короткое письмецо. Вы один из тех людей, связь моя с которыми твердая, не прямая от меня к Вам, а через Бога, казалось бы самая отдаленная, а, напротив, самая близкая и твердая, не по хордам или лучам, а по радиусам: не такая:

а такая:

Не менее существенен и другой новый момент в толстовском учении о любви последнего года жизни. «Кроме молитвы обычной Отче Наш, Круга Чтения, На каждый день, нужно еще молитву, соответствующую твоему духовному движению. – Пишет Толстой в Дневник 14 января 1910 года. – У меня последние четыре постепенные молитвы были: 1) Ты, Тот, который во мне, помоги мне. 2) Помоги мне быть с Тобою, 3) Помоги мне сознавать себя только Твоим работником, 4) Помоги мне при всяком общении с человеком видеть себя в нем»(58.8). То, о чем сказано в этой последней, четвертой молитве, сразу и уразуметь трудно. Нам знакома формула агапической любви: «Я во Всем, и Всё во мне». Нам знакома формула сторгической любви: «Ты – мое другое Я». С этой последней формулой Толстой производит удивительную операцию: он переворачивает ее: «Я – его другое я». Перенесение себя в другое "я" не то же самое, что перенесение другого "я" в себя. "Есть любовь к высшему, когда преклоняешься перед любимым /такова обычно, и сторгическая и часто предшествующая ей любовь-влюбление. – И. М./. И есть любовь, и самая нужная – перенесение себя в другого, страдающего человека, сострадание, желание не быть им и вместе с тем сознание того, что ты в нем"/43.314./. В этом смысле «интерес жизни должен быть не «я», а «ты», или ОН»(56.141). Надо стараться выработать в себе такую любовь к каждому человеку, в том числе и к врагу. Любовь по перевернутой сторгической формуле максимально близка к надмирной агапической любви, к "любви к любви", к любви по шестой заповеди Нагорной проповеди. Она, утверждает Толстой, хотя бы намеком есть в каждой душе: "Когда я говорю другому: "душа моя", я чувствую то, что признаю в нем свою душу. Поэтому и люблю его, что в нем моя душа"(44.266). Любовь по перевернутой сторгической формуле это не столько род любви к ближнему, сколько род любви к Богу, любви, в которой человек только и способен на общение с Богом. «Мы молимся словами. – А общение с Ним, Богом возможно не словами, а только любовью»(58.42). "Общение человека с человеком есть единственное и величайшее таинство: сознания себя /Бога/ в другом. Только бы понимать это таинство"/57.76./. В этом «единственном и величайшем таинстве» – Богоугождение Птицы Небесной. Через такое сознание и такую любовь теперь признается возможным то, что ранее Толстым признавалось совершенно невозможным: познание Бога в Нем Самом. «Можно сознавать Бога в себе самом (в своей душе. – И. М.). Когда сознаешь Его в себе самом, то сознаешь Его и в других существах (и особенно живо в людях). Когда сознаешь Его в себе и в других существах, то сознаешь Его и в Нем самом»(58.120). Но при этом: «Мало того, что «Бога никто не видел нигде», но и постигнуть Его не во власти человека. Как сказал кто-то: знаем закон и источник, причину закона, и не только причину закона, но и причину моей жизни. Но какова эта причина – не то, что не могу постигнуть, но знаю, что и не могу пытаться; хвалить, просить, каяться – всё это невозможно по отношению к Богу. Не то, что Он не слышит этого, но это не подобающее Ему отношение, как если бы хотел сказать: козявка бы испытывала закон тяготения, просила бы, хвалила, каялась по отношению к движению небесных тел. Но это всё не то»(57.99). Но именно с помощью закона всемирного тяготения Толстой через год после этой записи объясняет свое понимание любви к Богу и понимания Его человеком. "Какое хорошее сравнение Бога с центром тяготения. Закон Бога мы знаем так же несомненно, как закон тяготения. Тот же закон любви к Богу, как и закон тяготения к общему центру тяготения и, как тот же закон между отдельными предметами вещества, так и тот же закон любви между отдельными людьми. Но так же, как мы не знаем, не можем даже представить себе всеобщего центра тяготения, мы не можем и представить себе Бога. Но, как несомненно, что есть этот центр, так же несомненно, что есть Бог. Грубое представление тяготения: верх и низ, падаешь не вверх, а вниз; грубое представление Бога: личность и сверхчеловек. Более глубокое – тянет земля, тянет солнце, тянет какой-то центр; Бог—идол, Бог – Христос, Бог – лицо, Бог – X"(58.167). Состояние жизни Птицы Небесной – это состояние наибольшего тяготения к Всеобщему Центру духовного тяготения и знания Его. Человек, по Толстому, есть прежде всего «отношение». И теперь на первый план выходят вопросы отношения человека и Всего, отношения Я человека и Я Господа. Только во второй половине 1909 года Толстой «в первый раз понял то, что есмъ одно из бесконечно малых проявлений жизни по отношению к бесконечно великой жизни, и потому мое отношение одно: я есмь почти ничто, но я есмь по отношению Всего. Нет, нельзя или не умею выразить не то что понятие Бога, но своего отношения к Нему»(57.99). Если «Я» человека есть по сути некое «отношение» к Я Бога, то – какое отношение? Мысль о том, что человек – орган Бога, и раньше нередко возникала у Толстого. «Как удивительно проста разгадка жизни. – Пишет он в 1908 году. – Жизнь личности – Льва, Петра, Ивана – нелепое заблуждение. Живет во мне Бог, а я – Его орган. «Бог живет во всех, но не все знают это». Да, удивительно хорошо на душе»(56.118). В 1909 году это положение определилось: «Насколько мой мизинец может сознавать себя – он может, когда я хочу сознавать его – настолько и я могу, когда Бог сознает себя во мне, сознавать себя. Но насколько мизинец не может понять всего тела, настолько я не могу понять Бога, который сознает себя во мне»(57.99). И между тем: «Если это так, то как страдание одной части моего тела вызывает сознание этой части, так точно и страдание мое, всего моего существа вызывает сознание Богом моего «я» (57.116). Окончательно Толстым утверждено такое положение: «Думал сейчас, при чтении прекрасных дней На Каждый День, о том, что то, что я сознаю своим «я», есть сознание Богом самого себя через весь мир, в том числе и через меня. От этого-то Бог есть любовь. Может казаться неясно, но мне и ясно, и умиленно радостно»(57.148-9). Отсюда, в качестве приложения к сказанному, установка для практической жизни: «1) Первое и самое главное: Нет меня, моего я, а есть только моя обязанность перед Ним»(57.156). «Не делай только того, что противно Его воле и воле твоего настоящего «я», и ты будешь делать то самое нужное и хорошее, что ты можешь сделать… Мы в своей ограниченности не можем видеть, в чем наше служение. Да, наше служение только тогда действительно, когда мы не знаем, в чем оно, а знаем только то, чего мы должны не делать. Делать, хотим мы этого или не хотим, мы будем. Усилие наше только в том, чтобы не делать против Его воли – не сбиваться с дороги»(57.14). Другое, что характеризует «отношение» ко Всему, это сугубая неподвижность Я по отношению к движению Мира. «Да, сначала кажется, что мир движется во времени, и я иду вместе с ним, но чем дальше живешь и чем больше духовной жизнью, тем яснее становится, что мир движется, а ты стоишь. Иногда ясно сознаешь, иногда опять впадаешь в заблуждение, что ты движешься со временем. Когда же понимаешь свою неподвижность – независимость от времени, понимаешь и то, что не только мир движется, а ты стоишь, но с миром вместе движется твое тело: ты седеешь, беззубеешь, слабеешь, болеешь, но это все делается с твоим телом, с тем, что не ты. А ты все тот же – один и тот же всегда: 8-летний и 82-летний»(58.103). «Если время идет, то должно быть то, что стоит. Стоит сознание моего «я»(58.9). «Чем больше сознает человек свою духовность, тем яснее он понимает обман своего, кажущегося движения во времени»(58.98). Может показаться, что Толстой годами твердит одно и то же. Еще в «формулах жизни» (в 1902 и в 1903 годах) он утверждал, что духовное начало, обитающее в человеке, неподвижно, а движутся его пределы отделенности. Примерно то же самое и с теми же выражениями мысли пишет Толстой и в 1910 году (см. 89.154). Совпадения очевидны. Но есть и существенное различие. Тогда Толстой шел ко второму духовному рождению, был на подходах к состоянию Птицы Небесной, и освобождение от заблуждения движения духовного существа было необходимо ему в прикладных целях – для того, чтобы восторжествовала добродетель и «то, что составляет основу всех добродетелей: вытекает любовь… самоотвержение, воздержание, бесстрашие, вытекает усиленное, уясненное требование того, что мы называем совестью, что есть не что иное, как сознание своей духовности» и что, в свою очередь, дает наибольшее благо человеку как таковому. Теперь, после второго духовного рождения, ему важно само по себе положение о неподвижности сознания духовного Я, а не то, что из него «вытекает». Совсем другое ударение в мысли. В соответствии с требованиями состояния жизни Птицы Небесной ударение мысли выставляется не столько на добродетелях и любви и не столько на благе человека или человечества, сколько – в соответствии с принципом «духовного эгоизма» – на себе духовном, на добывании коренного Я из-под завалов ложного я – иначе: на обретении Я отдельно взятого человека все большей и большей подлинности и всемирности. «Думал о том, что основа призрачности жизни в том, что мы называем движением… Т. е., что движение то, без чего мы не может мыслить, понимать, сознавать жизнь, есть только призрак такой же, как тот, когда тебе, стоящему неподвижно, тогда как всё со всех сторон равномерно бежит вокруг тебя, кажется, что всё стоит, а бежишь ты. Точно то же совершается и с основной сущностью человеческого «я»(57.101). Подлинность Я добывается тем, что Толстой называет так же, как и многие мудрецы до него – «освобождением», освобождением от чувства-сознания призрачности собственно человеческого «я». Такое самоотречение иногда граничит с самоотрицанием, отрицанием Льва, Петра, Ивана, как иллюзорного, фиктивного, не существующего образования – тени истинного Я. «Самоотречение?! Разве можно отрекаться от себя, когда "я" – только я телесное. Самоотречение есть отречение от того, что я ошибочно считаю собою. Самоотречение есть признание своей Божественности, вечности»(57.62). «Что же такое жизнь? Раскрытие, освобождение от затемнения, застилания этого неподвижного я, от призрачности движения, в пространстве и времени. Жизнь, как каждого отдельного существа, так и всего мира есть это освобождение, благо все увеличивающееся и увеличивающееся этого освобождения. Зачем? Для чего это так? Для чего нужен этот процесс освобождения, т. е. жизнь? Это не дано знать человеку. Одно, что дано знать ему, это то, что в этом благо, великое благо жизни. И знание этого, подчинение этому закону увеличивает это благо»(57.101-2). «Время и движение, пространство и вещество суть только формы нашего ограничения, отделенности от «Всего». И потому движение, прогресс всего человечества не имеет реального значения. Реально только наше духовное совершенствование, которое не есть движение, а только освобождение от того, что скрывает совершенство, что отделяет нас от него, от Бога»(79.116). «Сейчас подумал очень странное, а именно, что для того, чтобы быть с Богом, быть в настоящем, быть неподвижным, надо не переставая двигаться, т. е. что для того, чтобы быть с неподвижным, вечным, надо не переставая отодвигать то, что отделяет от Него»(57.187). Стремление к подлинности Я или стремление к его «освобождению» равнозначно стремлению «взлететь», стать Птицей Небесной. В самом усилии освобождения от призрачности собственно человеческого Я – одна из сторон духовного роста Птицы Небесной. Вершина земной жизни – в жизни несмертной, неземной, небесной, в жизни иного рода. Это значит, что между ними есть связь и что то и то в некотором роде – оно и то же. Отсюда учение монизма жизни. Духовный монизм, или монизм жизни, признает подлинность существования только духа или жизни и иллюзорность существования всего вещественного, материального. Толстой последнего года жизни признает подлинность существования только за вселенским Я и иллюзорность всякого иного «я», связанного с материальной жизнью, с жизнью тела. И все же я бы поостерегся говорить о монотеистическом уклоне во взглядах Толстого. Метафизическое учение Толстого условно можно назвать монизмом жизни Я. «Одно и только одно, мы несомненно знаем, это одно единственно несомненно и прежде всего известное нам есть наше "я", наша душа, т. е. та бестелесная сила, которая связана с нашим телом. А потому и всякое определение чего бы то ни было в жизни, всякое знание в основе своей имеет это одно, общее всем людям знание»(58.105). По сути дела, Толстой отрицает подлинность существования низшей души и плоти и считает, что человек призван к делу освобождения вселенского Я, обитающего в нем, от призрака того, что Лев Николаевич прежде называл «животной личностью» и теперь предпочитает называть «телесной личностью». Подлинное Я обладает вневременным и внепространственным сознанием жизни Всего – сознанием нераздельности. И «если мы сознаем себя отделенными, то это от того, что мы были (слово: «были» неверно, потому что выражает время тогда, когда дело идет о вневременном) нераздельными, или скорее: то, что мы сознаем себя отделенными, это только иллюзорное, или «временное» сознание, а в действительности мы не перестаем быть одно со всем (на религиозном языке это значит, что в нас живет Бог)»(57.21). Если то «я», которое обладает сознанием отделенности, иллюзорно, то нечего говорить и об иллюзорности сознания пределов отделенности (времени, пространства и движения) и тем более об иллюзорности самих пределов отделенности (материи, вещества, телесности). Отсюда новое качество монизма у Толстого последнего года жизни. С одной стороны, мы вроде бы наблюдаем ужесточение духовно-монистических взглядов Толстого: «Ни про что вещественное нельзя сказать, что оно есть. Всё вещественное только происходит и проходит. Если что есть, то только то, что невещественно»(57.163). «На 2-й вопрос о том, как может дух существовать без материи, – отвечает Толстой своему корреспонденту 10 марта 1910 года, – так как, по-вашему, материя такое же основное и вечное начало жизни, как и дух, отвечаю тем, что материя не только не такое основное и вечное начало жизни, как дух, но что материя вовсе не существует сама по себе, а есть только наше представление. Мы знаем несомненно только одно свое духовное «я», материальное же всё есть только представление, получаемое нашим духовным «я», которое одно существует»(81.136). И все же без «материи» Бог не был бы «Богом живым». «Если есть какой-нибудь Бог, то только тот, которого я знаю в себе, как самого себя, а также и во всем живом. Говорят: нет материи, вещества. Нет, она есть, но она только то, посредством чего Бог не есть ничто, не есть не живой, но живой Бог, посредством чего Он живет во мне и во всем. Зачем, это я не знаю, но знаю что это есть»(58.108). И при этом – поразительный накал веры, основанной на чисто толстовском чувстве жизни: «Да, делается что-то в этом мире, и делается всеми живыми существами, и делается мной, моей жизнью. – Сказано в «Пути жизни». – Иначе для чего бы было это солнце, эти весны, зимы и для чего эти страдания, рождения, смерти, злодейства, для чего все эти отдельные существа, очевидно, не имеющие для меня смысла и вместе с тем живущие во всю силу, так хранящие свою жизнь, существа, в которых так крепко завинчена жизнь. Жизнь этих существ более всего меня убеждает, что всё это нужно для какого-то дела, разумного, доброго, но недоступного мне». *)И словно в пояснение этого: «Растения растут сначала быстро, а потом медленно, а духовная жизнь наоборот»(89.178). *)См. также 58.33-34. *)Астапово, 31 октября 1910. 1 час 30 минут дня, под диктовку дочери Александре Львовне – практически перед смертью. "Бог, если мы хотим этим понятием уяснить явления жизни, то в таком понимании Бога и жизни не может быть ничего основательного и твердого. Это одни праздные, ни к чему не приводящие рассуждения. Бога мы познаем только через сознание Его проявления в нас. Все выводы из этого сознания и руководство жизни, основанное на нем, всегда вполне удовлетворяет человека и в познании самого Бога и в руководстве своей жизни, основанной на этом сознании"(58.143-4). *)«Материя-вещество есть только, вместе с движением, средство общения, разделенного в самом себе, духовного Начала»(58.70).
15 (66) Метафизика, предоставленная сама себе, развивается в колее общедушевного творчества, то есть говорит то, что может привлечь и вдохновить любителя метафизики, в то же время подтверждая основную религиозную легенду и оправдывая и наполняя смыслом существование людей в конфессиональном строю. Оттого она говорит много больше того, что ведает. Толстой прозревал и думал не для других людей, не ввиду читателя, интересующегося метафизическими проблемами, а для себя, для нужд своей – и всеобщей – жизни. Думающий для себя Толстой следил за тем, чтобы «не сказать больше», не зарваться, не обмануть себя и других своим воображением, не подменить истинное человеческим творчеством. «Самое важное и значительное – это выяснение того, что при настоящем строгом мышлении неизбежно: тот, кто думает, что мыслит, претворяется (становится. – И. М.) в то, что он мыслит, т. е. человек приведен к необходимости признания себя Богом. Тут тайна. И важнее всего знать, где остановиться»(89.219). Ставить мировоззрение Толстого в ряд других метафизических учений и сопоставлять их надо крайне осторожно. Метафизика Толстого и его состояние сознания в последние годы – одно целое. Метафизику Толстого надо брать не саму по себе (и, тем более не фрагментарно), а в целостном восприятии с его состоянием жизни, состоянием человека, находящегося на одной из Вершин Пути восхождения. Лев Толстой, в отличие от всех нас грешных, не был подвержен чужим влияниям. На Толстого (разве кроме брата Николая Николаевича в юности) никто и никогда не оказывал устойчивого влияния. Лев Толстой радовался, встречая подтверждения своим мыслям у других мыслителей и в других учениях, говорил, что все учат одному и тому же (чему и он), но утверждать, что Толстой думал по подсказке (разных религиозных учений или философов) или в результате воздействия на него извне – значит совсем не знать Толстого. Толстой – не только человек душевно и духовно исключительно самобытный, но и совершенно автономный, в максимальной степени самостоятельно мыслящий и чувствующий. По своей природе и по независимости своей духовной жизни он – первооткрыватель и зачинатель. Скорее уж, концепции других учителей человечества он приноравливал (иногда весьма откровенно) под свои взгляды и установки жизни. Послушать Толстого, так и Христос, и Будда, и Лао-Цзы, и Кришна утверждали то же, что он. Толстой – тот, кто сам отвечает, а не тот, кто у кого-то ищет ответы. Под конец жизни он взошел на такие вершины, что людям следует идти к нему за ответами по коренным вопросам жизни. Лев Толстой вообще предпочитает не отталкиваться, а, с кем только можно, совмещаться и объединяться и, кроме самоочевидных случаев, не выявлять свои расхождения с установками мысли других религиозных учителей мира. Он старается толковать всех и всё в объединяющем духе.*) Он брал себе в сопутники Кришну и Будду, через века протягивал руку им, но не кришнаитам и не буддистам. Живи Толстой среди них, и он бы высказывался о них никак не лучше, чем о «православных». У Толстого нет агитационного жара, нет рассчитанного на общее употребление жеста лицедейства мудрости (тем более напоенной чуждой общедуховностью), и уж совсем нет необходимого толпе камуфляжа высшего знания. В мышлении его нет ничего мифопоэтического. Не мудрено, что приводимые в переводе цитаты разных учений при сравнении их с толстовскими часто работают на понижение или затуманивание смысла слов Льва Николаевича . *) Один пример: «Браманизм, Буддизм, Даосизм, Конфуцианство, Еврейство, Христианство – одно и то же: признание непостижимого Начала, в зависимости которого наша жизнь, признание в себе отражения, или частицы, или проявления этого начала и вытекающего из этого признания исполнения воли, благой воли этого благого Начала»(55.238). Хотя, конечно, метафизические взгляды Толстого не новость для человечества. Знания, подобные толстовским, идут из глубокой древности. Вслед за немногими другими людьми в истории человечества Лев Толстой встал в такое положение, при котором в человеке проступает жизнь вечная. Изучая мистику и метафизику Толстого, мы прикасаемся к чистому источнику, из которого мудрецы и проповедники всех времен черпали свои прозрения. И Толстой сознавал свое сродство по этому источнику с Кришной и Буддой, Сократом и Марком Аврелием, Паскалем и Виваканандой. П. П. Николаев провел подробный сравнительный анализ учения Толстого («истинно христианского учения» духовного монизма) и учений основных мировых религий и философских систем, начиная с Древности и до начала ХХ века. Мы отсылаем читателя к его трудам. Скажем только, что слова «освобождение», «просветление» и особенно «пробуждение» самостоятельно возникли в лексиконе Толстого, но несут примерно ту же смысловую нагрузку, что в индуизме, даосизме, буддизме. Отличие толстовской религии от этих религий следует искать не в теоретических посылках, не столько в общих взглядах на Мир, Абсолют или вселенскую жизнь (где множество внешних и внутренних совпадений и расхождений), а в учении о прохождении земной жизни человеком и в практике этого жизнепрохождения. Надо ли говорить, что психотехника играет в указанных учениях определяющую роль. В индуистской и буддийской практике йога*) – единственный путь к достижению высшей религиозной цели. Представить Толстого в образе йогина столь же невозможно, как в образе диск-жокея. Медитация, мантры, сосредоточение внимания и искусственное погружение в себя, техника экстаза и вообще всякая направленная переустройка психики столь несовместима с чувством жизни Льва Николаевича и с его учением о жизни, столь неуместна в толстовском мире, что обо всем этом в связи с Толстым нельзя и думать. *) В данном случае мы употребляем это понятие не в качестве одной из многих систем брахманизма, а как синоним специфической психотехники, суммы специально выработанных средств, приемов, тренировок, необходимых для реализации чаемых трансперсональных состояний сознания (мокша, мукти, кайваля, нирвана и прочее). Лев Николаевич всегда принимал существующую действительность как то, что необходимо для духовной работы человека. Вспомним хотя бы учение Толстого о «кресте своем», о кресте своей низшей души, который надо нести каждый день и в этом несении и жизнепрохождении производить в страданиях души и тела то, что нужно Богу, то, зачем человек послан в мир, – все это невозможно в буддизме и индуизме. Вспомним и то, что «вечная тревога, труд, борьба, лишения – это необходимые условия, из которых не должен сметь выйти хоть на секунду ни один человек». Толстой не считал зазорным включаться во все проблемы земной жизни, сам активно вмешивался в современную ему общественную жизнь, и во всех концах света.*) И при этом не трубил о своем «просветлении» и о сокровенном знании Бога в себе. Он вообще – кроме как себе в Дневнике и на ухо самым духовно близким людям – не говорил об этом. Словно это его сугубо личное дело. Так оно, впрочем, и было. *) Он предсказал первую мировую войну (за 20 лет до ее начала) и русскую революцию за 10 лет до нее и то, к чему она непременно приведет. В последние старческие годы Толстой желал спокойствия души для себя и нередко писал об этом, но никогда не учил людей руководствоваться в жизни стремлением к душевному затишью. Человек всегда обязан стремиться выполнять работу, которую завершить нельзя, и потому должное и желаемое состояние жизни, по Толстому, определяется не переживанием умиротворения, блаженства, надмирности, тишины и спокойствия, а тем, про что он говорил: «Хорошо». Хорошо – радость и муки душевного труда и духовного роста, преодоление беспрерывно поставляемых жизнью препятствий, а не «обход» их и не их ликвидация. Одна дорога в жизни – идти прямо в гору, одолевать подъемы и опасности, преодолевать всевозможнейшие «препятствия», другая – идти в обход, обходить гору, избегать восхождения, крутизны жизни и ее нешуточных угроз. Подлинный Путь жизни человека – через гору и желательно не через перевалы даже, а непосредственно – на Вершину и через Вершину. Так что на йоговскую практику, глядя с позиции Толстого, надо смотреть как на «обходы», а не как на подлинную работу, заданную человеку Богом. Для достижения состояния пробуждения, освобождения, просветления, теоретически говоря, достаточно произвести простую операцию: вычесть из Структуры человека все то (это «вычитаемое» Толстой называл «животной личностью»), что закрывает вселенскую сущность высшей души человека. Отличие практики толстовского учения от практик индуизма и буддизма в том, что Толстой иначе «вычитает личность», чем они. Первые психотехническими или аскетическими приемами стремятся стереть «животную личность» из состава человека, отделаться от ее существования в мире (пусть и считающегося иллюзорным). Толстой же заставляет ее работать на духовный рост. У него не самоотрицание, а самоотвержение, построенное на «преодолении препятствий», могущих быть поставленными человеку в его земном жизнедействии только животной личностью. На низшую душу, на животную личность следует в первую очередь воздействовать не волей, которая умаляет и обессиливает эту душу (по Толстому это почти ничего не дает) и не тем, что искусственно погасить ее до такой степени, при которой она не мешает психотехнической практике (дает возможность заниматься ею), а почти исключительно усилением роли и значения высшей души в человеке, которая благодаря своему сравнительному с низшей душой могуществу, сокрытому, но ею же и добытому, проделывает работу человеческой жизни. Йоговская (в самом широком смысле йоги) практика духовного делания – это ликвидация самой возможности той духовной работы, на совершении которой только и настаивал Лев Толстой. Даосские мотивы единения с природой как таковой и следования своей изначальной природе нетрудно найти и у Толстого. Но у него они имеют прикладное значение – натуральность животной личности, ее неизвращенность и невозбужденность необходима для возможности продуктивного преодоления ее высшей душою, которая иначе справиться с ней, практически говоря, не сможет. Путь восхождения человека, учит Толстой, должен иметь три стадии. «Да, несомненно, все люди должны переживать три степени ясности сознания. Первая – когда ограниченность Божественной силы в тебе принимаешь за отдельное существо. Не видишь своей связи с бесконечным началом. Второе – когда видишь, что сущность твоей жизни есть дух, но, не отрешившись от понятия своей отдельности, что твой дух в теле – отдельное существо – душа. И третье – когда сознаешь себя ограниченным проявлением Бога, т. е. единого истинно существующего невременного и непространственного. – От этого три рода жизни: а) жизнь для себя, б) жизнь для людей и в) жизнь для Бога»(55.40). При этом каждая стадия имеет возрастные границы. Первая стадия – лет до 30, вторая – от 30 до 70, и третья стадия, стадия Птицы Небесной, «сознания уже не отдельного духовного существа, а сознания своей причастности к вечному, бесконечному»(55.25) – начинается после 70 лет. Почему же только в 70 лет? Да потому, что времени жизни раньше этого возраста не хватит высшей душе для того, чтобы выработать ресурсы низшей души. А «вычесть» ее можно, конечно, и в 20 лет. Рабочие ресурсы животной личности рассчитаны на всю дистанцию жизни человека, земной части всего того «круга», о котором говорилось выше. Тезисы морального учения Толстого без труда можно найти в любом традиционном индуистском, буддийском, даосском учении*). Однако они провозглашаются тут не так, как у Толстого, – не только не поставлены во главу угла, но нужны тут в качестве подготовительных условий, предваряющих основное духовное действие – применение собственно психотехнических средств, действие которых только и ведет к искомому результату. Исполнение моральных требований в этих религиях, как правило, жесткие, но вполне холодные и не могут быть иными. О нравственном экстазе или тем более о свободном нравственном вдохновении, как у Толстого, в них не может быть и речи, так как такое состояние души мгновенно сделало бы нравственные постулаты самоценными, первостепенными, всё себе подчиняющими и самодостаточными. *) Так, требования ненасилия и неделания вреда всему живому присутствуют во многих направлениях религиозной практики индуистского и буддийского мира. Достаточно упомянуть о «принципе ахимс» в буддизме. Но, кстати, нигде не слышно о провозглашении агапического принципа любви к врагу. Любовь к ближнему (то есть к своему) настолько выигрышная декларация, что ни одна общедуховная религия не может себе позволить не педалировать ее. Учение о любви есть всюду, и сам Лев Николаевич не уставал подчеркивать это. В некоторых индуистских учениях, ставших известными на Западе и в России и даже прижившихся здесь, любовь вроде бы играет определяющую роль.*) Во всяком случае, адепты этих учений и практик могут так представить дело. Но это не совсем так. Любовь (к ближнему, к Богу, если такой признается) в указанных учениях и практиках играет либо всю ту же предваряющую центральное действие роль, либо употребляется для создания общего и основного фона, на котором разворачивается собственно психотехническое поле действия, либо сама любовь используется как особый тип психотехнического действия, в качестве техники экстаза самой по себе. Наивысшим взаимоотношением Бога и человека в этих учениях считается отношение как возлюбленных, при котором человек получает от соединения с Богом своего рода эротическое наслаждение. Такая же любовь к Богу демонстрируется в библейской «Песни Песней», она практикуется и в суфизме, что-то похожее испытывала в экстазе св. Тереза Авильская и, как рассказывают, множество других монахинь. Всё это не имеет никакого касательства к жизнечувствованию Толстого и его переживанию Бога. *) Прежде всего это один из вариантов бхакти (созданного Чайтонно в ХУ1 веке), который у нас и известен как кришнаизм. Да, человек оказался в сансаре, в страданиях сансары, вне Абсолюта. Ему плохо? Значит, такое положение надо исправить, выправить, то есть исключить человека из сансары и возвратить его в лоно Бога, где его изначальная Обитель, в которой ему предоставляются все блага. Это род человеческой деятельности для себя и на самого себя. Такая позиция совершенно чужда Толстому, который не столько исправляет, выправляет, сколько срабатывает, вырабатывает земного человека. Нирвана, сатори, кэнсё, «причастность Божественному естеству» (по ап. Павлу) и прочие аналоги трансперсонального переживания онтологического Единства – все это на другой стороне горы жизни, куда самоцельно заходить человеку незачем. Такое самовольство граничит с хитростью отказа от предназначенной человеку работы. Духовная работа, по Толстому, и совершается в «сансаре», а не в сокрытой части «круга», труды которого – не порученное человеку дело. Как и любое другое живое существо, человек все равно совершит указанный Толстым «круг» и возвратится туда, откуда исшел, к Богу. Специально добиваться этого ему не нужно, это сделается само собой, через смерть. Возвращение обратно, к Богу, не означает, что в этом-то и состоит предназначенная человеку от Бога работа. Человек выпущен на «круг», чтобы на земной дистанции «круга» что-то успеть сработать для Бога. Человек живет не затем, чтобы раньше срока завершить «круг» (что значит выйти из работы), войти в состояние сознания единения с Богом, чтобы больше из него не выйти. Человек живет затем, чтобы, будучи человеком, осуществить то, зачем послан, выполнить работу и выполнять столько раз, сколько нужно Посылающему его. Важно знать не зачем эта работа, а что это за работа. Христианская концепция земной жизни человека сводится к вопросу посмертной участи его: в земной жизни человека решается, куда он попадет после смерти – к Богу или Дьяволу, в Рай или Ад. На Земле у Господа Бога нет важнее задачи, как спасти грешного человека и доставить ему все мыслимые блага. Тут Бог работает на человека. На человека нацелены и восточные религии, учащие трансформации сознания. Буддизм учит, как достичь состояния совершенного нестрадания, даосизм – как достичь состояния подлинного естества, индуизм в самых разных видах учит, как человеку достичь состояния всей полноты жизни. Бога или же вообще нет, или Он тут присутствует (иногда участвуя, иногда – нет), поскольку нужен человеку. Цель в буддизме, индуизме, даосизме – выход из жизни земной в жизнь вечную, достижение того или иного состояния внеземной или вселенской жизни. Учение же Толстого нацелено на жизнь вечную в ином смысле. Толстой учит жить земной жизнью – со всеми ее страданиями и волнениями – и черпать из нее материал для работы на неведомые человеку нужды Жизни вечной и вселенской. Общедуховная религия (любая), чтобы быть и остаться таковой, обязательно должна быть нацелена на человека. Людям в ней важнее всего то, что они, придерживаясь ее, попадут в рай или, что то же самое, при помощи бодхисаттв или сами по себе, все вместе или по одному обретут блаженство вечной жизни. При этом условии человек готов «работать на Бога»,выполнять его предписания, обеты, жертвы и все другое. Человек толпы находится в рамках общедуховной жизни (только для него и возможной), и потому строго бескорыстное служение Богу для него невозможно. Иное дело личная духовная жизнь. Думать о своей личной участи (даже в мистическом плане) для адепта личной духовной религии – слабость, недостоинство, что-то зазорное. Ему надлежит думать о Боге и только о Боге, и не в смысле любовного или иного отношения к Нему, а об исполнении Его Воли. Главный вопрос в личной духовной религии: какова Воля Бога на человека? Отношение Бога и человека в рамках личной духовной религии четко описаны Толстым как отношение Хозяина и работника или Пославшего и посланца. Работник или посланец своей воли иметь не должен, он должен лишь исполнять Его Волю. Какие-либо корыстные побуждения в состоянии нравственного вдохновения (даже не самого высшего образца) невозможны. Ты исполняешь Волю Хозяина, даже если это исполнение совсем не предусматривает твое благо. У Бога свои цели и задачи, которые не обязательно совпадают с дарованием блага (а тем более благ) человеку. В этом смысл девиза, постоянно повторяемого Толстым для себя: «Да будет Воля Твоя, и не моя и Твоя, а только Твоя». Человек – орган или даже орудие, «самодвижущая лопата» Бога, дело которой копать, а не думать о том, что из этого будет. Человек зачем-то послан Богом на Землю, с какой-то неведомой ему целью. Ему не обязательно знать Замысел и Цель, в соответствии с которыми установлена Его Воля, Его Закон человеку. Зачем нужно то, что назначено делать – знает только Бог, человеку же положено знать Его Волю на себя, то есть положенную ему работу и исполнять ее. Такова исходная установка Толстого. Какова же Воля Бога-Хозяина на работника-человека? Где ее узнать? Для пятидесятипятилетнего Толстого, конечно, в Евангелии, и более всего – в заповедях Нагорной проповеди. Исполнимы они или идеальны? Не имеет значения. Сказано: не противься злу насилием – значит, никогда, ни в каких случаях употреблять насилие нельзя. Если при этом, при исполнении Воли Бога, придется погибнуть – значит придется. Ибо не Бог для человека, а только человек для Бога. Впрочем, вскоре Толстой обнаружил, что Воля Бога не столько в самом по себе исполнении заповедей Нагорной проповеди, сколько в личном духовном росте человека и в его стремлении к единению любовью, чему более всего способствуют Евангельские нравственные принципы. Но если рост (восхождение), то – куда-то? Вот это прямо не дано знать человеку и, следовательно, ему, в его качестве работника и только работника, и не нужно знать. Что-то непременно произойдет от духовных трудов человека, они имеют смысл, но смысл этот знает Бог, а не человек. Если главное знание человека – знание Его задания ему, то, разумеется, главная забота Толстого – со всех возможных сторон подтвердить добытое им знание этого Задания. Отсюда и его обращение за поддержкой к Разуму, и к авторитету Иисуса, и к основателям других религий, и к мудрецам всех времен и народов. Толстой не стремится быть оригинальным, напротив, желает быть заодно со всеми. Ведь только так, вместе со всеми, можно быть уверенным в том, что верно определяешь Волю Бога. Конечно, можно не доверять Толстому в том, что он верно определил Волю Бога на человека. Но при этом ответить себе – кто я: работник "в чужом" саду или любимый сын, ждущий воцарения? Если я в Саду и если мне дано задание (по возделыванию Сада?), но не толстовское, то – каково оно? Неужели мне только надлежит воскреснуть, попасть в рай и блаженствовать без меры и конца? Свободное нравственное чувство Толстого всегда восставало против такого представления. Задание от Бога для человека-работника логично определять, исходя из того, каким человек создан, то есть искать это задание в устройстве его внутреннего мира, в Структуре человека. Наличие высшей и низшей души предполагает как стремление не погубить, сохранить высшую душу, так и рабочий процесс духовного роста – все большее и большее перенесение центра тяжести жизни человека и ее ударение с низшей души на высшую. Знания, получаемые в состоянии «просветления», используются Толстым для обоснования необходимости работы духовного роста, а не для завлечения адептов на путь просветления. Далее. Человек-работник обязан добыть что-то высшее в работе своей земной жизни. Что же? Включить (или максимально активно задействовать) в земном существовании высшую жизненность, решает Толстой. Жизненность есть Любовь. Высшая Жизненность есть агапическая Любовь. Она же и единственно подлинная Жизненность в Существующем. По этой причине труд по задействованию агапической жизненности есть для Толстого Закон жизни человека. Буддизм смотрит на жизнь человека с точки зрения освобождения его от страданий. По Толстому же, надо быть всегда готовым на работу страдания.*) Будда желал облагодетельствовать человечество, Толстой же – служить Богу. Однако параллели между жизнью того и другого напрашиваются сами собой. Подобно Будде, потрясенному видом страданий, смерти, нищеты, Толстой во времена духовного перелома «чуть не сошел с ума, видя людей вокруг себя» и удивляясь, как они не режут друг друга. Подобно Будде, который не стал искать ответы на свои вопросы ни у учителей существовавшей тогда религиозной традиции, ни у отшельников-сектантов, и Лев Толстой не стал опираться на какую-либо из существующих доктрин и решил все познать сам. Как и Будда, Толстой отверг Творение, грехопадение (утрату изначального совершенного состояния) и «дживу» – понятие, вполне соответствующее толстовской «животной личности». Евангелия для Толстого, как и Веды для принца Сиддхарти, авторитетны и священны. И как Веды для Будды, так и Евангелия для Толстого, священны вовсе не потому, что их надиктовал Бог. "Четверичный" путь самосовершенствования, изложенный Толстым в "Христианском учении", для практического воплощения толстовского учения примерно то же, что "восьмеричный путь нравственного делания" в буддийской практике. Будда достиг полной нирваны. Толстой, конечно, не стремился к этому, но по собственному трансперсональному опыту хорошо знал, что это такое. Как Будда стремился к состоянию нирваны, так Толстой стремился к агапическому состоянию. Однако нирвана – состояние Сознания, агапическое же состояние – состояние чувства жизни, состояние Любви. Но и Будда, и Толстой – люди одиночного Пути жизни, в сверхчеловеческих трудах, долгим путем личного духовного опыта достигшие новых Вершин духовной жизни. *) Ср. у Толстого: «Вы говорите, что страдания от жизни среди мира бывают бесполезны. Да, они бесполезны, если человек не пользуется ими, как благом, как теми муками, которые сопутствуют всякому рождению, как телесному, так и духовному»(82.73-4). Толстой достигал состояния просветления, не прибегая к психотехнике, не употребляя ЛСД, без внушения или самовнушения, не живя в монастыре или хотя бы монашеской жизнью, напротив, живя в обстановке семейного раздражения (при которой чрезвычайно трудно быть в созерцании), живо откликаясь на ежедневные события общественной и даже политической жизни, находясь в центре внимания всех, получая со всех сторон угрозы и уколы, в атмосфере постоянной клеветы и измены, в особого рода духовном одиночестве, коря только себя за все, что происходит с ним в жизни, вынужденно борясь с теми, кого вообще не должно было быть на пути мудреца такого масштаба. Толстой достигал высшего состояния сознания пусть и нестабильного, но исключительно путем собственного духовного роста. Так, как будто достигал его впервые в человечестве, не опираясь ни на какой чужой опыт. Вполне резонно предположить, что духовная трансформация человека в незапамятные времена была открыта людям теми, кто достигал преображения состояния сознания так же, как Лев Толстой, на вершине Пути одиночного восхождения личной духовной жизни. Тем ни менее Толстой раскрыл перед человечеством новую возможность реализации Духа, новый тип духовности и одухотворенности. Только в легендах это совершается одним человеком от начала до конца. В действительности это, конечно, не так. Некто, первый из раскрывающих, совершает пробой (не без накладок, конечно), другие входят в этот прорыв, расширяют, углубляют его и максимально осуществляют новые возможности, раскрытые (свыше раскрытые) в результате первого прорыва. Толстой достиг неких Вершин человеческой жизни сам, исключительно своим восхождением, на своем пути личной духовной жизни и посредством восхождения на Пути жизни. Это значит, что в его жизни содержался и, главное, был явлен (не столько им, сколько в нем и его трудами), явлен всем нам некий общечеловеческий Путь восхождения – совершенно особый и новый тип духовного движения по человеческой жизни. Этот новый для человечества Путь необходимо исследовать и развить. Как некогда исследовали и развили путь духовного восхождения, пробитый и явленный Буддой. Толстой совершил основное – положил начало. Чему? – Осмыслению, разработке личной духовной жизни, провозглашению ее равноправного положения с общедуховной жизнью и прочному практическому укоренению личной духовности в отдельном человеке и человеке вообще. Учение Толстого – не только 90-х, но и 900-х годов – это учение о личной духовной жизни. Толстой определил, что Воля Бога (может быть, и не вообще, а именно сейчас, на данном этапе внутреннего становления человека) состоит в работе личной духовной жизни. Пришло время, и Бог поставил ее на верстак человека. Вот это и обнаружил Лев Толстой. И стал первым пророком личной духовной жизни. Лев Толстой – тот, кто начал, кто пробил и кто заложил. Воспользуется ли человечество тем, что заложил Лев Толстой? Есть одно, едва ли не самое зловредное препятствие для этого дела, о котором постоянно толковал Толстой. Несколько слов о нем. *)Источится в конце концов, надо полагать. *)Изначальный путь к состоянию «освобождения» в индуизме не был, надо полагать, достигнут в йоговской (психотехнической) практике, поскольку таковая должна быть основательно и многими жизнями разработана прежде и с заранее известной целью. Объяснить другим содержание этого сознания на человеческом языке, вовсе не приспособленном для передачи мистических состояний, нельзя. Так как же окружающим людям узнать и тем более признать, что это не плоды сумасшествия (вспомните толстовские "Записки сумасшедшего"), не «под», а «над», что это высшие состояния жизни, к которым следует стремиться? Но если нельзя объяснить, то можно показать – доказать так, как и сейчас принято в науке: повторяемость в эксперименте. Основанием для экспериментального достижения высшего состояния должно было быть то или иное (искусственно-волевое или духовно натуральное, рабочее) вычитание из структуры человека того, что Лев Николаевич называл животной или плотской личностью. Мы знаем, что все психотехнические практики, которые в конечном счете сами, как водится, сели на седалище Моисеевом, основаны на этом.
Часть 6. Мнимодушевность и мнимодуховность
"Если бы цыпленок в яйце был одарен разумом человеческим
и так же мало умел бы пользоваться им, как люди нашего времени,
он никогда не разбил бы скорлупы своего яйца
и никогда не узнал бы жизни"(45.299).
1 (67) Обсуждая другого человека, мы тем самым обнаруживаем себя. И тем в большей степени, чем значительнее тот, о ком мы говорим. Судящий Толстого характеризует не столько Льва Николаевича, сколько самого себя. Не свой ум, знания, талант и иные свои умения и возможности, а состояние полноты жизни, уровень подъема духа в себе. Толкуйте, если угодно, о Толстом-художнике, но не о Толстом-учителе жизни, мудреце, пророке. В первом случае Вы уклонитесь от всегда невыгодного для Вас духовного сопоставления с ним. Во втором – Вы выходите на самого Толстого, душа к душе, лицом к его лицу, и волей-неволей становясь в позу высшего знания и судьи Льва Николаевича, разоблачаете истинное достоинство своего разума и сознания жизни. Лев Толстой так далеко ушел на Пути восхождения, что у существа земной Обители нет и быть не может той высшей точки зрения, с которой следовало бы судить о старце Толстом. Поскольку человек на вершине Пути жизни не пишет критик на другого человека, находящегося на вершине Пути жизни, то Льва Николаевича всегда брались обсуждать, осуждать, ставить на место люди, в духовном отношении стоявшие значительно ниже его. Душою легче принимается не отдельная мысль, а общий тон мысли, ее направление, ее накал, ее агрессия. Читая многих русских философов начала ХХ века, выносишь заряд острого раздражения к мудрецу Толстому. Поражают не антитолстовские аргументы, а азарт отрицания и обличения и кипение злости. Это подметил еще А. Белый: "упоминание о его (Льве. Николаевиче – И. М..) художественных заслугах есть подчас пикантная соль, которой посыпают свою хулу на него". "… похвала толстовского творчества в ущерб его личности есть сведение и всей его деятельности как писателя к нулю". "С мнением о преимуществах художественного дарования Толстого далеко не все благополучно: тут усматриваем мы трусливую поспешность в решении толстовского вопроса, с коварной и преднамеренной целью поскорее поставить Толстого на полочку ради благополучного возврата на круг обыденной суеты". Достаточно вспомнить взгляд Мережковского, который объявил Толстого "тайновидцем плоти, стремящегося к одухотворению плоти", чтобы вполне убедиться в правоте А. Белого. Но, как ни странно, этот – очевидно нелепый – взгляд на Толстого оказался в дальнейшем особенно популярным. Видимо, с помощью воззрения Мережковского люди стараются исключить Льва Толстого из поля духовной жизни и выставить его в поле плотскости, животности и тем закрыть для себя неприятный и трудный вопрос о его учении. Антихрист – фигура демоническая, сверхчеловеческая; она ужасает, но не принижает, а в каком-то смысле сакрально возвышает масштаб личности того, к кому она прикладывается в конкретной Истории. Антихристом объявляли и Петра I, и Ленина, и Сталина, и Гитлера. Сказать же, что человек совершает зловредную работу, приготавливая приход Противника Христова, – есть самое худшее, самое уничижающее, что только можно решить высказать о религиозном деятеле христианского толка. Это и сказал Вл. Соловьев о Льве Толстом. В том, что Владимир Сергеевич Соловьев не жаловал Льва Николаевича Толстого, отчасти виноват сам Толстой. Лев Николаевич вполне благосклонно относился к молодому философу, но, случалось, высмеивал (Толстой блистательно умел высмеивать), хотя и не столько его, сколько публику, посещавшую весной 1878 года его "Чтения о Богочеловечестве". Всего несноснее для Вл. Соловьева было не саркастическое описание минут его триумфа, а то, что Толстой многие годы именовал его "мальчиком".*) В том, что Вл. Соловьев не упускал случая провозглашать Льва Толстого отъявленным лицемером и под конец вывел его пособником Антихриста, конечно, слышны личные мотивы. Сам образ Князя (то есть Толстого) в "Трех разговорах" свидетельствует, что Вл. Соловьев стремился лично задеть своего оппонента. Но как объяснить, что умные и культурные люди последней трети ХХ века, по историческому опыту своему знавшие о кандидатах в Антихриста и о его пособниках много больше того, что мог вообразить Вл. Соловьев, продолжали оценивать религиозную личность Толстого так же, как некогда лично задетый Толстым Вл. Соловьев? В определенных кругах, несомненно, есть какое-то навязчивое стремление представить Толстого носителем темной, и даже мрачной духовности. *) О "мальчике Соловьеве" есть упоминание даже в "Критике догматического Богословия". Каждый на свой лад ругает Толстого – за то, заметьте, что более всего в данный момент ненавидит сам. Кто-то упрекает Толстого в рационализме, а кто-то в иррационализме, кто-то в индивидуализме, а кто-то в коллективизме, кто-то в мистицизме, а кто-то в отсутствии такового. Каждый приписывал Толстому то, что самому особенно не по душе, – с чем борешься в данный момент или, самое обычное дело, что сам недавно исповедовал и от чего отталкиваешься теперь. Свою, так сказать, толчковую ногу все ставят почему-то на Льва Толстого. Поразительна не противоречивость и огульность антитолстовских аргументов, а заряд отрицания, обличения, неприязни, даже ненависти к Толстому. Лев Толстой – вроде бы объект всеобщего почитания и, вместе, ненависти. Он нечто незыблемое, огромное, во что с размаху и со злобой кидают камнями. Так было раньше, так есть, и в еще большей мере, теперь. Вот послушайте, что пишет один из известных русских философов конца ХХ века: "Да, прозревается прозрачно, как Толстой перелил Эрос свой жгущий, влекущий его в одно место ЖЕНЩИНЫ, – в соитие с человечеством и всей цивилизацией и историей: изострил свой фалл-рассудок – и пошел с 1880 года им честить все, что ни попадя: искусство, церковь, власти, сочиняет свою веру – и таким уже образом в религии и паблисити (нарциссизм фотографий и наставлений приходящим к нему на поклонение) сношался с Маткой Жизни, её всеобъемной толщей, и обласкал (в критике) все её прекрасные формы, не доступные уже старцу, – те, что так объективно и всеприемлюще изобразил в «Войне и мире» и в «Анне Карениной», где миролюбивое эпопейное мышление царит по модусу «все действительное – разумно, все разумное – действительно» (как у Гегеля). А чего ни коснется в последнем своем тридцатилетье – все ругает". "Но когда Любовь стала его покидать – в последний период жизни, – тогда его «я» все более несносно тяготило, надувалось, жестянело: столп гордыни богопротивной там нарастал и твердел – и с ужасом видел это Толстой и пытался осаживать, принимая людей, опрощаясь, смиряя себя. А Диавол – словно с усмешкой мефистофельской – все и это, и всякое его благое над собой усилие (как у Отца Сергия: там это исповедально прописано!) обращал на службу себе; крепил гордыню непроворотно уж и удушающе… В том же «Отце Сергии» ведь иной оборот сюжета и нравственной ценности мог бы быть. Ну что из того, что его невеста была до него любовницей царя Николая? Прими смиренно – как Иосиф Марию, кто понесла от Бога. А тут – от Государя-кесаря. И живи, как иные известные в свете мужи и семьи – с любящими женами и матерями: такими становились. Вот и повод для смирения, взращивания человечности в себе… Так нет же: как от прокаженной, отшатнулся, оскорбленный в чести, от прекрасной и любимой им женщины – и завел мотор гордыни на всю оставшуюся жизнь…" Бесстрашие современных критиков Льва Толстого сражает. У них нет сознания огромного расстояния между собой и Львом Толстым. Или не хватает благородства духа, по которому только и можно держать дистанцию между собой и великим человеком. Есть, разумеется, и такие, кто получают скрытое удовлетворение оттого, что, оппонируя Толстому, они тем самым заявляют и свои права на высшее самоощущение рядом с ним. Есть и просто "кокетничающие умом"(79.301), как сказал бы Толстой. На факт враждебности культурной публики к личности Толстого не принято указывать публично. Хотя кто об этом не знает из опыта частных бесед? В чем же причина столь явной и непреходящей неприязни ко Льву Николаевичу? Есть причины обычные, низкие. Мы не будем упоминать о них. Есть причина редкая, высокая, мировоззренческая. По этой причине Толстого недолюбливают люди, живущие на вершинах общедуховной жизни и отвергающие право на духовную жизнь единичной души самой по себе, пророком и возвестителем которой был Лев Толстой. Таких людей, как водится, не так много. И не они задают тон толпе. Толстого, несомненно, отверг сам ХХ век. В эпоху мировых войн, беспощадных революций и террора Льву Толстому нет места. Впрочем, Толстой столь чужд веку, что вовсе не мешал ему желать то, что он желал. В чем же тогда подспудная причина столь длительной общей неприязни не то чтоб к учению Льва Николаевича, а к самому мудрецу и пророку Льву Толстому? Причина, я думаю, в том, что Толстой бьет и бьет в одну и ту же точку в человеке – в основание его духовной неподвижности. Как учитель самостоятельного духовного роста Толстой не терпел замшелости душевной жизни, полагал, что такое состояние души не соответствует Замыслу Бога на человека и всеми силами стремился вывести его из этого состояния. Как никто другой, он умел задевать за живое духовно неподвижных людей, особенно ценящих свое душевное спокойствие и стремящихся не нарушить его. Толстой будоражил неподвижные души, лишал их устойчивости и тем, разумеется, вызывал ответную реакцию, которую мы воочию и наблюдаем. Духовная неподвижность возможна тогда, когда человек мнит себя на вершине, откуда некуда расти дальше. Душевное спокойствие и устойчивость зиждутся на личностном самодовольстве, основания которого агрессивно защищаются. Корень дела – в духовной вялости, невосприимчивости и самодовольстве человека нашего века. Толстого растерзали бы, не будь он общепризнан в искусстве. Его слушают под условием признания слабости его разума. Или – как "чудище полуприродное, полукультурное". Несмотря на обличения, Толстой вовсе не стремился задирать читателя. Он писал просто, всем доступно, апеллировал к общедушевной совести, не чурался переводить свою мудрость на рациональный язык ума, то и дело опирался на авторитет Христа и прочее, что как-то утишало ответную агрессивность самодовольного человека. Обыватель усмехался на пахаря Толстого (теперь – уже не усмехается…), острил над рисовыми котлетками и легко оставался при своем. По-настоящему Толстой задевает за живое не просто духовно застойных людей, предпочитающих душевный покой в условиях специфических треволнений общекультурной жизни, а именно тех из них, кто сознает себя внутренне раскрепощенным, свободным, постоянно духовно растущим. Толстой отрезвляет и разоблачает мнимость душевней свободы духовно самодовольного человека, призывает его к нешуточной, серьезной и, значит, мучительной работе души. Перед образом подлинной одухотворенности и совершенной искренности Льва Толстого люди эти саморазоблачаются и оказываются тем, кто есть на самом деле – шалунами духа своего. Осмысливая причины постигшей Россию катастрофы, В. Розанов писал в 1918 году: "Мы шалили, под солнцем и на земле, не сознавая, что солнце видит, а земля слышит". Те шалуны пошалили, сделали свое дело на земле и ушли. На смену им приходят новые проказники. ХХ век – век духовной легкомысленности, сокрытой и открытой. На всякого мудреца этого странного века довольно легкомысленности. Легкомысленности и легковесности нет в Толстом. Лев Николаевич не играл ни в какие игры, в которые столь серьезно играют люди: ни в игры религиозные, ни в игры философские, поэтические, психологические и прочее. Он ставил все вопросы серьезно и искал серьезные ответы на них. Высокоталантливые и высокоумные критики Толстого, устанавливая себя рядом с ним, обличали не его, а глубинное основание своей эпохи, её духовную легкомысленность, на которой держалась как устойчивость и надежность их воззрений, так и крепость веры живших в этой эпохе людей. Только по легкомысленности общего сознания жизни можно было признать образование, интеллект и культуру определенного круга людей за духовность, знания и богатство их мыслей за знание и движение к истине, тонкость, остроту и изящество разума за полноту одухотворенной углубленности и самовыражение духовного Я. Только по легкомысленности общего сознания жизни можно было признать зрелость толстовской души за примитивизм его ума. Черты субстанциональной легкомысленности мышления ХХ века мы все знаем в себе, видим разрушающее действие этой "шалости" в наших злободневных спорах и со страхом ждем, что при переходе к новым временам унаследованная от прошлого века агрессивная легкомысленность еще раз, на новом – а то и последнем – повороте Истории захлестнет и погубит всех нас. Великая (и еще совсем неоцененная) заслуга Льва Толстого, я думаю, в том, что он призывал в человека целительный раздор между легкомысленностью и глубокомысленностью, – в том числе и между мнимодушевностью и подлинной одухотворенностью. Весь напор проповеди Толстого, все те резкости и несправедливые оценки, которые так раздражают культурных людей, служат этому противостоянию. Вот за то, что личность и учение Толстого проникнуты антимнимодушевностью, его и объявляют поносителем культуры, отрицателем науки, обеднителем жизни, истребителем бытия личности и предтечей Антихриста. Ни об одном великом человеке не сказано столько нелепого, как о Льве Толстом. И в большой степени потому, что он мудрец, а не мнимодушевник.
2 (68) «Крейцерова соната», пожалуй, самое непонятое произведение Льва Толстого. О чем рассказ? Конечно, есть толстовское Послесловие к рассказу (написанное в другом жанре, жанре проповеди и в соответствии с требованиями этого жанра), есть эпиграф к рассказу и в нем евангельская фраза о скопцах. Однако рассказ все же не назван "Дьявол" (как созданный примерно в то же время толстовский рассказ на тему плотской страсти), а "Крейцерова соната". Позднышев вершит суд над своею жизнью и вообще над современной ему семейной жизнью. При чем тут соната Бетховена? Если бы не название толстовского рассказа, вряд ли кто из читателей придал бы особое значение тому месту в нем, где исполняется музыка Бетховена. Муки ревности Позднышева, из-за которых он убил жену, состояли в том, что он "хотел, чтоб она не желала того, что она должна желать". Толстой – и сам, и его герой – объясняет, по каким общим причинам она неизбежно должна была изменить мужу. Но ведь дело не в том, что жена Позднышева, как Анна Вронского, полюбила другого – того, кого не могла не полюбить. "Дрянной человек" Трухачевский вовсе не герой ее романа, и она, подчеркивается в рассказе, увлеклась тем человеком, любовная связь с которым была для нее невозможной. Она любила того, кого не любила и кого полюбить не могла. Как это случилось? Как часто подлинная душа художника не совпадает с тем впечатлением о ней, которое мы выносим из общения с его произведением. Словно бы у него две души и существуют они в разных плоскостях. Эти две плоскости существования художника и человека Толстой не мог не чувствовать в других и в самом себе. В рабочей записной книжке Толстого есть фраза Позднышева, формулирующая мысль рассказа: «Я рад, что убил, я хоть полюбил ее… Только теперь я понял, как неизбежно было ее падение от средств мерзавца. Со мной или с другим – все равно» (27, 580). Падение ее было неизбежно по «свинству» жизни, в которой она выросла, по «свинству» мужа и по тому жизнечувствованию, которое она, благодаря другим обстоятельствам, усвоила к тридцати годам. Но непосредственная движущая сила, совершившая ее падение,– «средства мерзавца», т. е. музыка Бетховена в его исполнении. Центральное место рассказа: жена Позднышева и Трухачевский исполняют музыку Бетховена. Когда они начали играть, с ней, как и с Трухачевским, "сделалось" что-то, от чего она словно одухотворилась, обрела внутреннюю значительность, строгость духа в душе и глубину. И сам Позднышев под влиянием музыки как бы переродился. Состояние Позднышева Толстой описывает буквально теми же словами, какими он описывал состояние князя Андрея на поле Аустерлица и после Бородинского сражения, какими он вообще часто описывал действие откровения, пробоя духа в душу. Различие не в понижении тона, а в неприметных оговорках, вкрапленных в текст слов: "как будто", "казалось мне". В каких-то случаях музыка, говорит Позднышев, "не может не действовать губительно". На него "все это подействовало ужасно". "Ужас" был в том, что радость испытываемого им "нового состояния" сознания приводила к обману душевного зрения. "Все те же лица, и в том числе и жена и он, представлялись совсем в другом свете". И представлялись, заметьте, не от превращений в самих этих лицах, а от собственного состояния "как бы откровения", которое в отличие от действительного откровения понуждало видеть всех в ложном свете. Гениальная бетховенская музыка производит в рассказе Толстого грандиозный обман души, что в результате и приводит к трагедии. Музыка настроила душу на что-то, но при этом в самой душе серьезно не предполагается, что надо сделать то, на что ее настроили. В душе открываются «совсем новые, незнакомые чувства, новые возможности», ее зовут куда-то, в какие-то миражные дали, она призываема туда, что в подлинность настоящей душевной жизни слабо реализуемо. Потому и реализуются фиктивно, в самообмане чувства, как у Лизы Позднышевой. Отсюда же и необходимое для самообмана ослабление душевного зрения. Но при этом как душе радостно! Как приятно ей обманываться! "Что это такое?" – не понимает Позднышев. Может быть, живое чувство мечты? – ответим мы ему. Так ведь и того нет. В состоянии мечтательности человек знает в себе то, чего в нем еще нет, что только зарождается в душе или хотя бы желает зародиться. В состоянии мечтательности все движения души – свои (даже тогда, когда содержание мечты чужое), здесь же они не ваши. Мечта производит в душе какую-то пусть подготовительную, но работу, в результате которой душа чуть-чуть подвинется, подготовится стать другой и в ином качестве. Это – хоть какой-то, а труд. В случае же, о котором мы говорим, душевного труда нет никакого. Под влиянием навеянного извне настроения можно совершить что-то (тогда настроение это сотрется с души, пройдет, как и утверждает Позднышев), но само по себе оно вызвано внешним раздражением души и совершенно праздно. Хотя, бывает, испытывается столь же остро, как подлинное, рожденное в собственной душе чувство. Состояние подлинного откровения и одухотворения – рабочее состояние души, то есть состояние, действительно переделывающее душу, переводящее ее с одного уровня, на другой, духовно более высокий. Это тяжело! Это – труд, взлет тяжело груженной машины. Состояние же, лишь подобное состоянию откровения и одухотворения,– это легкое состояние, подъем надутого теплым паром воздушного шара. В таком состоянии действительной душевной работы нет или почти нет. Но есть иллюзия ее. Душа Лизы Позднышевой под влиянием музыки испытывала именно иллюзию того, что она бы испытала в работе души. Душа ее самораздражалась и нежилась, давая ей что-то схожее с радостью истинного духовного удовлетворения. Говорят, что музыка возвышает душу. «Вздор, неправда! – Парирует герой Толстого. – Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует не возвышающим, не принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение – мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу» (27, 61). Этими словами своего героя Толстой обозначил одно из самых парадоксальных явлений человеческой жизни. Оно состоит в том, что человек как таковой способен переходить из состояния действительной душевной жизни в состояние мнимой душевной жизни, переноситься из "истинного положения" в положение мнимой души. Вот это и "сделалась" с женой Позднышева. Речь, разумеется, идет не о музыке Бетховена, а о состоянии души воспринявших ее, которое могло быть как мнимодушевным, так и подлинным. Позднышев говорит: "Я сливаюсь с ним (автором) душою, вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хотя бы Крейцерову сонату, – Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии – это состояние привело к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого". Тут, конечно, важен общий предшествующий настрой души слушателя, зрителя или читателя – либо на мнимые чувства, либо на подлинные чувства. Сразу же, во избежание недоразумений, отметим, что мнимодушевность – во всех сферах жизни – не лицемерие, не притворство и даже не неискренность. В политических партиях, в модных идеологических движениях, во всяком вероисповедании есть те, которые, как говорил Лев Николаевич, "искренне верят в то, во что не верят"(39.118), не верят в то, во что, ясно видно, что верят. В среде почитателей и творцов искусства встречаются люди, которые искренне чувствуют то, что не чувствуют. В науке и особенно журналистике немало таких, которые знают то, что не знают, и понимают то, что не понимают. Известно, что общественно активный человек нередко искренне любит то, к чему равнодушен. Во всех слоях общества всегда найдутся люди, вполне искренне живущие не своей, а "наклеенной чужой совестью", как много раз говорил Лев Николаевич (см., например, 50.3, 6,13, 24). Человек нашего времени, пусть по-разному и в различной степени, но обязательно живет в такой сфере сознания, переводя себя в которую он начинает понимать то, что, по сути, не понимает и что даже его пониманию недоступно. Обозначить какое-то и особенно новое (и потому неведомое) явление, назвать его каким-либо (желательно странным) словом уже значит, не понимая, понять его. Мы все сплошь и рядом произносим слова в подмену осмысления, сочленяем эти слова и сами варим свой ум в их пару. Мы понимаем и чувствуем друг друга "как бы": понимаем, что не понимаем и чувствуем, что не чувствуем. В любом сомнении, сочувствовании, совидении – в том, без чего не жив человек, – уже заложено начало мнимодушевности и, следовательно, недопонимание. Лев Толстой в несравнимо большей мере, чем герой его "Крейцеровой сонаты", оглянувшись вокруг, обнаружил бездну мнимых чувств, в которую все более и более затягивается душа человека. И сделал вывод: "Если не случится среди нашего мира возрождения наук и искусств через выделение жемчуга из навоза, мы так и потонем в нашем нужнике невежественного многокнижия и многозаучивания подряд"(64.106).
3 (69) Мнимодушевность – постоянная тема творчества и проповеди Толстого, начиная с графини Лидии Ивановны, в мнимодушевный омут которой попал Каренин, и до героя "Фальшивого купона" отца Михаила Введенского, законоучителя гимназии, ставшего ректором семинарии архимандритом Мисаилом, которого посылают увещевать сектантов. Про таких людей Толстой говорил, что они "серьезно верят, что они действительно то самое, кем притворяются"(28.269). Во весь голос тема мнимодушевности звучит и в толстовском трактате "Что такое искусство?". Прежде всего надо сказать, что Толстой не бранил искусство, как полагают некоторые, напротив, он считал, что "искусство есть великое дело"(30.194). Посредством искусства Толстой мыслил произвести "единение людей с Богом и между собой"(30.157) или хотя бы сделать их "готовыми и способными к такому единению"(30.159). Искусство, по Толстому, в сущности, есть "духовный орган", предназначенный для того, чтобы передавать чувства от человека к человеку. В искусстве "важно то, что заставляет людей понимать или любить то, что они прежде не понимали и не любили"(88.174). Искусство способно своими средствами соединять людей как в самых высших чувствах души, так и, с еще большим успехом, в чувствах низших. Достоинство того или иного произведения искусства, объясняет Толстой, определяется в каждую эпоху по-разному, в зависимости от общего мировоззрения и жизнепонимания, устанавливающего какие чувства хорошие и высокие, а какие дурные и низкие. Казалось бы, при такой постановке проблемы единственный важный вопрос это вопрос различения "хорошего искусства" и "дурного искусства". Но прежде чем ставить этот вопрос, Лев Николаевич в трактате об искусстве решает другой вопрос: что есть и что не есть искусство само по себе? Вопрос странный, так как если искусство есть "духовный орган" для общения чувствами, то он, сколь он уже в действии, не может не передавать чувства. Что же, если не чувства, передает "не-искусство" от человека к человеку? В трактате "Что такое искусство?" (см., например, гл. XVII) четко различается то, что является "дурным искусством" («произведения ничтожного, исключительного искусства") и то, что вообще не является искусством, что называется "подделками под искусство", "подобиями искусства", "мнимыми произведениями искусства". "Дурное искусство" распространяет недостойные чувства, "подделки под искусство" распространяют среди людей поддельные чувства. Как это понять? Когда сам автор "чувствует, что не чувствует", то он средствами искусства передает такие чувства, которых в его душе, собственно говоря, нет. И потребитель искусства воспринимает передаваемые ему автором чувства, которых нет. Между одним и другим идет обмен чувствами, но чувствами мнимодушевными. "Главный вред науки и искусства в том, что они наполняют жизнь, вместо деятельности, подобием жизни, отражением ее"(52.86). Непомерное расширение сферы мнимодушевности происходит тогда, утверждает Лев Толстой, когда искусство перестает быть серьезным жизненным делом межчеловеческого общения чувствами, а ставит себе другую, преимущественно гедонистическую цель – доставлять удовольствие, забавлять, наслаждать, помогать "ловить кайф", как говорили недавно. Передача подлинных чувств, даже самых радостных, требует подлинного же сопереживания, душевного труда, а не душевного расслабления или раздражения, которое производит заражение мнимодушевными чувствами. Так, вместо передачи из души в душу высших чувств и в подмену им "подобия искусства" – обычное дело! – удовлетворяют человека тем, что передают ему наслаждающие мнимовысокие чувства и мысли. Мнимодушевные чувства и мысли свойственны человеку как таковому, всегда были и будут. И потому ничего нового или удивительного в существовании "мнимых произведений искусства" нет. Ново и удивительно широчайшее распространение их. Первичную причину этого явления Толстой видел в начавшемся с Возрождения отделении искусства высших классов европейского общества ("господского искусства") от искусства всенародного. Тут не классовый подход, как может показаться, и подход не к социальной проблеме, а к проблеме мнимодушевности. "Господское искусство", лишившись корней, создавалось, по Толстому, "холодным способом" и стало неискренне, вычурно, туманно, выдуманно, рассудочно. Что, в конечном счете, и привело человека под ставшую привычной власть приятного гипноза мнимодушевности. Мнимодушевность – одна из всегда существующих сфер жизни. Порочна не она, порочен соблазн мнимой души, мнимодушевная ловушка, в которую обычно попадает человек с нереализованной потенцией духовного роста. Разрастание мнимой души в человечестве, расширение ее сферы в жизни общества может быть делом не только опасным, но и духопротивным, срезающим вершины существования высшей души людей. Важно знать, как, каким образом совершается саморасширение мнимой души, увеличение степени мнимодушевности и усиление ее власти. В трактате об искусстве Толстой подробно останавливается на наиболее распространенных приемах, которыми мнимоискусство добивается успеха у публики. Мнимая душа все шире и шире захватывает общественную и личную жизнь действием приучения и внушения. Аппарат внушения достиг такого могущества, нагородил такие завалы, что под вопрос поставлена сама способность человека расти духом, то есть жить его высшей душе. И надо отдавать себе отчет в том, что современный аппарат внушения построен не на лжи, как думают, и даже не на сокрытии правды, а на мнимой душе. Толстовский диагноз общего состояния участника мнимодушевной жизни таков: "То, что я говорю, будет принято как безумный парадокс, на который можно только удивляться, и все-таки я не могу не сказать того, что думаю, а именно того, что люди нашего круга, из которых одни сочиняют стихи, повести, романы, оперы, симфонии, сонаты, пишут картины всякого рода, лепят статуи, а другие слушают, смотрят это, третьи оценивают, критикуют все это, спорят, осуждают, торжествуют, воздвигают памятники друг другу и так несколько поколений, что все эти люди, за самыми малыми исключениями: и художники, и публика, и критики, никогда, кроме как в самом первом детстве и юности, когда они еще не слыхали никаких рассуждений про искусство, не испытали того простого и знакомого самому простому человеку и даже ребенку чувства заражения чувствами другого, которое заставляет радоваться чужой радости, горевать чужому горю, сливаться душою с другим человеком и составляет сущность искусства, и что поэтому люди эти не только не могут отличать истинного искусства от подделки под него, но всегда принимают за настоящее прекрасное искусство самое плохое и поддельное, а настоящего искусства не замечают, так как подделки всегда бывают более разукрашены, а настоящее искусство бывает скромно". Мнимодушевность и живуча тем, что компенсирует исходный недостаток любви в душе. Надо ли удивляться, что после такого диагноза культурная публика не испытывает нежных чувств ко Льву Николаевичу. Толстой, собственно говоря, толкует не об искусстве, а о человеке в искусстве – о душевном и духовном достоинстве и человека, производящего произведения искусства, и человека, воспринимающего эти произведения. Толстой видит человека в соотношении с произведением искусства. И вот прежде всего под каким углом зрения: «Искусство, поэзия: «Для берегов отчизны дальней» и т. п., живопись, в особенности музыка, дают представление о том, что в том, откуда это исходит, что-то необыкновенно хорошее, доброе. А там ничего нет»(54.13). То есть нет души творца (см. 52.276). Ведь дело в том, что "художник поучает не тому, чему хочет, а тому, чему может"(52.127). Если он "духовный кастрат"(54.93), то он ничего не может, кроме мнимодушевности. Как часто талант художника умело используется им не для того, чтобы передавать другим богатство своей души и мысли, а выражает себя в умении вызвать в людях восхищение своими мыслями и чувствами. “Особенный ум и дарования нужны бывают не для познания и изложения истины, а для придумывания и изложения лжи”(67.276). Человек "владеет языком, даже талантом писателя и отчасти благодаря этому совершенно не рассуждают*), не боятся неправды и даже не интересуются вопросом о том, правда ли, неправда то, что пишут"(57.190). *) Толстой обобщает и потому в рукописи письма слово "рассуждают" переправлено из "рассуждает". «Есть сердечная духовная работа, облаченная в мысли… И есть работа мысли без сердца, а с чучелой вместо сердца, это то, чем полны журналы и книги»(53.23). *)Скажем, сентиментальными. Сентиментальность, по определению Толстого, это "выражение неиспытанного чувства"(71.363). *)И все они одного и того же толка. Первое – заимствование ("поэтично – значит заимствовано"), заимствованоиз прежде в мнимой душе созданного и ставшего привычным. Поэтичностью, заимствованиями мнимая душа размножается, как клетка делением. Второе – подражательность действительной жизни, которая стирает грань между действиями в мнимой душе и действительной жизни и тем самым позволяет мнимой душе заволакивать подлинную жизнь и ее узурпировать. Третье – поразительность, со своими приемами неожиданности, контрастов, новизной невиданного, редкого, сокрытого, ужасного или чудесного, нервически воздействуя на человека, использует физиологию в качестве пробойного орудия мнимой души; вызванное мнимой душою физиологическое действие люди принимают за свои душевные движения, и дело сделано. И четвертое – занимательность, интересность, в основе которой лежит либо неудовлетворенное любопытство, либо умственный интерес разгадывания. И то и другое свойственно праздной душе или душе, находящейся на отдыхе. И потому искусственное вызывание этих душевных явлений само собою вводит душу в режим праздности, в котором власть и царство мнимой души.
4 (70) Отношение Толстого к Шекспиру отчасти объяснимо несовпадением их творческих установок. Толстой признавал Шекспира "большим мастером" ведения сцен и драматических эффектов и говорил, что его исключительное умение выражать движения чувств дает возможность хорошим актерам явить весь свой сценический темперамент. Драмы Шекспира так созданы, что дают актеру и режиссеру наиболее полно реализовать свои способности, и притом реализовать так, как они хотят сами. Драмы Шекспира – идеальный материал для свободы театрального творчества, а значит, и для раскрытия творческой индивидуальности сколь угодно талантливого актера и режиссера. Что всего важней театру. Ибсен, видимо, прав, утверждая, что драмы Толстого не пьесы в театральном смысле, а повести в диалогах для совместного чтения. В драмах Толстого актер играет Толстого, творчески подчинен ему и призван иллюстрировать автора. При такой постановке дела режиссер (а тем более актер) лицо служебное, второстепенное. Театр Шекспира – театр актера и режиссера, а не автора пьесы. Шекспировское действие происходит не в реальной жизни, а на сцене. И создано для сцены, где главные лица – те, кто на сцене. Самоценное творческое наслаждение, которое дарует актеру, режиссеру, а значит, и зрителю Шекспир, создает то особое свойство театра, то магическое единение сцены и зрительного зала, ради чего и ставится спектакль и идут в театр и которое зовут сценичностью. Театром правят со сцены; и то, что актер желает играть, то зритель рано или поздно будет желать смотреть. Слава Шекспира идет со сцены к зрителю, и слава эта – от природы самого сценического действия. Актерское, сценическое начало, видимо, прирожденно человеку. Но когда актер играет душевную жизнь, он в некотором роде "чувствует, что не чувствует". (И, конечно, сам хорошо знает это.) Все сценическое искусство – и драматургия, и режиссура, и само актерство, все, вплоть до театральной критики – суть прямое воплощение прирожденной человеку стихии мнимодушевности. Профессиональное актерство для мнимой души явление заглавное. И это, я думаю, не в малой степени побудило Толстого пойти на публичное столкновение со славой английского драматурга. «Когда люди восхищаются Шекспиром, Бетховеном, они восхищаются своими мыслями, мечтами, вызываемыми Шекспиром, Бетховеном. Как влюбленные любят не предмет, а то, что он вызывает в них. В таком восхищении нет настоящей реальности искусства, но зато есть полная беспредельность»(53.153-4). Над статьей о Шекспире Толстой работал осенью 1903 года, то есть в те самые месяцы, когда он был погружен в метафизические вопросы "определения жизни", Бога, материи, времени, пределов отделенности и пр. Толстой сам удивлен этой "очень неожиданной работой" о Шекспире. И объясняет Черткову, что им сейчас двигает: "Главное, что мне больше всего хотелось бы успеть сказать, это то, что мне так несомненно ясно, что все наши беды, все, всякое зло оттого, что мы живем без религии и живем усиленным, напряженным темпом, отчего зло это еще ужаснее"(88.309). В чем причина этого особенного и все возрастающего зла современности? Оно вызвано, отвечает Толстой, усилением и напряжением темпа жизни, которым живет современный человек. А это-то усиление и напряжение темпа жизни поддерживается (а может, быть и вызывается!) мнимодушевными средствами и для мнимодушевных целей. О «мнимых произведениях искусства» можно толковать в любую эпоху. Но есть особый смысл в том, что тема мнимодушевности возникла у Толстого в конце прошлого века, когда Лев Николаевич почувствовал, что мнимодушевность становится воздухом, которым человек дышит, и чем-то похожим на опору жизни, обеспечивающую эйфорическую легкость жизнечувствования. На глазах Толстого мнимодушевность делалась злом новейшего времени. Толстой уже в те годы видел, что мнимодушевность все более и более становилась и жизненной позицией, и мировоззрением, и руководством к действию, и высшим оправданием жизни, что все больше и больше людей проводят в сфере мнимой души часть, а то и весь свой срок на земле; и уверены, что живут полной и настоящей духовной жизнью. Естественно, что когда под здание жизни, по словам Толстого, "вместо камня подложены надутые воздухом пузыри"(45.301), то такая подмена в фундаменте должна в результате производить многие другие подмены в душевной и духовной жизни. Зло мнимодушевности Толстой объясняет так: «Истина всегда доступна человеку. Это не может быть иначе, потому что душа человека есть Божеская искра, сама истина. Дело только в том, что снять с этой искры Божьей (истины) все то, что затемняет ее. Прогресс не в увеличении истины, а в освобождении ее от ее покровов. Истина приобретается как золото, не тем, что оно приращается*), а тем, что отмывается от него все то, что не золото»(54.194) *) «Обыкновенно думают, что прогресс в увеличении знаний, в усовершенствовании жизни, – но это не так. Прогресс только в большем и большем уяснении ответов на основные вопросы жизни"»(54.194), – учил Толстой. Мнимодушевность современности делает обратное, затемняет, извращает, передергивает, подменяет истину и потому вызывает настоящий регресс. Заметьте, что борьба с Тьмой в Новейшей Истории обычно завершается не победой над темным и не поражением светлого, а провозглашением и укоренением мнимосветлого. Кстати, в том историческом эпизоде, который сейчас переживает Россия, эта тенденция, более чем когда-либо, явила себя. Народились мнимокапиталисты, возникла мнимодемократия, мнимосвобода, мниморынок, мнимое продовольственное изобилие и мнимодепутаты. Умение дурить, то есть способность соблазнять публику мнимоумом, возведено на степень искусства, и искусства наиболее востребованного. Не мудрено, что для первичного осуществления всего этого потребовался не сильный и не слабый, а мнимосильный человек, способный на яркую демонстрацию государственной властной силы. Нынешним людям столь нужна мнимодушевная сфера жизни, что они создали целую индустрию мнимодушевности, на все чувства и мысли, на все случаи жизни. Искусство, наука, ритуал, да в наш век еще и идеология не просто пропитаны мнимодушевностью, а выражают ее и ею являются. Люди так привыкли чувствовать, что не чувствуют, понимать, что не понимают, так привыкли глядеть понимающе, что уже не в состоянии различать глубокое от поверхностного. Глупые люди с легкостью пишут умные статьи. Критерии достоинства творений искусства и мысли вырабатываются ныне в среде интеллектуальных приверед и гурманов, откуда они и спускаются в культурную толпу. Что это, как не душевная порча? В математике есть числа действительные и числа мнимые. Мир мнимых чисел столь же обширен, что и действительных, у них во многом одни и те же законы, но мнимые числа располагаются по другой оси, не имеющей проекции на ось действительных чисел. Мнимые числа и записываются так же, как действительные, только перед каждым из них ставится значок мнимости числа. Такой же значок – "как бы" – следовало бы ставить перед многими нашими чувствами, мнениями, побуждениями и знаниями. Во всех них, да и в самой душе нашей, есть доля мнимости, установить точные границы которой не просто. Мы как бы любим, не любя, не творим, как бы творя, воодушевляемся без воодушевления, верим, во что не верим – и часто сами не можем разобрать, где действительное, а где мнимое. Саму силу своего сознания нынешний человек использует для подделки себя. «Их добрая жизнь деланная, и я чувствую, что пахнет и клеем и лаком. Сознание нужно, необходимо, но я думаю, что оно нужно только для проверки себя, а не для подделки себя»(56.129). В ситуации засилья мнимой души нельзя различить настоящее и иллюзорное. Это сфера, где нет добра и зла, истины и лжи, подлинника и подделки, мудрости и глупости, свободы и рабства, права и бесправия, где все мнимо и потому равно недостоверно (или, еще хуже: достоверно), где нет веры и безверия, и люди, как это особенно видно сегодня, верят тем, кто крикнет звучнее и от имени всех. Если мы свое земное болото превращаем в псевдонебесный омут мнимой души, то делаем это прежде всего потому, что хождение по болоту действительной жизни трудно, тогда как вращение в мнимодушевности легко и создает иллюзию беструдности добывания или восстановления чего-то важного в душе. В мнимой душе живется, как в действительной жизни, только несравненно легче. Боль сопереживания в действительности столь тяжела и требовательна, что человек по большей части избегает того, что может ее вызвать. В мнимой душе эта боль слабее, она безопасна, даже приятна. Добывание истины в действительности – мучение; в мнимодушевности эти муки становятся раздражающей и наслаждающей трудностью процесса мышления. Мнимая душа тем и хороша, что в ней как будто происходит действительная и свободная работа, но без настоящей боли душевного страдания реальной жизни – со всеми радостями, тоской, грустью, смехом и слезами, с самыми сильными переживаниями, но без опасности личного краха. Отсюда ставка мнимой души на утонченность, на очарование, на чары, а не на дары и труды духа. Все чувства и мысли в сфере мнимой души такие же, как и в душе действительной. Но в отличие от действительных чувств и мыслей рабочей души мнимодушевные чувства, мысли, побуждения ничего не вырабатывают в душе и живы только сходством мнимого роста и действительного духовного роста. Людям неприятны мучения души, но без них нельзя; люди хотят уклониться от душевной работы, желают покоя, но его нет и быть не может. И потому они ищут душевного комфорта в условиях треволнений мнимой души. Мнимая душа сильна кажущейся легкостью добывания полноты жизни. В ней можно полнокровно жить, не живя, и духовно расти, стоя на месте.
5 (71) Вот уже второй век, как умственные люди заразили весь мир спором: что первично, что вторично, бытие ли определяет сознание, либо сознание бытие. Для того чтобы так раздвоить существующее, чтобы суметь расчленить отдельно сторону сознания и сторону бытия, надо отойти в третью сторону, посмотреть на существующее Целое жизни с какой-то одновременно невесомо надмирной и приземленной точки зрения. Сегодня не сознание определяет бытие и тем более не бытие сознание, а сознание и бытие определяются мнимой душой. Весь современный мир опьянен мнимой душой, заражен ею. Законная жизненная сфера мнимой души разрослась до такой степени, что, как опухоль, стала болезнью. Болезнь мнимодушевности овладела миром. Не сила и вера, и не секс и голод правят европейским человеческом, а мнимая душа. Почему почти никто не принял всерьез открыто выраженную программу Гитлера в "Майн Кампф" и тем самым в полной мере не оценил ужасы его грядущего правления? Да потому, что судили по себе, сочли их полемическими лозунгами, декларацией и литературой, к реальной жизни имеющими совсем не непосредственное отношение. Что значат все эти быстро гаснущие и сменяющие друг друга легкомысленные заблуждения, страсти общественных волнений, чехарда сочувствий, скоро превращающихся в равнодушие? Только вдумайтесь! Люди уверовали во что-то и до того, что готовы жертвовать всем, жизнью, ради этой веры. Проходят лишь годы, и эта вера для тех же самых людей становится заблуждением, оказывается наваждением, даже безумием, над которым можно усмехаться. Откуда такая легкость души, легко принимающей на веру и легко от нее отказывающейся? Наверное, и вера не та, не то, что прежде, и разуверение. Разве материалисты и атеисты XIX и начала XX века не были религиозными людьми? Они были как бы нерелигиозными. Разве, скажем, вчерашние и нынешние декаденты чувствуют внутреннюю свободу? Нет. Они как бы чувствуют и как бы свободу. Стал или не стал человек умней, но ныне над умами людей властвует мысль как бы глубокая – мысль тонкая, мнимодушевная. Она везде: в ученых трудах, в судах, в "серьезных" статьях журнала или газеты, в житейских остротах, бюрократических циркулярах, политических дебатах, у героинь фильмов и в беседах школьников. Развитие души, рост сочувствия, сострадания и любви в ней имеет свои ступени, обойти которые, оставаясь в подлинной душевной жизни, нельзя. Круг ближних, сначала очень узкий, все расширяется и расширяется. Тут есть своя последовательность. Прохождение каждой ступени обеспечено степенью духовного развития души человека, его нравственным самосознанием и сознанием Хозяина жизни. Мнимодушевник же сразу же стремится перепрыгнуть через ступени, выставить себя на ступень, не соответствующую уровню его нравственного сознания. Мы ценим не те чувства, не те мысли и представления, при наличии выбора едим и одеваемся в то, что лучше разрекламировано, читаем и смотрим то, чему обеспечено паблисити и многое другое, что омнимодушевливает даже быт. Вокруг, конечно, и ложь, но более и всезахватывающе все то, что Толстой назвал "душевным лицемерием" – власть "как бы". Дело повсеместно дошло до того, что публично и интимно лгут и фальшивят не под действительную душу, не под подлинные чувства – как всегда было, – а под мнимую душу: притворяются, делают вид, что переживают мнимодушевные чувства и представления, которых в них нет. Эта подделка под подделку станет ясна, если вспомнить, что "духовной жизнью" обычно именуют жизнь "культурную". Понятие духовной жизни вообще девальвировано мнимодушевностью. "Талант" в Евангелии есть то высшее духовное благо, которое скрыто имеет или может приобрести человек. А мы понимаем это слово как способность на потребу нам вкусно приготовить мнимодушевное блюдо. В последние десятилетия невиданно возрастает массовый интерес к зрелищам. Серьезный признак все продолжающегося возрастания области мнимодушевного захвата человеческой жизни. А казалось бы, куда дальше? И так не жизнь, а всеобщий спектакль. Одни в нем в качестве ведущих, другие в качестве статистов, гримеров, либо играют зрителей, наконец. Остальные, те, которые не исполняют ролей, являют из себя декорацию спектакля или, на худой конец, служат материалом для этой декорации. Мы живем в мнимодушевном мире, и в такой степени, что функцию каждого в обществе можно описать в театральных терминах. Недаром столь успешна теория "ролей", по которой человек с утра до вечера входит в разные роли, меняя их в зависимости от обстоятельств, в которых он находится. Как ни вульгарно такое описание жизни, оно в известном смысле соответствует действительности. Душевная жизнь стандартизуется по амплуа. Характерный только для ХХ века образ спортсмена лишь отчасти вызван на передний план политиками. В большей степени его появление обеспечено страстью к зрелищам игр и соревнований за победу, мнимодушевно подменяющей чувство азарта жизни, и чисто мнимодушевному удовлетворению в культе рекордов и рекордсменства ("пальм первенства"). Тех результатов, которых сегодня достигают спортсмены в индивидуальных соревнованиях, физиологически нормально развитый человек достигнуть не может. Спортсмен демонстрирует неестественное и фиктивное физическое совершенство, которое вне нормальных возможностей человека. Отсюда допинг, гормоны и, во всяком случае, противоестественный образ жизни, уродующий то, совершенство чего вроде бы призван демонстрировать спортсмен. Растление природного духа признается совершенством выявления его. Как спортсмен живет не подлинной, а мнимодушевной жизнью природного существа, так и демонстрант живет не подлинной, а мнимой общественной жизнью. Подобно первому, демонстрант растлевает общественную жизнь. Какова бы ни была современная западная манифестирующая толпа (политическая, забастовочная, празднующая), самодеятельная она или собранная для специальной цели властью, охраняемая или, наоборот, охраняющая, какова б она ни была, все ее чувства – возмущения ли, одобрения ли, борьбы или ликования – по большей части мнимодушевны. Как мнимо и само состояние убежденности человека в ней. Сопоставьте образы возмущенной толпы из истории прошлого и современной демонстрации, собравшейся для выражения возмущения. Первые были действительно возмущены, вторые как бы возмущены и участвуют в инсценировке. Еще более, чем фигуры спортсмена и демонстранта, нелепа фигура "общественного деятеля" (того паче общественной деятельницы). Как в любительском спектакле, где самодеятельные актеры подражают профессионалам, так и на общественной сцене общественные деятели играют настоящих политиков. Конечно, и политик – игрок, разыгрывающий свою партию на массах или в узком интриганском кругу близких к власти. Но он всегда имеет реального противника, и в случае неудачи ему грозит реальная опасность. Общественный же деятель конкретного противостояния себе не имеет и сам создает его себе в лице правительства ли или другого, такого же, как и он, общественного деятеля. Он постоянно подвергается опасностям, которые ему не угрожают, дает клятвы, которые его не связывают, бросает вызов врагам, которые ему не страшны, и выдвигает лозунги, которые всегда преувеличенны, обязательно превышают требования его личной и общественной совести, а часто и его собственное разумение. Нынешнее западное общество переполнено полуслепыми движениями, которые исторически не работают, хуже того – как бы работают и тем самым могут способствовать чему угодно, в том числе и осуществлению целей, противоположных тем, которые они же провозглашают. Как не произойти беде?
6 (72) Только если художник "пишет, поет, играет для себя, а не для того, чтобы воздействовать на других", только если им движет внутренняя потребность выразить свое чувство, мысль, отношение к жизни, выразить и удовлетворить себя, только тогда созданное им произведение будет действительно искусством. Настоящее произведение искусства это то, в котором выражаются подлинные, задушевные мысли и чувства автора. Искусство, по Толстому, тем лучше, чем сильнее художник испытывает чувство и чем яснее его выражает, то есть чем он искреннее в чувстве и выражении чувства. Поэтому примитивное театральное представление охотников вогулов – настоящее искусство. Не потому, разумеется, что они вогулы, нецивилизованные люди. В наше время свою охотничью сцену они изображали бы для туристов, и это было бы кривлянье. Если бы ту же сцену поставил, скажем, ансамбль Моисеева, то, несмотря на мастерство исполнителей и их старание добросовестной передачи танца вогулов, это было бы поддельное искусство. Но и собственный праздничный танец вогулов, и их представление его перед туристами, и постановка этого танца высокопрофессиональным ансамблем есть в разной степени явления мнимодушевности. Так что дело не в самой мнимодушевности, а в степени ее автономности от подлинных чувств, в ее отчуждении от действительной душевной жизни, в своего рода "секуляризации" чувств из рабочей души в сферу мнимой души. Когда человек умышленно лжет другим или лицедействует, то он знает, что он делает, и может перестать делать, если захочет. Но как только человек вовлекся в мнимодушевность, так он часто теряет способность различать, где его собственные, подлинные движения души, а где мнимодушевная подделка. Разобраться в том, что подлинная, а что подложная и мнимая душевная работа, бывает чрезвычайно трудно. Но трудно или легко, а в этом человек разобраться должен. Это тоже духовный труд, тоже душевная работа. Вот такую душевную работу, работу на узнавание подлинности своих душевных движений (чувств, разума, совести, веры) и их подмены Толстой и именовал Искренностью или "усилением правдивости". Искренность (в искусстве, в вере, в мысли, во всей жизни) и есть та сила душевная, то качество, которое отделяет действительные движения души от мнимых (или мнимых их проявлений) и которое лишает мнимую душу силы псевдоподлинности. Силой искренности Толстой и его ученики поверяли всю жизнь. В их среде царила атмосфера искренности, подлинности, задушевности в точном значении этого слова. Даже свое духовное рождение Толстой, как помните, объяснял действием искренности, "произведшей переворот, который из области мечтаний и призраков привел меня к действительной жизни". Лев Николаевич не принижает искусство, а, скорее уж, напротив: придает ему слишком большое значение в жизни людей. Вот его слова: "Истинное произведение искусства есть откровение нового познания жизни, которое по непостижимым для нас законам совершается в душе художника и своим выражением освещает тот путь, по которому идет человечество"(30.225). Для большинства людей искусство – необходимая приправа. Для Толстого искусство должно иметь значение основной пищи, хлеба, а не пряности, и он требует, чтобы оно насыщало, а не возбуждало искусственный аппетит. Он не вдается в разнообразные прелести и сравнительные достоинства приправ культурной жизни, он просто констатирует, что такое искусство – не хлеб для жизни и никто им не питается, а только делают вид, что питаются. Нужна немалая душевная работа, нужны серьезные усилия правдивости, чтобы осознать, что суть дополнительные душевные наслаждения от сознания своей совести, беспокойности и творческой возможности своего ума, от остроты переживания любви и гордого возведения идеала, а что гнет ответственности своей души, боль задыхающегося разума, муки сознания неполноценности своей любви и стыда за свои недостоинства и свое маловерие. Мало ли на свете людей совестливых, доже чересчур совестливых, совестливых чужой совестью, но не переносящих и бегущих от сознания своей виноватости. Одно дело возвышающее и наслаждающее возгорание совести (или чувства справедливости), другое – терзание от своей вины. Но ведь продуктивной и подлинной работы совести без сознания виновности не бывает. Надо поймать себя на таком состоянии переживания совести без вины, посметь признать поддельность этого чувства, рискнуть остаться ни с чем, даже без уважения к себе. Вот душевная работа искренности. Мнимость жизни – в ее соблазнах и суевериях. В середине 90-х годов, в "Христианском учении" Толстой определяет соблазн как "лживые оправдания грехов", как "ловушку, в которую заманивается человек подобием добра"(39.143). В этих определениях понятия "ложь", "лживость" употребляются не в значении умышленной неправды, а в значении "мнимости".*) Соблазны тут – это мнимые соображения, разрешающие творить зло ради благой цели или объясняющие необходимость или неизбежность тех или иных согрешений требованиями духовной жизни(39.144) – мнимой духовной жизни. *) То же значение имеет у Толстого и понятие "заблуждения", проистекающего не от ошибки ума, а от блужданий души в мнимости. Разоблачения мнимостей человеческой жизни – всеми признанное проповедническое амплуа Льва Толстого. В 1910 году, в "Пути жизни" Толстой определял соблазны как "ложные представления о благе", или "ложные представления об отношении людей к людям"(45.14), или "ложное представление человека о своем отношении к миру"(45.91). И здесь слова "ложное представление" имеют для Толстого по большой мере значение "мнимого представления". Соблазнов в тексте "Пути жизни" – пять. И Толстой объясняет мнимость ("ложность") каждого из этих представлений. Вот два примера. Соблазн непротивления злу насилием скромно занял свое место в составе соблазна наказания. Наказание – дело мести. Соблазн наказания – это соблазн "ложного представления о праве одних людей ради справедливости или исправления делать зло людям"(45.14). "Люди говорят, что можно воздавать злом за зло для того, чтобы исправлять людей. Это неправда. Люди обманывают себя. Люди платят злом за зло не для того, чтобы исправлять людей, а для того, чтобы мстить. Исправлять зло нельзя тем, чтобы делать зло"(45.225). "Люди хотят оставаться такими плохими, какие были, и хотят, чтобы вся жизнь в то же время была лучше"(45.238). Пятый соблазн – соблазн тщеславия, т. е. "ложного представления о том, что руководством поступков человека могут и должны быть не разум и совесть, а людские мнения и людские законы"(45.14). Это "привычка жить не по учению мудрых людей мира и не по своей совести, а по всему тому, что признают хорошим и одобряют те люди, среди которых живет человек"(45.242). И этот соблазн – вид мнимодушевности. В подтверждение Толстой переводит мысль Паскаля: "Нам мало нашей истинной внутренней жизни – мы хотим жить еще другой, воображаемою жизнью в мыслях людей, и мы заставляем себя казаться для этого не тем, что мы на самом деле. Мы, не переставая, стараемся украшать это воображаемое существо, а о настоящем, о том, что мы на самом деле, не заботимся. Если мы покойны душой, если мы верим, любим, мы стараемся как можно скорее рассказать об этом, с тем чтобы эти добродетели были не только наши добродетели, но и воображаемого существа в мыслях других людей" (45.242-3). Про многие фундаментальные заблуждения души человеческой можно сказать, что они – мнимы. С точки зрения толстовского монизма жизни это вполне понятно.*) Если личность (животная личность, низшая душа, плотское Я) человека и есть и не есть вместе (если она "мечта", как писал Толстой), то она "мнима" в том самом смысле, в котором слово это мы употребляем в отношении явления мнимодушевности. Но, как видим, речь уже идет не только о душевной, но и о духовной жизни. Потому и мы должны говорить не только о мнимодушевной, но и о мнимодуховной стороне души человека. Мнимодушевность есть по большей части обманы жизни – "то, что принимает подобие жизни". Мнимодуховность – то, что создает в людях некий параллельный мир, который в свою сторону отвлекает духовные силы жизни человека от Источника этих его сил (см. 52.145) и служит оправданием дурной жизни. *) Напомню, что по мистическому учению Толстого все вещи и явления Мира суть пределы отделенности, которые, существуя, не существуют; это в некотором роде "мнимое Бытие". "Почти все бедствия мира: и войны, и казни, и нищета одних и роскошь других – всё это возникло не от пороков людей – пороки не могли бы произвести такие страшные последствия, – а от оправданий пороков и слабостей людских"(79.124). Если соблазны у Толстого по преимуществу мнимодушевны, то суеверия – обманы веры, принятые по доверию ложные учения, нужные людям затем, чтобы "со спокойной совестью жить"(56.91) – мнимодуховны. Суеверия – суть мнимые веры. И таких мнимых вер в человечестве, согласно "Пути жизни" Льва Толстого, три: суеверие церкви, суеверие науки и суеверие государства. Для осмысления мнимодушевности и мнимодуховности продуктивна мысль Толстого в "Воскресении" о том, что человек способен видеть и при солнечном свете сознания и при лунном свете сознания. Лунный свет есть свет отраженный, "свет без своего источника". Чтобы видеть только при лунном свете, надо "прищуриваться". От этого прищуривания и ходят тени мнимодушевности. Только солнечный свет (свет высшей души, свет от духовного Я, Бога своего) способен убрать эти тени, высветить все как есть. Таков, кстати, и художественный метод Толстого. Переживания жизни в мнимодушевности иногда чем-то сопричастны сознанию жизни высшей души, что, видимо, и обеспечивает духовную власть мнимой души. В этой сопричастности есть что-то глубоко от нас сокрытое. Однако воздействие мнимодушевности и духовного Я на человека разное. Воздействием мнимой души человек удовлетворяется только при бездействии в нем подлинного Хозяина – его духовного Я. Подлинная Вера превышает разум, так как она состоит в признании "того, что существует то, что сознается, но не может быть определено разумом, как Бог, душа, добро"(39.152). Предмет истинной Веры, "несмотря на то, что определение отношения человека к Богу и миру большой частью берется уже установленное прежде жившими людьми, проверяется и воспринимается разумом". Предмет же веры-доверия "не только принимается независимо от участия разума, но при непременном условии неупотребления разума для проверки переданного". Это создает особые возможности для внушения чего угодно и, значит, для извращения разума. Разум человека предназначен не к тому, чтобы устанавливать высшие истины (которые обнаруживаются Верою, выражающей несомое светом сознания высшей души), а к тому, чтобы поверять то, что проповедуется в качестве высших истин другими людьми. "Разум же предназначен не на то, чтобы решать, кому нужно, а кому не нужно верить, этого он и не может решить,*) а на то, чтобы проверять справедливость того, что предлагается ему. Это он всегда может и на это он и предназначен"(39.156). *) Из-за многочисленных недоразумений на этот счет вынуждены еще и еще раз подчеркивать, что разум у Толстого служит не для познания и утверждения установок Веры, а только для разрушения обманов веры. Разум у Толстого – не столько определитель истин жизни, сколько контролер при входе их в душу. Вера-доверие, отвергая контролирующие функции разума и оскопляя его (разодухотворяя человека в разуме), тем раскрывает безграничные возможности для "рассуждений и вымыслов"(39.156.) и сама неизбежно становится ложной верой. "Ложные веры это – такие веры, которые люди принимают не потому, что они нужны им для души, а только потому, что верят тем, кто их проповедует"(45.277). Такие веры с течением времени не могут, в конце концов, не превратиться в мнимые веры. Мнимая вера – конечная стадия разложения веры-доверия. Обращаясь к духовенству в 1902 году, Толстой стремился донести, что "вы не верите в то учение, которое вы проповедуете, не верите не только во все те положения, из которых оно состоит, но часто не верите ни в одно из них". Но это не лицемерие в буквальном смысле слова. "Я знаю, – продолжает Толстой, – что, повторяя знаменитое «credo quia absurdum», многие из вас думают, что, несмотря ни на что, они все-таки верят во всё то, что проповедуют… Вы верите, что надо говорить, что вы верите в это, но не верите, что было то, что вы говорите… Прежние люди, установившие эти догматы, могли верить в них, но вы уже не можете. Если вы говорите, что верите в это, то вы говорите это только потому, что вы употребляете слово «вера» в одном значении, а приписываете ему другое". Подмена истинной веры верой-доверием чревата тем, что разрешает мнимодуховность и поселяет мнимую веру в душе. "Я понимаю, что это очень хорошо и приятно чувствовать себя в единении веры с окружающими, и когда постом уныло звонят к часам, и идут говельщики, и просят друг у друга прощения, и красиво молятся в красивых церквах, вызывая представление о древней, тихой, торжественной жизни, очень приятно бы соединиться с ними и прожить этой жизнью. Но ведь это самообман, это только играние роли"(69.63). Приемы внедрения и узаконения мнимодуховных положений всегда одни и те же. О них в "Разрушении ада и восстановлении его" рассказывает Вельзевулу дьявол в пелеринке*). *) Вот его описание: "Один из дьяволов, в накинутой на плечи пелеринке, весь голый и глянцевито черный, с круглым безбородым, безусым лицом и огромным отвисшим животом, сидел на корточках перед самым лицом Вельзевула и, то закатывая, то опять выкатывая свои огненные глаза, не переставая улыбался, равномерно из стороны в сторону помахивая длинным, тонким хвостом"(34.101). "У людей есть сказка о том, как добрый волшебник, спасая человека от злого, превращает его в зернышко пшена и, как злой волшебник, превратившись в петуха, готов уже был склевать это зернышко, но добрый волшебник высыпал на зернышко меру зерен. И злой волшебник не мог съесть всех зерен и не мог найти то, какое ему было нужно. То же сделали и они, по моему совету, с учением того, кто учил, что весь закон в том, чтобы делать другому то, что хочешь, чтобы делали тебе, они признали священным изложением закона Бога 49 книг и в этих книгах признали всякое слово произведением Бога – Святого Духа. Они высыпали на простую, понятную истину такую кучу мнимых священных истин, что стало невозможно ни принять их все, ни найти в них ту, которая одна нужна людям"(34.104-105). Вопрос о возникновении и практике мнимой веры-доверия накрепко состыкован у Толстого с вопросом духовной власти в обществе (см. 34.105). Вера-доверие необходима духовной власти. Она ее опора. В свою очередь духовная власть (как и власть вообще) необходима Общей душе народа. Духовная власть – опора Общей души. Без Власти – светской (государственной) и духовной (церковной) – Общая душа существовать не может. Вера-доверие неизбежно присутствует в общедушевном поле жизни и держит его. Именно ради Общей души и во имя духовной власти (своей духовной власти и духовной власти как таковой) человек верит по доверию. И поделать с этим ничего нельзя. Мучительно сознавал Толстой это: "Я знаю как – каким-то удивительным чудом – делается то, что люди, как к истине, со страстностью, которую никогда не испытываешь к истине, – прилепляются к выдуманной замене истины и как нельзя освободить их и как не только тщетны, но еще, кажется, усиливают их заблуждения все доводы"(87.387). «Есть ужасные заслонки, замыкающие сердца и сознания людей и мешающие им принять истину. Как отворять их? Как проникать за них? Не знаю, а в этом величайшая мудрость»(54.114). Когда сознание собственной высшей души протестует против общедуховной веры, тогда человек ищет другую, новую веру-доверие или видоизменяет прежнюю или делает над собой усилия для того, чтобы продолжать "верить, во что не верит", то есть становится мнимодуховным человеком. Что в некоторых случаях тоже неизбежно. Хотя Толстой, как и всякий пророк, не желал признавать неминуемость этого. "Мы несомненно явимся перед нашими детьми злостными обманщиками, всё равно принадлежим ли мы к церковно-христианской, какого бы то ни было исповедания, или еврейской, или магометанской, или буддийской вере, и к какой бы мы ни принадлежали народности (угнетающей или угнетенной), если мы передадим нашим детям те верования наших предков о сотворении мира и других чудесах, потерявших для нас всякий смысл и в которые мы уже не можем верить, и если, сверх того, передадим им то предпочтение перед другими своей народности (патриотизм) и своей вере, которое служило и служит до сих пор источником величайших бедствий человечества"(71.519). Так писал Толстой в 1898 году. И оказался не прав. Прошло 90 лет после его смерти, но ни самоутверждение Общих душ не кончилось, ни традиционные веры, которым доверяли люди, не угасли. Хотя и приобрели за это время иное значение и звучание.
7 (73) Духовная жизнь человека содержит две стороны: общедуховную и личнодуховную. Агапическая жизненность и любовность, которую проповедовал Толстой в качестве предписанной свыше основы жизни каждого человека, не содержится в Общей душе. В структуре Общей души нет пласта, который соответствовал тому пласту высшей души отдельного человека, в который, по Толстому, следует перенести свое "Я". Общая душа укорененена не в вечной и вселенской, а в земной жизни. И проживает в ней. Если из структуры внутреннего мира человека каким-то чудом удалось бы стереть его общедуховную сторону (как это выходит из проповеди Толстого), то в нем осталась бы возможность только одной личной духовной жизни; тогда бы человек стал жить исключительно по заветам Льва Толстого. Но каждому из нас предоставлена возможность либо жить общедуховной жизнью, либо жить личной духовной жизнью. Так как последнее возможно только для некоторых исключительных людей, то вся масса людей, практически говоря, предпочитает (пусть и по необходимости) жить общедуховной жизнью. Разумеется, Толстой прав: "Как ни странно это кажется, самые твердые, непоколебимые убеждения, это самые поверхностные. Глубокие убеждения всегда подвижны"(57.109). Но непоколебимые и поверхностные убеждения обычно общедуховны, тогда как подвижные и глубокие убеждения всегда лично духовны. Духовная жизнь человека должна находиться в рабочем состоянии, в напряжении. Это необходимо для духовного роста. И поэтому отношения между двумя нераздельными и неслиянными сторонами духовной жизни – общедуховной и личной духовной – не безоблачны. В крайних случаях противостояния или общедуховная жизнь полностью и агрессивно подавляет личную духовную жизнь, или личная духовная жизнь полностью и агрессивно отвергает общедуховную жизнь. Когда Толстой возвестил самоотречение в качестве основного принципа личной духовной жизни и доподлинно осуществил этот принцип в своей жизни (действительно осознав свое "Я", "Льва Николаевича" несуществующей мечтою), то его объявили гордецом и за гордость отлучили от Церкви. Но и Лев Николаевич в пылу противостояния стихии общедуховности объявил, что "Церковь есть учреждение для сокрытия Христова учения"(51.79). Иисус в описании Толстого – вечный образец для личной духовной жизни, ее идеал и двигатель. Толстой сделал из Иисуса пророка Бога вечной жизни и агапической любви, пророка, который адекватно выразил основы вечной жизненности в чувстве человека и разумность высшей души в разуме человека. В церковном христианстве Бог стал человеком земной жизни и искупил первородный грех человека, спас и спасает людей от зла и смерти, максимально и без серьезных усилий выдает им то, о чем человек мечтает на Земле; вплоть до тысячелетнего земного Царства и последующего вечного человеческого блаженства. В обиходном общедушевном сознании Бог-человек воспринимается Богом земной жизни. С одной стороны, христианство провозглашает воскресение во плоти (и даже в лучшей, чем есть у земного человека, плоти), исповедует спасение "животной личности", ее вечное личное блаженство и, с другой стороны, требует и смирения, и самоотречения от личности. Но то и другое полезно для привлечения человека к вероисповеданию и вовлечения в него: первое для его низшей души, второе – для высшей. Разумеется, что такое вероисповедание без труда установило земную духовную власть и консолидировало общедуховный соборный пласт Общих душ. Все это сказано не в упрек церковному христианству. Любая общедуховная религия – чтобы она ни толковала о иных мирах и загробной жизни – всегда есть религия для земной жизни. «Церковные христиане не сами хотят служить Богу, а хотят, чтобы Бог им служил»(53.144), – писал Толстой. Но то же самое можно сказать и про любое другое вероисповедание, обслуживающее одну или несколько Общих душ. Правда, в отличие от других вер, христианство наиболее зримо представляется земной религией. Иисус – наивысшее выражение зримости земного Бога. Его родила мать из чрева земной женщины, она выкормила Его грудью земной женщины, Он был земным дитятей, потом ребенком, отроком, юношей, стал мужем, ходил меж людьми, разговаривал с ними, как человек с человеком, спорил с ними, его любили и предавали, и умер он в человеческих мучениях. Ближе Иисуса земному человеку не было и нет Бога. В изображении же Толстого церковное христианство есть в высшей степени приземленная религия, служащая (и то фиктивно служащая) исключительно нуждам земной жизни – даже не земной жизни вообще, а временной и смертной жизни земного человека, со всеми ее "нелепостями и злодействами": "Большая часть, едва ли не все злодейства и нарушения непосредственного человеческого чувства, ужаснейшие жестокости и нелепости нашей жизни, если поискать их источник, почти всегда или основаны на каком-либо ложном толковании признанных священными мест писания, или находят в нем свое оправдание. И надо сказать, что не потому совершаются нелепости и злодейства в нашей жизни, что они основаны на ложном толковании мест писаний, признаваемых непогрешимыми, а признаются писания священными и непогрешимыми для того, чтобы из них можно было выводить те нелепости и безобразия, которые с уверенностью в своей правоте совершаются людьми нашего мира"(78.299). Вера личной духовной жизни, о которой говорит Лев Толстой, вера, основанная на самосознании высшей души отдельного человека, обращена к единой вечной вселенской Жизни и Тому, Кто живет ею. Это – "всемирная религия"(45.279), как говорил Толстой. Вера-доверие, общедушевная вера обслуживает земную жизнь человека. Она такая, какая есть. К ней, покуда в нее верят, неприложимы понятия лжи и правды. Но когда она начинает изживать себя, то она становится мнимой верой и распространяет мнимую духовность. Важно понять, что мнимодуховность – не болезнь, или такая болезнь, которая поддерживает на плаву мнимую веру, и, когда нужно, реанимирует ее. Надо ли говорить, что сама по себе функция культовой жизни общедуховно необходима и законна. Но она становится мнимодуховной, когда подменяет и заменяет личную духовную жизнь. И культ сегодня – не магическое действие, а сакрально-игровая сторона веры – самая, пожалуй, личностная ее сторона. Этому не противоречит и нынешнее восприятие церковности как традиционной культуры и воцерковления как возврата к традиционным личностным ценностям. Лев Николаевич же смотрел на церковное учение никак не с точки зрения культуры, более того, видел в церковной культуре мнимость и вымысел – замену, подмену, мнимодуховность. "Во всякой религии есть три элемента. – Писал Толстой. – Отношение человека к Богу и нравственный из него вывод. Восторженное выражение этих истин – пафос, и выдумка, ложь бессознательная и сознательная. В стоицизме отсутствуют элементы пафоса и лжи и потому стоицизм почти не религия. В мормонстве все одна выдумка, ложь, и оба элемента, пафоса и нравственного учения, заимствованы. В магометанстве преобладающий элемент пафос. Есть и ложь. Нравственный элемент заимствован»(54.201-2). Современного человека, вновь обратившегося к религии, в том числе и к христианству, всего более привлекает второй элемент, "пафос", – особая поэтическая составляющая религии. Ее значение в полной мере осознавал и Толстой: "Даже, думается, – не есть ли исключительный признак того, что называется религией, именно этот элемент – сознательной выдумки – не холодной, но поэтической,восторженной полуверы в нее, – выдумки? Выдумка эта есть в Магомете и Павле. Ее нет у Христа. На нее наклепали ее. Да из него и не сделалось бы религии, если бы не выдумка воскресения, а главный выдумщик Павел*)"(50.22-3). *) По Толстому, все предпосылки мнимодуховности христианства создал гений Павла. Эта мнимодуховная "восторженная полувера" – своего рода анестезия души, под парами которой с душою человека можно делать все что угодно. Это – один из основных инструментов любого вероисповедания во все времена. Но для нынешнего западного прозелита она стала основной силой, притягивающей его к исповеданию. Все это происходит, быть может, оттого, что духовная потенция людей нашего века в значительной мере утрачена, но им все еще "хочется". От этого импотентного хотения духовной жизни происходит мнимодуховное творчество, выросшее из стремления к замене подлинной духовной жизни на мнимодуховную. Христианство, Ислам, Буддизм по западному образцу превращены в средство удовлетворения такого рода хотений, из-за которых смешиваются культура, религия и нравственность. Против такого смешения возражал еще Лев Толстой. «Очень важная и дорогая мне мысль. Обыкновенно думают, что на культуре как цветок вырастает нравственность. Как раз обратное. Культура развивается только тогда, когда нет религии и потому нет нравственности (Греция, Рим, Москва). Вроде жирующего дерева, от которого незнающий садовод будет ждать обильного плода оттого, что много пышных ветвей. Напротив, много пышных ветвей оттого, что нет и не будет плода. Или телка яровая»(54.73). Культура без религии – мнимодуховна и развращает людей. "Дьявол искусства" в "Разрушении ада и восстановлении его" объяснил Вельзевулу, что "он, под видом утешения и возбуждения возвышенных чувств в людях, потворствует их порокам, изображая их в привлекательном виде". Вслед за ним дьявол культуры внушает людям, что пользование всеми теми благами цивилизации, которыми заведуют другие дьяволы, "есть нечто вроде добродетели и что человек, пользующийся всем этим, может быть вполне доволен собой и не стараться быть лучше"(34.114-15). При этом многие из людей вполне убеждены, что они живут нравственно-христианской жизнью. Многие современные люди воскрылены мнимой верой. Что в терминологии Льва Толстого означает, что у них нет "никакой веры". «У нас нет никакой веры и от этого лживая религия, лживая наука, лживое искусство»(54.37).
8 (74) "Деятельность научная и художественная в ее настоящем смысле только тогда плодотворна, когда она не знает прав, а знает одни обязанности… Только потому, что она всегда такова, что ее свойство быть таковою, и ценит человечество так высоко эту деятельность. Если люди действительно призваны к служению другим духовной работой, то они в этой работе будут видеть только обязанность и с трудом, лишениями и самоотвержением будут исполнять ее. «Мыслитель и художник никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать. – Продолжает Лев Толстой в главе XXXVII трактата "Так что же нам делать?". – Мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение или утешение. Кроме того, он страдает еще потому, что он всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может, будет поздно – он умрет. И потому страдание и самоотвержение всегда будет уделом мыслителя и художника. Не тот будет мыслителем и художником, кто воспитается в заведении, где будто бы делают ученого и художника (собственно же делают губителя науки и искусства), и получит диплом и обеспечение, а тот, кто и рад бы не мыслить и не выражать того, что заложено ему в душу, но не может не делать того, к чему влекут его две непреодолимые силы: внутренняя потребность и требование людей. Гладких, жирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает. Духовная деятельность и выражение ее, действительно нужные для других, есть самое тяжелое призвание человека – крест,*) как выражено в Евангелии. И единственный, несомненный признак присутствия призвания есть самоотвержение, есть жертва собой для проявления вложенной в человека на пользу другим людям силы. Без мук не рождается и духовный плод. Учить тому, сколько козявок на свете, и рассматривать пятна па солнце, писать романы и оперу – можно не страдая; но учить людей их благу, которое всё только в отвержении от себя и служении другим, и выражать сильно это учение нельзя без отречения". *) Вспомните, что мы говорили об этом предмете во Введении и в других местах книги. «Жрецы, духовенство, наше или католическое, как оно ни было развратно, имело право на свое положение, – они говорили, что учат людей жизни и спасению. Мы же, люди науки и искусств, подкопались под них, доказали людям, что они обманывают, и стали на его место; и не учим людей жизни, даже признаем, что учиться этому не надо…"(25.371-5). Суеверие науки преемственно суеверию церкви и в обществе исполняет роль церкви. Происхождение суеверия науки не из натурфилософского лона Древней Греции или Египта. Толстой роднит его с патристикой, аристотелизмом и алхимией. На вопрос Вельзевула: почему умные ученые люди не обнаружили произошедшего очевидного извращения учения Христа, отвечает дьявол в мантии. "Я постоянно отвлекаю их внимание от того, что они могут и что им нужно знать, – сказал он, – и направляю его на то, что им не нужно знать и чего они никогда не узнают… В старину я внушал людям, что самое важное для них – это знать подробности об отношении между собою лиц Троицы, о происхождении Христа, об естествах Его, о свойстве Бога и т. п… Потом, когда они уже так запутались в этих рассуждениях, что сами перестали понимать то, о чем говорили, я внушал одним, что самое важное для них – это изучить и разъяснить всё то, что написал человек по имени Аристотель, живший тысячи лет тому назад в Греции; другим внушал, что самое важное для них это – найти такой камень, посредством которого можно бы было делать золото, и такой эликсир, который излечивал бы от всех болезней и делал людей бессмертными. И самые умные и ученые из них все свои умственные силы направили на это. Тем же, которые не интересовались этим, я внушал, что самое важное это знать: земля ли вертится вокруг солнца, или солнце вокруг земли? И когда они узнали, что земля вертится, а не солнце, и определили, сколько миллионов верст от солнца до земли, то были очень рады и с тех пор еще усерднее изучают до сих пор расстояния от звезд, хотя и знают, что конца этим расстояниям нет и не может быть, и что самое число звезд бесконечно, и что знать им это совсем не нужно. Кроме того, я внушил им еще и то, что им очень нужно и важно знать, как произошли все звери, все червяки, все растения, все бесконечно малые животные. И хотя им это точно так же совсем не нужно знать, и совершенно ясно, что узнать это невозможно, потому что животных так же бесконечно много, как и звезд, они на эти и подобные этим исследования явлений материального мира направляют все свои умственные силы и очень удивляются тому, что чем больше они узнают того, что им не нужно знать, тем больше остается неузнанного ими". Наука для Толстого представляет собою "столь же вредное и столь же грубое суеверие, как и суеверия религиозные, с которыми оно имеет очень много общего: та же самоуверенность в своей непогрешимости, тот же особенный торжественный язык, та же иерархия, те же распадения на разные толки и то же, как взбиваемая пена, всё увеличивающиеся и увеличивающиеся определения, подразделения, не могущие иметь конца, и тот же главный признак всякой лжи и суеверия – отсутствие ясности, краткости, простоты"(78.24). Но "насколько выше самое грубое, религиозное понимание жизни такого научного понимания. – Оговаривает Толстой в другом месте. – Там есть понятие вневременное, внепространственное, неподвижное и невещественное – Бог, которое отвечает на все неразрешимые вопросы, стоящие перед человеком, отвечает признанием недоступности для человека этих вопросов: «Бог сотворил мир и меня» – собственно значит то, что я не знаю и не могу знать, как произошли я и мир и начало всего. Научные же люди вполне уверены, что они знают, могут знать и наверное узнают, как произошел мир и человек и вполне уверены, что та доступная им, бесконечно малая частица знания той бесконечно великой области недоступного нам знания есть настоящее знание и нет ничего недоступного знанию человека. Поэтому-то я не только думаю, но и по рассуждению и опыту знаю, что религиозный человек с самыми грубыми религиозными представлениями все-таки по восприимчивости к истине стоит неизмеримо выше научного суевера. Первый знает, что есть нечто, чего нельзя знать; второй же уверен, что нет ничего такого, чего нельзя знать, и что всё, что он знает, есть истинное знание. Первому нужно только откинуть наросты суеверий на том, что он признает непостижимым, и у него нет препятствий для истины. Второму же нельзя воспринять истину, потому что он весь полон ложью, которую считает за истину, и у него нет того места, куда бы он мог принять истину. Важнее всего в знании это то, чтобы не воображать, что знаешь, чего не знаешь, а знать, что не знаешь того, чего не знаешь. И это свойство имеют люди религиозные, хотя бы религия их выражалась в самых грубых формах; совершенно же лишены этого свойства люди научные.(81.30-32). Истинная наука, по Толстому, есть "знание того, что нужно делать всякому человеку для того, чтобы как можно лучше прожить в этом мире тот короткий срок жизни, который определен ему Богом, судьбой, законами природы, – как хотите"(38.135). В противовес этому "наукой в наше время считается и называется, как ни странно это сказать, знание всего, всего на свете, кроме того одного, что нужно знать каждому человеку для того, чтобы жить хорошей жизнью"(38.137). "Со всеми людьми, обращающимися к науке нашего времени не для удовлетворения праздного любопытства и не для того, чтобы играть роль в науке, писать, спорить, учить, и не для того, чтобы кормиться наукою, а обращающимися к ней с прямыми, простыми, жизненными вопросами, случается то, что наука отвечает им на тысячи разных очень хитрых и мудреных вопросов, но только не на тот один вопрос, на который всякий разумный человек ищет ответа: на вопрос о том, что я такое и как мне жить"(45.311). Отсюда и толстовское деление людей на "ученых", "образованных" и "просвещенных": "Ученый тот, кто знает очень много из всяких книг; образованный тот, кто знает всё то, что теперь в ходу между людьми; просвещенный тот, кто знает, зачем он живет и что ему надо делать. Не старайся быть ни ученым, ни образованным, старайся быть просвещенным"(45.309). Наука не вера, а знание. И знание, добываемое вослед установлению веры. Без веры, "без установленного отношения человека ко всему нельзя жить". Это чувствует каждый человек. Религия устанавливает это отношение, "признавая основанием всего существующего человека, его сознание своего я и из этого я уже выводя его отношение к миру". Наука же в лице наиболее начитанных, умных и самоуверенных людей стала устанавливать это отношение человека к миру не так, как устанавливает его религия, "а обратно: признавая основой всего бесконечный по времени и пространству и потому вполне непонятный мир, и из этого непонятного мира выводя человеческое я и его отношение к миру. И вот эта-то ложная постановка вопроса и послужила основой всех тех бесконечных, много и противоречивых и неясных рассуждений, которые называются наукой и которые представляют собой столь же вредное и столь же грубое суеверие, как и суеверия религиозные". Действительно, когда я "основой своей жизни признаю свое духовное Я, то же самое, какое во всех людях и даже животных и которое человек называет Богом, когда представляю Его само в себе, а не в отдельных существах, то я изучаю, прежде всего, это мое Я и стараюсь исправить, улучшить его, освободить его от того, что мешает проявлению в любви его духовности, и тогда мир мне настолько интересен и важен, насколько он в других существах соприкасается со мною. Самый же мир сам в себе я и не пытаюсь познать, да и не нуждаюсь в этом. Но совсем другое, если я за основу всего признаю мир и себя только как произведение этого мира. Тогда прежде всего то, что я беру за основу, мне совершенно непонятно, и не потому, что я не умел понять, а потому, что оно, по свойству своему и моего ума, недоступно мне. Всё в мире, во-первых, бесконечно велико и бесконечно мало по пространству и бесконечно по времени. Выводя же себя, свое сознательное я, из этого непонятного мира, я – то, что я знаю лучше всего – становится вполне непонятным. Но как ни странно это, а из этой основы вытекают все бредни, называемые наукой. Там, при основе я, человек сам себя изучает и исправляет и улучшает, и для улучшения и исправления себя имеет полную власть, здесь человек изучает то, что по существу не может быть понятно ему, и исправляет и улучшает то, чего он не понимает и для исправления и улучшения чего он не имеет никакой возможности"(78.24). "Я" и мир принадлежат к разным существованиям. Поэтому "отношение к миру" может вырабатывать только то, что не принадлежит миру – "Я" человека. Выводить же из мира "человеческое я и его отношение к миру" – это какой-то фокус, изворот ума и души, возможный только при переносе сознания в мнимодуховную область. Только живя в мнимодуховности, можно признать себя ("то, что я знаю лучше всего" и кому принадлежит мое сознание) за произведение мира (того, что мне "совершенно непонятно" и недоступно моему сознанию). Только в мнимодуховности становится возможным метафизически и практически подчинить "Я" и его сознание миру. Такая постановка дела неизбежно умерщвляет не только "Я и его отношение к миру", но жизнь как таковую. Трудно спорить, что сам "научный прием это прием умерщвления живого"(51.89). И это не недоработка, которую в будущем можно исправить. Прием науки соответствует ее принципиальной установке относительно жизни и нежизни. Предмет науки – материальный мир сам по себе, материальный мир, как носитель жизни, и животная личность (психофизиологический состав существования). Такой предмет не может быть предметом веры, то есть сверхразумного знания высшей души человека. Высшая душа плохо представляет материальный мир; он для нее чужая сфера существования, посредством которой в ее собственной сфере существования производится отделение одних высших душ от других высших душ. Сам по себе материальный мир высшая душа почти не видит, он для ее сознания, как об этом много говорилось выше, существует неподлинно. Материальный мир несет в себе жизнь, но не вечную вселенскую жизнь высшей души, а земную смертную жизнь. Земная жизнь для высшей души есть нечто стороннее, то, за чем более или менее явно скрывается подлинное существование и подлинная жизнь. С самой по себе земной жизнью высшая душа непосредственно не знакома. Животная личность служит для высшей души пределами и границам, и она непосредственно сознает и чувствует её рядом с собой – как точку приложения своей свободной воли и место своей свободной работы. Саму по себе животную личность и проблемы её собственной жизни высшая душа знать не желает. И в этом мы могли убедиться, изучая взгляды Толстого последних лет жизни. Разум высшей души (ее откровения, прозрения и интуиция) используется наукой, поскольку создает науку человек, обладающий высшей душою. Но все же научное знание добывается (и, главное, поверяется) интеллектом, который высшей душе непосредственно не принадлежит. По всем этим причинам человек вроде бы никак не может "верить в науку", но – верит. Положим, это не вера высшей души, а вера-доверие. Но всякая вера-доверие должна иметь общедушевные основания. Наука таких оснований не имеет. Их имела церковная вера. И если существует вера в науку, то только благодаря тому, что люди науки, как и пишет Толстой, "подкопались" под людей церкви и, доказав, что они обманывают, разрушив церковь, заняли их место. Наука стала вместо церкви, представилась человеку церковью иного рода. Но наука не церковь. Вера-доверие в науку это иллюзия общедушевной веры. Наука как вера это в чистом виде мнимодуховное явление, так как делает мнимыми не чувства, как "поддельное искусство", а делает мнимой истину. Мнимодушевник от искусства чувствует, что не чувствует. Мнимодуховность церкви заставляет человека верить в то, во что не верит. Мнимодуховность науки, представляясь новой церковью и обольщая человека материальными благами, подкладывает ему веру в то, что вообще не может быть предметом веры, зовет его верить, во что нельзя верить. Мнимость научной веры с позиции Толстого – это мнимость мнимости, так сказать, вторая производная мнимодуховности, выдающая себя за духовный первоисточник. Сама мысль "о том, что наша жизнь есть произведение вещественных сил и находится в зависимости от этих сил" – мнимодуховна. Мнимодуховна и вера в то, что это утверждение есть "святая мудрость человечества"(45.300). Привлекает людей к науке не серьезное стремление к истине и даже не "удовлетворение серьезной любознательности"(34.140), а выгода (корысть, тщеславие, положение в обществе и пр.) и удовольствие от удовлетворения способности к игре ума. Но и, не говоря о том, что наука, по словам Толстого, есть "несчастное усложнение", сам по себе научный интерес есть род мнимого интереса к истине. "Ты говоришь человеку ясное, простое, казалось бы, нужное и обязательное для каждого человека, он ждет только, скоро ли ты кончишь. А когда ты кончил, отвечает хитроумными рассуждениями, очень искусственно связанными с вопросом… Отчего это? А оттого, что он чует, что твоя мысль, признавая неправильным его положение, разрушает то положение, которым он дорожит больше, чем правдивостью мысли. И от этого он не понимает, не хочет понять то, что ты говоришь. В этом одном объяснение всех царствующих нелепых, называемых науками, рассуждений. Всё от того, что люди все разделяются на два рода: для одних мысль управляет жизнью, для других – наоборот. В этом ключ к объяснению безумия мира"(57.107). "Есть люди, которые думают для себя и потом сообщают свои мысли людям; и есть такие, которые думают для того, чтобы сказать людям, а потом сами начинают верить в то, что сказали"(58.154). Разумеется, что мышление таких людей по сути мнимодуховно. К этому надо добавить, что истинное одухотворение всегда связано с самостоятельным мышлением. Мнимодуховная мысль, как правило, может быть усвоена только с помощью чужих мыслей. В этом мнимодуховность науки активно противостоит истинной одухотворенности. «Я сначала думал, что то, что способность учиться есть признак тупости, есть парадокс, в особенности не верил этому потому, что я дурно учился; но теперь я убедился, что это правда и не может быть иначе. Для того чтобы воспринимать чужие мысли, надо не иметь своих. Сомнамбулы учатся лучше всех»(54.43). Любое знание может стать мнимодуховным, если оно не нужно для души. "Наука – это пища для ума. И эта пища для ума может быть так же вредна, как и пища телесная, если она не чиста, подслащена и если принимаешь ее не в меру. Так что и умственной пищи можно переесть и заболеть от нее. Для того чтобы этого не было, надо так же, как в телесной пище, принимать ее только тогда, когда голоден, когда чувствуешь необходимость узнать,– только тогда, когда знание нужно для души"(45.305). Немало способствует мнимодуховности мысли чрезмерное умственное развитие. Толстой считал "делом огромной важности для своей жизни" донести до людей мысль о том, что "духовные силы человека ограничены» и тратить их надо осмотрительно. "Не бойся незнания, бойся лишнего знания, особенно если это знание для выгоды или для похвальбы. Лучше знать меньше, чем можно, чем знать больше, чем нужно. От многознайства люди бывают довольны собой, самоуверенны и от этого глупее, чем они были бы, если бы ничего не знали"(45.307). Мнимодуховность науки и нравственно развращает людей. В подтверждение Толстой не раз приводил такую мысль Руссо: "Развитие науки не содействует очищению нравов. У всех народов, жизнь которых мы знаем, развитие наук содействовало развращению нравов. То, что мы теперь думаем противное, происходит оттого, что мы смешиваем наши пустые и обманчивые знания с истинным высшим знанием"(45.301), то есть руководствуемся не подлинной духовностью разума, а мнимодуховностью. Как ни страшно сказать, но то демоническое нравственное развращение, которое мы ныне наблюдаем в западном мире, произведено мнимодуховностью науки. "Нет людей с более запутанными понятиями о религии, о нравственности, о жизни, чем люди науки"(45.300), – писал Толстой. И вот эти люди получили духовную власть в обществе. И очевидно, произвели в общедуховной сфере жизни то, что произвели. "Законная цель наук есть познание истин, служащих к благу людей. Ложная цель есть оправдание обманов*), вносящих зло в жизнь человеческую"(45.298). После оправдания зла аморальности, она, эта аморальность, стала сама править, используя в качестве прикрытия тот аппарат изощренной мысли, который многовековыми стараниями разработала наука. «В безнравственном обществе, каково наше мнимо христианское, все изобретения, увеличивающие власть человека над природою и средства общения, не только не благо, но несомненное и очевидное зло»(56.167). *) "В науке бывают такие же обманы, как и в вере, и зачинаются они из того же самого – из желания оправдать свои слабости, и поэтому научные обманы так же вредны, как и религиозные. Люди заблуждаются, живут дурно. По-настоящему следует людям, поняв, что они живут дурно, постараться переменить жизнь и начать жить лучше. И тут-то являются разные науки: государственная, финансовая, церковная, уголовная, полицейская, является наука политическая экономия, история и самая модная – социология, о том, по каким законам живут и должны жить люди, и оказывается, что дурная жизнь людей не от них, а оттого, что таковы законы, и что дело людей не в том, чтобы перестать жить дурно и изменять свою жизнь от худшего к лучшему, а только в том, чтобы, живя по-прежнему, по своим слабостям думать, что всё худое происходит не от них самих, а от тех законов, какие нашли и высказали ученые. Обман этот так неразумен и так противен совести, что люди никогда бы и не приняли его, если бы он не потакал их дурной жизни"(45.198-9). Человек нашего времени признает пользу науки, но верить в дающую высший смысл жизни науку, как было с человеком первой половины ХХ века, уже не верит. Он отчетливо чувствует, что для обретения устойчивости земной жизни ему не обойтись без симбиоза науки и религии. Попытки превратить в науку архаические, языческие и прочие религиозные представления не совсем удаются потому, что при этом центр тяжести человека приходится спускать слишком низко – в плоть. Поэтому он возвращается в церковную веру или ищет веру в исповеданиях далеких народов и стран.*) Задача сочленения церковной веры-доверия с мнимой верой в науку уже встала на повестке дня. Этот союз "пелеринки и мантии" предвидел Толстой. Окончательное торжество ада в толстовской "легенде" о "Разрушении ада и восстановлении его" происходит вот как: *) Впрочем, отречься от веры в науку, которая обеспечивает его материальное преуспеяние (в исторических масштабах, конечно, временное), а тем более признать ее вред, современный западный человек не может. Это значило бы переориентироваться на высшие ценности жизни. Для чего, по крайней мере, нужно отказаться от уже привычных благ земной жизни. Что ему явно не хочется. И потому он продолжает верить в науку в житейском смысле – в то, что наука, если не сейчас, то в будущем, способна разрешить все проблемы его земного существования. Вплоть до продления его жизни на неопределенный срок. "– Неужели вы думаете, что я так стар и глуп, что не понимаю того, что, как скоро учение о жизни ложно, то всё, что могло быть вредно нам, всё становится нам полезным, – закричал Вельзевул и громко расхохотался. – Довольно. Благодарю всех, – и, всплеснув крыльями, он вскочил на ноги. Дьяволы окружили Вельзевула. На одном конце сцепившихся дьяволов был дьявол в пелеринке – изобретатель церкви, на другом конце – дьявол в мантии, изобретатель науки. Дьяволы эти подали друг другу лапы, и круг замкнулся. И все дьяволы, хохоча, визжа, свистя и порская, начали, махая и трепля хвостами, кружиться и плясать вокруг Вельзевула. Вельзевул же, расправив крылья и трепля ими, плясал в середине, высоко задирая ноги. Вверху же слышались крики, плач, стоны и скрежет зубов"(34.115). *)Его описания в "Разрушении ада и восстановлении его": "матово черный дьявол в мантии, с плоским покатым лбом, безмускульными членами и оттопыренными большими ушами".
9 (75) "Если бы ты хотел исполнять волю Отца, – говорит, по Толстому, Христос богатому юноше, – ты не имел бы собственности. Нельзя исполнять волю Отца, если у тебя есть свое имущество, которое ты не отдаешь другим. И Иисус сказал ученикам: людям кажется, что без собственности нельзя жить, а я вам говорю, что истинная жизнь состоит в том, чтобы отдавать свое другим"(24.422). "Юноша, хвалившийся тем, что он исполняет все заповеди, даже и заповедь любви к ближнему, как к самому себе, обличен этим самым. Он еще не вступил в возможность исполнять заповеди, если не избавился от богатства. Богатство мешает входу в Царство Божие"(24.410). "Маммона", "собственность", "богатство", "имение" само по себе есть, по Толстому, безусловное зло. Зло не на пути к обществу социальной справедливости*), а на пути к Царству Бога, то есть зло метафизическое. Маммона прежде всего это мнимая вера. Собственность – продукт этой мнимой веры. "Собственность это фикция – воображаемое что-то, которое существует только для тех, которые верят маммону, и потому служат ему"(85.91). *) "Если бедный завидует богатому, то он не лучше богатого"(45.154). Отсюда и отношение Толстого к благотворительности, основанной, на его взгляд, не на требованиях высшей жизни, а на тщеславии, всякого рода соображениях (в том числе и политических) и заботах о мирских выгодах. Есть милосердие истинное и ложное. "Милосердие только тогда истинное, когда то, что ты даешь, ты оторвал от себя. Только тогда получающий вещественный дар получает и духовный дар. Если же это не жертва, а излишек, то это только раздражает получающего"(45.161). Маммона у Толстого – широкий термин. В общем случае маммона есть то, что противостоит установлению Царства Бога и устанавливает что-то совсем другое. Толстой повторял и повторял, что стремление богатеть и владеть богатством есть главное препятствие духовной жизни. Но ведь таких препятствий в человеческой жизни великое множество. И Толстой говорил о них. Но среди них стремление к богатой жизни занимает в сердце, жизни и проповеди Льва Николаевича особое и чрезвычайно больное место. "Более всего губит жизнь духа приобретение богатств"(24.420). Но – почему? Потому, что "богатство" для Толстого – это не столько имущественное положение и стремление к нему, сколько вся та мотивация, которая порождает нашу материальную цивилизацию или, что то же самое, – Царство животной личности. "Собственность" (как вера, как священный принцип) – основной двигатель Царства животной личности. Вот несколько любимых Толстым изречений на этот счет: "Отчего человеку хочется быть богатым? Отчего ему нужны дорогие лошади, хорошие одежды, прекрасные комнаты, право на вход в публичные места, увеселения? Только от недостатка духовной жизни. Дайте этому человеку внутреннюю, духовную жизнь, и ему ничего этого не будет нужно" (Эмерсон) "Как тяжелая одежда мешает движениям тела, так и богатство мешает движению души" (Демофил) "Люди ищут богатства, а если бы они только знали, сколько добра теряют люди, наживая богатство и, живя в нем, они бы старались избавиться от богатства с таким же усердием, с каким теперь стараются добиться его"(45.148-160). Известно, что Лев Толстой боялся беды маммонизации России и активно восставал против реформ Столыпина. Сегодня мы вполне можем понять его опасения. Породившая нынешние российские реформы культурная толпа нашего времени полагала с помощью тотальной маммонизации общества полностью разрушить вдруг ставший ей ненавистным коммунистический режим. В увлечении борьбы она и не предполагала, какого дьявола она выпускает на свободу. В результате произошла такая потрава душ гигантского числа людей, какой в человечестве, во всяком случае, в Новой Истории, не было. В прошлые десятилетия массовых репрессий, тотального страха, великой войны и послевоенной разрухи человек, конечно, ожесточался, но не было нравственной деградации наций. Теперь же – за считанные годы – многие народы бывшего Союза, и русский народ, прежде всего, оказались на грани духовной катастрофы. Оказывается, что прямиком ведет к духовному разложению и душевной деградации не испытание насилием, кровью и подавлением свободы, а испытание форсированным стремлением к фиктивным благам материальной цивилизации, к Царству животной личности. Только теперь мы можем вполне оценить прозрение Толстого во зло материальной цивилизации как таковой. Зло, основанное на суеверии собственничества.
10 (76) Маммона – первая основа Царства животной личности. Но у него есть и другая основа. В общественной жизни люди служат слепыми орудиями неумолимого темного ОНО, хотя редко сознают это так ясно, как герой Толстого, который, попав в плен, "чувствовал себя ничтожною щепкой, попавшую в колесо неизвестной ему, но правильно действующей машины". И оттого, процитируем ещё раз, в душе Пьера "все заваливалось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожалась вера в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога (…). Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь – не в его власти". Именно темное ОНО "лежит в основе всех заблуждений и бедствий человечества". Это то чисто иррациональное человеческое интерпсихическое начало, на котором держится и государство, и власть. По причине темного ОНО "короли так легко верят тому, что в них всё, и народ так твердо верит в то, что он ничто"(45.264).*) Именно из-за него "в государстве все граждане являются угнетателями самих себя» (там же) и "народ, который может быть свободным, отдает сам свою свободу, сам надевает себе на шею ярмо, сам не только соглашается со своим угнетением, но ищет его"(45.256). Опираясь на темное ОНО, "люди старательно вяжут себя так, чтобы один человек или немногие могли двигать ими всеми; потом веревку от этой самой связанной толпы отдадут кому попало и удивляются, что им дурно"(45.269). Наконец, благодаря темному ОНО, обладание властью так развращает людей. Темное ОНО делает то, что люди "и не спрашивают, кто те лица, которые запрещают им, и кто будет их наказывать за неисполнение, и покорно исполняют всё, что от них требуется. Людям кажется, что требуют от них всего этого не люди, а какое-то особое существо, которое они называют начальством, правительством, государством"(45.261). *) Цитата из Монтескье. Важно понять, что темное ОНО – не плод устрашения, не угроза неминуемого наказания, не страх. Гриша Колокольцев "подчинился Юноше" не потому, что чего-то испугался и не по каким-либо (скажем, карьерным) соображениям. Его личная нравственная воля подчинялась Толстому, однако он поступал "против своей воли", предал Толстого, разрушил себя в его глазах, страдал, вероятно, от этого, но иначе не мог. Он, видимо, тоже вдруг почувствовал себя "щепкой в машине", роковая и таинственная сила которой мигом смяла его душу и лишила своей свободной воли. Не нам, бывшим советским людям, не понимать его. Темное ОНО "лежит в основе всех заблуждений и бедствий человечества" хотя бы потому, что человек, оказавшийся в его власти, совершает душевное самоубийство, становится "изменником самому себе"(45.257) и, хуже того, агрессивно стремится подавить другие души. Нечего и говорить, что темное ОНО – враг всякой одухотворенности: и в себе, и в людях вообще. Темное ОНО, раз коснувшись души, может уничтожить в ней "веру в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога". Темная душевная сила, которую зрит герой Толстого, не столько подавляет людей извне, сколько вырастает в них изнутри и решает совесть в противоречие их же собственной духовной природе. Пьеру стало страшно не от вида этой силы в душах других и не от гипнотического действия ее извне на него, а оттого, что темное ОНО поднималось в нем изнутри, захлестывало его, лишало личностности, духовной свободы и духовной ответственности за себя. Темное "ОНО" точно распознается на лицах людей по отсутствию на них печати внутренней ответственности за себя, по душевной самобезответственности, которая, страшно сознать, коренится где-то глубоко в их природе. Говорят, что люди от рождения обладают свободной волей и свободным сознанием. На самом деле ситуация человеческой жизни не такова. Свободу души своей человек не получает в дар, он ее обретает в трудах духовного роста, на которые способен, конечно, не каждый. Начало душевной и духовной свободы дано человеку на рост и на вырост. Человек как таковой, человек, не реализовавший в себе потенции свободы, так сказать "естественный человек", есть носитель несвободного сознания, обеспечивающего желаемую им духовную неподвижность. Такого человека легко узнать по тому ритму естественной самоуверенности, в котором он живет, по выражению нерастопимой замороженности на лице, по отсутствию душевной потребности входить в себя и всегдашним его стремлением приспособиться к существующему как к должному, свыше установленному. Темное ОНО есть то непосредственное выражение несвободного сознания, благодаря которому человек исходно находится в состоянии душевной зависимости, подзаконности, подчиненности, готовности к подвластности как таковой. Темное ОНО (и те, кто им пользуется в своих целях) заставляет силящегося быть свободным человека изменять самому себе, своей воле, своей совести – душевно угнетать самого себя и жить в рабстве, воображая себя свободным. И это же начало, с другой стороны, в качестве несвободного сознания правит над установившимся ходом жизни, обеспечивает инерцию, неизменность и ежеминутную безопасность общественной жизни. Оно угнетает человека, в котором есть потребность свободы, обеспечивая при этом душевное спокойствие остальных и устойчивость всего общества. Когда Пьер Безухов "взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд", понял, что "все это мое, и все это во мне, и всё это я!" и засмеялся над тем, что "всё это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!", то он, решил вопрос, поставленный в его душе сознанием необоримости власти темного ОНО. Он, собственно говоря, постиг то, что постигнет Толстой много лет спустя: что есть Хозяин (Бог), есть работник (душа человека) и есть "чужой человек" (власть, государство), который выдает себя за Хозяина и посредством темного ОНО устанавливает свой "порядок". Претензии этого "чужого человека"*) на свободу его души показались Пьеру нелепыми и смешными. Это же самое Лев Николаевич доказывал людям последние тридцать лет жизни. *) В другом варианте – первого попавшегося человека, "первого человека, которого он встретил на улице"(45.274). "Стоит человеку понять свою жизнь так, как учит понимать его христианство, – пишет Толстой в "Царстве Божием внутри вас", – т. е. понять то, что жизнь его принадлежит не ему, его личности, не семье или государству, а Тому, Кто послал его в жизнь, понять то, что исполнять он должен поэтому не закон своей личности, семьи или государства, а ничем не ограниченный закон Того, от Кого он исшел, – чтобы не только почувствовать себя совершенно свободным от всякой человеческой власти, но даже перестать видеть эту власть, как нечто могущее стеснять кого-либо". Все оттого, что "учение мира и учение Христа были и всегда будут противны друг другу"(45.275). "Разрешение не одного вопроса общественного устройства, – а всех, всех вопросов, волнующих человечество, – в одном: в перенесении вопроса из области кажущейся широкой и значительной, но в сущности самой узкой, ничтожной и всегда сомнительной: из области внешней деятельности… в область, кажущуюся узкой, но в сущности самую широкую и глубокую и, главное, несомненную: в область своей личной, не телесной, но духовной жизни, в область религиозную. Только сделай это для себя каждый человек, спроси себя, настоящего себя, свою душу, что тебе перед Богом или перед твоей совестью (если не хочешь признавать Бога) нужно, и тотчас получатся самые простые, ясные, несомненные ответы на самые, казавшиеся сложными и неразрешимыми вопросы, уничтожатся большей частью и самые вопросы, и все, что было сложно, запутанно, неразрешимо, мучительно, – все тотчас же станет просто, ясно, радостно и несомненно". "Вопрос же о том, какая форма жизни сложится вследствие такой деятельности людей, не существует для христианина"(45.260). Если видеть человека с одной только личной духовной точки зрения, то Толстой неопровержим.
11 (77) Обычно не замечают, что общепринятое смысловое наполнение "Древа познания добра и зла" (именно как Древа познания) дал искусивший Еву Змий (см. Быт.3:5). Но он обманул людей. Оттого, что они вкусили от заповедного Древа, у них действительно "раскрылись глаза", но отнюдь не на добро и зло. Напротив, все спуталось и перепуталось в их нравственном мире, ведомом до этого Богом. Мы все знаем, что люди склонны считать "добром" то, что сплошь и рядом оказывается "злом". В лекциях Б. Бермана, изданных в книге "Библейские смыслы"*), разъяснено, что вместе с плодами от заповедного Древа люди обрели как раз ту путаницу добра и зла, в которой с тех пор они и живут. *) Б.И.Берман "Библейские смыслы" том первый М. 1997г. глава V первого раздела. По Толстому, государственная власть, словно библейский Змий, производит великую путаницу в душах людей. Она творит зло как добро, совершает преступления как благодеяния, выдает власть за Бога, личину за лицо, бессмыслицу за здравый смысл, обман за правду, ложь за истину, ненависть (к чужим) за любовь (к своим), подменяет справедливость законом (правом), свободу души ее рабством, общественный порядок государственным угнетением и совершает еще множество других подмен, оправдывающих существования зла. Всякое государство держится и на насилии и на этой своей мнимодуховности, все подменяющей и все оправдывающей. Насилие здесь (вернее, угроза насилия), по сути дела, играет служебную роль – психически поддерживает мнимодуховность государства. В 900-х годах Толстой все более переносил ударение своей проповеди с обличения собственно зла насилия на обличение суеверия государства, "обмана повиновения человеческой власти", как говорил он. В "Разрушении ада и восстановление его" дьявола насилия вообще нет. Мы уже говорили, что в "Пути жизни" насилие, как самостоятельная тема, даже не заявлена, более того, размыта среди других тем книги. Нельзя не заметить и того, что Толстого в последнее десятилетие его жизни не столько волновала сущность и происхождение темного ОНО в человеке и не его действие в обществах прошлого, сколько современная модификация темного ОНО. Человек Новейшего времени потребовал вроде бы несовместимого – свободы и несвободы вместе: свободы волеизъявления при сохранении душевного спокойствия и, следовательно, общественной стабильности. Отвергая угнетение темного ОНО, тысячелетия лежавшего в основании строя общественной жизни, современный человек должен был найти ему замену, удовлетворяющую условиям бесконфликтного существования свободы и несвободы вместе. Эту-то замену темному ОНО общественный человек нашего времени и нашел в мнимой душе, в мнимодушевности и мнимодуховности. Темное ОНО организует общество на донравственном уровне, на животно-психической ступени жизни, работает слепо и безлично. Что ему может противостоять? Светлая организация, решили умные люди последних веков, "общественность", соединяющая людей не на животно-психическом, а на культурно-этическом ("гуманистическом") уровне. В противовес несвободе, неразумности, бессознательности, безотчетности и безответственности психической стихии "государственного союза" "общественность" несет разумную, свободную и нравственно ответственную волю. Считалось, что личностность и зрячесть этой коллективной воли, выражаемая в демократических институтах, способна одолеть безличность и слепоту всегда идолопоклоннической интерпсихической силы темного ОНО. Люди пожелали вычеркнуть из своей жизни темное ОНО, модернизируя государство и власть, устанавливая демократические режимы; но им, говорит Толстой, не удалось сделать это, и не могло удаться такими средствами. Они только обманули себя. На деле в основании общественной сплоченности произошла замена темного ОНО на мнимосветлое ОНО, которое исполняет те же функции, что и темное ОНО. Мнимая душа всегда выдает себя за носителя свободного сознания, тогда как на деле всегда поддерживает несвободное сознание – общепринятое ли, либо принятое кем-то или хотя бы узаконенное в таком качестве самим собою. Несвобода темного ОНО заменена не на душевную свободу, а на мнимую свободу. Она-то и положена в фундамент Демократии. Пафос Демократии – в ее отталкивании от темного ОНО. "Порядок" темного ОНО, который казнил Пьера Безухова, сменился "порядком" мнимосветлого ОНО, при котором смертная казнь отменена. Но отменена не потому, что убийство во всех видах невыносимо для совести сегодняшнего человека, что его совесть действительно протестует против этого (как протестовала свободная совесть Толстого), а потому, что смертная казнь – символ темного ОНО, от которого отталкивается Демократия. Смертная казнь отменяется потому, что видимых признаков темного ОНО в демократическом государстве существовать не должно. "В государстве все граждане являются угнетателями самих себя". Так оно было, так и продолжает быть. Но если в прошлые времена смысловое ударение в этой фразе само собой выставлялось на акте "угнетения", то теперь оно выставлено – на "самих себя". При темном ОНО человек откровенно угнетался несвободной интерпсихической силой. При мнимосветлом ОНО человек как бы свободно угнетает себя сам – вроде бы и не угнетается, во всяком случае, с формально-юридической точки зрения, то есть с точки зрения самой демократической государственности. Один и тот же полковник Юноша (смотри выше его описание у Толстого), живи он в конце ХХ века, скажем, в Германии, не только считал бы смертную казнь постыдной, но и вполне могбы оправдать несчастного солдата, благо к этому были юридические основания. Ведь и толстовское "непротивление злу" вовсю используется теперь в качестве элемента мнимодушевного жизнечувствования*). *) Как это и ни странно, многие стороны учения Льва Николаевича послужили развитию мнимодушевности. Это не только ненасилие, но и нет в мире виноватых, и отмена смертных казней, и грех мясоедения и пр. Наклеенная совесть берет толстовскую совесть и ею подымает себя за волосы. "В наше время самые большие и вредные преступления не те, которые совершаются временами, а те, которые совершаются непрестанно и не признаются преступлениями"(45.266). В соответствии с основным принципом мнимодушевности про человека свободного общества можно сказать, что он не подчиняется тому, чему подчиняется. "Все должны подчиняться одним и тем же командам, но каждый при этом должен быть убежден, что следует собственным желаниям", – пишет Эрих Фромм. Он же находит и рациональное объяснение происходящему: "Современному капитализму нужны люди, которые без проблем и в больших количествах сотрудничали бы с ним, которые стремились бы все больше и больше потреблять, люди со стандартизированными, предсказуемыми и поддающимися манипулированию вкусами. Ему нужны люди, чувствующие себя свободными и независимыми, не подчиняющиеся никакой власти, догме или совести – и в то же время желающие, чтобы ими командовали, стремящиеся действовать в соответствии с ожиданиями, без трений ладиться к современному механизму; люди, которыми можно управлять без насилия, которых можно вести без лидеров и направлять без особой цели – кроме цели делать хорошо, продолжать функционировать, двигаться вперед". Поэтому-то человеку "предписываются даже чувства: бодрость, терпимость, надежность, честолюбие и способность ладить со всеми". "Точно так же, как современное массовое производство требует стандартизации товаров, социальный процесс требует стандартизации человека, и она-то и называется теперь равенством". "Капитализм" ли породил это явление, или у него есть куда более глубокие причины, но картина верна. Ради сплоченности стандартизированных душ и действует осуществляющее их "равенство" (единство душевной одинаковости, по Фромму) мнимосветлое ОНО, которое как-то органически связано с тем, что Толстой вкладывал в понятие «маммона». Демократия стремится погасить источник возбуждения темного ОНО и делает это приемами общественной изобретательности, в результате применения которых этот источник не ликвидируется, конечно, но перестает исправно функционировать. «Когда среди 100 человек один властвует над 99 – это несправедливо, это деспотизм; когда 10 властвуют над 90 – это также несправедливо, это олигархия; когда же 51 властвует над 49 (и то только в воображении – в сущности же опять 10 или 11 из этих 51) – тогда это совершенно справедливо – это свобода». Может ли быть что-нибудь смешнее такого рассуждения, а между тем это самое рассуждение служит основой деятельности всех улучшателей государственного устройства"(45.272). Конечно, не процент голосов выражает совокупную "волю народа". Демократия стремится лишь создать видимость осуществления совокупной воли. И сама вполне удовлетворяется этой видимостью. Выборы, например, призваны как-то обойти требования представлений о справедливости, обмануть самих себя арифметикой, числом, пропорциональностью, процентом. И чем скрупулезнее внедрена в общество эта детская арифметика, тем доброкачественнее и выше считается демократия. "Выбирать мудрых и святых могут только мудрые и святые"(50.137). Зная людей, легко догадаться, что наиболее достойные из них на выборах всегда окажутся в меньшинстве. Самообман выборов возможен потому, что тут люди обводят не разум, не свою голову, а воображаемую голову темного ОНО. Человек в воображении уже не страшится тех, кто временно поставлен как бы им самим, кого он считает зависимым от себя и кто, на его взгляд, функционирует по его милости. Само формирование институтов власти в демократичном обществе обеспечивает иллюзию сознания, при котором темное ОНО не действует. Для этого же и центр власти в Демократии концентрируется не на личности властителя, как это всегда есть в авторитарной форме правления, а на месте властных полномочий: главе Кабинета Министров, Президенте, Председателе. При этом сам Чин фактически обладает не меньшей властью, чем прежде, но лишается специфического чинопочитания, не устрашает, не излучает темное ОНО и не намекает на него. "Свобода прессы" (и, шире: средств масс-медиа) – обретение совсем не бесспорное, во многих отношениях порочное, но одним своим существованием ежедневно провозглашающее бесстрашие общества. В чреде других эта фикция создает иллюзию неустрашенности, независимости, раскованности воли человека. Современному человеку нужна как бы свобода слова. Что и понятно: свобода слова в действительности необходима тем и только тем, кому есть, что сказать людям, у кого есть Слово. Всем же остальным она по разным причинам мешает самодовольно жить. Надо ли говорить, что "демократические свободы" не обеспечивают внутреннюю свободу человека (может быть даже и наоборот), но явно сужают и ослабляют поле деятельности темного ОНО. Демократия более всего боится возвращения темного ОНО в общество. Там, где темного ОНО не страшатся (а тем более там, где его желают), там нет внутренних оснований для демократических преобразований. "Мне нечего и некого бояться!" – вот девиз, искусственно выведенный на лицах людей демократичного общества, в котором и принципы «маммоны» (конкуренции и свободного рынка) важны не только экономически, но и в качестве противовеса домогательствам темного ОНО владеть отдельной личностью. Устойчивость режима демократии («порядка» мнимосветлого ОНО) по большей части обеспечивается Правом. Каждый, кто хоть раз сталкивался с судопроизводством, знает, что события, происшедшие в реальности, никогда не совпадают с событиями, изучаемыми в судах или канцеляриях, где происшедшее в подлинной жизни предстает условным действием законов, статей, указов, прецедентов, улик и доказательств. Так было всегда. Теперь же именно перевод всего происходящего в действительной жизни в происходящее в юридической жизни и обеспечивает стабильность и справедливость демократического общества. Мнимодушевность правовой области государственной жизни доведена в демократии до полной очевидности. Правовое мировоззрение провозглашает мнимое равенство людей – не религиозно-моральный принцип, а равенство всех носителей юридических прав и обязанностей перед Законом. При этом Закон на практике используется как воплощение справедливости. "Ведь говорить это можно было и то с грехом пополам, когда происхождение «права» признавалось Божественным, – пишет Толстой, – теперь же, когда то, что называется «правом», выражается в законах, придумываемых или отдельными людьми, или спорящими партиями парламентов, казалось бы, уже совершенно невозможно признавать постановления «права» абсолютно справедливыми и говорить о воспитательном значении права». Право ныне – это не веками выработанные высшей душою народа моральные обычаи и устои, не общедушевная нравственность, а выдающие себя за таковую плоды юридического творчества, специально создаваемые для того, чтобы государство (то есть власть) могло использовать их в качестве своих законов. Право обслуживает не мораль Общей души, а нужды государственной власти, но силится при этом произвести впечатление опоры на высшую нравственную волю народа. Право – мнимое самовыражение народной нравственной воли, от имени которой оно действует. Право есть один из основных инструментов тотальной мнимодушевности общества. «Правовое государство» – это государство мнимосветлого ОНО, закамуфлировавшего темное ОНО прежних времен. «Если рассуждать не по «науке», – говорит Толстой, – а по общему всем людям здравому смыслу определять то, что в действительности подразумевается под словом «право», то ответ на вопрос о том, что такое право, будет очень простой и ясный: правом в действительности называется для людей, имеющих власть, разрешение, даваемое ими самим себе, заставлять людей, над которыми они имеют власть, делать то, что им – властвующим, выгодно, для подвластных же правом называется разрешение делать все то, что им не запрещено». Переживание правовой совести – реальный факт общедушевной жизни в демократических странах. Правовые нормы выставляются в качестве нравственных установлений. По Толстому, право имеет такое же отношение к нравственности, как Богословие – к религии. И то и другое для него есть искусное интеллектуальное и художественное мошенничество, имеющее специальную цель: морально или религиозно оправдать власти (светские или духовные) и правящие сословия. Как Богословие – мнимая религия, Государство – мнимый Хозяин жизни людей, а наука – мнимое знание и понимание, так право для Толстого – мнимая общественная нравственность, блокирующая действие подлинной совести в людских душах. Мнимодушевность права чрезвычайно опасна, так как она нравственно развращает людей. И прежде всего тех, кто профессионально занят в этой области. "Нет ничего – даже не исключая Богословия, которое так неизбежно развращало бы, не могло бы не развращать людей", – утверждает Лев Николаевич и продолжает: "Не стану советовать профессорам разных "прав», проведшим всю жизнь в изучении и преподавании этой лжи и устроившим на этом преподавании свое положение в университетах и академиях и часто наивно воображающим, что, преподавая свои мотивационные действия этических переживаний и т. п., они делают что-то очень важное и полезное, не стану таким людям советовать бросить это дурное занятие, как не стану советовать это священникам, архиереям, проведшим, как и эти господа, всю жизнь в распространении и поддерживании того, что они считают необходимым и полезным. Но вам, молодому человеку, и вашим товарищам не могу не советовать как можно скорее, пока голова ваша не совсем запуталась, и нравственное чувство не совсем притупилось, бросить это не только пустое и одуряющее, но и вредное и развращающее занятие"(34.54-61). К началу ХХ1 века в Западном мире установились режимы, которые, при всем несходстве их, ощущают себя так, как никогда не чувствовали себя прежние монархические или теократические общества. И плюралистические, и тоталитарные общества в ХХ веке жили в подспудном ощущении зыбкости оснований своего существования, даже ареальности своей власти над обществом или его самоуправления. Обеспечивающее устойчивость консервативное большинство про себя знает, что режим может существовать только в каком-то искусственном, эйфорическом состоянии – иначе крах. Повсюду страх сдвинуться с места. Оправданный, надо полагать, страх. Общества, исключительно основанные на мнимосветлом ОНО, – общества промежуточные и, видимо, исторически недолговечные. Общества будущего найдут способ создать иную и весьма устойчивую сплоченность, держащуюся совмещением и взаимоподдержкой темного ОНО и мнимосветлого ОНО. Явление мнимодушевности (и мнимодуховности) в значительной мере определяет не только общественную атмосферу нашего времени, но и последующий ход исторического процесса. По этой и по другим причинам это явление требует не только обозначения, но и глубинного осмысления. *)Э.Фромм. "Человеческая ситуация. Искусство любить" М. 1995г. с 47-8. *)В качестве репетиции такая попытка уже была в ХХ веке, продолжалась 70 лет и накопила немалый опыт, который непременно востребуется еще.
12 (78) Чем дальше живут люди, тем мощнее в мире звучит призыв к тем или иным вершинам жизни. Это глас столь мощный, что заглушить его не просто. Мнимодушевность и мнимодуховность – род стремления заглушить этот идеальный призыв. В продолжение своей жизни Лев Толстой всходил на разные вершины жизни. Но, кроме того, он взял и величайшую вершину человеческой, да и вселенской жизни – вершину подлинности «Я». Ни один актер не сыграет Льва Николаевича – не хватит силы актерской мнимости покрыть подлинность «Я» Толстого. Проповедь Толстого (например, ненасилия или внепатриотизма) важна с практической точки зрения, но не для незамедлительного реального внедрения в практику общественной или общедуховной жизни, а прежде всего для очищение сознания человека от покрывающих истину заносов мнимостей в его душе. Толстой добывает и чистит заложенное в душу человеческую золото тем, что помещает его под струю искренности в своей душе, пропускает его через себя, промывает и уже в чистом виде опять предъявляет людям. Разоблачение Толстым мнимости нашей жизни вызвано необходимостью расчистить людям путь на вершину подлинности. Подлинность – естественность высшей души человека. Одна из постоянно действующих целей личной духовной жизни – достижение состояния максимальной естественности высшей души, то есть максимальное задействование того, что подлинно в ней – и, значит, обнаружение в ней и вычищение из нее всего, что мнимо, призрачно, поддельно, не подлинно. Толстого так любят и так ненавидят за одно и то же – за подлинность его чувств, его души, за обличение мнимодушевности и мнимодуховности во всех видах и за призыв установления (утверждения) подлинности человеческого «Я». Человек как таковой постоянно живет в ситуации потери подлинных чувств, подлинности души, подлинного «Я». Именно неподлинность (или хотя бы недостаточная подлинность) прикрывает и оправдывает Зло. И это-то во все времена дает Злу возможность пускать корни в мире людей. Зло способно увеличивать свою власть в соответствии со степенью утраты подлинности в человеке. Утрата подлинности предшествует распространению и усилению Зла. Зло зависимо от степени подлинности «Я» человека. Обратите внимание, что быть бессовестным можно только, живя с мнимым Я, «кривя душою». Чтобы суметь солгать, надо обязательно задействовать в себе мнимое Я. Без мнимого Я не обманешь, не предашь, не солжешь, даже не схитришь. Мнимое Я являет себя через всё это и нужно для всего этого. Демократия, скажем, не тем плоха, что безответственна перед будущим, что позволяет человеку слишком многое и не способна решить многие важные проблемы общественной жизни, а тем, что более всего опирается на мнимое Я в человеке и его мнимую душу. Мнимое Я необходимо для власти, для суеверия, для шалостей мысли и души, для того, чтобы принять подделку за подлинник, «перегонную чувственность», как говорил Лев Николаевич, за любовь и более всего для того, чтобы, всё приближаясь и приближаясь к смерти, жить так, словно не идешь к ней. Что ясно подлинному Я, то недоступно пониманию мнимого Я. Отсюда апелляция Толстого к разуму подлинного Я, «к здравому смыслу» мудрости, а не к интеллектуальным тонкостям и изыскам мнимого Я. Мнимое Я слепит: побуждает, например, к благотворительности, к «борьбе за мир» и на «общественные протесты». Подлинное Я возбуждает со-чувствие и велит идти к людям и раскрывать им глаза. Подлинность «Я» – в совести, в чистоте, бескорыстии, в душевном благородстве, в высокой мысли, в любви, о которой так вдохновенно говорил Толстой, в душевных движениях искренности и особенно в покаянии. Подлинное Я кается не только за то, что натворила животная личность, но и за то, что совершило мнимое Я. Задача Толстого в конечном счете сводится к тому, чтобы превратить мнимое Я, с которым обычно живет человек, не в подлинное Я (куда там!), а, так сказать, в более подлинное «Я». Не исключено, что в человека изначально вложена угроза утраты подлинности в такой мере, при которой Зло становится необоримо и торжествует победу над Добром. Сегодня в Западном человечестве эта изначально вложенная в человека угроза стала реальностью. Говорят, что мы живем в безумном мире. Мир двадцатого и двадцать первого веков не более безумен, не менее ведает, что творит, чем предыдущие века. Но он иначе безумен – безумен мнимодушевностью. Еще в XIX веке Лев Толстой констатировал возникновение в мире новой властвующей сферы жизнененности и разумности – мнимодушевной сферы жизни. Законная и извечная ассистирующая роль мнимодушевности сменилась, уже в ХХ веке, на незаконную и главенствующую. Люди, со всех сторон обсуждая пороки современной жизни, словно не примечают главенствующей ее черты – ее тотальной мнимодушевности, – черты, своим существованием обеспечивающей, а то и обуславливающей многие другие черты самых разных явлений, движений и обществ. Западный мир живет в мнимодушевности и мнимодуховности. "Людям не столько хочется, чтобы сознание работало правильно, сколько того, чтобы им казалось, что правильно то, что они делают"(27.281). Такое состояние человека выводит его из рабочего состояния и, собственно говоря, делает его ненужным Создателю. Человек, по Толстому, посылается Господом в мир с подлинным "Я". И, сделав "круг", возвращается к Нему с мнимым "Я". Не кажется ли Вам, что такой человек должен быть выведен из существования? Во всяком случае, так долго продолжаться не может. Нужна реанимация подлинности внутреннего мира человека нашей цивилизации. Но кто способен осуществить ее? На свете немало искренних людей, в меру сил хранящих подлинность своего Я. Но ядром восстановления подлинности Я – своего рода спасителем западного человечества от грозящего ему выхода из существования – может стать, я убежден, только Лев Толстой – его личность и его проповедь. Это его особая миссия в мире наступившего века. "Я не говорю, – объясняет Толстой на последней странице "Царства Божьего внутри вас", – что, если ты землевладелец, чтобы ты сейчас же отдал свою землю бедным, если капиталист, сейчас бы отдал свои деньги, фабрику рабочим, если царь, министр, служащий, судья, генерал, то чтобы ты тотчас отказался от своего выгодного положения, если солдат (т. е. занимаешь то положение, на котором стоят все насилия), то, несмотря на все опасности отказа в повиновении, тотчас бы отказался от своего положения. Если ты сделаешь это, ты сделаешь самое лучшее, но может случиться – и самое вероятное – то, что ты не в силах будешь сделать этого: у тебя связи, семья, подчиненные, начальники, ты можешь быть под таким сильным влиянием соблазнов, что будешь не в силах сделать это, – но признать истину истиной и не лгать ты всегда можешь. Не утверждать того, что ты остаешься землевладельцем, фабрикантом, купцом, художником, писателем потому, что это полезно для людей, что ты служишь губернатором, прокурором, царем не потому, что тебе это приятно, привычно, а для блага людей; что ты продолжаешь быть солдатом не потому, что боишься наказания, а потому, что считаешь войско необходимым для обеспечения жизни людей; не лгать так перед собой и людьми ты всегда можешь, и не только можешь, но и должен, потому что в этом одном, в освобождении себя от лжи и исповедании истины состоит единственное благо твоей жизни… "Ищите Царства Божьего и правды Его, а остальное приложится вам"(28.291-3). Искать Правду Царства Божьего внутри себя для человека нашего времени значит слой за слоем снимать кору мнимодушевности и мнимодуховности с души своей.
* * *
Другие книги автора можно найти на сайте www.imardov.ru.

Последние комментарии
15 часов 8 минут назад
1 день 35 секунд назад
1 день 3 минут назад
3 дней 6 часов назад
3 дней 10 часов назад
3 дней 12 часов назад