Рассвет после ночи [Николай Александрович Паниев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Николай ПАНИЕВ РАССВЕТ ПОСЛЕ НОЧИ Политический роман-хроника
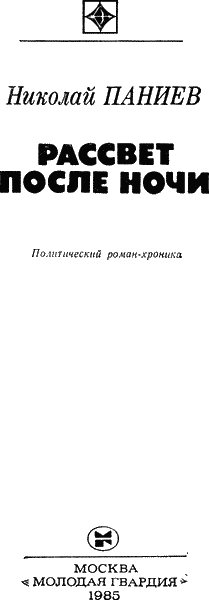
РАССВЕТ ПОСЛЕ НОЧИ
Микосу Теодоракису — в год его 60-летия посвящается
ТРАГЕДИЯ В ЧАС «ИКС»

ПЕРЕД БУРЕЙ
Весной 1967 года погода в Афинах была необычно переменчивой. После утренней прохлады сильно припекало солнце, а уже к вечеру с полукружия гор на белый город наползала плотная и липкая мгла. Следующее утро было ясным до сказочной прозрачности, но в середине дня стремительно врывался вихрь; высокий смерч пыли скрывал даже Акропольскую скалу и гору Ликавитос. Старые афиняне качали головами, цокали языками — не к добру такое, особенно в пору выхода в море рыбачьих «гри-гри», когда после обманчивого штиля разыгрывался шторм. Весенняя непогода плохо действовала на Никоса — сильно болели ноги и руки, перебитые лагерными охранниками во времена богом проклятого Макронисоса. Чтобы заглушить тупую боль, он садился за старый рояль — давний подарок тетушки Тасии — и наигрывал в такт шумным порывам ветра за окном. Иногда ему казалось, что из «вольного» музицирования получалась мелодия. В то апрельское утро Никос долго сидел за роялем, прислушиваясь к тому, что делалось на улице. Его музицирование было очень похожим на те шквалы, от которых поскрипывал небольшой старый дом Ставридисов в «красном поясе» Афин — большом рабочем пригороде. Заключительные музыкальные аккорды еще звучали в комнате, когда вошла Хтония, внимательно и удивленно посмотрела на мужа. — Двери и окна скрипят лучше. — Никос встал и резким движением захлопнул крышку рояля. Но Хтония точно и не слышала его слов. Никос молчал, как-то виновато улыбаясь. — Даже захолодало здесь! — прижав руки к груди, сказала Хтония. — Никос, получилось, честное слово, получилось. Похоже на бурю. — Может, тебе это… показалось? — неуверенно произнес Никос. Смущенная улыбка и виноватое выражение исчезли с его лица, он внимательно глядел на Хтонию. — Нет, не показалось! — настаивала на своем жена. — Это твоя мелодия, твоя музыка, Никос. И не убегай от нее. — Повторять бурю… это одно, а сочинять музыку, свою музыку, это совсем другое. — Ты сказал, бурю? Да, верно, было похоже на бурю. Ты как сочинитель можешь быть недоволен, а мне — твоему слушателю — понравилось. Для кого пишут песни, Для кого звучит музыка? Для людей, для народа. Я — крохотная частица народа Никос, и я принимаю твою музыку. Помнишь, как говорил Яннис Рицос, что, когда творчество выходит за рамки личной исповеди, оно становится выражением дум и надежд народа. — О, какая ты у меня умная! — воскликнул Никос и привлек к себе Хтонию. Сколько времени, прошло после того, как они соединили свои жизни! Их совместная жизнь продолжалась почти четверть века. Столько лет вместе! Никос обнял жену, мечтательно продолжил: — Вот если бы сочинить музыку к нашему серебряному юбилею, Хтония! Это было мгновение счастья. Хтония долго молчала. А он ждал, что она скажет о его мечте. Но Хтония заговорила о только что родившейся музыке: — Никос, прошу тебя, покажи свою «музыкальную» бурю Рицосу или еще какому-нибудь поэту. Я уверена, что — у истинного поэта родятся слова и получится песня. Никос бросил быстрый взгляд на стенные часы и подошел к телефону. — Пора звонить насчет визы. Тянут чиновники, не торопятся, — объяснил он и начал набирать номер. На другом конце провода долго не отзывались, и Хтония видела, как муж нервничает, готов бросить трубку. Она подошла и обняла Никоса, понимая состояние мужа и стараясь успокоить, поддержать его. Наконец на звонок ответили. Никос долго молча слушал, что говорил его незримый собеседник о визе, которую он надеялся получить в ближайшие дни. Хтония, следившая за выражением лица Никоса, поняла, что он с трудом сдерживает себя… — Подлецы! — Никос с силой опустил трубку на рычаги. — Ах, какие подлецы! Прав был товарищ Седой, что эти консульские чиновники сделают все возможное и невозможное, чтобы проволынить, найти такие причины, что сам откажешься от визы, от приглашения, от поездки! Самые близкие Никосу люди, в первую очередь, конечно, Хтония, знали, что ему очень хотелось поехать в Советский Союз именно в апреле, вернее, во второй его половине. Никос давно мечтал побывать на родине Ленина в те дни, когда отмечается годовщина со дня рождения великого человека, идеи которого повлияли на судьбы многих тысяч и тысяч людей земного шара. Хтония знала об этом, и поэтому ее сильно расстроил разговор с чиновником из министерства иностранных дел. Но как успокоить Никоса, думала она. Конечно, можно поехать и в мае, на большой весенний праздник, который празднуется в Москве, как нигде в другом государстве, — Хтония однажды мельком видела короткую передачу об этом по телевидению. Но мечта есть мечта. Никос посвятил свою жизнь борьбе за справедливость, за свободу и права человека. И за поездку в Советский Союз на ленинский праздник Никос будет бороться с самим коварным Ясоном Пацакисом, этим презренным выучеником полицейской ищейки Цириса. Мысль о Пацакисе словно обожгла Хтонию, она невольно схватилась за голову и в ответ на удивленный взгляд Никоса произнесла прерывающимся голосом: — Это козни… интриги не иначе как Пацакиса. Никос кивнул: — Так сказал и товарищ Седой. Без них не обходится, они всюду рыщут, вынюхивают, пакостят… — Тогда надежды совсем мало, — перешла на шепот Хтония. Зазвонил телефон. Никос не спешил снять трубку, но звонки продолжались. Трубку взяла Хтония и затем с улыбкой протянула Никосу. — Тебя. Звонил советский журналист, по предложению которого Никос Ставридис — известный певец и общественный деятель — написал статью для московской газеты в специальный номер к ленинскому дню. Журналист с удовольствием передал товарищу Ставридису благодарность редакции за статью, а также приглашение посетить редакцию в дни пребывания в Москве. Никос тоже улыбнулся, услышав голос нового знакомого. Ему были приятны эти сообщения, и разговор с консульским чиновником как бы забылся. Главное — статья понравилась, она увидит свет, ее прочтут русские, советские люди, прочтут исповедь грека о том, что ему очень дорого и свято. Прощаясь, журналист сказал, что свежий номер газеты со статьей Никоса Ставридиса он очень скоро получит. — Никос, если вы с супругой найдете время и возможность, мы с Анной приглашаем вас на грузинские хачапури. Хачапури — на втором месте после шашлыка у любителей кавказской кухни. Никос громко засмеялся, произнес по-русски: — Хорошо… хорошо! Очень хорошо, товарищ Котиков! Хтония удивленно смотрела на Никоса: какая весть так чудодейственно подняла его настроение? — Хачапури, — произнес загадочно Никос после телефонного разговора. — Ты знаешь, Хтония, что такое хачапури? — Я знаю, что значит русское «хо-ро-шо», — заметно повеселела и Хтония, словно она и не расстроилась несколько минут назад из-за визы. — Если «хо-ро-шо» имеет отношение к этому самому таинственному хачапури, то, судя по твоему настроению… — Стоп! Я тоже не очень знаю, что это такое, но хачапури — это вкусно, во-первых. Во-вторых, нас приглашает советский товарищ, и мы с тобой не можем отказаться от приглашения. А самое главное — статья одного грека должна появиться в газете, которую представляет товарищ, приглашающий нас на эти хач-ап-ури. — Хо-ро-шо! — в тон Никосу произнесла Хтония. — Но я ничего не слышала о статье какого-то грека. Кто он, и что за статья, если это не тайна? — Это уже не тайна. Как бы тебе объяснить? Я ждал момента, чтобы сказать тебе об этом. Никос взволнованно зашагал по комнате, натыкаясь на стулья, на рояль, нервно потирая подбородок и лохматя волосы. Хтония знала, что в такие минуты нельзя мешать мужу — что-то говорить, спрашивать… Сейчас она пожалела, что ворвалась в комнату, когда Никос сидел за роялем, завязала с ним разговор о мелодии, похожей на бурю. Ведь знала, что придет время — сам скажет. Вот и теперь надо было набраться терпения и ждать. Но Никос как бы не замечал вопрошающий взгляд жены, молча вытащил из ящика своего стола несколько листов бумаги с машинописным текстом и протянул Хтонии. Это была копия статьи с крупным и отчетливым заголовком: «Первая встреча с Лениным». Всего две странички с хвостиком. Хтония долго, очень долго читала, по нескольку раз перечитывала отдельные фразы и строки, иногда возвращалась к началу абзаца, вдумывалась в каждое слово. Если бы до этого Хтонии сказали, что она не знает самого важного в жизни Никоса, она бы не поверила, решительно отвергла бы такое предположение. Но, читая статью, написанную Никосом для советской газеты, она открывала для себя новую, совершенно неизвестную страницу его жизни, той сознательной жизни, которая началась с неожиданного знакомства с Лениным. Вернее, с одной из его книг, которая определила дальнейшую судьбу грека, родившегося на небольшом острове и прожившего с некоторыми перерывами, как он сам горько шутил, имея в виду частые аресты и годы в лагерях смерти, всю свою сознательную жизнь в Афинах. Только теперь Хтония узнала историю с книгой Ленина, переведенной на греческий язык. Никос — безусый подросток — тайком от взрослых и властей читал книгу в укромном месте, завернув ее в холщовину, прятал в специально вырытую яму под большой охапкой сена для несуществующей коровы. И еще одно открытие — книгу Никосу дал сам товарищ Седой, который уже в молодые годы был с поседевшей головой, так что друзья с уважением каламбурили: голова у их друга золотая, а шапка на ней серебряная. Товарищ Седой был коммунистом, его уже много раз арестовывали и дома, и в Испании, Франции, Италии, куда заносила его трудная судьба революционера-интернационалиста. Седой особенно гордился тем, что довелось ему побывать в Советской России, правда, Ленина увидеть не привелось, зато удалось привезти в Грецию книги и брошюры вождя мирового пролетариата. Седой давал их читать тем людям, которым верил, среди них были и юноша интеллигентного вида, чертовски одаренный музыкант и будущий знаменитый певец, коммунист-единомышленник Никос Ставридис. Когда Хтония, дочитав до конца, подняла голову, Никоса в комнате не было. Не было и в других комнатах. «Ушел, но куда?» — думала Хтония, перебирая в памяти всех друзей и знакомых, с кем сейчас мог бы встретиться Никос. И не сразу заметила маленькую записку от мужа: «Иду к капитану. И еще к поэту за словами для музыки, которая кое-кому показалась бурей. Перед бурей — было бы вернее. Ухожу, не уходя. Выше голову! Мы победим!»ДАВНЯЯ КЛЯТВА
Как бывало в его музыке, и в разговоре с Хтонией часто заключительным аккордом звучала убежденность: «Выше голову! Мы победим!» Эти слова Никос первый раз произнес очень давно — вскоре после того, что произошло в королевском дворце на афинской улице Герода Аттики. Прошло много, очень много лет, но Хтония помнила события после первого сентября 1939 года — дня, когда началась вторая мировая война.В тот день в королевском дворце шел концерт призеров национального конкурса молодых певцов. Юноши и девушки — обладатели хороших голосов, надежда и гордость Эллады — после трудного состязания исполняли вокальные произведения по своему выбору. Большой зал заполнила афинская знать. В королевскую Ложу были приглашены известный маэстро, профессор вокала и композитор Орфей Киприанис, его семнадцатилетняя дочь Елена, единогласно признанная лучшей из молодых певиц. Наградой ей были королевская стипендия и поездка в Париж на учебу у знаменитого преподавателя, большого друга ее отца Дени Ланжевена. Среди юношей первенство в вокальных соревнованиях завоевал Никос Ставридис. До конкурса этот молодой певец был мало известен в Афинах. Теперь, когда Никос покорил всех своим голосом, его учитель профессор Орфей Киприанис решил поговорить о нем с королевой. Воспользовавшись приглашением в ложу, старый маэстро сказал: — Ваше величество, боги Олимпа зажигали звезды и сами же гасили их. Вы создали, ваше величество, еще одну звезду, которая прославит нашу Элладу. Эта звезда, поверьте, будет гореть очень ярко. Не гасите ее. Происхождение моего ученика отнюдь не должно смущать вас, ваше величество. Дайте ему возможность продолжить учебу в Парижской консерватории. В ответ маэстро получил легкий кивок. Это была победа. Все знали, с каким презрением относится королевскийдом к людям из низших сословий. Профессор Киприанис был счастлив. «Ради такого дня, как сегодняшний, стоило жить, — думал он. — И дочь, и мой ученик — победители конкурса, королевские стипендиаты». Никос, стройный, с удивительно белокурой шапкой волос на крупной голове, с большими горящими глазами, стоит на сцене. Все волнения и страхи конкурсных дней позади, пирейского юношу объявили лауреатом, и сегодня, как на обычном концерте, можно держаться спокойнее, но учитель видит, что его ученик продолжает волноваться… Маэстро Киприанис встает и проходит в дальний угол ложи: оттуда лучше видно певца. Первая вещь, которую поет Никос, — сочинение Дени Ланжевена. Французский коллега Орфея Киприаниса сочетал преподавание с сочинением песен для исполнителей классического репертуара. Приверженность к серьезному музицированию была у обоих друзей еще с Парижской консерватории, где француз Ланжевен и грек Киприанис учились. Много раз слышал маэстро Киприанис, как Никос исполняет героическую балладу Дени Ланжевена — всегда очень темпераментно, вкладывая всю душу в эту вещь, навеянную композитору Парижской коммуной. Но сейчас учитель слышит что-то другое: заключительные слова баллады звучат как разбушевавшаяся стихия… Зал взрывается громом аплодисментов.

Допотопная, готовая вот-вот развалиться автомашина «Фаэтон» подкатила к дворцу, когда концерт призеров конкурса закончился. Люди, собравшиеся у дворца, ждали выхода певцов-победителей. Для многих имя Никоса Ставридиса было совершенно незнакомым. А для хозяина «Фаэтона» — веселого грека по имени Фаэтон — и его дочери Хтонии он просто соседский парень, сын моряка Георгиса и фельдшерицы Ксении. Кто бы мог подумать, что Никос, этот пирейский паренек, завоюет такую громкую славу? Фаэтон в восхищении цокал языком. Его отец, старый Андреас, молча теребил свою седую совсем посейдоновскую бороду. …Маэстро Киприанис ошибался, надеясь, что королева не поняла, как Никос Ставридис исполнил французскую балладу Ланжевена. С ледяными нотками в голосе она бросила: — Не слишком ли темпераментно для этого… из Пирея? Послушаем, чем еще удивит нас ученик уважаемого маэстро. Королева наклонилась к Елене, но профессору Киприанису нетрудно было догадаться, кому предназначались эти слова. До концерта была договоренность, что вторая вещь, которую Никос исполнит, будет из сочинений маэстро Киприаниса. Теперь маэстро лихорадочно думал: что выберет его ученик? Он мог спеть балладу о Прометее — похитителе огня или миниатюру о веселом, беспечно порхающем мотыльке. Никос любил обе эти вещи, но после того, что произошло сейчас в королевской ложе, профессор Киприанис готов был отдать все, лишь бы Никос исполнил «Мотылька». «Неужели «Прометей»? Неужели опять… буря и огонь, баррикады и выстрелы?» Он с опаской посмотрел на королеву, которая сидела надменная и сердитая. «Если «Прометей», то прощай, Париж», — с грустью думал учитель Никоса. Маэстро видит, как Никос подходит к роялю, что-то говорит женщине-аккомпаниатору… Медленно поднимаются руки. Сейчас они ударят, пробегут по клавишам. Но что они извергнут, какие звуки? Профессор Киприанис в дальнем углу ложи невольно хватается за голову. Гулко бьется сердце. Профессору кажется, что вместо сердца у него часы, которые громко и безжалостно отсчитывают минуты его жизни. Ох, сколько раз он повторял, что политика губит искусство, что муза и пушки несовместимы; ну зачем надо было этому юноше так темпераментно и страстно, словно он сам находится на баррикадах, спеть балладу из цикла «Память о Парижской коммуне» Ланжевена? Раздается первый аккорд… Это же «Мотылек»! Да, мотылек, легкокрылый, веселый мотылек маэстро Киприаниса, который в исполнении его ученика начал беспечно порхать по залу. Маэстро видит, как пальцы аккомпаниатора быстро летают по клавиатуре, слышит голос певца и ждет, когда с последней нотой погибнет мотылек, который бездумно летит на огонек. Маэстро замечает, что Никос никогда так не пел его, казалось бы, легковесную миниатюру. Мог ли профессор подозревать, сколько трагизма таилось в кажущейся бездумности его «Мотылька»? И как это мог почувствовать Никос? Зал опять взрывается овацией. Профессор Киприанис не удерживается от аплодисментов и посылает воздушный поцелуй своему ученику. И лишь после того как Никос уходит со сцены, взволнованный маэстро вспоминает о королеве. Он оглядывается и видит в ложе только Елену. Никос Ставридис так и не был представлен королеве. За кулисами ему передали, что ее величество плохо себя почувствовала. О поездке Никоса Ставридиса в Парижскую консерваторию не было сказано ни слова. …Отец Никоса был в дальнем плавании и не мог принять участия в маленьком торжестве по случаю успеха сына. За столом собрались родственники, друзья, соседи. Кому не хватило места, сидели на террасе, а сверстники Никоса устроились под деревьями. Костас и Хтония подносили им разные нехитрые угощения. Сидели гости допоздна. Уже за воротами Фаэтон, безуспешно пытаясь встать на цыпочки, чтобы поцеловать рослого Никоса, спросил: — Как ты этого «Мотылька», а? Раз, раз — и в огонь. Слышал я, как хлопали в зале. И тут Хтония, весь вечер на удивление молчавшая, вдруг спросила: — Это тот «Мотылек», который вместо «Прометея»? Девушка быстро взяла отца за руку и повела к своему дому. Никос долго смотрел им вслед. Он был озадачен словами Хтопии. Мать, заметив, что Никос вернулся задумчивым, поинтересовалась, не устал ли он. Никос всем делился с матерью. Вот и сейчас он хотел спросить у неё, почему Хтония сказала на прощанье такие слова. Но заговорил о другом. — Мама, тебе понравилось, как я сегодня пел парижскую балладу? — спросил Никос. — Ты пел очень страстно, очень гневно, — улыбнулась мать. — Одним словом, было слишком много «очень». А как тебе самому показалось, сынок? Сам-то ты доволен? Никос подошел к распахнутому окну. Ночной порт, с раннего утра и до позднего вечера полный шума и трудовой жизни, утих. — Не знаю, мама, хорошо ли я пел, но сегодня я должен был петь только так. В узкой полосе лунного света на улице показался человек. Никос узнал старого Андреаса. «Куда это он? — подумал Никос. — Может, что стряслось дома?» Андреас подошел к окну, по привычке потеребил бороду. — Что случилось, дедушка? — спросил Никос. — Ничего, ничего не случилось, мой мальчик. Ты только не обижайся, Никос. Молодо-зелено, кровь кипит и выливается, как рецина из кувшина. И по той же лунной дорожке медленно, тяжело побрел обратно. — Что там? — спросила мать. — О чем говорил Андреас? О какой обиде? — Это долгий рассказ, мама. — Я не хочу спать. Если, конечно, ты… — И я не засну. Не смогу… Перед тем как мне поехать туда, во дворец, в порту произошла стычка. …Это утро началось как обычно. Никос сел в лодку деда Андреаса и вместе с Хтонией вышел в море за рыбой. Он привык так начинать свой день, не сделал исключения и сегодня, перед тем как поехать на концерт во дворец. Хоть улов был небольшой, пришлось возвратиться на берег. Недалеко от места, где была стоянка рыбачьих лодок «гри-гри», толпились люди, играла музыка. Оказалось, что на советском пароходе закончилась погрузка, докеры получили заработанные деньги, и теперь русские и греки собрались вместе и состязаются в национальных плясках. Портовые грузчики-греки лихо отплясывали огневое «Полизоли», русские моряки — свое «Яблочко». Русские, знавшие внучку «самого Посейдона», весело кричали: «Тоня-Тонечка, спляшем «Яблочко»!» К грекам и русским присоединились болгары, сербы, румыны и другие моряки с соседних кораблей. Образовался большой круг, и все весело отплясывали. Никто и не заметил, как подошла группа моряков с американского корабля. С видом превосходства смотрели янки на плясавших. Особенно выделялся среди них рыжий боцман, известный забияка, драчун и выпивоха. Кто-то из греков дружелюбно пригласил американцев присоединиться, но рыжий, прищурившись, лишь попыхивал короткой трубкой. Русский гармонист заиграл всем понятную и знакомую «Цыганочку». Болгары и сербы пригласили желающих на темпераментное «Хоро», а румынские моряки лихо сплясали «Молдовеняску». И пляски, знакомые и незнакомые, продолжались. Громкий смех и веселые шутки не стихали. А янки молчали. Они жевали резинку, дымили сигаретами и молчали, видимо, хотели «уничтожить» этих веселых людей презрительным молчанием. На них никто не обращал внимания. Ироническая мина на лицах янки становилась злобной. Среди танцующих был чернокожий матрос откуда-то из Африки. Для его танца не было ни музыки, ни партнеров. Тогда он вышел на середину круга и начал плясать под собственное пение. Вот его-то и избрал своей жертвой рыжий боцман: он бесцеремонно вошел в круг, грубо пихнул африканца, потом взмахнул рукой, и один из его команды заиграл на аккордеоне, а двое других принялись за румбу. Никто не хлопал в ладоши, никто не улыбался. Румба закончилась в полной тишине. Боцман еще сильнее прищурил глаза и что-то крикнул. Аккордеонист заиграл танго. Боцман обвел взглядом собравшихся, потом подошел к Хтонии и грубо потянул ее к себе. Гречанка от неожиданности еле удержалась на ногах. Боцман опять дернул ее за руку. Никто не успел ничего сделать, как девушка влепила ему звонкую пощечину и ловко отскочила в сторону. Боцман с перекошенным от злобы лицом двинулся на нее, но ему преградил дорогу старый Андреас. Боцман замахнулся на него. Но откуда ни возьмись на рыжего прыгнул матрос-африканец, двумя ударами — в живот и затылок — сшиб его. Вот тут-то и началась свалка. Досталось американцам так, что они долго будут помнить Пирей. Вот какую историю рассказал Никос. Теперь мать поняла, почему он так пел… — Очень хотелось, мама, выразить в песне то, что я испытал на пирсе. В дни Парижской коммуны люди сражались на баррикадах. У нас ведь тоже баррикады. Пока есть богатые и бедные. И на пирсе эти американцы тоже как недруги, как завоеватели… Мне захотелось выразить свой гнев, протест. А потом в зале я увидел на лице учителя растерянность. И решил спеть «Мотылька». Но не так, как раньше. А вот Хтония… — И Никос передал матери слова девушки, сказанные ему на прощанье. — Все это не просто, сынок, — покачала головой Ксения. — Одно скажу: Хтония любит правду и ищет ее. Вспомни Хтонию из легенды. Красивая девушка принесла себя в жертву, чтобы спасти Афины. И вспомни другую женщину из наших легенд — Пандору льстивую, фальшивую, двуликую. Такие, как Хтония, прославили нашу древнюю страну, они звали к борьбе за свободу. А Пандора хотела процветать всеми правдами и неправдами. Она юлила, врала, предавала. Много лет прошло с тех пор. Тысячи матерей назвали своих дочерей именем Хтонии, и ни одна не нарекла дочь именем той, что опозорила наших предков. После пира в честь Никоса все в доме старого Андреаса проснулись позже обычного. Андреас и Хтония, взяв сети и удочки, пошли к морю. Обычно на берегу их поджидал Никос. Но сегодня его не было. Когда они уже сели в лодку, на причале появился запыхавшийся Никос. — Тебе бы поспать еще, — улыбнулся Андреас. — Ты теперь у нас… как это, Хтония? — Лауреат, — ответила девушка с напускным безразличием. Андреас понимающе подмигнул Никосу: дескать, все образуется, что с нее взять — девчонка, и не мужское это дело — обращать внимание на девичьи кай-ризы. В море Андреас часто пел песни о моряках, об их тяжелой и горькой судьбе, о далеких землях. Неизменным партнером старика был Никос. Им обоим особенно нравилась песня о матросе с Босфора. Вот и сегодня старый моряк запел хриплым прерывистым голосом: Снова май, счастливый май, В небе ласточки шныряют… Песня покоряла своей простотой и искренностью, была похожа на песни, которые в доме Никоса пели мать и бабушка, — песни Византии и Крита, песни борцов за свободу Эллады. Никос подмигнул Андреасу и запел вместе с ним. Так было всегда. Но в тот день клятвой прозвучало в море: «Выше голову! Мы победив!»
ТОВАРИЩ СЕДОЙ
У него, конечно, были имя и фамилия, но о них мало кто знал, даже самые близкие друзья по партии и Сопротивлению. С годами, все привыкли к подпольной — кличке, которая так крепко к нему пристала, что иначе его и не называли; даже в партийных и партизанских документах он тоже так значился. Седой так Седой — согласился Григорис Флакидис, он сам привык к этому прозвищу, отзывался только на него. Уже в двадцать лет его стали так называть из-за поседевшей головы. С того времени прошло уже два раза по двадцать лет, а товарищ Седой, казалось, внешне и не менялся, хотя жизнь его не баловала. Человек неукротимого духа и стойкости, Седой от трудностей и лишений становился крепче, как сталь от долгого и жаркого огня. Никос познакомился с товарищем Седым на острове Идра, уда подростком приехал на летние каникулы к бабушке. Тогда Никос не знал, что еще довольно молодой мужчина с симпатичным, мужественным лицом и шапкой густо посеребренных волос скрывался здесь от преследования. На маленький остров боялись совать свои носы не только шпики, но и отряды карателей — так было испокон веков, со времен частого чужеземного засилья в Греции, когда турки и другие оккупанты предпочитали обходить стороной бунтарские острова. Дом Ставридисов на холме неподалеку от живописного идринского залива всегда был открыт для добрых гостей: заходи, путник, будет тебе и хлеб и вода, да еще чарка крепкого узо или стакан терпкой рецины. На огонек старого ставридиевскрго дома и зашел седой человек, осмотрелся и понял: здесь живут хорошие люди. И еще приметил юношу, который был хоть и очень любознательным, но смутно представлял себе мир с его многосложностью, противоречиями, надеждами. Приехавший из Афин Никос напоминал морское судно без руля и ветрил — легкую добычу для бури и подводных рифов. И вот тогда товарищ Седой дал ему прочесть книгу Ленина — единственный экземпляр, который имел с собой в идринском подполье! Когда Никос сказал, что прочитанное открыло ему глаза на многое в мире, разделенном на бедных и богатых, он подарил юноше эту книгу, наказал беречь ее и обязательно дать прочитать его сверстникам. Седой и Никос подружились. Затем неоднократно встречались в Афинах. Позже Никос прочитал многие произведения Ленина, познакомился с трудами выдающихся коммунистов-революционеров, стал политически образованным человеком. В годы антинацистского Сопротивления он оказался в большой партизанской дружине, которой командовал капитан Седой. Часто бывая на грани верной гибели, они победили. И опять вступили в новую борьбу: с английскими интервентами и предателями из королевского окружения. Прошли все трудности и невзгоды гражданской войны, познали трагическую участь патриотов свободной Греции, оказавшись в страшнейшем из концлагерей — Макронисосе. Никос Ставридис стал известен в стране своими песнями и своей борьбой. Многие, особенно молодые греки, приходили за советами, за поддержкой к популярному певцу и коммунисту. Сам же Никос по-прежнему шел к товарищу Седому, к своему боевому капитану: знал, что тот всегда поможет, поддержит, посоветует. Вот и сегодня после телефонных разговоров Никос пошел к товарищу Седому в центр Афин — туда, где выпускалась коммунистическая газета и где собирались вышедшие в последние годы из заключений деятели партии. Ему и хотел рассказать о трудностях с визой для поездки в Советский Союз, сообщить о статье в московской газете. Товарищ Седой что-то сосредоточенно писал, когда Никос вошел в комнату. — Посмотри на это, — неожиданно предложил Седой, указывая на угол комнаты. Только сейчас Никос заметил в полутьме свой портрет, сделанный художником — товарищем по Макронисосу. — Две краски нашел для тебя художник, — сказал товарищ Седой. — Два цвета: красный и черный. Отсвет огненного зарева на лице и подступающие со всех сторон тени… У таких, как ты, много друзей, но и врагов тоже немало. А это значит, что борьба не прекращается, что черные силы замышляют новые преступления против исстрадавшегося народа. За ответом чиновника стоят враги, наши извечные враги вроде этого Ясона Пацакиса. Расчет их прост: измученный ожиданием и волокитой Никос Ставридис сам откажется от приглашения. Зачем ехать в Советский Союз такому греку, как ты, который никогда не был среди друзей Пацакиса, и дорогу, указанную Лениным, считает единственно правильной, своей собственной дорогой? Ну а твоя статья — это выражение преданности всех честных греков делу Ленина. Когда товарищ Седой говорил, он был похож на старого школьного учителя — таких Никос встречал в сельских школах. Но он превосходил их своим жизненным опытом, коммунистической убежденностью, обширными знаниями. Товарищ Седой говорил медленно, четко выговаривая каждое слово, стараясь донести свою мысль до слушателей. Он имел полное право учить, помогать исправлять ошибки людей из своего окружения. Никос поблагодарил за разговор и собрался было уйти, чтобы дать возможность товарищу Седому продолжить свою работу, но старый друг сказал: — Есть еще один вопрос, Никос. Возникла необходимость кому-то из авторитетных товарищей побывать в Салониках. Там готовятся отметить в мае очередную годовщину гибели Ламбракиса большим маршем в защиту демократии, против Происков королевского двора и американского ЦРУ. В нынешней ситуации дело это чрезвычайно важное. Надо помочь товарищам в Салониках разобраться в политической ситуации, организовать многолюдный марш. Никос хотел спросить, а как быть с ожидаемой визой, но товарищ Седой опередил его: — То, что они будут еще волынить, сомневаться не приходится. Тем более вряд ли они доставят тебе удовольствие поехать в Союз в ленинские дни. Ну а если примут положительное решение, быстро вернешься из Салоник. Не теряй времени, дружище, не то еще расхандришься, опустишь крылья, а кому нужен бескрылый орел? Ни Хтонии, ни друзьям, ни самому себе. Поезжай. Самый лучший кислород, скажу тебе, атмосфера борьбы, дорогой Никос. У товарища Седого была привычка делать сюрпризы — любил дарить что-нибудь друзьям, находил для каждого вещь, которая будет оценена по достоинству. И сейчас он не отпустил Никоса без сюрприза. — Прочти, а потом возьми на память, — сказал он, протягивая лист бумаги. Никос с возрастающим интересом читал чьи-то строки: «Товарищ, знаешь ли ты, что ты дал человечеству? Знаешь ли ты, брат мой, в своей честной замасленной робе, какую мечту, какую надежду, какую веру ты подарил людям всего мира? Какую окрыленную юность вселил ты в этот дряхлый ворчливый мир? Здравствуй, товарищ! Дай мне свою руку. Твои друзья в Греции просили тебя расцеловать». Пока Никос читал, товарищ Седой вышагивал по комнате, но, почувствовав на себе пристальный взгляд, резко остановился: — Десять, вернее, одиннадцать лет назад, когда один наш общий друг впервые оказался на советской земле, на пограничной станции, он увидел простого железнодорожного рабочего и написал это. Не буду испытывать твое терпение. Это был Яннис Рицос. Желаю испытать это и тебе, Никос. Бывал я там, но тебе завидую, если… поедешь. Рано или поздно, но обязательно поедешь. А это возьми, может, родится музыка. Рано утром 20 апреля Никос вместе с Хтонией выехал в Салоники. За рулем сидел сын Самандоса — тоже Самандос. Молодой Самандос был ламбракидом — членом молодежной организации имени греческого героя. Он радовался поездке в Салоники, да еще вместе с известным певцом и его женой, которые в пути могут рассказать много интересного из своей жизни, особенно о годах Сопротивления. Перед тем как отправиться в путь, Никос послал телеграмму в Париж, — поздравление Елене Киприанис с днем рождения. Самандос заметил, что после возвращения Никос и Хтония долго молчали. Почему же после телеграммы в Париж у супругов Ставридисов испортилось настроение? Не из-за дочери ли, которая в Париже? Спросить бы будто невзначай, но что могут подумать ее родители: по какой, мол, причине интересуется парень Лулой? Ведь Самандос лишь два раза видел и слышал пение Лулы да перекинулся однажды несколькими словами с девушкой после ее выступления в «красном поясе» Афин. Да, никакая это не причина. Но так хочется спросить! Конечно, это можно назвать легкомыслием, мальчишеством, но что поделать, если парень с первого взгляда влюбился в Лулу. Уж кто-кто, а дядя Никос знает, какое это большое чувство, о котором обычными словами и не скажешь. Самандос гордился знакомством с самим Никосом Ставридисом, близкими, дружескими отношениями, знаменитого певца с Самандосом-старшим. Знал из рассказов отца об истории любви Никоса и Хтонии, о том, какие трудности надо было преодолеть двум влюбленным, чтобы соединить свои жизни. А какая она — любовь Самандоса? И что общего у него с Лулой? Правда, их родители большие друзья, участвуют в общей борьбе, но Лулу отличает от Самандоса завидная популярность ее песен в рабочих пригородах Афин. А он просто сын их большого друга, ничем особым себя еще не проявивший, обыкновенный парень, который больше помогает отцу в уютной кофейне, чем в организации тайных собраний, маршей протестов и мира, в сборе средств для узников лагерей на островах смерти… Но кому и как сказать, что он, Самандос, не только носит гордое имя отца, но готов ринуться в самую опасную схватку, драться за людей, которые собираются в кофейне отца, драться за свою любовь! — Самандос, ты знаешь легенду о семи девушках и семи юношах? — нарушил молчание Никос. После мучительных раздумий, вернее, разговора с самим собой Самандос не мог так быстро переключиться и ответить. Вопрос повис в воздухе. — Что-то не припомню, дядя Никос. — Посмотри направо, может быть, вспомнишь. — В голосе Никоса было легкое дружеское подтрунивание. Машина мчалась вдоль берега моря. Дорога как дорога, море как море — ничего примечательного. — Почему море называется Эгейским, знаешь? — опять спросил Никос. — Я весь внимание, дядя Никос, — дипломатично ответил Самандос. — Что это ты заладил «дядя Никос» да «дядя Никос»? В старики меня записал? А самому сколько, а? Постарше нашей Лулы? Если бы высокая гора слева вдруг поползла в сторону автобана, это не заставило бы Самандоса так сильно вздрогнуть, как последняя фраза Никоса. «Он разгадал мои мысли!» Пронзившая мозг догадка лишила Самандоса дара речи. — Самандос, дядя Никос, кажется, задал тебе кучу вопросов? — опять вывел его из замешательства голос певца. — Никос, он же за рулем, — заметила Хтония. — Ну тогда, — согласился Никос, — послушай легенду, которую сложили древние эллины. Молодым грекам это знать не мешает. «Сорвался разговор, — опять мелькнула у Самандоса тревожная мысль. — Сорвался разговор о Лулу! Какой я плохой дипломат! Просто болван!» — Да, кстати, у нас появился новый знакомый, молодой советски журналист Котиков, — сказал Никос. — Совсем недавно он у нас, а столько эллинских легенд знает, что многие в Греции могли бы позавидовать. И Никос начал пересказывать легенду. Самандос весь обратился в слух, чтобы не пропустить ни одного слова или внезапного, вопроса Никоса и Хтонии. Легенда была о том, как Тесей, один из древних афинских героев, решил спасти семь девушек и семь юношей, которые должны были стать очередными жертвами могущественного царя Миноса, правившего на Крите. Это была дань царю. Жертв запирали в огромном дворце-лабиринте, и чудовище с туловищем человека и головой быка — Минотавр — пожирало несчастных девушек и юношей. Когда очередные жертвы были готовы для отправки на Крит, Тесей вместе с семью девушками и семью юношами тоже отправился туда, чтобы вступить в единоборство с чудовищем. Тесей смелостью и хитростью победил Минотавра в лабиринте, но навлек на себя страшный гнев царя Миноса и вынужден был немедленно спасаться на быстроходном корабле. Отплывая на Крит, Тесей обещал отцу, что в случае победы над Минотавром черные паруса на его корабле будут заменены на белые. Но забыл об этой договоренности. Старик Эгей увидел приближающийся корабль с черными парусами, понял, что его сын погиб на Крите, бросился с высокой скалы в море. С тех пор море и называется Эгейским. Впервые услышанная легенда произвела большое впечатление на Самандоса. Но Хтония сказала: — Что-нибудь и повеселее мог бы рассказать нам, Никос. Как, например, сегодня вечером будет в Париже. Интересно, придет ли Лулу к Елене? Опять Лулу. Нет, не иначе что они разгадали мысли Самандоса. Но внутренний голос предупреждал: нет, Ставридисы не из тех, кто хочет непременно знать, что в душе у влюбленного парня. Как же тогда быть? Опять промолчать, не поддержать разговор о Лулу? — Непременно придет! — убежденно произнес Никос. — Она очень любит и уважает Елену. — Она ей вторая мать, — тихо произнесла Хтония. Никос не ответил. Опять наступило молчание. Самандос подумал: не успели отъехать от Афин, а сколько загадок — не разгадаешь. И почему певица Елена Киприанис была второй матерью Лулу? Ведь Никос и Хтония — пример большой, долгой и верной любви. Самандос почувствовал руку на своем плече. Никос предложил: — Не остановиться ли нам, Самандос-младший, около этих рыбаков? — Тебе уже есть захотелось? — удивилась Хтония. — Поговорить, поговорить захотелось, — мягко произнес Никос. Самандос увидел в смотровом зеркале, как Никос помог Хтонии выйти из машины, обнял ее и тихо запел:РОЗЫ — КАПЛИ КРОВИ
После трагического майского дня 1963 года, когда в Салониках был убит Григорис Ламбракис, Никос Ставридис часто приезжал в столицу Северной Греции. Он участвовал в различных массовых политических акциях местной молодежи — членов прогрессивной организации имени погибшего героя — левого депутата парламента. Никос гордился поручением товарища Седого — поехать в Салоники и помочь в организации марша, детали которого надо было выяснить и обсудить с тамошними товарищами. Многих из них он хорошо знал. На пути в Салоники он обычно несколько раз останавливался, предпочитая маленькие рыбацкие селения или простые придорожные таверны. Незнакомые люди, узнавая знаменитого певца, приглашали в гости, просили спеть на сельском празднике. Эти неожиданности в дороге, встречи с простыми греками до глубины души волновали Никоса. Он пел им свои песни, слушал и запоминал древние сказания, баллады, мифы, сохранившиеся в рыбачьих поселках и горных селах. Никос был очень рад, что такие поездки нравились и Хтонии. В маленьком заливе между темных и щербатых скал, нависших над тихой водой, несколько рыбаков копошились около двух фелюг. По тому, как они споро занимались своим делом, нетрудно было догадаться, что спешат выйти в море. В таких случаях рыбакам не мешают и не отвлекают разговорами. Никос медленно, заметно прихрамывая, подходил к рыбакам. Интересно, подумал Самандос, как поведет себя человек, которого, пожалуй, знают все в Афинах и в больших городах, но могут не знать эти рыбаки, которых мало заботят городские певцы и их песни. Их думы скорее о том, как свести концы с концами в этой трудной жизни. Слишком часто приходят и уходят новые правительства, да и американцы норовят утыкать греческую землю опасными ракетами. Никос, будто почувствовав, о чем думает Самандос, остановился — не подошел близко к рыбакам. Вдруг один из рыбаков повернулся к певцу, внимательно посмотрел на него и, сдернув с головы старенький берет, хриплым голосом произнес: — Добро пожаловать, маэстро! Куда путь держите? Все рыбаки тоже повернулись к гостю. Никос подошел к ним, пожал каждому руку. Что говорил певец, Самандос не слышал — он был под впечатлением только что увиденного: да, Никос очень популярен. Когда же он подошел ближе к разговаривающим, услышал, как рыбак хриплым, будто вечно простуженным голосом спросил: — Чувствуем, что нехорошие ветры дуют из Афин. Или подводят наши рыбацкие носы, маэстро? Никос смотрел на море, ровную гладь которого не искажала даже рябь небольших волн. «О каком ветре говорит рыбак?» — удивился Самандос. — Нет, не подводят, друзья, — ответил Никос. — Ветры дуют, но разные. Если в паруса — дуй ветер, помогай рыбакам! Рыбаки заулыбались, теснее обступили гостя. — Шторм, буря — это другое дело, — продолжал Никос. — Но они налетают так внезапно и быстро, что и рыбацкие носы не всегда могут почувствовать их приближение. Или не прав старый пирейский рыболов? Рыбаки ответили взрывом смеха. Они явно были довольны встречей с известным певцом. Старший среди них — с простуженным голосом — повторил свой вопрос: — Маэстро, я о ветре из Афин. Не нравится нам, как ведет себя кое-кто там… И протянул руку в сторону моря, где на горизонте темнели два больших пятна — по виду острова. — А что там? — спросил Никос. — Камешки, да только на тех камешках большие тайны. Какие-то люди из Афин зачастили туда. На закрытых катерах, а последние дни и на вертолетах. — Что же на островах? Виллы или базы? — допытывался Никос. — Говорят, двум судовладельцам они проданы, проданы самим королем… после того, как два года назад сместили правительство Георгиса Папандреу. Видать, мешал кому-то Папандреу, вот от него и избавились, а кто помог — тому в награду острова. В моду пошло — кому удается набить мешки золотом, тот на свой остров перебирается. И от глаз людских подальше, и делай там что хочешь. — Да, видать, только не для одного удовольствия острова покупают, — заметил молодой рыбак. — Одним словом, загадка. С начала года едут туда все больше военные. Одного я признал — полковника. В Салониках был он… танковым начальником. Зверем смотрит — не попадайся такому на глаза. Он танками разгонял мирных людей, которые выходили на демонстрации против американских баз. Потом, говорили, в Афины перевели. Фамилию не помню,но узнал его, верно. Как только такой бурдюк в танк влезает — ума не приложу. Рыбак усмехнулся, но лица остальных были хмурыми. — Ты еще скажи, как на берегу, недалеко от того места, этот брюхатый разговаривал по-английски с худым, как жердь… не греком. Костас недавно сказал нам, он понимает чужой язык, что тот не иначе как американец, — вмешался в разговор другой рыбак. Вдали послышался рокот мотора. Низко над головами стоящих на берегу пролетел вертолет и словно придавил их своей тенью. Люди замолчали, провожая его настороженными взглядами. Вертолет вскоре повис над островом, опустился там. — С каким гостинцем пожаловал? — еще глуше произнес первый рыбак. — Вот так… каждый день. Хотел я было подойти поближе к этим чертовым камушкам, да куда там. Откуда ни возьмись вынырнул сторожевик и давай отгонять мою старую моторку, чуть бок не протаранил. Еле увернулся и скорей назад… Опять послышался рокот. Кто-то приближался на мотороллере, поднимая клубы пыли. — Вот и Костас легок на помине, — пояснил кто-то из рыбаков. Приехавший оказался молодым мужчиной с открытым, приятным лицом. Он быстро оглядел собравшихся на берегу, задержал взгляд на известном певце и улыбнулся, узнав его. — Вы тоже туда? — посерьезнев, кивнул в сторону островов. Но Никос ответить не успел. Старший среди рыбаков сказал: — Ты лучше скажи, о чем по-английски тогда говорили тот бурдюк и жердь… — А, янки! — охотно откликнулся Костас. — Он больше молчал. Бурдюк говорил. Пока ждали катера, бурдюк все говорил и говорил… А жердь «о’кей» да «о’кей»… Потом подъехал еще один. Ну, того я сразу узнал. Главная афинская ищейка… Собака он и сын собаки. Никос переглянулся с Хтонией. Он догадался, о ком идет речь. Костас перехватил их взгляды. — Пацакис, — подтвердил он догадку. — Это был Пацакис… Ясон? — переспросил Никос. — Он самый, — зло произнес Костас. — На одном катере умчались… Никос по своей привычке потер рукой подбородок, молча глядя на таинственные острова. — Один из них купили Пацакисы, — сообщил Костас. — Второй остров тоже купил судовладелец, но через подставное лицо. Место для своих… утех. Но всех этих… для утех… погнали оттуда. Других шлюх, извините, госпожа, — сказал он Хтонии, — нагнали. В брюках и погонах, но почище прежних. — Интересно, что же они там замышляют? — задумчиво проговорил Никос. — Если Пацакис там, то недоброе, — сказал Костас. — Эта ищейка только там бывает, где пахнет жареным. Любит вертеться около янки. На любое преступление и подлость пойдет, чтобы только сохранить папашины танкеры и награбленные миллионы. Эх, давно чешутся руки проучить этого… сыночка. Да и вам, товарищ Ставридис, должен быть известен этот негодяй. Никос кивнул, на его лице появилось брезгливое выражение. Через несколько минут гости попрощались с рыбаками, извинившись, что разговорами задержали выход в море. — Это надо иметь в виду, товарищ Ставридис! — сказал на прощание Костас, указывая на острова. — А мы будем начеку. Чем можем — поможем, рассчитывайте на нас. В автомашине долго молчали. Наконец Никос заговорил: — На море штиль, а пахнет штормом. — Такое ощущение не только здесь. И если буря придет, то из Афин, — сказала Хтония. — Даже рыбаки чувствуют ее приближение. Простых людей не обманешь. Если дед Андреас говорил, что будет буря — жди обязательно ее. Так что твоя музыка, Никос, та… утренняя, тоже предчувствие бури. В Салоники приехали поздно вечером. Никос сказал Самандосу: — Жаль, что темнота скрыла здешние розы Они первыми цветут в Греции, даже раньше, чем на Родосе — знаменитом острове роз. Алые, похожие на капли крови. На этой земле погибло много достойных греков. Да и не только греков. На здешнем кладбище похоронены советские солдаты, которые участвовали в движении Сопротивления. Когда приезжаю в Салоники, обязательно хожу поклониться их памяти. Представляешь, даже в самые черные дни на их могилах всегда цветы, часто алые розы. Их вид на могилах героев рождает во мне звуки, складывающиеся в песню. Машина проехала мимо знаменитой салоникской белой башни. Здесь неподалеку жил старый друг Никоса. Искать его долго не пришлось. Такие Камбанис стоял около своего дома и радостно махал руками. Он тоже был певцом и сочинял песни. За скромным ужином говорили только о музыке. Такие уговаривал Никоса самому писать песни — ведь это у него получается. Надо лишь привыкнуть к мысли, что ты это можешь. А такие песни и исполняются особенно сердечно. — Почему не поешь свою песню о розах, похожих на капли крови? — не унимался хозяин дома. — Прекрасная песня. Стесняешься? Привыкай к мысли, что ты певец и композитор. — У Никоса много времени отнимает общественная деятельность, Такие, — попыталась перевести разговор Хтония. — Большому кораблю большое плавание, — замахал руками хозяин. — Никос и певец, и общественный деятель, и борец за мир, и, заметьте, композитор. Завтра вечером будет встреча с нашими друзьями, активистами компартии, и ты споешь песни собственного сочинения, Я сам объявлю это, так и знай, что Никос Ставридис споет свою песню о розе, похожей на каплю крови. Гостям, приехавшим из Афин, конечно, не мешало бы отдохнуть после длинной дороги, особенно Самандосу, но, искренне обрадованный встрече с друзьями, Такие говорил и говорил, потом начал петь. Так и не заметили друзья, как за окном начало рассветать. Никос долго смотрел на предутренний город, словно что-то хотел лучше разглядеть, потом сказал Самандосу: — Скоро ты увидишь салоникские розы. — А ваша песня о розах? — спросил парень. — Это очень грустная песня, — глухо, как тогда, у рыбаков, ответил Никос. — Вы ее сочинили после гибели Ламбракиса? Никос молчал, задумчиво смотрел в окно. За него ответила Хтония: — В день его гибели. — Ее, кажется, поет… Лулу? — Самандос все же решился произнести имя девушки. — Лулу только и поет, — тихо произнесла Хтония. — Но особенно хорошо получается, когда вместе с отцом, в два голоса… Вдруг раздался резкий, настойчивый стук. Во входную дверь сильно барабанили, видимо, сразу несколько человек. В предутренней тишине удары казались тревожными. Такие обвел всех настороженным взглядом, но, услышав с улицы свое имя, бросился открывать дверь. В комнату быстро вошли трое мужчин и одна женщина. По их виду можно было предположить, что кто-то поднял этих людей только что с постели: они были одеты наспех, кое-как. Самый пожилой из пришедших смотрел исподлобья, руки его заметно дрожали, и он никак не мог справиться с волнением… — Вы что… что… не слышали? — шепотом спросил он. Такие подошел к нему, пристально посмотрел в глаза. Седой мужчина низко опустил голову и прерывающимся голосом сказал: — В Афинах… переворот. Произошел военный… фашистский переворот. Начались аресты. У нас тоже. Вот-вот ворвутся и сюда. Такие, надо позаботиться о гостях, о товарище Ставридисе. Таких, как он, в первую очередь… хватают… бросают в черные машины…ТРАГЕДИЯ В ЧАС «ИКС»
После исчезновения с греческой политической арены зловещей фигуры Цириса его преемник Ясон Пацакис со временем стал превосходить своего предшественниц ка в таких темных и тайных делах, как правительственные перевороты, провокации, интриги… Главное, что перенял Пацакис от бывшего шефа тайной полиции, была связь с американскими специальными службами, работав в тесном контакте с ЦРУ. Новый шеф тайной полиции подчинялся высокопоставленным правительственным чиновникам и королевскому двору, но лишь формально. По примеру Цириса он самым наглым образом демонстративно игнорировал, предавал их… И ухитрялся при любых обстоятельствах выходить сухим из воды. После очередного правительственного переворота Ясона Пацакиса обвиняли в тайных связях с американскими резидентами, которые скрывались под личиной журналистов, военных атташе, специалистов технических фирм… Особенно доставалось ему от газет левого толка, которые разоблачали наглое вмешательство некоторых держав и зарубежных тайных служб, прежде всего американских, во внутренние дела страны. Но Пацакис тут же вставал в позу невинно оскорбленного. В ответном срочном интервью ставил условие: если найдется человек, который документально докажет участие греческой тайной службы и лично его в антиправительственной акции, то он немедленно подаст в отставку и отдаст себя в руки правосудия. Это был хитрый ход. Документов, которые подтверждали бы нападки газет на Пацакиса, как правило, не находилось по той простой причине, что их никогда не существовало. Главный шпик и провокатор делал театральный жест, великодушно «прощая» своих противников за «клевету». Так Пацакис и выходил сухим из воды, хотя без участия Пацакиса не происходил ни один правительственный переворот, ни одно скандальное событие в верхах греческого общества. Секрет был прост: Пацакис никогда открыто не встречался ни с официальными представителями зарубежных держав, ни с сотрудниками американского посольства в Афинах, не существовало ни одной магнитофонной записи его разговора с определенного рода иностранцами, ни тайных фото — и киносъемок… И все же Пацакис встречался, и весьма часто, с агентами зарубежных спецслужб, бывал в контактах с американцами и получал от них необходимые инструкции. Но только с теми, кто в случае даже самого крупного провала не числился в списках этих спецслужб и имел сугубо мирную профессию. Это было главным условием способного и весьма осторожного ученика самого Цириса — иметь дело с агентом, который в огне не горит и в воде не тонет, стало быть, и не потянет за собой в бездну политического скандала. Провалы должны быть практически исключены. Пока так и было. Даже в наполненные бурными политическими событиями шестидесятые годы Пацакису удалось проскочить и не запутаться в нитях закулисной борьбы между королевским двором и «непослушными» премьерами. Как это ему удавалось, не знал даже его отец Ахиллес Пацакис, впрочем, не вмешивавшийся в дела сына и увлеченный новым романом. Лишь однажды было сказано «влюбчивому» папа, что у его дальновидного сына рядом с пачкой фотографий оппозиционных деятелей, оставленной Цирисом и пополняемой преемником, есть колода карт, которые он перебирает до тех пор, пока не выйдут нужные фигуры. На вопрос, откуда эта колода карт, последовал уклончивый ответ, что-де принесла в клюве птица из далеких заморских краев. Папа сказал «о’кей» и уже никогда не пытался вторгаться в «святая святых» нового хозяина цирисовского кабинета, который хорошо был известен Пацакису-старшему. А колода действительно существовала. Но, вместо привычных тузов, королей, валетов и дам то были карты с изображениями греческого короля, королевы-матери, бывших, нынешних и возможных премьер-министров, видных генералов и адмиралов, полицейских чинов… Игра такими картами называлась «переворот», а игроков было только двое — Пацакис и очередной американский эмиссар, появляющийся в Афинах накануне запланированного ЦРУ заговора против правительственного кабинета, отдельных «непослушных» личностей?.. Как оканчивалась «игра», так и действовал Ясон Пацакис. Никос Ставридис знал, на что способен коварный и мстительный Ясон Пацакис, а раскрыл ему хитрую механику тайных связей главного шпика и провокатора с американцами товарищ Седой. Поэтому, услышав рассказы рыбаков о таинственных островах, интересующих Ясона Пацакиса и неизвестного янки, Никос встревожился; Первой его мыслью было вернуться в Афины, чтобы на месте выяснить о подозрительной возне вокруг островов греческих полковников, американцев и представителей национальной тайной службы. Но, подумав, Никос решил, что сделает это после выполнения задания в Салониках. Сейчас же эта подозрительная тройка — танковый полковник, янки и Пацакис — сразу же вспомнилась Никосу, когда перепуганный насмерть старый грек сообщил о том, что в Афинах переворот, что уже начались аресты. Рокот моторов и скрежет гусениц танков уже заполнил пустые улицы притихших Салоник. Из отрывочных сообщений по радио вырисовывалась картина новой греческой трагедии, разыгравшейся в предутренний час «икс». Танки были и на улицах Афин, они блокировали столичные центры, здание парламента, королевский дворец, правительственные учреждения, радио, телефон и телеграф, район иностранных посольств… Сообщалось об успешных, заранее запланированных действиях танковых частей, военных и полицейских подразделений, об арестах видных политических и общественных деятелей Греции, о розыске тех, кто успел скрыться… Среди последних назывались имена многих друзей Никоса и Хтонии. Горячий и темпераментный Самандос предложил немедленно возвращаться в Афины по морю под видом рыбаков. Лучше их арестуют там, а не в Салониках. Хозяин дома настаивал на том, что пока надо укрыться в Салониках, оценить обстановку и уже тогда принимать окончательное решение. Слово было за Никосом. — Солдат в минуту опасности должен действовать по приказу командира, — твердым голосом произнес Никос. Хтония сразу вспомнила времена партизанской борьбы в горах. — Сейчас мы солдаты партии, а не пленники. Надо срочно встретиться со здешним секретарем. После этого и примем решение. Идет бой, мы должны действовать. Совсем близко от дома загрохотали танки, из окна было видно, что на каждом перекрестке останавливались машины с открытой башней и двумя-тремя вооруженными солдатами. — Мы блокированы, — сказал Никос. — Отсюда есть тайный выход? Хозяин дома не успел ответить. Самандос, державший в руках маленький транзистор, усилил звук, и все отчетливо услышали голос диктора: разыскивается агент одной иностранной державы, куда он хотел в эти дни выехать, певец-коммунист Никос Ставридис. Говоривший заявил, что засилье таких лжепатриотов в стране вынудило истинных патриотов, настоящих эллинов, сломать старую проржавевшую машину власти во имя спасения народа от коммунистов и их иностранных хозяев, во имя возрождения Греции. Голос афинского диктора внезапно исчез. Самандос выключил транзистор, увидев, как вздрогнул, а затем выпрямился во весь рост Никос, как засверкали его глаза. Вдруг в комнату быстро вошел незнакомый мужчина, подошел к Никосу и протянул руку. — Добрым утро сегодня не назовешь, товарищ Ставридис, — приглушенным голосом произнес вошедший. — Здравствуйте, товарищ секретарь, — узнал его Никос, — вам еще что-нибудь известно? — Никос показал глазами на транзистор. — Ищут всех наших, в том числе и вас. Нам надо все хорошо обдумать и принять решение… — Мне надо любыми путями попасть в Афины! — решительно произнес Никос. — Любых путей, надо полагать, нет! — так же решительно прозвучал ответ. — Но это важно не только для меня, — настаивал Никос. — Мы за вас в ответе, по крайней мере в Салониках. — Я беру ответственность на себя. — Никос, я знаю, что вы храбрый человек, но вы же не один… И секретарь партийной организации выразительно посмотрел на Хтонию. Но он не знал жену Никоса Ставридиса, не знал, что твердостью характера и Принципиальностью она не уступает мужу. — Надо сделать так, чтобы Никос был в Афинах, — сказала Хтония и встала рядом с мужем. — Там ваши дети? — спросил секретарь. — Там сейчас мое место, — быстро ответил Никос. — Что ж, давайте обсудим. Только не здесь. Мы проедем задним двором, а там… И первым пошел к выходу, сказав на ходу хозяину дома: — Супруга товарища Ставридиса и другие гости остаются на твою ответственность. Мы вернемся через час и тогда решим… Но час прошел, потом второй, а Никос и секретарь не возвращались. Тем временем по радио сообщали подробности переворота, совершенного группой офицеров-полковников. Подчеркивалось, что организаторов заговора поддержали танковые части. — Теперь вы поняли, Самандос, почему Никосу надо быть в Афинах? — спросила Хтония после долгого молчания. — Вы думаете, что танкист, о котором говорили рыбаки, может быть среди заговорщиков? — вскочил со стула Самандос. — И янки-жердь, и этот Пацакис тоже, — убежденно произнесла Хтония. — Значит, заговор готовили на тех островах? — Для того чтобы это точно узнать и разоблачить настоящих врагов Греции, Никосу надо поехать в Афины. — А вы не боитесь? — осторожно спросил парень. — Боюсь! — с ошеломляющей откровенностью призналась Хтония. — Тогда зачем… — Во имя Греции! — последовал ответ. Появился запыхавшийся и заметно побледневший хозяин дома. — Поручено срочно переправить Никоса. Попрощаться с вами у него не было возможности. Хтония, о вас мы позаботимся, будете жить у надежных людей. Документы достанем. Хтония озабоченно спросила у Такиса: — С Никосом все продумано? — План хороший. Рыбаки взялись за дело. У них есть каналы связи. — Надежные? — Пока драхмы надежные! Можно купить любого чиновника или стража. В Афинах его встречей займется товарищ Седой. Ну, не будем терять время. В центре города очень опасно. Наш дом пока обходят. Наверху денежный мешок живет. Такие кивнул Самандосу. Тот понял — включил транзистор. Хтония даже привстала от удивления. Голос Никоса. Да, это пел Никос. Что это значит? Заговор не удался? Что происходит в Афинах? Хтония и Самандос бросились к окну. Танки как стояли на перекрестках, так и стоят. Не дошла команда до Салоник? Песня оборвалась на полуслове, словно кто-то на радиостанции резко отключил микрофон. В эфире была тревожная тишина. Ну, Афины, говорите же! Вдруг что-то щелкнуло в эфире, и хриплый мужской голос стал сообщать сводку погоды. В Афинах ясно, солнечный день… — Прямо-таки золотой день! — гневно воскликнула Хтония и стала нервно ходить по комнате. Затем остановилась и медленно начала читать:И БУДЕТ ДРУГОЕ УТРО
В предрассветный час, когда особенно крепко и безмятежно спится, началась в Афинах тщательно подготовленная сверхсекретная и широкомасштабная операция под кодовым названием «Прометей». Использование имени легендарного героя преследовало цель доказать грекам, что этот переворот совершен в интересах страны, для национального возрождения Эллады, Одним из организаторов военно-фашистского переворота — заговора «черных полковников» был Ясон Пацакис. По его списку были произведены аресты, разгромлены прогрессивные организации. Людей хватали в домах и на улицах, черные автомашины свозили их на олимпийский стадион, превращенный в огромную тюрьму. Но уже к концу дня каким-то чудом вышла в эфир радиостанция, передавшая сквозь истошный рев «спасателей нации» первые слова правды о совершенном перевороте «черных полковников». Были разоблачены тайные встречи заговорщиков с эмиссарами американского ЦРУ, в частности, на острове, который принадлежал Падакисам. Неизвестный молодой грек, назвавший себя рыбаком, говорил в микрофон о том, что он видел несколько раз одного из заговорщиков-полковников вместе с американцем и описал его внешность, точно назвал день и время этих встреч на строго охраняемом острове в Эгейском море. После страстных призывов к сопротивлению зазвучали поэтические строки:ПАРИЖ, 22 АПРЕЛЯ
Если бы маленький особняк около Булонского леса превратился в огромный дворец, то и тогда он не вместил бы всех, кто в апрельский день спешил сюда к своим друзьям-грекам, потрясенным новой трагедией на родине. Елена и Лулу в черных траурных одеждах встречали людей разных национальностей и общественного положения, благодарили за слова сочувствия и солидарности. Рядом с ними были гости, приехавшие в Париж на день рождения Елены, — мистер Джекобс, египтянка Арифа, итальянка Сильвана… Во всех газетах, на разных языках сообщалось о совершенном в Афинах перевороте, об арестах прогрессивных лиц, среди которых назывался и известный певец Никос Ставридис. Французская пресса давала подробные отчеты журналистов — непосредственных свидетелей этих событий в Греции, в частности в одной из газет сообщалось о неизвестной радиостанции, в передаче которой выступал певец, объявленный арестованным. Елене и Лулу очень хотелось верить, что Никос на свободе. Но на телефонные звонки из Парижа в доме Ставридисов никто не отвечал, а те, к кому удалось дозвониться, тоже говорили об аресте Никоса и его жены, на другие вопросы отвечали уклончиво. Была в тот день и приятная неожиданность. Один из давних друзей маэстро Ланжевена и Елены — импресарио Дарьяльский, импозантного вида пожилой мужчина из первых русских эмигрантов, привез свежий номер московской газеты со статьей Никоса Ставридиса. — Встречал в аэропорту артистическую группу из Москвы и, как всегда, спросил, не захватил кто утренние номера газет. Вот и натолкнулся на эту статью Никоса о Ленине, — объяснил русский, несколько лет назад организовавший в Париже и других городах вечера греческой песни с участием Елены Киприанис и Никоса Ставридиса. Дарьяльский развернул московскую газету и начал читать, сразу переводя на французский. Окончив чтение, он предложил всем отправиться в музей-квартиру Ленина на улице Мари Роз. Это было так неожиданно, что Елена замешкалась с ответом. — Это же великолепно! — первым отозвался мистер Джекобс. — Особенно после отличной статьи моего старого друга Никоса. Арифа и Сильвана согласно закивали, даже зааплодировали словам англичанина. — Никос очень обрадуется, когда узнает об этом, — произнесла, волнуясь, Елена и обняла Лулу, которая опять поднесла платок к глазам. В музее-квартире на улице Мари Роз их встретила старая француженка, которая еще девочкой-школьницей видела много раз Владимира Ильича и Надежду Константиновну. Пожилая женщина много интересного рассказала о жизни Ленина. Лулу тихо, очень смущаясь, спросила, не бывал Ленин, случаем, в Греции? На что француженка громко, чтобы все слышали, ответила: — Нет, милая девушка, в Греции ему быть не привелось, но влияние Ленина на вашей родине так же огромно, как и на моей. Я слышала о позорном перевороте в Греции. О, если бы я могла, то стреляла бы в тех, кто покушается на светлую мысль Ленина, на свободу и равноправие. Мерси, милая девушка, за ваше вчерашнее пение. Желаю вам скорейшего возвращения на родину, желаю победить в вашей справедливой борьбе. У бойцов интернациональных бригад, сражавшихся с фашизмом в Испании, была клятва «Но пасаран!». Не знаю, как звучит это на вашем языке, но скажем и греческой военной хунте решительное «Но пасаран!». Лулу подбежала, обняла француженку, которая не могла сдержать слезы. Дома их ждала радостная весть. Когда машина затормозила у порога особняка, к ним бросился привратник Жак. Он протянул листочек бумаги Елене, которая сидела за рулем. Один из греков-эмигрантов, который жил у своей дочери, вышедшей замуж за французского коммуниста-журналиста, писал Елене Киприанис, что его друзья в Афинах слушали вчера передачу тайной радиостанции, в которой выступал Никос Ставридис. Елена несколько раз перечитала записку и круто развернула машину. — Поехали к тому греку, — предположил Жак. Участник греческого Сопротивления Василис Коцарис был прикован к постели, все попытки вылечить его, поставить на ноги были безуспешны. Пострадавший во время гитлеровской оккупации коммунист продолжал активную работу, отвечая за связи с греками-эмигрантами, оказавшимися «лишними» людьми на родине после возвращения беглого короля на престол. Это было партийное поручение, требующее верного политического чутья, такта и принципиальности… Крохотная комната Коцариса превратилась в своеобразный штаб. Над его узкой кроватью висели три портрета, два из которых были политэмигрантам известны — Ленина и Николая Островского. Третий был портрет его самого близкого друга — командира партизанской дружины, легендарного Седого. Всем, кто впервые приходил в «штаб» и видел эти портреты на стене, становились ясны идейные убеждения и жизненные принципы Василиса Коцариса. Здесь разгорались горячие споры с соотечественниками, которые не разделяли взгляды коммуниста Коцариса, особенно с бывшими членами партии крайне правых. Были здесь и «середняки». Один из них, сын министра взорванного в 1965 году правительственного кабинета Георгиса Папандреу Алексис в первые дни эмиграции случайно забрел к своему соседу Коцарису. Общий язык они сразу не нашли. Алексиса удивляло, что к пожилому греку, прикованному тяжким недугом к постели, приходят столько людей, среди которых были бывшие командиры больших соединений ЭЛАС в годы Сопротивления и гражданской войны, известные политические деятели, крупные писатели, поэты, художники, композиторы… Что же так тянуло их к Василису Коцарису? Не сразу понял это сын бывшего министра, кстати, сам министр тоже неоднократно бывал у Коцариса, их жаркие споры запомнились надолго. Как-то Алексис очень долго смотрел на три портрета, раздумывая, почему именно они оказались в этой комнате. Вглядываясь в портрет Ленина, молодой грек открыл для себя, что политическая убежденность, жизненное кредо Коцариса основывалось на учении этого великого русского человека, сама личность Ленина была беспрекословным авторитетом для него. Человек, изображенный на втором портрете, был до поры неизвестен Алексису. Однажды Коцарис рассказал о нем. Это был Николай Островский — автор книги «Как закалялась сталь», которая всегда лежала у изголовья грека. Их судьбы были удивительно похожи. Человек на третьем портрете был греком. Коцарис как-то объяснил Алексису, что это его товарищ по партии и борьбе, товарищ Седой. — Он вобрал в себя черты характеров людей, которые мне очень дороги, — и показал на портреты, висевшие в комнате. Алексиса удивляло, что к Коцарису запросто приезжает сама Елена Киприанис, знаменитая певица, с которой он, сын министра, не был даже знаком. А познакомиться очень хотелось, тем паче что такая возможность появилась. Он долго ждал удобного момента, и однажды, когда Елена с какой-то молодой женщиной в очередной раз приехали к Коцарису, под благовидным предлогом зашел вслед за ними в крохотную комнату. Так он и познакомился с Еленой и миловидной девушкой по имени Лулу, которая оказалась в родстве с известным певцом Ставридисом. На Елену громкое имя Алексиса, казалось, не произвело никакого впечатления. Она только спросила о здоровье его отца, которого, оказывается, знала по редким встречам, а Лулу лишь мельком взглянула на Алексиса, а потом не обращала на него никакого внимания. Увы, знакомство, можно считать, не состоялось: гречанки даже из простой любезности не пригласили его как-нибудь зайти в гости на чашку кофе. Алексис долго размышлял, почему же он не приглянулся Елене и этой загадочной Лулу, почему они так холодно отнеслись к нему — молодому, красивому и богатому соотечественнику. Среди эмигрантов таких не так уж и много; К тому же, думал Алексис, с ним лестно и полезно поддерживать приятельские отношения. …В тот момент, когда автомашина, за рулем которой сидела Елена, затормозила у дома, где жил Василис Коцарис, Алексис стоял у подъезда. Завидя неожиданную гостью, он бросился открыть дверцу машины. Любезно поздоровавшись, Алексис сообщил: — Хорошая весть для вас и госпожи Лулу. Мои друзья подтвердили, что вчера, вскоре после правительственного переворота, действительно выступал по радио Никос Ставридис. Он объявил о том, что жив, здоров, а вовсе не арестован, чего очень желали бы в Афинах. Елена очень уж тепло, как отметил про себя Алексис, поблагодарила его, а Лулу даже на мгновение уткнулась лицом в его плечо. Алексис торжествовал: лед тронулся, стена отчуждения начала рушиться. Гости быстро расположились в маленькой комнате. Василис Коцарис подтвердил все сказанное Алексисом, обещал сообщать Елене и Лулу о всех афинских новостях. Он был убежден, что хунта недолговечна, а участь государственных изменников и неофашистов предрешена. Мистер Джекобс смотрел на хозяина комнаты, иногда поглядывая на портреты. Елена поинтересовалась: — Вы кого-то узнали? — Капитана Седого и храброго Василя, или, как его называл один русский солдат в партизанском отряде, товарища Седого, Васю, — быстро произнес англичанин и шумно вздохнул: — О боже мой, 25 лет прошло с того времени! Все больше и больше понимаю нашего великого Байрона, который был горячо влюблен в вашу страну, ваших людей, мой дорогой боевой друг Вася! Узнаешь ты, дружище, одного из англичан, кто в годы Сопротивления… Коцарис сделал тщетное усилие приподняться, чтобы лучше разглядеть лицо гостя. Мистер Джекобс положил руку на его плечо, радостно воскликнул: — Значит, узнал старого вояку и байрониста? Впервые Алексис увидел на глазах Коцариса слезы. Железный Василис, мужественный человек, без стона и ропота переносивший боль и страдания вечно прикованного к постели, плакал. Плакал от неожиданной встречи со старым другом так далеко от родной Греции. Мистер Джекобс тоже загрустил, поднес платок к глазам… — Друзья мои, дорогие греческие братья и сестры, — торжественно начал он. — Давайте в этот незабываемый день поклянемся, что будем решительно бороться против новых тиранов и врагов Греции. Вспомните строки Байрона, я прочту их на греческом языке:НАЧАЛО БОЛЬШОЙ ПРОВОКАЦИИ
Сказать-то сказал Ясон Пацакис полковнику, что заставит замолчать «писклявого комара», но как это сделать? Для этого надо было призвать на помощь весь свой опыт и нюх ищейки, чтобы быстро разработать план уничтожения радиостанции и этих горлопанов. То, что станция не в самих Афинах, а за ее пределами — в этом сомнения не было. И хотя территория Греции небольшая, да и передачи велись из одной ее половины — Аттики, но как определить точно, где радиостанция: в горах или на море, в лабиринтах древних развалин или в обыкновенном доме? Пеленгаторы засекли две точки, но ни в пещере, ни в лесу обнаружить радистов не удалось. Время шло, станция опять могла выйти в эфир, и тогда неизвестно, как этот выскочка-полковник доложит новоиспеченному премьеру о шефе тайной полиции, который, дескать, обнаружил свою несостоятельность. Нет, этого Пацакис допустить не мог, зная коварство узурпаторов власти, которые не щадят даже своих ближайших единомышленников. По этому надо было думать и, главное, действовать, доказать свою преданность новым хозяевам. Ясон Пацакис стоял около большой карты Аттики и мучительно размышлял, стараясь мысленно представить, маршрут радиостанции. То, что Ставридисы в день переворота находились в Салониках, — в этом он был уверен, как и в том, что они, во всяком случае Никос Ставридис, там не остались. До какого же места мог добраться певец ко времени выхода в эфир этой проклятой станции? Вот что заботило хозяина кабинета. Вошел дежурный помощник и молча протянул лист бумаги с донесением агента о том, что один молодой афинянин может навести на след радиостанции. Пацакис даже дернулся, словно собрался куда-то бежать, еще раз прочитал, текст и взревел: — Где же он, черт побери! Помощник подошел к телефону, набрал номер и приказал какому-то Кукулису немедленно зайти к шефу. Агент давно уже ждал этой команды, и не успел Пацакис прийти в себя, как тот уже докладывал о своем разговоре со студентом афинского политехникума, который слышал передачи неизвестной радиостанции и узнал голос девушки — своей однокурсницы. Пацакис при упоминании радиостанции вскочил и прошептал: — Какая радиостанция? — Которая два раза выходила в эфир, господин начальник. — Слышали? — Служба, господин начальник. — Кто этот студент? — Стефанидис. Монас Стефанидис. Родственник циркового артиста. — Фокусника? — Не уточнял, господин начальник. — Может, он сам фокусник? — Влюбленный. — В кого? — В ту студентку. — А она? — Она в другого, господин начальник. Он тоже там, на радиостанции. — Откуда… влюбленному это известно? — Они оба не вернулись в Афины, господин начальник. С археологических раскопок. — Кто она? — Ниса Гералис. Дочь артиста. — Тоже циркача? — В кукольном театре работает. — Компания! Фокусы, куклы… Пацакис подошел к карте, кивком подозвал агента: В каком месте студенты могли встретить тех, с радиостанцией? — На берегу моря. — Точнее! — Не уточнял, господин начальник. — Уточните! Где этот фокусник? — Есть адрес. На улице Метрополией, около отеля «Пан»… — Немедленно сюда! Агент стремглав выскочил из кабинета. Интуиция подсказывала Пацакису, что это сообщение может оказаться концом нити, потянув за который можно размотать весь клубок. Доставленный в кабинет студент долго не рассматривал карту, а сразу ткнул пальцем в точку на побережье Эгейского моря. Пацакис изучающе смотрел на родственника циркача: не хочет ли тот сыграть шутку с самим шефом тайной полиции? — А где они сейчас? — недоверчиво спросил Пацакис. — Если бы я только знал, — махнул рукой студент. — Для чего это вам? — Это он… этот Эмбрикос ее уговорил… — Студент? — Ламбракид он. Студент опустил голову, потом в отчаянии произнес: — Я бы убил его! — А ее? — У нее мать… очень больна. Пацакис задумался, бросая косые взгляды на студента и агента. Затем еще раз посмотрел на карту и сказал: — Она нужна нам живой. — Но она исчезла. — Голос был ее? — Так поет только… она! — Как поет? — Как Елена Киприанис. Пацакис нагнул голову словно для удара, онемев от услышанного: не издеваются ли над ним? Но припугнуть студента, который может помочь в поиске Ставридиса и его шайки, он не решился. — Их надо обнаружить, и как можно быстрее! — сказал Пацакис. — Нужна фотография и матери, и этой… певицы. А дальше будем действовать так… …На берегу, неподалеку от рыбаков, перебиравших сети, остановился старенький, изрядно побитый «фольксваген». Из него вышел молодой человек, а другой, мужчина постарше, остался в машине. Молодой человек поздоровался с рыбаками, которые сделали вид, что очень заняты спешной работой. — Нас привело сюда несчастье, и мы надеемся на вашу помощь, — сказал незнакомец и вытащил из кармана фотографию. Рыбаки смотрели на фотографию, молчали. — Эта женщина; старая гречанка, кстати, дочь рыбака, умирает, — сказал приехавший. Пожилой рыбак взял фотографию, долго смотрел, потом заключил: — Такой в наших краях нет. — Да, она с Идры. Рядом с нею ее дочь. Сестра того человека, который в машине.' Мы ее разыскиваем. Мать умирает… Рыбак опять взял фотографию, долго разглядывал и повторил: — Такой в наших краях нет. Приехавший криво улыбнулся, покачал головой: — Несколько дней назад она и я были здесь. Вместе со студентами. Видели, наверное, студентов, которые работали на раскопках? Все уехали домой, а она… куда-то запропастилась. Может, кто видел ее? Мать при смерти… хочет видеть свою дочь. — Как ее зовут? — Ниса Гералис. Ниса. — Зачем ей надо было… оставаться здесь? — С одним… студентом. — Э, парень, у нас места не для влюбленных. — Но где-то они должны были укрыться, если нет ее в Афинах? Пожилой рыбак улыбнулся беззубым ртом: — Если и были такие места, да только давно позабыты. Не до этого нам, парень. Другой рыбак с сочувствием произнес: — Встретим… скажем, что ищут, мол, что домой надо спешить. И рыбаки принялись опять за работу. Приехавший еще немного потоптался на месте, затем медленно пошел прочь. Оглянувшись, он крикнул: — Если встретите, передайте о больной матери! Из урочища Никос Ставридис и его группа перебрались на новое место, полностью положившись на Костаса, который хорошо знал округу. Идея была такая: вернуться в море и под видом рыбаков вести передачу с фелюг или с заброшенных нефтяных скважин. Но без помощи настоящих рыбаков не обойтись, а это значило подвергать их жизни риску. Если бы радиостанцию обнаружили, то расправились бы не только с ними, но и с ни в чем не повинными людьми. Костас долго смотрел на карту и наконец сказал, что надо уходить подальше от этих мест, которые, конечно же, уже под пристальным наблюдением и вот-вот последуют ответные акции. Надо было как можно ближе подойти к селениям рыбаков, а оттуда уже добираться поодиночке на грузовиках со свежим уловом до выбранного места. Надежда была на одного полицейского, его Костас хорошо знал, и который за драхмы шел на любой риск. Но все равно это было опасно. Присмотр за полицейским взял на себя Костас. Больше всех рисковал певец — из-за своей популярности. Но очки и темная щетина так изменили его внешность, что он вполне мог выступать в роли водителя грузовика. Костас же и салоникский инструктор Панайотис были очень похожи на истинных рыбаков, у которых только и забота быстрее продать рыбу владельцам придорожных таверн. Студентам нечего было играть другие «роли» — всегда могут сказать, что отстали от своих и возвращаются домой, документы это подтверждали. В — первом же рыбацком стане Костасу сообщили о приезжавших в «фольксвагене» из Афин, которые интересовались девушкой-студенткой и говорили, что у нее мать при смерти. Костас рассказал об этом Никосу и Панайотису. Решили исподволь расспросить Нису о матери, и оказалось, что та действительно себя неважно чувствовала перед отъездом дочери на практику, но высокое давление у нее давно и есть новые лекарства, которые брат привез из Италии. — Ну, значит, ничего страшного, правда, сын это не дочь, но твой брат, видать, заботливый парень, — будто между прочим сказал Никос, успокаивая девушку. — Да. Но он опять уехал. Ой, чует мое сердце, что маме нужна помощь, — забеспокоилась девушка. — Ты можешь уехать в любое время, — ответил Никос. — Только надо быть очень осторожной, Ниса. Наше дело сейчас очень важно и, может быть, это будет твой самый главный в жизни поступок. — Я ни о чем не жалею, товарищ Ставридис, — вся зарделась девушка и как будто успокоилась. Никос, пересказывая этот разговор с Нисой Костасу и Панайотису, упомянул, что ее брат в отъезде, а рыбаки говорили — ждал в машине. — Почему же он не вышел, не поговорил с людьми сам, а только этот… студент? — размышлял Панайотис. — Это же его сестра, и речь шла о его матери. Кем этот студент приходится Нисе и ее брату? — Все же надо Нисе сказать о «фольксвагене» и о тех двоих. Пусть решает сама, как поступить. Надо, чтобы обо всем ей рассказали рыбаки, — предложил Панайотис. Это было поручено тому самому пожилому рыбаку, который вел переговоры с приехавшими на «фольксвагене». Через несколько минут после разговора Ниса вошла в дом, где находились члены группы, и сказала, что это был ее сокурсник Монас Стефанидис. Он разыскивал ее, чтобы увезти к матери, которой стало очень плохо. — Твой брат мог быть вместе с ним? — спросил Костас. — Если только он уже вернулся. — А когда должен был вернуться? — Я двадцатого позвонила домой и папа сказал, что брат приедет дней через пять. — А получается, что приехал на два, а то и на три дня раньше. — Может быть, его вызвали телеграммой? Ой, что-то надо делать! Прокляну себя, если не буду около мамы… Ниса закрыла лицо руками, ее плечи вздрагивали. — У брата есть «фольксваген»? — продолжал допытываться Костас. Девушка отрицательно покачала головой. — А у этого… Монаса? — спросил Костас. — Говорил, что отец обещал купить ему машину. — Кто его отец? — Магазин имеет меховой на улице Метрополиос. Очень большой. — Не купит же он сыну старый «фольксваген»? — Не знаю, не знаю… Знаю одно: надо ехать… Ниса подняла голову. Ее взгляд встретился со взглядом Ставридиса. Она тихо продолжила: — Простите… Я это так… — Нет, нет, Ниса, мы вас понимаем и думаем, как помочь, — успокоил ее певец. — Да, но у вас тоже… Никос положил руку на плечо девушки: — Дело привычки, милая Ниса. Но признаюсь, что сердце щемит, когда думаю о жене, о детях, о судьбе которых хотел бы знать. Но не могу рисковать нашим важным делом. Вас, Ниса, мы переправим, только осторожно. Возможно, что это провокация. Откуда «фольксваген» и… брат в машине? А этот Монас порядочный парень? С кем он заодно? С ламбракидами или теми, кого в меха его отец наряжает? — Он, он… непонятный… Ниса опять встретилась со взглядом Никоса и прочла в его глазах сожаление, только не знала, кого жалел этот много повидавший в жизни человек — ее или этого Монаса. — Он способен на подлость? — вмешался в разговор Костас. — Он ревнует меня, — тихо произнесла Ниса и чуть заметно повела глазами в сторону студента, который в дальнем конце комнаты копался в своем походном мешке. — И чтобы обойти соперника, может пойти на подлость? — повысил голос Костас. Никос поднялся, давая понять, что разговор окончен. Не надо больше расспрашивать девушку, которая и так очень разволновалась. — Если решишь поехать, Ниса, провожатым будет… Панайотис. Его в Афинах никто не знает. Поздно вечером радиостанция опять вышла в эфир. Пацакис будто предчувствовал это, допоздна засидевшись в кабинете. Вот тебе и писк комара! Легко было представить себе, что сейчас думал полковник-выскочка, да и другие об обещании шефа тайной полиции покончить с этой станцией, называвшей себя голосом свободной Эллады. Взбешенный Пацакис слушал передачу, поглядывая на агента и студента, которые вернулись ни с чем… А вновь заговорившая радиостанция призывала греков вести беспощадную борьбу против диктаторского режима. Затем Никос Ставридис запел, но один, без маленького хора, в котором этот Монас услышал голос студентки Нисы Гералис. Голоса девушки не было в эфире. Неужели рыбаки встретили ее и сказали о матери? Неужели клюнуло? Девушка, конечно, мелкая рыбешка, но может стать приманкой для большой добычи. Пацакис взревел: — Немедленно к ее дому! Окружить! Взять живой! Только живой! Когда' он наконец остался один, громко сказал сам себе, предчувствуя удачу: — Что ж, послушаем! — Усмехнувшись, добавил: — И этот голос, похожий на голос знакомой… парижанки, которая поет в Булонском лесу. Распелись, птички!ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ, ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ
В дом рядом с Булонским лесом приходили противоречивые известия из Афин, особенно о судьбе Никоса: арестован… продолжает петь… схвачен вместе с радиостанцией. Никто не мог сказать точно, что с ним, где он. Алексис говорил, что его, афинские друзья сообщают: в каждой передаче тайной радиостанций слышат голос певца. Сидеть в. Париже, ждать сообщений из Афин и слушать слова сочувствия от друзей было не в характере Елены и Лулу. Никос борется, поет, рискуя жизнью, а они, певицы, очень близкие ему люди, сидят и ждут у моря погоды. Правда, после того, как побывали, на улице. Мари Роз и у Василиса Коцариса, они решили подать и свой голос, чтобы их услышали на родине. Небольшой оркестр бузукистов, с которым обычно выступала Лулу, теперь разучивал музыку и для песен Елены. Певицы и музыканты работали с утра до позднего вечера, отбирали лучшие, песни, репетировали с оркестром… Первое отделение концерта решено было назвать «Песни Ставридиса». Для второго отделения спешно подбирались новые песни французских и греческих композиторов; арабские и итальянские песни нашли Арифа и Сильвана, даже мистер. Джекобс раскопал в одном парижском музыкальном магазине ноты песен на слова Байрона. Концерт решено было начать с «Гимна Свободе» в исполнении дуэта Елена Киприанис — Лулу Ставридис. Неожиданный подарок сделал Алексис, который заметно изменился за время общения с Еленой и Лулу. В нем появился живой интерес к общественным делам, к проблемам своей многострадальной родины. Алексис на магнитофон записал новую песню, которую пел Никос Ставридис. И наконец дождался желанной награды — поцелуя Дулу. Девушка сделала это в порыве благодарности, в знак того, что молодой грек стал другом. Это был счастливый миг для Алексиса. Он впервые серьезно думал о женитьбе, когда смотрел на Лулу, слушал ее. Скромная и красивая девушка ему очень нравилась. Еще до концерта Алексис услышал, как Лулу и Елена разучивали песню о каких-то блондинках и шатенках. Песня казалась шуточной, но пели ее явно с определенным смыслом. Первой ее вспомнила Лулу, когда стояла около большого зеркала и выбирала платье для концерта:АГЕНТ С КЛИЧКОЙ НАРЦИСС
Ясон Пацакис еще в годы отрочества, когда безуспешно учился в консерватории, по знанию жизни заметно опережал своих сверстников, прежде всего Елену Киприанис и Никоса Ставридиса, которые очень много времени уделяли музыке, жили музыкой… В свои 18 лет Пацакис-младший видел и знал многое. Этим он был обязан отцу. Нет, Пацакис-старший не прибегал к абстрактным нотациям. Собственным примером указывал он сыну путь в жизни. Приоткрывая перед Ясоном завесу над своими делами, он давал ему возможность постичь секреты коммерческого успеха. Для отпрыска миллионера не были секретом связи отца с представителями генерала Франко и потому не оказались неожиданностью сказочные барыши, полученные от перевозок «товаров» в Испанию. Как губка, впитывал в себя Ясон все, что видел в родительском доме. Взрослеющий Ясон стал понимать принцип Пацакиса-старшего: все средства хороши для достижения цели. В этой «школе жизни» Ясон пришел к выводу: всякие эмоции. — удел слабых. Отец был доволен Ясоном, баловал его деньгами, подарками, поездками за границу. Родственников и друзей удивляли музыкальные занятия Ясона. Все знали, что у него нет никаких талантов, и удивлялись, почему он, ловкий и практичный, напрасно теряет время. Но Пацакиса-старшего это, казалось, не тревожило. Он никогда не заговаривал с Ясоном о его будущем. Лишь однажды отец вызвал Ясона на откровенный разговор. — Ты хочешь знать, папа, когда твой наследник возьмется за ум? Пацакис-старший улыбнулся. — У тебя еще есть время поиграть в разные игры, Яси. Я могу лишь догадываться, почему мой отпрыск — кровь моя и плоть моя — играет в эту игру. Игра, на мой взгляд, стоит свеч. В нашем доме есть драгоценные камни, но нет короны, в которой, бы они блестели. Ты хочешь добыть эту корону. Но не забывай, что надо идти и к главной цели. Когда ты начнешь выбирать эту цель, скажи. Но не очень медли. Это сейчас жизнь кажется тебе долгой, даже бесконечной, а на самом деле она быстротечна. Даже для таких, как я. Ясон был поражен прозорливостью отца. Он не догадывался, что тот до малейших подробностей знает, какие подарки преподносит он дочери своего маэстро, какие предпринимает шаги, чтобы овладеть сердцем Елены Киприанис. Когда агенты, находящиеся на содержании судовладельца, сообщили хозяину об увлечении Ясона, он приказал ежедневно докладывать ему о сыне. Вскоре Пацакис-старший увидел в ложе театра предмет тайных воздыханий сына и удивился поразительному сходству Елены с ее матерью, Элиной. «Именно такого сокровища не хватает нашему дому. Видно, судьба, что женщины из дома Киприанисов благоволят к мужчинам Пацакисам», — думал он. И вместе с тем Ахиллеса Пацакиса крайне удивляло поведение сына: более года Яси ухаживает за Еленой, а агенты, следящие за ним, «не зарегистрировали» ни одного поцелуя. Елену часто видели с Никосом Ставридисом, но это не мешало ей принимать и знаки внимания Ясона. Это и озадачивало Пацакиса-старшего. И в сегодняшнем ловко завязанном им разговоре он счел уместным спросить, не боится ли сын, что Елену уведут у него из-под носа. Ответ Ясона сперва поразил, а затем успокоил его: — Нужен первый и решительный шаг. И это сделает Елена. — Ты в этом уверен? — осторожно спросил отец. — Во всяком случае, надеюсь. — Но почему это сделать не тебе? — допытывался Ахиллес Пацакис. — Ты вынуждаешь меня раскрыть карты, — уклончиво ответил Яси. — Я тебе не чужой, — обиделся Пацакис-старший. — Не волнуйся, обещаю тебе это сделать, — сын примирительно потрепал его по руке, — но только не сегодня. Кстати, в американском рекламном бюллетене я видел недурненькую посудину. Самый быстроходный катер. Я думаю, что этак через месяц он мог бы бороздить Пирейскую бухту. — А что должно произойти через месяц? — спросил Ахиллес Пацакис. — Конкурс певцов. — При чем здесь конкурс? — Карты я раскрою тебе потом, — уклонился от ответа Ясон. — Катер американский? — деловито спросил отец. — Да? Тогда о’кэй! После ухода сына Пацакис-старший сделал необходимые распоряжения о приобретении американской новинки. В тот же день Пацакис-старший встретился с шефом секретной службы Цирисом на загородной вилле. О существовании этой виллы на берегу Эгейского моря знало лишь несколько доверенных лиц, она значилась как собственность одного капитана дальнего плавания. Разными дорогами добирались сюда Пацакис и Цирис. Шеф секретной службы въехал в главные ворота, а судовладелец прошел через подземный ход. Такая предосторожность была правилом Ахиллеса Пацакиса. Цирис приступил к делу сразу, без промедления. Он спросил у своего друга, господина Пацакиса, может ли он говорить здесь свободно. Хозяин виллы укоризненно посмотрел на него. — Нет, нет, дорогой друг, — поспешил успокоить Пацакиса гость. — Это у меня профессиональная привычка. Что поделаешь, служба! Иногда узнаю о таких вещах, что хватаюсь за голову и думаю: есть ли на этой земле предел тому, что может сделать человек против человека, брат против брата, муж против жены, товарищ против товарища, отец против сына? Да, отец против сына… Пацакис насторожился. — Да, отец против сына, — повторил Цирис. — Я говорю это вам как отцу, который очень любит своего сына… Знаю, знаю, мой друг, что ваш мозг сейчас работает с особой быстротой, — доносился до Пацакиса скрипучий голос. — Но я помогу вам, мой друг, выйти из затруднительного положения, в котором вы оказались. Пацакис нашел в себе силы улыбнуться, но глаза его настороженно всматривались в собеседника. — Да, я вам помогу, мой друг, — продолжал гость. — Ваши люди работают как во времена первой мировой войны. А сейчас мир уже накануне второй. За двадцать лет многое изменилось, особенно в нашей трудной и неблагодарной работе. «Как будто ничего страшного», — подумал Пацакис. Уверенность возвращалась к нему. — Помилуйте, я не совсем понимаю вас. Ведь мои люди выполняют лишь поручения узкосемейного характера, — улыбаясь, сказал он. — Может, что-нибудь они сделали не так? — Легко иметь с вами дело, друг мой, — на лице Цириса промелькнуло подобие улыбки. — Да, ваши люди, мой друг, не так работают, грубо работают. Они, мой Друг, влезли в святая святых моей епархии. И уже чуть было не засветили моих агентов. — Этого не может быть! — еще шире улыбнулся господин Пацакис. — Повторяю, это так называемый домашний сыск. Полагаю, не из-за того встретились мы, два верных, но достаточно обремененных иными делами друга? — Вынужден вас огорчить, но именно из-за того, — отрезал Цирис. — Вы должны немедленно закончить игру вокруг нашего агента. — Не понимаю, — насторожился Пацакис. — Какого агента? Цирис прошел к входной двери, открыл ее, потом закрыл и снова удобно уселся в кресло. — Только прошу, мой друг, — предупредил он, — без эмоций. Комментировать буду я. Пацакис сидел крайне озадаченный словами и поведением человека, который держал в своих руках секретную службу в государстве. Между тем Цирис медленно извлек из внутреннего кармана пиджака пачку фотографий. Перебрал ее в руках, словно карты. «Раз!» — и, как искусный игрок, выбросил на стол первую фотографию. Ахиллес Пацакис узнал маэстро Киприаниса. Предупреждая какие-либо вопросы, гость предостерегающе поднял палец к своим тонким губам. «Два!» — на стол легла еще одна фотография. Это молодой, но уже известный греческий поэт Рицос, автор просоветской книги «Тракторы», многих антифашистских, зовущих к свободе стихов. Но вот перед хозяином особняка легла фотография Ясона. Пацакис, вконец ошеломленный, невольно схватил ее, впился глазами, пытаясь наконец понять, в чем дело. Гость меж тем отошел к окну и стал разглядывать клумбу. Не оборачиваясь, он спросил: — Какие цветы растут в вашем саду, мой друг? — Что… какие цветы? — переспросил Пацакис. — У вас есть нарциссы, мой Друг? — Цирис круто повернулся на каблуках. — Нарциссы? Может, и есть… Не знаю. — Я очень люблю эти цветы, — тонко улыбнулся Цирис. — С вашего разрешения я бы вышел в сад, полюбовался вашими цветами. Мой друг, вы знаете легенду о Нарциссе? «Пора кончать эту комедию», — подумал Пацакис и, словно решившись на что-то, встал, взял большую гаванскую сигару и, прежде чем чиркнуть спичкой, спокойно, но с сердитыми нотками в голосе сказал: — Послушайте, мой друг. Мне надоела эта игра. Вы мне накидали кучу фотографий этих сентиментальных болтунов, которых каждое утро надо сечь розгами, а не кричать им ошалело «бис, бис!». Дайте мне власть, и эти дармоеды у меня будут таскать тюки с табаком в пароходные трюмы. Может быть, вы мне предлагаете их в грузчики? Тогда при чем здесь мой сын? Выкладывайте свои карты, мой друг, и не опасайтесь. Здесь никто нас не слышит! А в сад нам идти незачем. Нарциссы у меня не растут. Не люблю напоминаний о смерти. А это цветок смерти. Я человек деловой и легендами не интересуюсь. — Браво, мой друг, брависсимо! — перебил Цирис, не без восхищения глядя на Пацакиса. — Давно не слышал таких страстных речей. Ведь обычно со мной говорят или шепотом, или молча выслушивают. Клянусь богом, я восхищен вами! Вы сильная личность. Мой друг, в наше время нельзя ходить в беспартийных. Жизнь заставит сказать определенно, за кого вы. Но сегодня не об этом. Вся эта коллекция фотографий имеет первостепенное значение. С кем пойдут культурные Силы Греции? Поддержат ли они новый порядок Гитлера? Надеюсь, вы не отрицаете такую возможность, как обращение взора фюрера Германии в сторону государства на юге Балкан? А кто, мой друг, будет работать среди наших интеллигентов, кто узнает все о каждом из них, кто, наконец, поможет нам бороться с коммунистами и всякими там левыми и либеральными профессоришками и стихоплетами? Кто спасет нашу нацию? Кто, наконец, сохранит ваши суда? Кто, я спрашиваю, мой друг? Кто? Не догадываетесь? Цирис подошел к Пацакису, который с неослабным вниманием слушал гостя, и почти прошептал: — Мои агенты. Ловким движением он, приподняв одну фотографию, бросил ее на стол. Опять на господина Пацакиса смотрело лицо Ясона. Как во сне Ахиллес Пацакис услышал у своего уха слова Цириса: — Его кличка Нарцисс. …Елена была приглашена на новый катер Ясона Пацакиса. Было это вскоре после конкурса в королевском дворце. В компании таких же молодых нуворишей Ясон хотел назвать катер «Прекрасной Еленой». Но девушка отвергла и эту, как многие другие «приманки» человека, который добивался ее привязанности, даже любви. В тот день Пацакис-младший, тайный агент по кличке Нарцисс, написал в своем дневнике лаконичные слова: «Утерянная приманка».СТАРЫЕ, НОВЫЕ ФОТОГРАФИИ
Старая коллекция фотографий греческих интеллигентов осталась без своего прежнего хозяина Цириса. Теперь эту большую пачку, как колоду карт, раскладывал новый хозяин Ясон Пацакис. С фотографий на него смотрели деятели культуры, которые находились в явной или тайной оппозиции к диктаторским режимам и имели большой стаж бунтарства. К примеру, поэт, чьи стихи прозвучали в передаче подпольной радиостанции. А ведь он уже не раз побывал в заключении, был серьезно болен. Прочно «прижился» он в этой «коллекции» еще с довоенных времен. В первый день переворота поэта арестовали и сослали на голый далекий остров — пиши, сочиняй, ораторствуй среди безмолвья. Да, далеко он, а слова его здесь, в эфире, звучат, приносят неприятности новым властителям и шефу тайной полиции в особенности. Люди Пацакиса записали на пленку стихи поэта, которые читал Георгис Эмбрикос в передаче подпольной радиостанции:ТУЧИ НАД ЛАБИРИНТОМ
У агентов Пацакиса появилась серьезная зацепка — грузовик, принадлежащий торговцу живой рыбой из прибрежного местечка неподалеку от города Волоса. Пока из водителя грузовика ничего не удалось выудить. Но сразу же вся территория вокруг Волоса была заблокирована специальными воинскими подразделениями и наводнена агентами тайной полиции. Ведь в этом районе ранее была запеленгована и тайная радиостанция, поэтому преследователи перекрыли все пути-дороги, готовя ловушку для группы Ставридиса. Когда вопрос о поездке Нисы в сопровождении Панайотиса в Афины был решен, Костас сказал, что знает надежного парня — Петроса Кармелидиса, водителя грузовика, который часто ездит со свежей рыбой в Афины. Кармелидису поручили достать документы дочери своего хозяина для Нисы. Панайотис должен был сыграть роль компаньона хозяина, сопровождающего девушку. Сам Петрос ничего не знал о Нисе и Панайотисе, кроме того, что им надо поскорее и излишне не рискуя добраться до Афин. Кармелидис благополучно довез пассажиров и высадил — их на одной из афинских улиц.
Панайотис с большой осторожностью отвел Нису к своим друзьям в невзрачный домик у подножия Акрополя, а сам пошел на разведку. Дом Нисы мог быть под наблюдением. Тот парень, Стефанидис, по словам девушки, был способен на любую подлость, вплоть до обращения в полицию. На улице Метрополиос Панайотис увидел, как в дверях большого мехового магазина появился молодой человек, пересек улицу и вошел в подъезд дома, где жила Ниса. Панайотис заподозрил, что это и есть «влюбленный», который интересуется Нисой. Вид у предполагаемого Монаса был озабоченный и растерянный. Он долго стоял, раздумывая, около подъезда, затем почти незаметно кивнул мужчине, видневшемуся за витриной мехового магазина. Через несколько минут этот мужчина вышел и направился к автомашине, в которой уже сидели двое… Свои подозрения и наблюдения Панайотис сообщил хозяину явочной квартиры, где они с Нисой остановились. Решили проверить еще раз. Хозяин квартиры направил к меховому магазину надежных людей — уличного торговца фруктами и пожилую женщину. Их сведения подтвердили подозрения Панайотиса. Старая гречанка, соседка Нисы, рассказала, что в доме есть очень больная женщина, вся надежда которой на дочь. Но девочка куда-то запропастилась, ее с нетерпением ждут, ждет и жених — сын хозяина мехового магазина, и еще кое-кто ждет… Торговец фруктами тоже заподозрил полицейских агентов около дома, назвал номер автомашины, которая подолгу стояла у дома. Номер сходился с тем, который запомнил Панайотис. Хотя от явочной квартиры, до дома Нисы было рукой подать, но решили не рисковать. Просто позвонили родителям Нисы и намекнули, что с дочерью все в порядке, она, мол, продолжает свою студенческую практику и просит не доверять какому-то Монасу. Родители были обрадованы вестью, но, к сожалению, не смогли этого скрыть. Их настроение и заметила старая соседка, отличавшаяся своей болтливостью. Однажды, завидя сына хозяина мехового магазина, она поспешила к нему и сообщила о своей догадке: не иначе как Ниса вернулась или от нее получены хорошие вести. Надо же было такому случиться, чтобы Ниса оставила в кабине грузовика соскользнувшую на пол тоненькую книгу-учебник и Петрос, ничего не подозревая, заявился в дом девушки с этой злополучной находкой! Да еще в присутствии «влюбленного» студента. Невольно Петрос Кармелидис стал причиной того, что район Волоса был взят под строгий контроль. Железное кольцо преследователей сжималось вокруг места, где находилась подпольная радиостанция.
Костас рассчитал время возвращения из рейса водителя грузовика, но когда все допустимые сроки встречи прошли, он сказал Никосу о возможном провале в Афинах и предложил как можно быстрее свертывать радиостанцию и уходить. — Если Петроса схватили, этот район может стать ловушкой для нас, — предположил Костас. Никос с ним согласился. Они склонились над картой, обдумывая новый маршрут, к ним присоединился студент, который и предложил место, где можно было укрыться. — Здесь идут большие археологические работы, — объяснил Георгис. — Работы ведут в основном иностранцы-эллинисты, среди рабочих много и безработных, приехавших из Ларисы, Волоса, Дельф, даже Афин. Руководитель раскопок при любой власти остается, неприкасаемым, но он все больше сидит в Афинах, а замещает его наш бывший преподаватель Андреас Киру. Однажды он дал пощечину одному университетскому начальству, но друзья спасли его от суда и выхлопотали место специалиста здесь. Все эллинисты души в нем не чают, готовы за него в огонь и в воду. Если благополучно доберемся до места, он так спрячет нас в подземных лабиринтах, что никакие ищейки не найдут. Ну а за рабочих сойдем, — весело закончил студент и провел рукой по давно не бритому подбородку. Идея понравилась, хотя тоже была рискованной, но другого варианта не было. Долго не мешкая, двинулись в путь. Под покровом темноты подошли к месту, где велись раскопки. Георгис отправился на разведку и долго не возвращался. Костас с Никосом заподозрили неладное и уже стали волноваться, когда появился запыхавшийся студент. Он рассказал, что виделся с Андреасом Киру и тот сообщил, что вечером здесь побывали агенты тайной полиции: строго проверили документы, спустились в подземные коридоры и предупредили, чтобы о всех посторонних и подозрительных лицах немедленно сообщать, а невыполнение этого приказа повлечет за собой наказание, вплоть до расстрела. — Но Андреас Киру готов помочь нам, — пообещал студент. — Правда, есть одна неприятная деталь. Утром прибудет начальник, но Андреас сказал, что мы будем в подземном лабиринте, а туда тот боится нос сунуть. В лабиринте ведет работы группа эллинистов-англичан. Руководит какой-то мистер Джекобс, прекрасно знает греческий. Андреас переговорил с англичанином, и тот обещал надежно спрятать нас в подземелье. Это рискованно, — возразил Костас. — Довериться иностранцу, которого мы не знаем? — Я знал одного Джекобса, — заметил Никос. — Тоже эллиниста. Но не археолога, а литератора, знатока Байрона. — Андреас Киру говорит, что это очень надежный человек, — сказал Георгис. — Но решать, конечно, нам. — Может быть, сначала встретиться с Андреасом и с англичанином, по отдельности, конечно? — спросил Костас. — С Андреасом устрою, а насчет англичанина надо узнать, — ответил студент. Минут через пятнадцать Костас, оставив Никоса в укрытии, уже разговаривал с Андреасом, который показался ему надежным человеком. Андреас даже не поинтересовался о третьем товарище, проявив редкую деликатность в такой сложной ситуации, когда рискуешь собственной жизнью. О Джекобсе Андреас сказал, что это брат известного байрониста, участника движения Сопротивления в Греции, хорошего знакомого многих деятелей эллинской культуры. — Да, я слышал… слышал, как поет Никос Ставридис, — дипломатично начал Костас, но Андреас перебил его: — Ставридис? Какое совпадение! Брат нашего Джорджа Джекобса в большой дружбе со знаменитым певцом. Еще со времен Сопротивления. Между прочим, своим именем Джордж — он обязан старшему брату, который назвал его в честь Байрона. Костас сделал вид, что этот разговор его не интересует, и спросил в упор: — Товарищ Киру, я слышал о вас много хорошего, поэтому поймите меня правильно, речь идет о товарище, за безопасность которого я отвечаю. Андреас, можем мы гарантировать товарищу… — За подземелье где работает Джордж Джекобс, могу взять на себя полную ответственность перед вашим товарищем и кем бы то ни было. Андреас расстегнул несколько пуговиц на фланелевой рубахе. На белой майке у сердца алело крохотное пятнышко, похожее на каплю крови. Костас различил в алмазном отсвете миниатюрного значка профиль Ленина и три буквы «КПГ». Еще что-то спрашивать, уточнять у человека, такого же коммуниста, как Костас или Никос Ставридис, было излишне. Костас крепко пожал руку Андреаса и прерывающимся от волнения голосом произнес: — Наша задача, товарищ Киру, становится общей. — Но должен, к сожалению, предупредить, дорогой товарищ, что подземелье — только место для надежного укрытия. Что-либо предпринимать сейчас очень опасно. Нужно переждать хотя бы дней пять-шесть, пока полицейские ищейки не покинут наш район. Что-то они усиленно разнюхивают. Нельзя давать им повод ни под каким видом и предлогом. Лабиринт должен быть вне подозрений. Это распоряжение товарищей. Я в ответе за это перед… И он показал на свой значок. Подземелье напоминало лабиринт. Они спустились в темные, пахнущие морской сыростью каменные коридоры в сопровождении очень похожего на героя «Пиквикского клуба» англичанина — мужчины средних лет, который шел впереди с высоко поднятым фонарем, ни на кого не глядя и не разговаривая. После долгого и трудного перехода в узких коридорах англичанин, наконец, остановился, прикрутил фонарь, сказал по-гречески, что здесь его гости будут в полной безопасности, а связь будут поддерживать только с ним. В просторной комнате, куда они вошли, пахло сеном. Костас взял у англичанина фонарь и подкрутил фитиль: между двумя колоннами, подпиравшими свод, лежала сухая трава — готовая постель для гостей, на единственной каменной скамье стояла глиняная посуда. И неожиданно в гулкой тишине раздалось:
ПОГОНЯ
Железное кольцо сжималось вокруг места, где могла находиться радиостанция противников хунты. Операцией по ее ликвидации руководил сам шеф тайной полиции. Пацакис прибыл в район города Волоса после встречи с главой хунты в особняке недалеко от мыса Сунион. Приглашение в его особняк было признаком особого доверия диктатора. Роскошный особняк недавно стал собственностью «отца нации», там он превращался в послушного вздыхателя одной дамы из «высшего света», знавшей всю его подноготную. Фактическая хозяйка особняка знала своего высокопоставленного поклонника еще с тех времен, когда он был кадетом в военном училище. Знала о нем и то, что он продолжил военное образование в США. Всеми правдами и неправдами, главным образом благодаря тесным связям с американским посольством в Афинах и эмиссарами ЦРУ, получил звание полковника и с группой таких же «патриотов Эллады» ждал своего «звездного часа». Вскоре после переворота, в результате которого полковник Пападопулос вскарабкался в высокое кресло, он отдал в распоряжение своей возлюбленной этот особняк, используя его и для строго конфиденциальных встреч с узким кругом приближенных лиц. Среди них оказался Ясон Пацакис. С ним главарь хунты считался по двум причинам: шеф тайной полиции знал все и вся о нем и безоговорочно поддержал военную хунту, а также был сыном миллиардера, деньги которого помогали не только всем диктаторским режимам в Греции; но и играли немаловажную роль за океаном… «Пожертвования» Пацакиса-старшего были сделаны и новому диктатору Греции. Вклад в несколько миллионов долларов дальновидного и ловкого Ахиллеса Пацакиса предназначался для поддержания хунты — успешного преодоления трудностей «внедрения» в жизнь греческого общества после переворота. Наследник папашиных миллионов знал о такой «утечке из фамильного несгораемого шкафа». Знал и о давних связях диктатора не только с греческой службой безопасности, но и с ЦРУ, агентом которой он был со времен учебы в Штатах. Знал и о том, что Пападопулос во время оккупации сотрудничал с гитлеровцами — служил в «охранных батальонах». Ясон Пацакис мог познакомиться с ним давно, когда еще во главе службы безопасности и тайной полиции был Цирис. Но армейский лейтенант даже тогда, когда стал полковником, не казался Пацакису солидной персоной. Познакомились же они всего несколько лет назад, когда были приглашены на свадьбу греческого престолонаследника Константина и датской принцессы Анны-Марии. Среди гостей были бывшие премьеры кабинетов и претенденты на высокие правительственные посты, каждого из них Ясон Пацакис лаконично характеризовал при полном одобрении своего нового знакомого, о котором Пацакис по сообщениям агентов знал, что тот «спит и видит себя отцом нации». Вот тогда-то он и решил держаться поближе к амбициозному офицеру с наполеоновскими планами. Пацакис долго и тщательно изучал этого полковника артиллерии, который был уверен, что «Греция еще падет ниц перед ним». Не один Георгис Пападопулос лелеял мечту повторить «подвиг» диктатора Метаксаса в давний августовский день 1936 года. Через три десятка лет на роль фашистского диктатора претендовали несколько высокопоставленных военных. После смены кабинета Г. Папандреу так называемая большая хунта генералов рвалась к власти, имея широкую поддержку в армии, королевском дворе, среди денежных мешков. Но Ясон Пацакис не спешил отдать предпочтение власти дряхлеющих генералов. О эта спасительная картотека с фотографиями! Пасьянс, пасьянс, пасьянс… «Карты» подсказывали: надо ставить на другую хунту — на малую, на полковничью. И хозяин архисекретной картотеки поддерживает «малую хунту» — динамичных, амбициозных, жестоких, далеко идущих в своих планах «возрождения» Эллады и решительной борьбы с коммунистической опасностью полковников. В ночь переворота Ясон Пацакис оказался, как говорится, при горячем деле, своим деятельным участием заслужил похвалу главарей заговора и американских покровителей. Долгие годы службы в тайной полиции и старая картотека фотографий помогли Пацакису выполнить главную задачу мятежников — изолировать потенциальных противников переворота, в первую очередь коммунистов. Правда, не всех удалось арестовать в час «икс», среди таких был и певец Никос Ставридис, который с первого же дня прихода к власти хунты причинял ей много беспокойства. Приглашение диктатора заставило крепко задуматься шефа тайной полиции. Выразить недовольство и в самой строгой форме Пападопулос мог и в своем кабинете, а для экономии времени даже по прямому телефону. Не исключено, что кто-то из близкого окружения диктатора настраивает его против Пацакиса, но и в этом случае можно было все выяснить, не отправляясь в дальний вояж. За этими мыслями Пацакис и не заметил, как добрался, сидя за рулем своего «крейслера», до курортного побережья. После нескольких проверок документов он подрулил к особняку, где опять прошел строгую проверку, хотя шеф тайной полиции знал наверняка, что необходимые распоряжения о нем сделаны. «Напускает на себя форсу, как Гитлер и Муссолини», — подумал Пацакис, но не эти формальности беспокоили его, а то, что ждет его в самом особняке. Диктатор не спешил появиться из своих покоев, но когда наконец вышел в непривычной домашней одежде, взял Пацакиса под руку и провел в зимний сад, где скороговоркой пожелал удачи в акции в Волосе, Пацакис успокоился. Тогда-то и состоялся разговор, который был главным поводом для приглашения. Диктатору приглянулся остров по соседству с такой же собственностью Пацакисов, принадлежащий одному судовладельцу. Пападопулос хотел знать, возможно ли, чтобы остров перешел в распоряжение главы хунты, который задумал на этом «экзотическом камешке» устраивать интимные приемы для важных персон из-за океана. Пацакис смекнул: ведь это редкая возможность руками самого диктатора отомстить давнему сопернику и конкуренту отца, который кичился тем, что у него больше танкеров и сухогрузов под флагами «нейтральных держав», что его остров больше и лучше… Пацакис пообещал изучить этот вопрос чрезвычайной сложности, быстро и без шума найти способ, чтобы на острове появился достойный хозяин. Хотел еще добавить: «И новый сосед!» — но воздержался, посчитав лесть излишней. Да, он — Ясон нужен этому хитрому человеку, который, дорвавшись до власти, спешит насладиться ею. По дороге в Волос Пацакис обдумывал состоявшийся разговор. Какой вывод должен он сделать? То, что новый диктатор никакая не сильная Личность — видно сразу. А то, что Пападопулос не придал значения акции в районе Волоса, крайне удивило и разочаровало Пацакиса, вся служба которого была связана именно с такими «деликатными» делами. Диктатор или недопонимал важность разгрома радиостанции, или проявлял излишнюю самоуверенность, дескать, ему не страшны никакие противодействующие силы в Греции. На окраине Волоса Пацакиса встретили его люди и сообщили неприятную весть. Водитель грузовика во время очной ставки со студентом Монасом Стефанидисом его не признавал, а когда студент стал приводить новые факты их случайной встречи в доме Нисы, арестованный изловчился и так сильно ударил его головой, что студент до сих пор не приходит в сознание, а водитель, несмотря на то, что был о завязанными руками, вышиб окно и выбросился с четвертого этажа… Одним словом, погибший ничего не сказал о пассажирах в грузовике и о тех, кто дал ему задание поехать в Афины, унес с собой все сведения, которые тщетно пытались узнать агенты. Выслушав их, шеф чуть было с досады не махнул на все рукой. Был бы здесь премьер, он бы убедился в том, что заманить подпольную группу Ставридиса в ловушку — дело не из легких, а история с водителем грузовика наглядно показала бы, что враги нового режима идут на любые жертвы. Пацакис приказал действовать так же решительно и быстро, как и в час «икс». Бронированные автомашины, пеленгаторы, цепи солдат, агенты тайной полиции перекрыли, казалось, все дороги. Железное кольцо сжималось, угроза для группы Ставридиса возрастала, но преследуемые все еще не попались. Наступила та роковая минута для Пацакиса, когда он вынужден был признать, что и эта операция проваливается. То, что радиостанция действовала в этом районе, а точнее, в заброшенном бетонном бункере посреди болот, сомнений не вызывало. В нем были обнаружены пустые консервные банки, окурки сигарет и другие приметы недавнего пребывания людей. Но следы уходивших от погони «радистов» терялись в болотистой местности… Куда могли податься эти беглецы? Если бы не болото, которое не могло быть посадочной площадкой для вертолетов или маленьких самолетов, можно было бы предположить, что они улетели отсюда. Но это было исключено. В большом радиусе вокруг болот были обысканы все дома, сараи, гаражи, магазины — следов нигде не было. Оставалось одно — поверить в то, что они превратились в невидимок, и прекратить поиски. Но правилом Пацакиса было не поддаваться мистике и фантазиям. Нет, надо продолжать поиски, уверовать в то, что ловушка захлопнется! Его агенты, работавшие в этом районе, предположили, что наиболее вероятным местом, где могли укрыться «радисты», была старая крепость с большим подземельем — там сейчас велись археологические раскопки. Но были и сомнения: руководитель работ — человек надежный, и лояльный по отношению к новым властям, никогда не пойдет на компромисс с такими, как эти «радисты», не предоставит им убежища. Когда Ясон Пацакис с полсотней своих агентов появился на территории, где велись раскопки, десятки людей копошились среди развалин. Первым, поспешил к гостям руководитель. Пожилой, высокий и худой грек, чем-то отдаленно напомнивший Пацакису жердеобразного американца — эмиссара ЦРУ, с бегающими глубоко посаженными узкими глазками, был очень удивлен. Когда гости представились, то от неожиданности руководитель сильно качнулся, как тонкая жердь на ветру, глаза-щелочки забегали еще быстрее. «Много грехов на душе», — подумал Пацакис и, не протянув руки, спросил: — Господин Дастоглу, сколько людей и кто именно занят у вас? Только точно, до единого человека. Дрожавшими руками господин Дастоглу полез в карман своего пиджака и вынул бумагу со списком работающих на раскопках. «Ну, слава богу, дело, кажется политическое, а не…» — с облегчением прикинул Дастоглу, но строгий голос важного полицейского чина снова нагнал на него страх: — Все на месте? — Должны быть все, господин начальник, — последовал неуверенный ответ. — Выстроить всех и проверить по списку! — приказал Пацакис. — Господин начальник, у нас работают и иностранцы… — Всех! Построить всех оказалось делом долгим и нелегким, но все же команда возымела действие: все работающие на раскопках побросали свои лопаты, кирки, ломы… Пересчитали всех выстроившихся: по списку не хватало одного человека — англичанина. Господин Дастоглу не мог сказать, где тот сейчас находится. За него ответил заместитель: мистер Джекобс — руководитель группы из Великобритании — на осмотре одного из участков в подземелье, который может вот-вот обвалиться. Но он должен появиться с минуты на минуту. Пацакис внимательно смотрел на этого человека, мысленно перебирая фотографии в своей картотеке. Затем спросил: — Кем работаете? — Заместителем руководителя работ, — спокойно ответил этот седой и заметно сутулившийся человек. — Можно было бы догадаться назвать свою фамилию, — раздраженно заметил Пацакис. — Не мог предположить, что моя скромная персона может кого-то заинтересовать, — так же спокойно произнес заместитель руководителя работ. — Господин Киру, — подобострастно ответил за него Дастоглу. — Киру? Из университета? — спросил Пацакис и резко повернулся в сторону выстроившихся людей, которые начали шуметь. Англичане и другие иностранцы, громко выражая свое недовольство, начали медленно расходиться. Пацакис бросил строгий взгляд на господина Дастоглу, но тот беспомощно пожал плечами и развел руками. — Вы в состоянии ими руководить или это должны сделать мы? — взревел Пацакис. — Иностранцы, господин начальник, — опять пожал плечами Дастоглу. Пацакис немного подумал, словно остывая после вспышки, и спросил: — Где этот англичанин? — Если он вам так нужен, то я схожу за ним, — предложил Киру. — Этот англичанин, видимо, из любителей эллинских культурных ценностей? — с каким-то подвохом спросил Пацакис. — Крупный эллинист и знаток эллинских ценностей, — сказал старый археолог. — И делите все пополам или продаете эти ценности? Киру словно выпрямился от этих слов, как человек, готовый броситься в драку. — Есть разные англичане, как и разные греки! — резко произнес он. — Ну, в этом мы еще разберемся, а сейчас вместе пойдем за англичанином, — высокомерно произнес Пацакис и кивнул своим людям. — Если рискуете спуститься в подземелье, то пожалуйста, — сказал Киру и направился к лабиринту. За ним последовали четверо агентов. Пацакис строго спросил у руководителя работ: — Вы уверены, что этот англичанин там один и с ним нет посторонних? — Кто же там может быть, господин начальник? — с удивлением спросил господин Дастоглу. — Коммунисты! Если бы здешний начальник услышал, что на территории раскопок появился снежный человек, он, вероятно, не так удивился бы. — Что им там делать? — недоуменно вымолвил он. — Я вот сейчас пошлю вас… туда и тогда-то вы нам и скажете, господин Дастоглу, что им там надо, — с угрозой в голосе произнес Пацакис. — Кстати, этот ваш заместитель не из коммунистов? Опять не знаете? А я вот припоминаю, что это он учинил скандал в университете, ударил уважаемого нами человека, а дружки-приятели спрятали его от суда в этих… развалинах, которые, возможно, стали убежищем и еще для кого-нибудь. — Для кого же, господин начальник? — смертельно перепугался Дастоглу. — Я предоставляю вам это удовольствие — увидеть своими глазами! Пацакис что-то сказал рядом стоявшему агенту, и тот догнал и остановил группу у самого входа в подземелье. Затем Пацакис кивнул руководителю работ, дескать, догоняй и спускайся вместе с ними. — Господин начальник, — прошептал Дастоглу, — не знаю, коммунист мистер Джекобс или нет, но знаю, что он не похож на некоторых своих соотечественников. Он искренне предан своему делу и разграблением чужих богатств не занимается. — Добавьте, господин Дастоглу, что вам-то лично больше нравятся другие… его соотечественники, которые вывезли немало наших ценностей и, заметьте, не без помощи некоторых греков. — Я чист, как белый мрамор! — Белый мрамор, как и человек, бывает чистым лишь в младенчестве. Потом все грязнеет. И человек и мрамор. — Вы меня в чем-то подозреваете? — Идите! И несчастного господина Дастоглу как ветром сдуло — он бросился к входу в подземелье. Но спуститься не успел. В этот момент из подземелья появился мистер — Джекобс. И — одновременно зазвучала музыка — песня Ставридиса.
Англичане, давно покинувшие строй, сидели, разложив газеты на недавно отрытых плитах, и дымили сигаретами. В руках одного из них — молодого паренька был миниатюрный транзистор. Паренек заметил, что к греческой песне все прислушиваются, и усилил звук. Немедленно к нему бросились двое из окружения Пацакиса и стали вырывать из рук маленький черный предмет, который привел в бешенство их шефа. Паренек еще крепче прижал к себе транзистор, другие англичане стали отталкивать агентов. Завязалась драка, раздались выстрелы… …Вскоре после ухода Джорджа Джекобса Никос услышал песню… Свою песню! Это казалось чудом. Певец сидел в каменном лабиринте, а там, наверху, гремел по радио его голос.
ЛАМБРАКИД ИЗ ПИРЕЯ
Самандос-старший чудом остался жив после автомобильной катастрофы, подстроенной несколько лет назад агентами Пацакиса. Неунывающий веселый пышноусый грек по-прежнему потчевал давних и новых друзей из Афин и Пирея, рассуждал с ними о политике и прочих делах в своей маленькой кофейне под широкой кроной старого каштана. Здесь по вечерам, особенно в воскресные дни, всегда было людно, за столиками возникали интересные разговоры, а если появлялись поэты, музыканты, артисты, то очень популярная среди трудяг кофейня превращалась в настоящий клуб, который опекали коммунисты и левые силы «красного пояса» греческой столицы. Кофейня была и в поле зрения властей, тайной полиции. Незаметно, но умело Самандос поддерживал в своем заведении атмосферу братства и доверия, а помогали ему сыновья, многочисленные друзья… В гараже Самандоса появилась новая малолитражка. Сам Самандос после автомобильной катастрофы и гибели неугодной тайной полиции Мелины Ригас уже не мог сидеть за рулем, его место занял старший сын, похожий на отца и внешностью и характером. Самандос-младший был членом пирейской организации ламбракидов, но ему еще многому надо было учиться, чтобы стать таким, как Никос. Поэтому Самандос-старший обрадовался предстоящей поездке Никоса Ставридиса, который сказал о своем партийном поручении в Салониках, и пообещал ему машину с Самандосом-младшим за рулем. Отец надеялся, что в дороге сын узнает много полезного и интересного от известного певца и его жены. Поздним вечером кто-то осторожно постучал в маленький дом на «приграничной» улице между Афинами и Пиреем. Самандос открыл дверь и увидел друга своего сына, таксиста. — Что случилось, Тасос? — удивился Самандос. Парень с опаской оглянулся, вошел в дом и, очень волнуясь, сбивчиво начал говорить: — Слышал от одного, которого только что вез из пирейской таверны, подвыпивший он был, скоро, может быть, в это утро, многие его враги, кто жизнь ему попортил, будут брошены под танки. Что двинутся, мол, танки на Афины и покончат с теми, которые болтают о какой-то свободе. Догадался я, что это за тип, который пел в тавернах, а потом шпиком заделался, выдавал наших. Прошлым летом его так проучили, что он от страха охрип, но повадки ищейки не потерял. Ох, говорит, давно руки чешутся у него на Ставридиса. Сам, дескать, первым к нему ворвется и рассчитается с певцом; Самандос строго смотрел на соседского парня. А если действительно что-то готовится нынешней ночью, стало быть, через считанные часы? Не поверить Тасосу, может быть, не отвратить большую, непоправимую беду. Тасос был в дружбе с его сыном, но в ламбракиды не вступал, сторонился сверстников, которые занимались политикой, думал о собственном деле — хотел стать хозяином машины с шашечным пояском на бортах. Правда, и не вредничал, с парнями-вертопрахами не якшался. — Не болтун ли, случаем, он? — осторожно спросил Самандос. — Ну а если он выболтал правду, что тогда, дядя Самандос? Ведь что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. — В Афинах, Пирее ничего подозрительного не заметил? — Тишина везде, но после того, что слышал, на могильную тишину похоже. — А почему ты сразу ко мне, Тасос? — К кому же? Самандос ваш уехал, знаю, с тем Ставридисом, а дети, может быть, одни остались. Кто к ним ближе, как не дядя Самандос? — А если все брехней окажется? — Вы меня, а я его. — Что? — не понял Самандос. — Отдубасите меня как паршивую шавку, ну а я того жизни собачьей лишу. Пусть не видать мне свою машину, в тюрьме меня сгноят, но та ищейка уже не будет никого выслеживать. Самандос посмотрел на часы. Приближалась полночь. — Ты на машине? — спросил он. — Да, за углом. — Знаешь, где живет певец? — Ваш друг? Знаю. Поедем, дядя Самандос? В небе уже появились слабые проблески рассвета, когда Самандос на такси Тасоса возвращался домой. Пока они достучались и разбудили Костаса и Мирто, пока наспех собрали их вещи и доехали до маленького рыбачьего поселка, где знакомые старики обещали надежно спрятать детей, прошла, казалось, целая вечность. Самандос был уверен, что сделал доброе дело на тот случай, если что-то неожиданное произойдет в Афинах. О себе, о своей судьбе он не думал. Старому и больному, еще не совсем оправившемуся от тяжелой катастрофы Самандосу трудно было бы где-то скрываться. Дом на кого останется, кофейня, дети? Нет, если что случится, Самандос лучше разделит участь арестованных товарищей, чем будет где-то прятаться… Уже подъезжая к дому, Самандос услышал отдаленный гул, словно земля задрожала, и посмотрел на Тасоса — не почудилось ли. Парень остановил машину, прислушался. Странный гул приближался, становился все громче. — Танки! — испуганно воскликнул Тасос и быстро свернул машину с дороги, остановился в узком переулке, откуда можно было наблюдать, что делается на главной трассе между Пиреем и Афинами. Темные пятна, грозно рокоча, ползли по дороге, растянулись длинной колонной. — Идут на Афины! — заключил Тасос и быстро включил радиоприемник. В эфире был какой-то гул, слышались отрывочные возгласы, похожие на команды, и вдруг мужской голос, не похожий на дикторский, сказал, что танки окружают здание парламента, королевский дворец, блокировали центральные площади столицы… — Переворот, — прошептал Самандос. — Это танки заговорщиков… В жизни старого грека так уже бывало, и он знал: первыми жертвами станут коммунисты, деятели, левых партий, популярные в народе деятели греческой культуры… Самандос уже не слушал, что передавалось по радио. Все мысли его были о сыне, который сейчас далеко от Афин, и там тоже пущены в ход танки заговорщиков. Самандос с болью представил, что такие, как этот бывший певец из таверны — презренный шпик, ворвутся в дом Никоса, чтобы еще раз, а может быть, и навсегда бросить его на пустынный остров, наступить сапогом на его песню, погубить осиротевших детей, и опять прольется кровь самых честных, самых неподкупных людей… Тяжело, словно на негнущихся ногах Самандос медленно вошел в дом. Услышанное по радио и зловещая колонна танков на дороге не выходили у него из головы. Военный переворот. Значит, к власти пришла хунта, фашисты, такие, как Метаксас, Гитлер, Муссолини. Опять наступили мрачные времена. Самандос посмотрел в окно. Магазины, лавки, даже газетные киоски еще не открылись, на всех дверях были замки… «И на сердцах», — подумал Самандос. Без стука вбежала в дом молодая соседка Рита, работавшая секретарем-машинисткой — после основной работы на ткацкой фабрике — в пирейской организации ламбракидов. Рита была красивой и рослой девушкой. Серьезная и трудолюбивая, она очень нравилась Самандосу-старшему — другой жены для сына он не желал бы. Но Самандос-младший не пытался ухаживать за соседкой, а если и говорил с Ритой, то только о делах их организации. Девушка, даже не поздоровавшись, с порога крикнула: — Наших арестовывают! И замерла в ожидании, что скажет мудрый и рассудительный дядя Самандос. — Так было всегда, — спокойно произнес Самандос. — Мы никогда не сдавались. — Что же делать, дядя Самандос? — Лучше всего спрятаться, выждать. Не даваться в руки изменникам. А если… хоть одного, но своими руками… С улицы доносились шум, крики людей, но вскоре все заглушил сильный рокот моторов. К домам, к магазинам, к учреждениям подъезжали танки, бронированные машины, черные автомобили, грузовики… Вооруженные люди врывались в дома, прикладами сбивали замки… Самандос захлопнул на замок входную дверь, вместе с Ритой вышел на задний двор. Они перебежали улицу и через несколько десятков метров оказались у дома свояка, который служил в дорожной полиции и был многим обязан Самандосу. Входная дверь дома, где жил дорожный полицейский, была закрыта, на стук никто не отзывался. Рита тихо стояла рядом с Самандосом. Сам Самандос и не помышлял о том, чтобы оставить дом и куда-то скрыться, но надо было спасать девушку, которая, конечно, значилась в списках тайной полиции. Самандос по привычке почесал затылок, обдумывая, что еще можно предпринять, в этот момент перед ним резко затормозила машина. Тасос, распахнув заднюю дверцу, крикнул: — Быстрей! Ехали какими-то переулками, узкими немощеными улицами. — Куда едем? — спросил Самандос. — В Салоники! — сверкнул глазами Тасос. — До Салоник твою машину и нас с тобой продырявят тысячу раз, — сказал Самандос, потому что не представлял себе, как в создавшейся ситуации, когда дороги перекрыты и строго контролируются, добраться до Салоник. Но сразу пожалел. Что подумает этот парень, который назвал Салоники потому, что там Самандос-младший — его друг в большой опасности вдалеке от дома, от друзей. — Да, а в Салоники мы должны добраться любой ценой, — тяжело вздохнул Самандос. — Надо подумать, как это сделать возможно быстрее и безопаснее. Машина остановилась около больницы, в которой после катастрофы лежал Самандос. — Значит, так, — обернулся к своим пассажирам Тасос. — Дядя Самандос, вы продолжаете лечиться. Вас опять положили в больницу… вчера. Ну, об этом вам все скажут в больнице. Здесь вы будете в безопасности, если только эти на танках не ворвутся и в палаты. Вот ваша главная защита. Тасос показал на белый флаг с красным крестом над входом в больницу. — Это ты неплохо придумал, Тасос, но как же Рита? — спросил Самандос. Минут через двадцать быстрый и смекалистый шофер такси уже отъезжал от больницы, оставив там своих пассажиров — спасенных им людей: дядю Самандоса — на положении больного, лечащегося после автомобильной аварии, а Риту в качестве няни в палате для тяжелобольных. Все это было устроено с помощью главного врача, который приходился родственником Тасосу. Таксист забрал у дяди Самандоса ключи от кофейни, обещал держать в курсе всех событий, а главное, узнать о судьбе сына в Салониках… Тасос навещал «больного» ежедневно. Спустя несколько дней он сказал, что появилась возможность поехать в Салоники. И Тасос рассказал, что тот шпик — бывший певец — опять как-то сел в его такси, узнал водителя и начал похваляться, дескать, новое начальство всячески благоволит к нему, он надеется занять большой пост, а пока должен поехать в Салоники с важным поручением, для этого ему дали много денег, и он решил прокатиться до северной столицы на такси. Тасос очень обрадовался неожиданной возможности побывать в Салониках, но виду не подал, даже начал отнекиваться, чтобы нельзя было заподозрить его в желании оказаться там, где сейчас его друг, сын самого Самандоса. Вот только не знает, где искать его в Салониках.Самандос-старший тоже не знал. Они задумались. Неожиданно Рита сказала: — И я поеду с вами. В Салониках часто бывала. Бабушка у меня там, родственников и друзей много. Тамошние ламбракиды помогут найти… Она осеклась, заметив на себе внимательный взгляд Тасоса. Этого парня — таксиста она изредка встречала около кофейни Самандоса, но никогда с ним не разговаривала, считала его одним из тех, кто только хочет заработать, иметь собственное дело, а в политику не вмешивается. Но, оказывается, ему доверяет сам дядя Самандос, парень пришел на помощь в тяжелую минуту и благодаря ему они пока в безопасности. Тасос будто прочитал ее мысли и тихо сказал: — Но я не ламбракид. — Будешь ламбракидом, Тасос! — уверенно произнес Самандос, чтобы совсем исчезла отчужденность между двумя молодыми людьми. — Друзья проверяются в деле. За тебя поручатся многие, считай и меня среди них, Тасос. — Я тоже… не сомневаюсь, — смущенно сказала Рита. — Сейчас все должны быть патриотами Греции, бороться за ее свободу. Самандос поднял руку, как на собраниях, когда принимали товарищей в партию, серьезно посмотрел на Риту. Та вся зарделась и утвердительно кивнула. Два человека — коммунист и ламбракид — уже ячейка, да еще в такой обстановке, когда каждый товарищ и каждый голос имеет порой решающее значение. И рядом с сильной рукой Самандоса поднялась тоненькая и нежная Ритина рука — единогласно. Тасос с удивлением смотрел на поднятые руки, не сразу поняв, что это был ответ на его просьбу и искреннее желание, которое он так явственно осознал после того дня, когда впервые увидел ползущие танки и совершил первый серьезный поступок в жизни — помог укрыться от заговорщиков Самандосу и этой симпатичной девушке. — Я помню только еще один случай, когда вот так… без слов на бумаге, без большого собрания приняли в нашу партийную организацию храброго партизана и любимого в народе певца, — сказал Самандос. — Это было в партизанском отряде капитана Седого перед решительным боем с фашистами. В бой Никос Ставридис пошел коммунистом. — Он и сейчас в бою! — воскликнула Рита. — По подпольному радио разоблачает хунту. А как он поет! Тасос встал, произнес как клятву: — Теперь и я буду… буду в бою! Спасибо вам… Договорить не смог — сильно волновался парень и, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы, выскочил из палаты.САПОГОМ НА ПЕСНЮ
Ячейка, в которой уже было трое, решила, что Рита поедет в Салоники. Оставалось объяснить тому шпику, почему молодая гречанка едет с ними в такси. Самандос предложил выдать Риту за невесту Тасоса, у которой, мол, родственники в Салониках пожелали познакомиться с женихом. Девушка в смущении опустила голову. Самандос весело произнес: — И такие партийные задания бывают. С улицы послышался шум подъехавших автомашин. Тасос посмотрел в окно и тревожно сообщил: — Носилки выносят. Раз… два… три… Трое на носилках. И еще двое с перевязками. Кто это может быть? — Вряд ли наши, — сказал Самандос. — Наших в больницы не привозят… — Может, пойти и узнать? — вызвалась Рита. — Нет, дочка, меньше надо показываться, — не разрешил Самандос. — Тасосу это полегче… Тасос быстро вышел. — Хороший парень! — похвалил Самандос. Рита молчала, исподлобья поглядывая на дверь. Тасос долго не возвращался. В палату заглянула Пожилая няня, которая опекала новенькую, вводила Риту в здешние порядки. Девушка бросилась к ней, с нетерпением спросила: — Что там, тетя Анастасия? — Большой переполох, — махнула рукой няня. — Раненых привезли. — А кто они? Няня приложила руку к губам, шепотом ответила: — Сучьи дети. Вот так ответила! Рита и Самандос удивленно смотрели на пожилую гречанку. — Полицейские ищейки, — опять зашептала она. — Полезли в драку, ну и дали им как следует. Я бы их не в больницу, а… Вошел Тасос, плотно прикрыл за собой дверь. — Значит, так, — сразу начал он. — Все привезенные — агенты тайной полиции. Кто сильно избит, кто ранен, в общем, была большая драка. — С нашими? — спросил Самандос. — И с нашими, и с иностранцами… работают на каких-то старых развалинах. Вот и сцепились. Агенты и те, кто на развалинах. Больше никто ничего не знает. У большой палаты, где эти, поставлена охрана. — Где же это могло случиться? — размышлял Самандос. — Своих привезли, а наших… наверное, не все целехонькие? Самандос нервно вышагивал по маленькой палате, казалось, что он вот-вот ринется в бой. — Родственник обещал узнать подробности, — сказал Тасос. — А мне уже пора. Значит, утром подъеду и прямо в Салоники. Может, завтра и узнаем, что и где произошло. Когда Тасос рано утром подъехал к больнице, его пассажир, опухший от ночных возлияний певец-шпик, кое-как все же сообразил, что с ними поедет невеста водителя такси. Завидя Риту, он выскочил из машины, предложил вместе сесть на заднее сиденье, но Тасос усадил «невесту» около себя и недовольно посмотрел на «галантного» пассажира, который, как только выехали из города, сразу же заснул. Его пришлось расталкивать при полицейском контроле. Певец-шпик, который в документах значился Диносом Големисом, окончательно проснулся, когда Тасос включил радио. Он завороженно уставился на приемник. Передавалось сообщение о том, что служба государственной безопасности напала на след подрывных элементов, которые через тайную радиостанцию призывали к противодействию режиму и что после упорного сопротивления схвачены певец Никос Ставридис, студент Георгис Эмбрикос, рыбак Костас Мавроидис и их сообщники, пытавшиеся укрыться в подземном лабиринте античной крепости, где ведутся археологические… Вопль на заднем сиденье заглушил последние слова диктора. Певец-шпик громко орал, молотил ладонями по спинке переднего кресла, выражая свой восторг. Тасос остановил машину. Ему хотелось оттолкнуть от себя раскрасневшееся, одутловатое, с выпяченными глазами и толстыми губами лицо, но Рита удержала его. — Я сейчас убью его, — прошептал Тасос. Рита крепко держала его руку, в ее глазах была мольба: не надо, ради нашего дела не надо! А певец-шпик, не замечая состояния своих спутников, кричал, что наконец-то этот Ставридис попался, что он за все получит, что его обязательно ждет… — Хватит! — не выдержав, оборвал его Тасос. Крикун сразу замолк и подозрительно посмотрел на своих спутников. — Вы кто? Кто! — зловещим шепотом спросил он. — Там поговорим! — с угрозой произнес Тасос и хотел было выйти, но под взглядом Риты опять взялся за руль. — У меня голова раскалывается от крика, — уже спокойнее произнес он, обернувшись к певцу-шпику, подозрительно смотрящему на них. — Вот приедем на место, там вместе спокойно посидим… Рита сжала руку Тасоса и сказала ему, призывая в союзники шпика: — Мы вам не будем больше мешать. Верно, господин Големис? Певец-шпик что-то буркнул, вроде соглашаясь, опять устроился спать, правда, не отказав себе в удовольствии еще раз повторить, что очень рад тому, что этого Ставридиса наконец схватили. — И мы это слушаем! — опять вскипел Тасос, но Рита показала глазами на дорогу: надо ехать. Проехали уже много километров, но Тасос никак не мог успокоиться, внутри у него все клокотало. Этого подонка надо было вытащить, избить и выбросить из машины: добирайся как хочешь! Ну, предположим, что он так и сделал бы? Брошенный на дороге озлобленный человек, притом с важными документами, сообщит первому же встречному полицейскому о подозрительных людях в афинском такси на дороге в Салоники. Такси остановят, проверят документы, и их схватят. Постепенно остывая, Тасос с возрастающим уважением думал о Рите. Да, теперь он может мудро рассуждать, предвидеть ход событий. Но первой это сделала Рита. Как она быстро оценила обстановку, последствия скандала с этим типом. Ведь как ловко отвела подозрения этого подонка, когда «пообещала» Тасосу: «Мы вам не будем мешать». Мы! Тасос даже искоса посмотрел на Риту, но девушка дремала или делала вид… «И это тоже продолжение ее игры, которая называется, кажется, дипломатической», — подумал Тасос. Не может быть, чтобы она сейчас спокойно спала, услышав переданное по радио?! Она сама говорила в палате, что Никос Ставридис продолжает бой, поет в передачах тайной радиостанции, которая теперь… От внезапной догадки Тасос невольно так сильно нажал на газ, что Рита открыла глаза. Если бы не этот тип сзади, Тасос сказал ей о своей догадке. Развалины, о которых говорили в больнице, это же те самые, где была схвачена группа Никоса Ставридиса. Значит, там, в старой крепости, все это произошло. Тасос посмотрел на Риту, а та, словно прочитав его мысли, легко кивнула, дескать, я тоже об этом думаю, но сейчас нельзя вслух обсуждать, потерпи, прояви мужество, Тасос, ты же теперь — ламбракид, один из армии молодых борцов за Элладу, которой посвятили свои жизни Ламбракис, Беллоянис, герои Сопротивления, певец Ставридис, дядя Самандос… Они едут в Салоники, размышлял Тасос, но мало ли машин мчится туда по автобану? Но мы спешим на выручку тех людей, которые свои жизни положили на алтарь свободы. Если бы еще дней десять назад Тасосу сказали, что это и есть настоящая жизнь, он бы ответил, что, возможно, и так, но жизнь без приличного заработка и без собственной машины — это жизнь вполнакала, без удовольствия, одним словом, просто существование. Что же произошло за последние дни, что заставило Тасоса изменить свои жизненные позиции? Он словно начал смотреть на людей вокруг себя и события через увеличительное стекло, начал понимать, кто есть кто, обращал внимание на те события, которых раньше не замечал. А главное — видел живой пример — людей, живущих ради других, во имя всех греков. Дядю Самандоса Тасос знал давно, но сейчас заново открывал для себя удивительные черты его характера. Ведь Самандос первым проник в душу пирейского парня — одна поднятая его рука при голосовании чего стоит! А вот Рита, казалось, обычная пирейская девушка — фабричная работница — проявила такую выдержанность, дисциплину и мудрость в трудные минуты. Вот с какими людьми свела его судьба, в тяжелые минуты он оказался рядом со старым коммунистом и удивительной девушкой из пирейской молодежной организации. Мысли Тасоса все время возвращались к тому, что произошло на этих античных, развалинах. Эх, свернуть бы с дороги, поехать туда и узнать всю правду! Но что делать с этим типом на заднем сиденье? Да и в Салоники надо спешить, там друг, там жена певца. Знают ли они о том, что Никос Ставридис схвачен? Спешить, надо спешить, найти Самандоса-младшего, узнать все подробности случившегося в старой крепости. Пассажир крепко спал: он сильно храпел, что-то все бормоча во сне. Он даже не пошевельнулся, когда Тасос остановил машину около небольшого морского залива, и они с Ритой вышли и направились к рыбакам. Люди около рыбачьих «гри-гри» обычно молча и настороженно встречали незнакомцев — мало ли кто проезжает по этой оживленной дороге. Но сегодня они были особенно хмурыми, на приветствия двух молодых людей не ответили, продолжали молча возиться с сетями. Тасос хотел было уже вернуться, но Рита громко спросила: — Уважаемые отцы, не из ваших ли рыбак по имени Костас? Костас, кажется, Мавроидис? Пожилой мужчина в старом берёте и с огрызком трубки в зубах исподлобья посмотрел на девушку. — А он кто вам, родственник, друг или кто еще? — осторожно спросил он. — Просто слышали о нем, — быстро ответила Рита. — О рыбаке? Он не знаменитость какая-нибудь, рыбак, и только. — А вот и не только! — решил вмешаться Тасос. — По радио передавали, что он схвачен… — А это вы полицейскому, это по его части, — недружелюбно прервал пожилой рыбак. — Эх, вашего брата схватили, а вы… полицейскому! — в сердцах произнес Тасос. — Кто же будете? — осторожно спросил рыбак. — С этого бы и начали, — улыбнулся Тасос. — Я таксист, а девушка моя… невеста. В Салоники везет показать меня родне. — Ну а рыбак-то тут при чем? — Потому и при чем, что мы не продажные шкуры, как вот тот, что в машине дрыхнет! — опять обозлился Тасос. — Товарищи, мы только хотели знать, что произошло там, на раскопках, где арестовали рыбака и нашего… хорошего знакомого, — примирительно произнесла Рита. — Кто же тот с вами в машине сидит? — ушел от ответа рыбак. — Могу его оставить в подарок, только учтите, любит шпионить и пакостить, — сказал Тасос. — Такого дерьма и так много, — отрезал рыбак. — А он что, тоже рыбаком интересуется? — Он-то рад, что рыбака и нашего знакомого схватили, — объяснил Тасос. — Можно посмотреть? — спросил рыбак, показав глазами на машину. Рыбаки долго разглядывали спящего. — Запомнить надо, — сказал один из них. — Пока я его не разукрасил, — показал кулак Тасос. — Ну, прощайте… конспираторы. Рыбаки переглянулись меж собой, пожилой отвел Тасоса и Риту в сторону и сказал: — Дошли до нас слухи, что там, где выкапывают старые памятники и камни, драка была между полицией и работающим народом, помяли бока друг другу, кое-кого арестовали, а кого точно и кто они, может, еще узнаем. Когда вернетесь из Салоник, остановитесь, только без этого… Рыбак бросил взгляд на машину. — И на том спасибо, — сказал Тасос. — Беспокоимся за нашего знакомого, за одного известного… — За него, парень, и мы в беспокойстве, — неожиданно продолжил рыбак. — Так и не спел он нам песню о буре. А она налетела-таки, завертела нас, уносит достойных, а таких, как этот иуда сонный, под крылышко взяла. Сами надеемся и ждем, что рыбак и знакомый певец бурю одолеют. Расстались друзьями. Рита одобряюще смотрела на Тасоса, когда тот, прощаясь с рыбаками, очень смущаясь, извинялся за свои несправедливые упреки и злые слова. — Пригласите на свадьбу — приедем. Рыба наша — остальное ваше! — пошутил старый рыбак и проводил «молодоженов» к машине. Пассажир спал до самых Салоник. Его пришлось растолкать. Он вытащил бумажку и назвал адрес, но как добраться до нужного места, никто не знал, а прохожие отвечали неохотно. Здание, которое они искали, оказалось полицейским управлением. Прощаясь, певец-шпик заявил, что надеется дня через два вернуться в Афины со своими прежними попутчиками и что с удовольствием познакомился бы с родственниками Риты. Девушка обнадеживающе улыбнулась, но адреса не дала. Тасос долго кружил по городу, чтобы запутать следы, пока не остановил машину у дома Ритиной бабушки недалеко от нефтеперерабатывающего завода на окраине Салоник. В ближайшем киоске Тасос купил несколько газет — местных и столичных: что пишут? Одна профашистская газетенка взахлеб рассказывала о смелых действиях истинных сынов «христианской Эллады» против антихристов-коммунистов, агентов одной иностранной державы. Из сообщения следовало, что подземелье античной крепости уже давно было превращено в один из подпольных коммунистических центров, причем среди участников археологических работ были не только греки, но и иностранцы, так что ото был центр международной коммунистической организации. Назывались имена арестованных «радистов» во главе с Никосом Ставридисом, который, как сообщалось, еще до военного переворота пытался легальным способом уехать в Советский Союз, а когда это ему не удалось, начал вести преступную подрывную работу. Почти такими же были публикации и в других газетах. Но Рита, переговорив с салоникскими товарищами, передала Тасосу подлинный рассказ о том, что произошло с «радистами». Когда агенты Пацакиса безуспешно пытались вырвать из рук молодого англичанина транзистор, завязалась драка, участников раскопок было больше, и преследователям здорово досталось, но вскоре прибыло подкрепление, в ход пошло оружие. Тогда из подземелья вышли Ставридис и его товарищи, чтобы помочь тем, кто их прятал и защищал, силы оказались неравными, многих арестовали, побросали в грузовики и увезли в Афины, среди них был и певец… А еще в этой профашистской газетенке сообщалось о том, что осужденные по делу об убийстве в Салониках левого депутата парламента Григориев Ламбракиса освобождены из заключения.БОМБА НА ТРИБУНЕ
В один и тот же день в редакцию московской газеты пришли тревожные вести из Афин и Рима. Они были срочно опубликованы. Сообщалось о том, что в Греции продолжаются преследования участников антинацистского Сопротивления, коммунистов, прогрессивных государственных, общественных и культурных деятелей. Агентами хунты схвачен и брошен в концлагерь известный певец и композитор Никос Ставридис. Римский корреспондент газеты сообщал: за несколько минут до начала многолюдного митинга в итальянской столице, на импровизированной сцене-трибуне была обнаружена бомба с часовым механизмом. Только случайность спасла от неминуемой гибели греческих певиц, выступающих в знаменитых черном и красном платьях с песнями протеста против фашистской хунты. На редакцию большой газеты, словно на высокий скальный берег, накатывались мощными волнами сообщения из «горячих точек» планеты, к ним привыкли и поэтому относились с профессиональным спокойствием, но эти две информации нарушили привычный ритм в телетайпной, комнатах сотрудников международного отдела, печатном цехе… Еще совсем недавно в редакции ждали греческого гостя, ждали его песен и рассказов о жизни, о борьбе за свободную Элладу, и вот теперь он в смертельной опасности. Захватившие власть в Афинах неофашисты способны на любые преступления. Это подтверждала обнаруженная в Риме бомба, от которой могли погибнуть две греческие певицы — знаменитая Елена Киприанис и дочь Никоса Ставридиса. Два события, взаимосвязанные друг с другом, были не просто газетной сенсацией, они как зеркало отразили опасную политическую ситуацию в Элладе, призывали к борьбе с наследниками Гитлера и Муссолини, к солидарности с жертвами «черных полковников». После этих публикаций в редакцию хлынул поток телеграмм и писем с выражением искренней солидарности героям Греции. Из Афин был получен подробный обзор событий, связанных с арестом группы Никоса Ставридиса. Юрий Котиков писал, что теперь идет борьба за спасение человека, имя и песни которого хорошо известны не только на его родине. В нынешней Греции, подчеркивал журналист, где невозможно создать даже нелегальный комитет в защиту арестованного певца, многие греки даже под дулами автоматов карателей поют или слушают записи песен Никоса, и этот мощный хор пугает мятежников, не дает фашистскому топору опуститься на голову Ставридиса, который опять на «острове смерти», но продолжает петь. Для молодого журналиста Котикова, который впервые работал за рубежом, события после военного переворота стали испытанием не только профессиональной подготовленности, но и мужества. Он отказывался верить во все происшедшее, но, действительно, был совершен переворот и был арестован Никос Ставридис. В тот же день, когда журналисту удалось передать в редакцию короткое сообщение о перевороте, была опубликована и статья Никоса Ставридиса «Первая встреча с В. И. Лениным». К сожалению, порадовать Никоса сообщением о вышедшей в свет статье он не смог — на телефонные звонки в доме певца никто не отзывался. Прошедшему слуху о том, что Никос Ставридис в числе первых арестованных в ночь на 21 апреля, Котиков не поверил и был очень рад, услышав голос певца по подпольному радио. Не хотелось верить и второму сообщению о том, что певец все-таки схвачен и ему угрожает смертная казнь. Чем можно было помочь узнику хунты? Котиков испытал чувство удовлетворения, когда узнал, что после его очерка о трагической судьбе греческого певца музыкальная общественность образовала комитет в защиту арестованного. В кабинете Ясона Пацакиса всегда были свежие Номера газет — греческих и зарубежных, шеф лично просматривал публикации о политической ситуации в стране. После схватки на развалинах античной крепости Пацакис испытывал двойственное чувство: с одной стороны, удовлетворение, что ликвидирована группа и арестован Ставридис, но, с другой стороны, слишком дорогая цена содеянного ввергала его в мрачные размышления. Кроме трусливого господина Дастоглу, все участники археологических раскопок встали на защиту группы, особенно иностранцы. Эти англичане так яростно боксировали, что, казалось, дерутся на ринге за самые почетные призы. Об этом писали многие газеты. По сообщениям получалось, что этот случай противодействия новому режиму в Греции имел международный характер и вызвал огромный резонанс. В Москве даже образован комитет в защиту певца, советские газеты полны антихунтовскими выступлениями. Но если главная цель операции в античной крепости все же достигнута, то в Риме все сорвалось из-за досадной случайности: кто-то заметил провод, запутавшийся с другими около микрофона, и сказал об этом радиотехнику, ну и тот, конечно, обнаружил бомбу. Если бы она сработала в установленное время, турне этих гречанок в черном и красном закончилось. Да, сорвалась задуманная и, казалось, тщательно подготовленная операция «Трибуна». Шум, поднятый прессой вокруг этих событий в Греции и Италии, заглушал «музыку оркестра», которым дирижировал шеф тайной полиции Ясон Пацакис. Тот шум был услышан во всех уголках Греции и воспринят как поддержка в антихунтовском сопротивлении. Еще одна подпольная радиостанция — «Голос правды» объявила о создании в Греции антидиктаторского Патриотического фронта с сокращенным названием ПАМ, а вслед за этой новостью было сообщено о создании КНЕ — Коммунистической организации греческой молодежи. Пацакис знал, что самой главной и самой энергичной силой в этой борьбе были коммунисты. Сколько их было схвачено и брошено в тюрьмы, в концлагеря на безжизненных островах смерти! Десятки тысяч греков и гречанок. Но коммунисты опять поднимаются и дерзко орудуют под самым носом у тайной полиции, и уничтожить их пока не удается. Диктатор в первый день переворота сказал Пацакису, что опасность коммунистического заговора в Греции он будет доказывать компрометирующимикомпартию документами. Но что-то не видно этих разоблачительных бумаг. Только как снежная лавина ширится сопротивление против хунты. Из донесений тайных агентов, действующих за пределами Греции, явствует, что никто, кроме правительственных верхушек США, ФРГ, Испании и Португалии, власть «черных полковников» не поддерживает, больше того — открыто выражаются протесты. А после неудачной акции в Риме поднялась огромная волна возмущений. Кто должен сдержать этот бешеный напор? Службы греческой безопасности — тайная полиция, военная полиция… Тяжелые думы хозяина кабинета прервал телефонный звонок — заработал аппарат прямой связи с главой хунты. По тону Пападопулоса Пацакис понял, что диктатор находится в состоянии крайнего раздражения. Вскоре, войдя в кабинет диктатора, он был встречен прямым вопросом: — Перед вашей службой поставлена задача вызывать недовольство наших друзей? Переспрашивать о «наших друзьях», чтобы выиграть время для правильного ответа, было бы наивно, и Пацакис голосом ретивого служаки быстро сказал: — Наши друзья решили и на этот раз принять участие в выполнении тщательно подготовленной моими людьми акции в Риме. Из мадридского разведцентра ЦРУ в Рим были посланы специалисты по… радиотехнике. Они откорректировали план операции «Трибуна» и сами взялись за установку… сюрприза с часовым механизмом. Так что все претензии не к Афинам. — Такой тон и такой совет неприемлем! — повысил голос диктатор. — Позволю заметить, что и для моей службы тоже. — Ваша служба ничего общего с делами внешними не имеет. Нам надо все уладить и успокоить наших друзей. Ссориться с ними не входит в мои планы, как, надеюсь, и в ваши, господин Пацакис. — Да, но такие осечки, как в операции «Трибуна», могут возникнуть еще, и тогда не просто недовольство — на наши головы будут ниспосланы все громы и молнии… — На вашу голову, уважаемый шеф тайной полиции. — От этого никто не гарантирован. — Представьте себе, что наши друзья не предъявляют претензий к другой полиции. Сильнее удара по своему престижу шеф тайной полиции еще не испытывал. Ему был приведен в пример генерал военной полиции — человек, который только и. думал, как отодвинуть на второй план старого служаку Пацакиса, который, дескать, отстал от современных требований, отдалить его от диктатора. Хорошо зная этого генерала, Пацакис хотел предупредить Пападопулоса, что военной полиции нельзя давать слишком большую власть, что ее шеф и глазом не моргнет и если надо, арестует самого главу хунты, а сам займёт его место. Вместо всего этого Пацакис, не показывая обиды, пообещал: — Господин Пападопулос, верная вам тайная полиция учтет замечания и впредь не будет вызывать как ваше недовольство, так и недовольство наших друзей. Пацакис продолжал стоять, несмотря на разрешение диктатора садиться, когда зазвонил телефон. Пападопулос с кем-то долго и любезно разговаривал. «Женщина», — определил шеф тайной полиции и бросил быстрый взгляд на настенные часы: потом он поинтересуется, кто в это время звонил диктатору и о чем был разговор. — Кстати, господин Пацакис, — уже мягче произнес диктатор после окончания телефонного разговора, — как обстоят дела с нашим островом? — Он будет вашим, как и все, что самим господом богом дано нашему вождю! Сочетание «бог» и «вождь», когда речь шла о «главе христианской Эллады», особенно льстило диктатору, он верил в свою миссию — спасти страну от врагов, самыми опасными среди которых были коммунисты. Пацакис хорошо знал и эту слабинку, и то, что обычно следовало за грубой лестью, которая сейчас настойчиво насаждалась в Греции. Но диктатор лишь довольно вскинул голову и заложил руки за спину. «Неужели все еще находится под впечатлением телефонного разговора?» — подумал Пацакис и пожалел, что на сей раз заряд его лести не достиг цели. Обычно же «вождь Эллады» сразу начинал говорить о великой миссии «спасителей нации и христианства», требовал решительно бороться с коммунизмом и тем самым заслужить похвалу всевышнего и друзей на земле. — Говорят, что ваш остров когда-то предназначался в подарок одной даме, которая превратилась в нашего общего врага? — диктатор продолжил разговор. — Та дама достойна другого подарка. — Но она отвергла и это. Пацакис прямо посмотрел в глаза диктатора, стараясь разгадать смысл сказанного. — Не теряйтесь в догадках, — будто угадал его мысли диктатор. — Буду с вами откровенен. Я бы хотел видеть в тиши на уютном острове даму, которая того заслуживает. И не хотел бы, чтобы кто-то мешал нам, допустив, другая дама, которая поселилась бы на… вашем острове. — Это исключается! — Да, если речь идет о той даме, которая, как вы сказали, достойна… другого подарка. Но, кроме вас, есть и ваш высокоуважаемый папа. — Мой отец любит сравнивать женщину с бриллиантом в короне. Ваш бриллиант должен быть единственным и неповторимым. Никто под небом Эллады не может позволить себе то, что дано… Диктатор поднял руку и улыбнулся, давая понять, что он вполне доволен таким оборотом дела. Провожая Пацакиса до дверей кабинета, сказал: — Ничто человеческое не минет и нас, рабов божьих. Да поможет вам бог в нашем общем деле и в делах… за тридевять земель! По дороге в свой офис Пацакис думал о том, что имел в виду этот «вождь Эллады» и одновременно агент ЦРУ, действиями которого руководят из мадридского филиала ЦРУ. Пусть диктатор знает, что это известно шефу тайной полиции. Ну а что касается генерала — шефа военной полиции, то жизнь еще покажет, кто действительно работал на «вождя», а кто сам бы хотел быть в этой роли. Со смешанным чувством обиды, тревоги и неудовлетворенности от разговора с диктатором-выскочкой шеф тайной полиции и вошел в свой кабинет. Первое, что он увидел, на столе цветные фотографии из Рима. У микрофона на трибуне стоит Елена вся в черном, не ведая, что через какое-то мгновение может сработать часовой механизм. Рядом — молоденькая женщина в красном. Приемная дочь Ставридиса. Повзрослевшая, красотой не уступающая даже Елене. А вот они обе с недоумением смотрят, как люди на сколоченной сцене-трибуне разглядывают густую паутину проводов. Крупным планом лицо мужчины с вытаращенными, видимо, от сильного испуга глазами. Сын министра-эмигранта, подвизающийся около двух певиц, Алексис, Агенты-Пацакиса пытались завербовать его, соблазняли большими суммами, но он неожиданно отказался и вот теперь выступает в роли организатора этого турне. Его отец, который среди либералов считался крайне правым, тоже позволил себе резкие выпады против режима диктатуры в Греции, приветствовал создание антидиктаторского фронта, призывал беженцев и эмигрантов включиться в движение за свободную от фашизма Элладу. Шеф вызвал помощника. — Куда теперь направляются эти? — кивком показал на фотографии. — Планируется поездка в Лондон, где их сопровождать будет старый знакомый, байронист Джекобс. — Джекобс? Какой Джекобс? — Старший брат археолога Джекобса. — Он тоже коммунист? — Всегда им сочувствовал. — Старший брат поддерживает коммунистов дома, младший в Греции. Попахивает агентурой. Какие у них связи с Москвой? — Надо выяснить, шеф. С Москвой, надо полагать, связи у двух наших соотечественниц. — Каким образом? — После Лондона они должны быть в Москве.ПЕСНИ, ОТ КОТОРЫХ РАСТРЕСКИВАЮТСЯ КАМНИ
Если бы не перебитые, плохо слушающиеся ноги, он бы вырвался со своими друзьями от преследователей. Но ноги подвели — он споткнулся о плиту и на него сразу навалились рассвирепевшие агенты. Никос слышал, как Джекобс звал своих соотечественников на помощь. Потом его оттащили и бросили в кузов грузовика, где он потерял сознание. Никос очнулся уже в полутемном подвале, вокруг была вода, видимо, ее лили на него, чтобы быстрее пришел в себя и начал отвечать на вопросы о радиостанции, о помощниках… И вот Никос опять на острове, который остался в памяти и в песне, которую он написал на слова такого же узника:ХРОНИКА ЧЕРНЫХ ЛЕТ
Записи в дневнике, начатом в первый день переворота, должны были, как надеялся Юрий Котиков, стать документальной основой для задуманной книги-хроники черных лет в истории Греции. Но в начале лета 1973 года записи оборвались — истек срок долгой и трудной командировки. Двоякое чувство испытывал журналист, собираясь на Родину. Первая зарубежная командировка была временем больших испытаний. В первые же месяцы работы в Афинах переворот на рассвете апрельского дня изменил политическую ситуацию в Греции, оказавшейся теперь во власти темных сил. В голове не укладывалось, что более чем через двадцать лет после краха мирового фашизма, на греческой земле, где впервые выросло дерево демократии, наследники Гитлера, Муссолини и диктатора Метаксаса пытаются опять установить «новый порядок». Проснувшись ночью от сильного шума и грохота, Котиков увидел в окне колонны танков, которые двигались к центру города. Он включил радио и не поверил своим ушам: в результате переворота к власти пришла военная хунта, которая ставила своей целью спасти Грецию от угрозы коммунизма. Потом он бросился к телефону, но зуммера не было — отключили. С риском для жизни журналист добрался до советского посольства — особняка в центральной части города неподалеку от королевского дворца и парламента, которые были заблокированы танками — и удивился, что спокойный деловой ритм работы не нарушен. Один старый дипломат вытащил из ящика письменного стола свою записную книжку и познакомил Котикова с любопытной статистикой: с тех пор, как Греция получила национальную независимость — почти за полторы сотни лет, — сменилось четыреста сорок правительств, причем нынешний король за последние три года сформировал семь правительственных кабинетов, восьмой — из престарелых генералов — ему образовать не удалось: более прыткими оказались полковники. В последующие дни журналист записал в своем дневнике, что за спиной мятежников стояли американцы, Посольство США в Афинах, военные стратеги НАТО, агенты ЦРУ принимали самое активное участие в подготовке и осуществлении сверхсекретной операции «Прометей». Факты выявили подлинную сущность «спасителей Эллады» и «истинных христиан-антикоммунистов», которые нанесли удар по демократам, участникам антинацистского Сопротивления, популярным в народе культурным деятелям… С трудом сдерживая негодование, молодой журналист-международник приводил четкий фактический материал, находил интересные детали, чтобы в своих первых корреспонденциях рассказать правду о греческой трагедии. На родине журналиста всегда проявляли живой интерес к Элладе — стране древней культуры. С приходом к власти неофашистов над наследниками великих эллинов навис дамоклов меч, многие выдающиеся деятели Греции были брошены на пустынные острова смерти. После сообщения о том, что популярный певец и композитор Никос Ставридис схвачен и ему грозит смерть, поднялась целая буря протестов. Но хунта, игнорируя мировое общественное мнение, ужесточила репрессии. За неспособность организовать борьбу с противниками режима по «совету» эмиссара ЦРУ был смещен со своего поста шеф службы безопасности Ясон Пацакис. Сам диктатор не смог защитить Пацакиса-младшего, хотя был во многом обязан Пацакису-старшему. Значит, какие-то силы могли наносить ощутимые удары, не считаясь с властями предержащими. Кто будет следующим? Борьба была и в верхушке хунты поначалу подспудная: кто будет ближе к диктатору; затем борьба обострилась, принимая порой открытые формы. Главной причиной было недовольство многих диктатором, который никакими заметными государственными и политическими делами себя не проявил. Поговаривали, что вполне возможен «домашний» переворот — замена диктатора, который в обстановке всевозрастающего недовольства в стране будет способен укрепить власть. Перед отъездом из Афин Котиков перечитывал свои записи в дневнике. И страницы оживали. Ему вспомнилась короткая встреча с молодой гречанкой по имени Ниса, которая скрывалась от агентов тайной полиции. Оказалось, что она вместе с Никосом Ставридисом участвовала в подпольных радиопередачах в первые дни после переворота. — Вы же очень рисковали, — сказал журналист. — А кто не рискует? Борьба без риска не бывает. Разве не рискуют две гречанки в черном и красном, люди, продолжающие бороться на островах смерти? — ответила Ниса. И затем протянула Котикову листочек бумаги со стихами, которые тот быстро прочитал. Ниса добавила: — И музыка! Существуют песни нашего движения сопротивления. Журналист догадался, что девушка думала о Никосе Ставридисе, который не сдавался и каким-то чудом передавал свои песни с островов смерти. Эти песни всюду. Благодаря счастливому случаю Ниса, как она сама рассказывала, вступила в ряды антидиктаторского сопротивления. Несколько дней участия в рискованных радиопередачах вместе с Никосом Ставридисом и его друзьями оставили в ее душе глубокий след. Хунта делала отчаянные попытки перетянуть молодежь на свою сторону. Была даже создана полувоенная молодежная фашистская организация с «красноречивым» названием «Храбрые». Но «храбрецов» оказалась жалкая куча, организация вскоре перестала существовать, так же как и неофашистская студенческая ЭКОФ. Ниса рассказала о том, как студенческая молодежь — большая ее часть — решительно включилась в противоборство с диктатурой. — Наша организация — Коммунистическая молодежь Греции — все ширится и крепнет! — воскликнула Ниса. Какой рассказ получался о борющейся молодежи Греции! Котиков, не называя настоящего имени Нисы, рассказал о ней своим читателям, о члене греческого комсомола, организации, которая под руководством компартии с каждым днем все активней борется с антинародным режимом. …В Пирее на берегу живописного залива была маленькая таверна, которая славилась блюдами из свежей рыбы и доступными ценами, поэтому здесь за столиками обычно собирались простые труженики. Котикову она очень нравилась тем, что тут можно было спокойно посидеть с друзьями. В один из последних дней своего пребывания в Афинах журналист с несколькими советскими коллегами приехал сюда. К их столику подошел пожилой грек — однорукий официант. Кто мог подумать, что эта встреча с бывшим владельцем маленькой кофейни в Плаки, Харалампосом, будет столь интересной. — Русские? — вдруг спросил официант, расставляя посуду на столе. Потом огляделся и продолжил: — Есть и у меня хорошие русские друзья. — Кто же они? — спросил Котиков. — Артисты. Несколько лет назад приезжали из Москвы. Пригласили меня на свой спектакль. Про историю… иркутскую историю. А потом все были в моей кофейне. В Плаке. Я им сказал, что тоже… вроде артиста, на Макронисосе мы ухитрились участвовать в спектакле. Та пьеса называлась «Дальняя дорога». Автор ее — русский. О, что было! Сначала они мне не поверили, а когда я им привел слова из этого спектакля и переводчик в точности перевел, то один из русских сказал, что я настоящий заслуженный артист Греции. Заслуженный заключенный я. И сцена моя — Макронисос. Тогда в кофейне мы пели про Макронисос. Мой друг написал песню об этом проклятом острове. Сейчас я опять там побывал. Выпустили. Однорукие им не нужны камни ворочать. Тогда тринадцать и сейчас больше пяти лет просидел. Почти двадцать лет отняли и руку в придачу. Таверна давно опустела. Лишь журналисты, тесно сидящие за одним столом, остались, слушали удивительную одиссею грека по имени Харалампос. — Артисты из Москвы писали мне, а после… Рассказчик махнул рукой, продолжил тихо: — В общем, после переворота если письма и были, то до острова не доходили. Разорили, снесли кофейню «Самандос», самого Самандоса тоже схватили — и на остров. Лишь сыну его удалось скрыться. — А кто песню о Макронисосе написал? — спросил Котиков. — О Ставридисе слышали? Котиков утвердительно кивнул. И еще Харалампос рассказал, как помогли ему товарищи, многие из которых были с ним на Макронисосе, — устроили официантом к надежному хозяину рыбиной таверны. Не пропадать же инвалиду, участнику Сопротивления с голода! Поступили по закону товарищеской солидарности. И об этой встрече был написан очерк «Эллады славные сыны». …В том же Пирее у причала для суперяхт, владельцами которых могли быть только денежные тузы, Котиков однажды увидел белоснежное судно с золотыми буквами ДП на борту. Из нутра этой большой прогулочной яхты выполз ослепительно блестевший лимузин небесного цвета, за рулем которого восседала уже немолодая женщина — явно иностранка. «Любовница Ахи», — услышал журналист шепот позади себя и догадался, что так назвали Ахиллеса Пацакиса — одного из богатейших людей в Греции. А затем увидел и самого Ахи; тот сошел с яхты и сел в автомашину рядом с ДП — Деборой Петерс, о которой шли разные слухи… В последние годы Пацакис-старший редко бывал в Греции, демонстрируя свое недовольство по поводу решения хунты сместить Пацакиса-младшего с поста шефа службы безопасности, хотя наследник получил важный пост в департаменте культурных связей с внешним миром и руководил зарубежной агентурой, действовавшей под прикрытием гастролирующих артистов… Наведываясь в Грецию, Пацакис-старший жил уединенно на своем острове вместе с заокеанской дамой сердца, в обществе показывался редко и неохотно, особенно сторонился своих конкурентов, которые получали гарантии на выгодные экономические акции, сулившие баснословные доходы, поддерживая хунту крупными денежными суммами. С Ахиллеса Пацакиса началось «увлечение» собственными островами — райскими уголками индивидуального пользования, «камешком» посреди моря, на которых шла жизнь, невидимая постороннему глазу. Его наследник помог диктатору завладеть соседним островом, который принадлежал самому серьезному конкуренту Пацакиса-старшего Харосу. За это бывший сосед-нувориш поклялся отомстить клану Пацакисов. Говорили, что к удалению Пацакиса-младшего из органов службы безопасности приложил руку Харос, который был тесно связан с американцами. Когда интересы двух судовладельцев столкнулись и хунта должна была кому-то отдать предпочтение, успех сопутствовал Харосу. Разъяренный Пацакис подал в суд, но и там чаша весов усилиями «объективной» Фемиды склонялась на сторону конкурента. Жалобщик закатил большую речь, в которой обличал продажность главарей хунты и самого диктатора. Разразился колоссальный скандал. У Ахиллеса Пацакиса, прославившегося многочисленными браками, был сын от женщины, которая впоследствии стала женой Хароса. Сын за это прекратил с матерью всякое общение и по совету отца уехал за границу учиться на менеджера, чтобы стать преемником дела клана Пацакисов. Его-то и избрали своей жертвой враги отца. Сын увлекался автомобильными ралли, и однажды его спортивная машина новейшей марки взорвалась. Гонщик в тяжелом состоянии был помещен в госпиталь, но медики не давали никаких гарантий. Специалисты установили, что взрыв произошел от заложенной под сиденье бомбы. Заподозренный в этом механик был арестован и на допросах сознался, что его подговорили организовать взрыв, посулив очень крупную сумму. Пацакис был уверен, что механика купил его соперник, и пообещал сумму еще большую. Механик сделал заявление для прессы, что к делу гибели сына Пацакиса причастен Харос, но бумага с подписью исчезла, а его самого нашли в камере мертвым. До отъезда в Москву оставалось несколько дней, но Котиков успел написать очерк «Хищники» — гневное обличение олигархии, главной силы в борьбе с демократией и коммунизмом, которая субсидирует и поддерживает антинародные режимы. А затем и последний очерк о Греции, о ее свободном завтра. До новых встреч, Эллада? По пути в Москву в Софии была остановка. Поезд задержался дольше обычного на вокзале, и Котиков прогуливался по перрону. Его внимание привлекла женщина в черной одежде. Что-то знакомое было в этой худощавой седеющей женщине, но в Болгарии он никого не знал. — Кириас [1] Котиков! — вдруг произнесла женщина и сделала к нему несколько шагов. — Хтония! — радостно воскликнул Котиков. Они виделись в Афинах всего лишь раз, но запомнили друг друга — жена Ставридиса и советский друг Ставридиса. — Да, да, я знал, что вы в Болгарии, — обрадовался Котиков. — Но встретить здесь, на перроне, никак не ожидал. — А я жду поезд на Пловдив. О, вы хорошо говорите на греческом! — Хтония! Как дети? — Они со мной, — тихо произнесла Хтония и задумалась. — Мы все живем надеждой, что с Никосом будет все в порядке, Хтония, — решительно сказал Котиков. — Вы, наверное, знаете, что с каждым днем все сильнее колеблется земля под ногами этих временщиков. Я уверен, что вы с Никосом еще приедете в Москву. Мы будем ждать вас, Хтония.НО ПАСАРАН!
После турне по Европе, имевшего большой политический резонанс, греческая группа пересекла океан. Но в Штатах тамошние богатые греки, традиционно поддерживающие все крайние правые режимы на покинутой родине, воспротивились выступлению соотечественниц в черном и красном. К ним присоединился и самый американизированный грек — мистер Пацакис. После трагедии с сыном-автомобилистом Ахи уже был не в той силе, но золота в его сейфах не убавилось, а это открывало перед ним все двери и заставляло считаться с его желаниями. Поначалу Пацакис хотел досадить нынешним правителям в Афинах и одновременно извлечь выгоду из концерта двух гречанок, предоставив им большой зал для выступлений. Был бы во всем своем прежнем блеске, непременно встретился бы с Еленой Киприанис, которая так и не стала «самым крупным бриллиантом в фамильной короне», не вошла в клан Пацакисов, отказав его сыну. Доверенный человек Ахи Пацакиса разыскал в Нью-Йорке по телефону импресарио греческой концертной группы и очень удивился, узнав, что разговаривает с сыном одного из бывших министров. Алексис после первого же выступления вызвался добровольно быть организатором гастролей греческих певцов и музыкантов, все его вскоре стали называть «господин импресарио», хотя никаких вознаграждений он не имел за это. Наследник министра вдруг обнаружил такие способности, что Елена, повидавшая за свою долгую гастрольную практику разных импресарио, охотно согласилась, чтобы тот вошел в группу. Алексис проявлял большие способности, предприимчивость во время этих поездок и выступлений, которые почти всегда превращались в политические акции — в митинги, дискуссии, встречи… Он так увлекся, что с головой ушел в новое интересное дело и не думал о прежней праздной жизни, которую совсем недавно считал престижной для каждого состоятельного молодого человека. Молодой грек из высшего общества стал заметной фигурой на арене политической борьбы с хунтой. К нему уже посылались тайные агенты греческой службы безопасности, которые неизменно получали решительный отпор даже после угроз физической расправы с противником нового режима. Потребность быть среди людей, которые с риском для жизни выступали против узурпаторов, всегда видеть рядом Лулу, в которую он был тайно влюблен, помогла Алексису найти свое место в антидиктаторской борьбе. Особенно сильное впечатление на него произвело их пребывание в Москве; молодого человека поразил искренний интерес русских к его родине, знание истории, культуры, политического положения Греции. У Алексиса тоже появилось много друзей в Москве, и никого не интересовало — сын он министра или мелкого чиновника. Для них он был греком, одним из тех, кто говорит людям правду о том, что делается сейчас в Греции, и призывает к борьбе за свободу многострадальной страны. Резким контрастом было их пребывание в Соединенных Штатах. Греческую группу в Нью-Йорке удивляло безразличие концертных фирм, импресарио к певцам и музыкантам, гастроли которых во многих странах неизменно проходили с большим успехом. Один из импресарио, давний знакомый Елены, под большим секретом объяснил им причину столь прохладного отношения. Оказалось, что в нынешней ситуации, когда администрация Белого дома поддерживает хунту «черных полковников», смельчаков организовать выступления даже такой известной певицы, как миссис Киприанис, найти практически невозможно. Вот тогда-то в гостиничном номере Алексиса и раздался телефонный звонок доверенного лица Ахиллеса Пацакиса. Из разговора Алексис понял, что их соотечественник может помочь организовать несколько концертов, но господин Пацакис хочет вести переговоры непосредственно с Еленой Киприанис, чтобы уточнить некоторые детали. Первой реакцией певицы, когда Алексис передал содержание этого разговора было отказаться от встречи с человеком, который нечего не делает без личной выгоды. Но, получив отказ, настойчивый Ахи еще раз повторил свое предложение. И опять не добившись положительного ответа, Пацакис решил сам приехать в отель, где остановились греческие артисты. На что он рассчитывал, ответить сам себе Ахиллес Пацакис не мог. Может быть, им двигало любопытство и желание после стольких лет вновь увидеть певицу, которая сделала блестящую карьеру, но продолжает свою бунтарскую деятельность, обрядилась во все черное и вот уже несколько лет появляется на сценах только так, словно находится в глубоком трауре? Пацакис тоже был в черном — после гибели сына. Его приезд в отель был замечен, служители согнулись в низком поклоне… Он знал, что госпожа Киприанис у себя, и без предупреждения постучал в дверь номера. Когда Елена открыла дверь, она не сразу узнала старого знакомого, заметно исхудавшего и сгорбившегося. Первым ее желанием было захлопнуть дверь. Но, секунду поколебавшись, она пригласила гостя войти в номер. О чем они говорили во время этой встречи, продолжавшейся считанные минуты, никто так и не узнал. У Елены были свои счеты с Пацакисами. Главное — их дороги давно разошлись, и оба знали, что они больше никогда не сойдутся. Но сегодня у Ахиллеса Пацакиса, как он думал, был на руках сильный козырь. Он тоже ненавидит хунту, как и госпожа Киприанис. Да, он финансировал главарей переворота, но разочаровался, убедился в продажности и беспринципности диктатора и его окружения. Он поможет организовать концерт в Нью-Йорке, и это будет его, Пацакиса, месть временщикам в Афинах. Месть за сына… И осекся под взглядом Елены, в котором прочитал: «А другой сын служит хунте». Вот так судьба еще раз столкнула мультимиллионера и известную певицу, которая опять не попалась в хитро расставленные сети. А вероломный Ахи Пацакис присоединился к ярым противникам артистов в Штатах. После гастролей в нескольких латиноамериканских странах греческая группа приехала в Чили. В Сантьяго Елену встретили знакомые оперные артисты, а Лулу взял под опеку очень энергичный гитарист-певец, с которым она познакомилась на одном из международных фестивалей молодежи. Как ни пытались организаторы концертов убедить гостей, что в чилийской столице все спокойно и мирному течению жизни ничего не угрожает, все же чувствовалась какая-то напряженность вокруг… На первом же концерте, прошедшем с большим успехом, когда умолкли восторженные аплодисменты и публика двинулась к выходам, раздались громкие выкрики. Гитарист-певец с негодованием объяснил удивленной Лулу: — Это фашисты. — Молодой чилиец по имени Луис крепко сжал кулаки, словно готовился к драке с крикунами, которые пытались испортить впечатление от концерта. — Трусы несчастные. Крикнули и убежали, смешались с толпой. Сделать свое черное дело раньше побоялись. Растерзали бы этих недобитых фашистов. — У нас тоже так бывало… до переворота, — сказала Лулу. — Сперва крикуны, потом танки! — не мог успокоиться Луис. — Так действовали и действуют фашисты. — Пока не поздно, их надо остановить. В Греции мы опоздали… — Ни в Греции, ни у нас фашизм не пройдет! Темпераментный чилиец напоминал гречанке отца: Ставридис тоже долго не мог успокоиться, когда фашистские молодчики устраивали провокации во время концертов, угрожали певцу расправой… Месяца за два до переворота, когда Лулу шла на молодежный вечер, у входа в клуб она увидела афишу с портретом Никоса Ставридиса: к голове певца чьей-то рукой была пририсована петля. Об этом случае Лулу рассказала в столичном молодежном центре, куда ее привел Луис и уговорил выступить. Лулу была поражена, когда на сцену вынесли плакат: Луис с гитарой и тоже с петлей… — Фашизм везде одинаков! — бросил в тишину зала Луис, которому тоже угрожали смертью за его песни. А Лулу взяла его гитару и запела песню, которую сочинил ее отец после того случая с плакатом:ПОХИЩЕНИЕ В «ДОЛИНЕ БЛУЖДАНИЙ»
Короткое и резкое, как выстрел, испанское «Но пасаран!», кем-то нацарапанное кровью на стене, Елена увидела в маленькой и полутемной тюремной камере, когда гитлеровцы арестовали ее в годы антинацистского Сопротивления. Не думала она тогда, что придется не раз в жизни произносить это слово-клятву, которое было понятно людям многих национальностей после гражданской войны в Испании. И после новой трагедии в Сантьяго «Но пасаран!» звучало в устах не только чилийцев, но и греческих гостей. После того как Елена медленно опустила сжатый кулак, она стала вспоминать дни своего ареста, кровавую надпись на тюремной стене… Да, ее похитили в изгнании, когда вместе с отцом скрывалась в горной деревушке. В той деревушке она и встретила маленькую Лулу девочку, которая осталась без родителей, убитых фашистами. Тогда Лулу было три года. Девчушка осталась со своим дедом, то и дело звала мать и немного успокоилась, когда в доме появились Елена и маэстро Киприанис. Елена привыкла к милой, ласковой девочке, которая называла ее: мамой. Но судьбе суждено было еще раз оставить несчастную Лулу без матери. Случилось это после того, как Елена внезапно исчезла — не вернулась с прогулки в сельской долине, которую называли «Долиной блужданий». Что-то темное опустилось на Елену, цепкие руки грубо схватили ее, зажали рот и быстро понесли… Елена даже не успела крикнуть, позвать на помощь. Она услышала хриплый возглас: «Шнель! Шнель!» Потом ее бросили в автомашину и повезли. Сквозь шум мотора она слышала обрывки фраз на немецком языке. Одно было ясно: гитлеровцы обнаружили место пребывания Киприанисов. Мысль о том, что жизнь отца в опасности, острой болью отдалась в сердце. Наконец машина остановилась. Тот же хриплый голос нетерпеливо крикнул: «Шнель! Шнель!» Елену внесли в помещение. Когда дверь захлопнулась, девушка сбросила с себя покрывало и огляделась. Узкая комната с грязными стенами. Маленькое зарешеченное окошко. Фашистский застенок. Тюрьма. Да, она в тюрьме, в одиночной камере. Теперь надо ждать допросов и пыток. От сознания безысходности и бессилия тяжелый комок подкатил к горлу, стало трудно дышать… Вопль отчаяния вырвался из груди Елены. Она закусила губы, чтобы заглушить рыдания, старалась успокоиться до того, как сюда войдут ее истязатели. Повернулась к стене и вдруг увидела нацарапанные кровью слова: «Но пасаран!» Разными почерками, карандашом или чем-то острым узники камеры писали на стене то, что хотели оставить людям. Их слова дополняли друг друга и становились для нового заключенного завещанием борцов за свободную Элладу. «Кто верность не хранил друзьям, как верность флагу воин, достоин разве счастья тот? О нет, он не достоин!» Под этими словами, написанными карандашом, тем же почерком наспех было нацарапано, видимо, гвоздем или кусочком проволоки: «Сегодня на рассвете меня расстреляют. Я жду… И не боюсь. Горжусь, что умираю за наше общее дело. Я сохранил верность боевым товарищам и поэтому счастлив. Мои друзья, мой сыновья отпразднуют победу. За мной уже идут. Последними словами будут слова песни-набата… Ваш Панайотис Коккинос. 26.8.41 г.». Елене стало холодно, словно сама смерть прикоснулась к ней. Она еще раз посмотрела на дату и подсчитала, что тот, кто остался верным друзьям и делу борьбы с врагами Греции, погиб четыре месяца назад. «А знают ли об этом на воле, его родные, его сыновья? Или был человек — и его не стало? И что дала гибель одного человека? Кто слышал последнюю в его жизни песню?» Второй заключенный писал: «И я красивым быть хотел бы, и храбрым тоже быть. И дар певца иметь. Вот и все — других даров не нужно». Елена перечитала первые строки и поняла, что второй приговоренный к смерти хотел быть похожим на того, кто, по-видимому, славился красотой, мужеством и даром певца. И тот, кто хотел быть таким, как расстрелянный Панайотис Коккинос, писал 1 сентября 1941 года: «Сегодняшнее утро — последнее в моей короткой жизни. Сразу три даты. Сегодня я родился. Мне двадцать лет. Сегодня вторая годовщина мировой войны. Сегодня меня расстреляют. Сегодня я говорю последние слова. Верю: фашизм будет разгромлен и уничтожен. Жалею, что не доживу до того дня. Я не исполнил своих желаний, не стал певцом для моего горячо любимого народа. Но я оставил друзьям несколько песен. Они будут жить, а в них буду жить и я. Прощайте. То же буду петь под дулами автоматов. Димитрис Гекас». Двадцать лет! Столько же, сколько и ей, Елене. А что она слышала раньше о своем сверстнике — певце и сочинителе песен? В двадцать лет он ушел из жизни, уверенный, что останется жить в своих песнях. Таких сильных, убежденных в своей правоте людей Елена уже знала: была с ними на Олимпе, в доме Яниса, такими были ее отец и Никос. Завещания смертников, написанные на стене, потрясли Елену. Но надо было еще прочесть остальные надписи. Третий почерк принадлежал женщине. Афинская студентка Мелина Ригас писала: ее ссылают в концлагерь, она отомстит врагам Греции, за погибших двух братьев и ее боевого друга, от своих убеждений не откажется. «А эту девушку из Афин я знаю? — подумала Елена. — Может быть, не раз встречались с Мелиной на концертах, просто на улице, может, жили где-то совсем рядом, пели одни и те же песни, читали одни и те же книги? В жизнь студентки тоже ворвалась война, и она не захотела покориться. И вот она на острове смерти. Ее, наверное, пытали, заставляли отказаться от друзей, отречься от убеждений, а она выстояла, не согнулась, не сдалась». Елена попыталась определить возраст, характер, судьбу авторов завещаний. Ни один из участников не сожалел, не роптал, не просил о пощаде. Елена смотрела на стену — и перед ней возникали лица узников камеры. Ей казалось, что здесь, она не одна, что на нее смотрят те, кто уже был здесь, что сама Эллада поддержит ее в будущих испытаниях. Теперь она причастна к тем, кто принял муки, кто пошел на смерть, но не покорился врагу. Отныне ее жизнь — продолжение судеб тех греков, чьи имена, остались на тюремной стене. Подобное чувство Елена уже испытала однажды, когда отец отказался выполнить приказ сыграть песню-набат. Елена должна бороться не только за себя: за своего погибшего сверстника Димитриса, за афинскую студентку Мелину, за всех, кто оставил завещание товарищам по Сопротивлению. …Елену долго вели длинными и узкими коридорами, мимо множества камер. Два гестаповских офицера предложили фрейлейн Киприанис сесть и посоветовали быть разумной. Долго тянулся допрос. Елена отвечала, что ничего не знает, или просто молчала. Оказавшись снова в камере, она попыталась осмыслить все, что было во время допроса, и пришла к выводу, что гитлеровцы еще не были в селе, где скрывается отец. На следующий день ее опять повели на допрос. Один из офицеров, видимо старший, сразу же предложил: — Джентльменское соглашение, фрейлейн. Вы рассказываете все, что знаете о партизанских отрядах, а мы освобождаем вашего отца… — Он арестован? — испуганно спросила Елена. Немцы переглянулись. Затем тот, кто начал допрос, сказал: — От нас, фрейлейн, еще никто не уходил. Так вот. Мы призываем вас к благоразумию. Вы избрали, поверьте, совсем не тот путь. Вас ждет успех, блеск рампы, деньги, много денег и много славы. А вы лезете под дуло автомата, как эти фанатики, которым в жизни просто-напросто не нашлось места. Да, вы гречанка и не хотите служить нам. Мы предоставляем вам, фрейлейн, свободу выбора любой страны. Кстати, фрейлейн, с вами желает встретиться ваша мать. — У меня нет матери! — отрезала Елена, еще раз отказавшись от своей матери, которая предала мужа, дочь, семью, свою родину, выйдя замуж за какого-то чина в Германии. — О, нельзя быть такой жестокой… — Гестаповец вытащил из бокового кармана бумажник и извлек оттуда фотографию. — У меня тоже есть мать. Она была балериной. У артистов, фрейлейн, своя жизнь. Надо быть снисходительной к некоторым их слабостям. Но если вы не желаете видеть свою мать, то встреча с отцом для вас будет более приятной? — Вы меня отпускаете? — не поняла Елена. Фашисты явно не торопились с ответом. — Только после того, фрейлейн, как вы ответите на наши вопросы, — произнес второй немец. — Мы можем быть терпеливыми. У нас имеются и другие методы развязывать языки. Нас интересуют партизаны, а вас — ваш отец. Елена быстро встала. По ухмылкам — гестаповцев Елена поняла, что допустила ошибку. Не надо было вскакивать и нервничать. Фашисты постараются использовать ее любовь к отцу. — Хочу предупредить вас, фрейлейн, — вкрадчиво сказал призванный блондин, — что мы устроим, если только вы пожелаете, вашу поездку за границу вместе с маэстро. Опять займетесь музыкой, пением. А может быть, пожелаете вернуться в Афины? Там простят Киприанисов. Как видите, фрейлейн, выбор большой. Дело за вами. — А если я выберу другое? — Не советую, — последовал ответ. — Вы созданы, фрейлейн, для сцены, а не для виселицы. Примите наши предложения — и вы свободны. У вас влиятельная мать, но вы отказываетесь от нее. У вас был богатый друг, но теперь он не пользуется нашим доверием. Вы ведь знаете Пацакиса… младшего Пацакиса? Он бежал. Находится в оппозиции к новому режиму. Но это, фрейлейн, только так, для вашего сведения. Мы даем вам подумать еще сутки. Но сроки истекают, и вы вынудите нас… переменить тон нашего разговора. Но на следующий день Елену не повели на допрос. В камеру пришли и сообщили, что ее повезут к большому начальству. — Не хотите ли вы, фрейлейн, к этому что-нибудь добавить? — с издевкой сказал гестаповец, глядя на стену с надписями заключенных. — К сожалению, я пока не имею на это права, — с вызовом ответила Елена. — О, вы еще на это надеетесь, не правда ли? Или вы уже избрали иной путь, чем эти… герои? — Нет, путь у нас один. На этой стене все написано. — И вы не хотите остаться в стороне от этой дороги? — Нет, не хочу. Гестаповец, играя роль воспитанного человека, показал на дверь. В коридоре стояли двое вооруженных солдат. Елена даже не успела оглянуться, чтобы запомнить это мрачное тюремное здание, большой двор, окруженный высоким забором. Ее втолкнули в закрытую автомашину, двое солдат сели рядом. Машина тронулась в путь. Под покровом темной, беззвездной ночи в Пирее готовилось к отплытию судно под флагом нейтральной Панамы. На пирсе не было обычного шумами суеты, какие бывают перед выходом судна в открытое море. Немногочисленная команда и несколько докеров молча делали свое дело. В самой лучшей каюте судна находился турецкий подданный, богатый коммерсант. Об этом свидетельствовали документы. Но ни турецкий паспорт, ни округлая мусульманская борода, ни темные очки не помогли сохранить тайну Пацакиса-младшего. Он вышел в коридор и оказался в другой каюте, где на маленьком диване сидела ошеломленная Елена. — Наконец-то мы вместе! — воскликнул Ясон. После небольшого замешательства Елена спросила: — Может быть, вы мне объясните… Ясон предупреждающе поднял руку и торжественно произнес: — Операция по спасению была проведена блестяще! Теперь все осталось позади. Впереди свобода! — Что это за спектакль? Объясните же наконец! — раздраженно сказала Елена. Ясон самодовольно улыбнулся. — Кому же я все-таки обязана своим спасением? — настаивала Елена. — Патриотам свободной Греции! — не без рисовки ответил Ясон. — Какое отношение ко всему этому имеете вы? — удивилась Елена. — Вы уже не видите во мне грека? — Ясон сделал вид, что обижен. — Не потому ли мы, как чужие друг другу люди, разговариваем на «вы»? В Египте, в Каире, я еще докажу свою любовь к Греции. Вы еще меня оцените. А теперь спокойной ночи. Вам надо отдохнуть. Утром я зайду к вам. Прощай, Елена. В Каире ты получишь все, о чем мечтаешь. — А где мой отец? — Он тоже будет среди… патриотов Эллады, — прозвучал ответ. — Наши люди постараются переправить его в Египет. Там, в горах; очень опасно. Таких людей, как маэстро, сами партизаны и мы, патриоты, переправляем туда, где находится законное правительство Греции. Даю слово, что это так и будет. — А где ваш отец? — спросила Елена. — Он делец, и он вне политики, — уклончиво ответил Ясон. — Спокойной ночи! Ни о каком сне не могло быть и речи, хотя Елена очень устала, была измучена. События, происшедшие с ней, не поддавались объяснению. Подумать только: вместо камеры смертников, откуда патриотов вели на расстрел или отправляли на острова смерти, она в каюте парохода, который увозит ее от преследователей. Но увозит и от отца, от родины. Если бы ее спас Никос или кто-то из тех, кого она видела среди партизан и подпольщиков, то в этом не было бы ничего странного. Теперь же выходило, что ее спас Ясон, который находился по другую сторону баррикад. От сознания своей беспомощности Елена приходила в отчаяние, но после раздумий пришла к выводу, что надо терпеливо ждать. …От Лулу, как и от маэстро, скрыли, что Елену похитили. Елена все не возвращалась. Маэстро каждую минуту спрашивал о дочери. Но никто не решался сказать ему правду. Партизаны были склонны думать, что похищенная содержится в гестапо. Никос готов был на самые рискованные действия, но ему сообщили о заметке в «оппозиционной» газетке и о возникшем подозрении, что Елена действительно в Египте. Никосу вспомнились все разговоры Елены о Каире, о загубленной карьере, однако он не верил, что Елена способна бросить отца, родину. А здоровье маэстро Киприаниса ухудшалось, и профессор Никифорис не надеялся на благополучный исход. Никос не отходил от своего учителя. С осиротевшей Лулу,которая только и звала Елену, всегда находилась Хтония. Иногда маэстро, когда ему не спалось, просил Никоса вместе с ним совершить «путешествие по эфиру». Никос понимал, почему учитель хотел слушать радио, а вдруг что-нибудь узнает о Елене? Но ни на одной волне ни одна радиостанция не сообщала умирающему о его дочери. Мир был занят войной. И вдруг однажды ночью диктор на греческом языке сообщил: группа музыкантов-эмигрантов из Греции предполагает организовать концерт в Каире и собранные деньги отправить тем, кто в Греции страдает от оккупантов. Среди участников благотворительного концерта была названа Елена Киприанис. От неожиданности Никос вздрогнул, потом стал крутить колесико маленького радиоприемника. Но отделаться от услышанного он уже не мог. Никос с опаской посмотрел на учителя. Слышал ли он? Лицо маэстро Киприаниса было спокойным, словно он крепко и безмятежно спал. Никос, заподозрив неладное, наклонился к учителю и отпрянул. Маэстро Орфей Киприанис ушел из жизни, так и не узнав о том, что произошло с его дочерью.НЕПОКОРЕННЫЕ СЕРДЦА
ЭСА — военная полиция теперь была основной силой в борьбе с антидиктаторским движением. Шеф грозной карательной службы имел такие неограниченные полномочия, которые и не снились Ясону Пацакису даже в его самые лучшие времена. Генерал Иоанидис был мрачной и таинственной личностью, а жестокостью превосходил даже коварного Цириса, его побаивалась и «верховная четверка» — диктатор и его полковники-приближенные. Всесильный шеф полиции в «доспехах» новейшей военной техники американского производства пользовался большим доверием заокеанских хозяев. Ни одна политическая акция в Греции не готовилась и не осуществлялась без его участия и одобрения. В верхах мрачно пошучивали, что у этой «сильной личности» пистолет был не с одним дулом, наставленным на противников хунты, а многоствольный и неизвестно на кого нацеленный. Что можно было ждать от шефа ЭСА, никто не знал. В черном послужном списке генерала Иоанидиса было много крупных и важных акций. Вмешательство военной полиции в королевский контрпереворот, когда возникла угроза смещения с политической арены «Непослушных» главарей «малой хунты», закончилось бегством монарха за границу. Военная полиция жестоко расправилась с участниками еще одного контрпереворота — экипажем мятежного миноносца «Белое». Неусыпное и зоркое око ЭСА — слежка за военнослужащими, особенно командным составом, — помогло хунте очистить армию от неблагонадежных офицеров и генералов. Тайные агенты широко разветвленной в стране службы Иоанидиса, вооруженная полиция участвовали в подавлении бунтов, забастовок студентов и таксистов, крестьян и моряков… Тысячи патриотов Греции были брошены в тюрьмы и концлагеря, изолированы от общества на пустынных островках. Террор и фарисейство, жестокая расправа с патриотами и «игра» в спасение Эллады от хаоса, расстрелы самых непокорных и заигрывание с популярными в народе греками — такой стала стратегия хунты. Создать впечатление гуманности режима входило и в планы шефа ЭСА, который считал, что он лучше, чем Пацакис, понимает важность такой политики. Конечно, самых опасных врагов, среди них были и популярные деятели эллинской культуры, нельзя выпускать на свободу, надо лишь делать вид, что их положение облегчено. Концлагеря заменялись поселениями. На одном из таких островов, где не было колючей проволоки и решеток, но который было запрещено покидать, оказался и Никос Ставридис. В нескольких прохунтовских газетах была помещена фотография певца за столом с нотными листами. Кто-то упорно распространял в Афинах и среди эмигрантов слух о том, что якобы Ставридис поддерживает «патриотическое стремление» нового режима создать «Великую Грецию», которая, как и в древние времена, станет центром искусства и культуры. Ставридису приписывалось авторство песни о возрожденной Элладе. Сам ссыльный ничего не подозревал об этой фальшивке. А ложь росла как снежный ком, вызывая разнотолки. В пирейской таверне опять «прорезался голос» у певца-шпика. Донеся на таксиста и девушку после возвращения из Салоник, он беспробудно пьянствовал на «тридцать сребреников», за это был выгнан «со службы» и теперь опять пел в портовой таверне. Сюда как-то и забрел Тасос. Одна рука у него была на перевязи — после стычки с полицией во время забастовки таксистов. На острове смерти Тасос тяжело заболел и его, полумертвого, просто-напросто выбросили за железные ворота. Как добрался до Пирея и оказался в своей лачуге, Тасос не помнил, долгое время лежал без сознания, но молодой и крепкий организм победил. С большим трудом — помогли друзья Самандоса-старшего — устроился опять работать таксистом. И вот в пирейской таверне, куда он зашел в надежде встретить кого-нибудь из друзей и посидеть за чашкой дешевого, кофе, увидел предателя. Один из оркестрантов объявил о новой песне Никоса Ставридиса. При упоминании этого имени Тасос вздрогнул, подался вперед, но, когда увидел, что к микрофону подскочил давно им разыскиваемый певец-шпик, он сорвался с места и здоровой рукой нанес такой удар, что тот с грохотом рухнул на пол. Тасоса схватили, но он успел крикнуть: — Это не песня Ставридиса! Обманывают, продажные шкуры! Тасос отчаянно сопротивлялся, но силы были неравные. Вдруг погас свет, кто-то крикнул: «Бей этих негодяев!» Завязалась драка. Кто-то оттащил Тасоса в сторону и сказал: «Не бойся, парень, мы тебя знаем». Но таверну уже окружили полицейские. Рядом с Тасосом стоял однорукий грек Харалампос из Плаке. Их должны были судить вместе, но Харалампос так и не вышел из подвала, где пытали арестованных. Сердце не выдержало. Случай в пирейской таверне был описан в одной левой газете, которая выходила нелегально. Скандал в портовом заведении — дело обычное, но заметка привлекла всеобщее внимание: таксист — бывший узник концлагеря, в котором находился известный певец, утверждал, что автор песни о «Великой Греции» не Ставридис, что это обман… Номер нелегальной газеты был нарасхват, один экземпляр оказался у политических ссыльных на острове Самос. Газету показал Никосу старый поэт. Ставридис не поверил своим глазам. Какая песня? Да еще о «Великой Греции»? Много разных провокаций устраивали против него враги, но такого еще не было. Никос ясно представил, как могли расценить такое «сочинение» его друзья. Да, среди арестованных были и такие, кто, не выдержав истязаний в концлагерях, предавал своих товарищей и переходил на сторону хунты. Но он — Ставридис! Кто поверит, что он отступил и сдался, отказался от своих идеалов? Нет, верные друзья не поверят, не поверит Хтония, не поверит Лулу, не поверит Елена, Не поверят его дети… Ну а тысячи людей, кто слушает «патриотическую» песню о «Великой Греции»? Старик поэт протянул Никосу листочек бумаги. Стихи. «Нелегкий путь». Никос начал читать:ДЕВУШКА В БЕЛОМ
Досье на Нису Гералис было не только у службы безопасности, но и в университете. По новому уставу высших, учебных заведений, утвержденному хунтой, подобного рода информация имелась на каждого студента. Досье Нисы — студентки археологического факультета, пропустившей в «хунтовские годы» все учебные занятия, было самым пухлым. О подлинной деятельности девушки знали многие студенты и преподаватели; для одних она была непонятной, для других героической личностью, поэтому и отношение к ней было разное, но ее популярность как участницы подпольных радиопередач росла. Ниса не оставляла надежды, что настанет время и она продолжит учебу. А пока ей пришлось тайком пробраться в здание Политехнического института. События в Греции свидетельствовали о том, что хунта пытается разными ухищрениями спасти антинародный режим. Дискредитировавшие себя в народе военные — многие ближайшие сподвижники диктатора — были им же заменены гражданскими лицами. Создавалась видимость ослабления роли военщины в политической жизни страны и начала демократизации на основе новой конституции. Но кольцо изоляции, в котором оказалась хунта, продолжало сжиматься благодаря усилиям участников антидиктаторского движения. Одной из активно действующих организаций популярного движения был ЭФЕЕ — Антидиктаторский национальный союз греческих студентов. Руководство ЭФЕЕ выступило с требованием восстановить в высших учебных заведениях студентов, которые были вынуждены пропустить занятия по политическим причинам. В списке таких студентов была и Ниса Гералис. ЭФЕЕ распространил и требование студентов Политехники отменить приказ министерства просвещения о милитаризации высших учебных заведений, о запрещении вступать в контакты со студентами других вузов и участвовать в демонстрациях. Только правительство, именуемое гражданским, могло дать ответ на решительные требования студентов, с которыми сам диктатор-президент долго и безуспешно заигрывал, пытаясь привлечь молодежь к участию в националистических акциях «вождя эллинов». Ожидая ответа на свои требования, несколько тысяч студентов забаррикадировались за железной оградой Политехники. События принимали опасный поворот. Агенты ЭСА доносили, что студенты не одиноки в антиправительственных действиях. Военной полиции удалось в первую же ночь осады ворваться на территорию института. Вместе с сотнями студентов были арестованы рабочие из «красного пояса» столицы, пирейские докеры, гимназисты, таксисты, даже крестьяне. Жестокие репрессии против арестованных вызвали возмущение и протесты даже среди тех, кто поддерживал хунту во время переворота, но в последние годы разочаровался в способностях диктатора и его клики решить серьезные политические и экономические проблемы Греции. Поэты, художники, журналисты быстро откликнулись на трагические события у Политехники. В Афинах распространялось стихотворение, которое начиналось с утверждения: «Режим полковников дал трещину…» Вызов студентов, брошенный блюстителям «нового порядка», был услышан и поддержан многими антихунтовскими организациями греков за рубежом, мировой общественностью. После волны арестов власти в Афинах решили применить против студентов танки. Большой район вокруг института стал «мертвой зоной» — никто не имел права приближаться к осажденному зданию, смельчакам грозила смерть. ЭФЕЕ предпринимал отчаянные попытки поддержать студентов. Группа активистов союза студентов встретилась с товарищем Седым, другими руководящими деятелями партии. Была разработана и программа действий в поддержку студентов с привлечением к антидиктаторским выступлениям широких масс населения. Кто-то предложил послать к студентам Политехники Нису Гералис. — С каким же оружием? — поинтересовался товарищ Седой, но по его прищуренным глазам было видно, что он догадался, о каком оружии идет речь. — С микрофоном! — последовал ответ. — Да, знакомый голос Нисы произведет впечатление на ее товарищей, — согласился Седой. — И на хунту тоже, — поддержал редактор подпольной коммунистической газеты. В ту ночь 17 ноября тревожную тишину Афин расколол громкий девичий голос: «Греки! В этот момент танки наводят свои орудия на здание Политехники!» Диктатору в эту ночь было не до сна, он проводил в своем кабинете совещание за совещанием. Как быть, что предпринять в этой ситуации? «Правительство военных знало бы, как действовать», — думал диктатор, сожалея о том, что власть отдана гражданским политиканам. Правда, премьер-министром был один из ближайших военных помощников главаря хунты, но чувствовалось, что новый кабинет остерегается решительных выступлений против бунтующих студентов. Последними на ночное совещание были вызваны, шеф ЭСА и ответственный за зарубежные культурные связи Пацакис. То, что генерал за танки против бунтовщиков, диктатор не сомневался. Но «культурой» давно занимается Ясон Пацакис, и было интересно, что он скажет в присутствии своего соперника из военной полиции. — Господина Пацакиса, должно быть, разбудил знакомый голос? — обратился к нему диктатор. — Голос, совсем не похожий на писк комара. Ясон Пацакис прекрасно понял намек. — Против этого комара, господин президент, насколько мне известно, поставлена служба с неограниченными возможностями и полномочиями, — ответил Пацакис и не мог отказать себе в удовольствии таким же манером ужалить самого диктатора и шефа ЭСА. — Но если это считать моим старым долгом, то я готов, господин президент, в столь сложный и опасный для нас час выполнить самые ответственные поручения. Хозяин кабинета смотрел на двух соперничающих между собой людей и думал: кто из них скорее предаст его в надежде занять самое высокое кресло в Греции? Интуиция подсказывала, что тот и другой способны на любые, мягко говоря, неожиданные поступки, но больше всего рвется к верховной власти шеф ЭСА. Пацакис не будет рисковать, ибо в этой «игре» на кон будет поставлено наследство его отца, судьба клана мультимиллионера. А шеф ЭСА уже проявил себя, убрав с пути соперников — крупных военных и выдвинув министров из верных ему гражданских политиков. Но диктатор вызвал двух соперников не для того, чтобы выяснять отношения. Надо решить, какие меры принять против бунтовщиков на «островке свободы», как уже называют территорию Политехнического института. Первое слово было за шефом ЭСА. — Молниеносный кинжальный удар! — жестко, не допускающим возражений голосом произнес генерал. Диктатор уже хотел было кивнуть в знак согласия, но генерал глубоко вздохнул и продолжил: — Выполнить это может только армия. Танки. Решетки под гусеницы. Все, что попадается на пути, — под гусеницы. Любые другие средства затянут операцию. Наши противники успеют стянуть к институту людей из рабочих окраин, из Пирея, черт знает, кто еще поспешит к этим студентам. Только танки, господин президент. Диктатор бросил взгляд на Пацакиса. «Он тоже понял хитрость этой лисы, — подумал диктатор. — Шеф ЭСА хочет все сделать чужими руками. А сам в случае провала операции может стать судьей и обвинителем». — Ну а участие вашей службы, господин генерал? — спросил президент. — После танков дел будет больше, чем даже можно предположить, господин президент. — Чувствовалось, что шеф ЭСА был готов к такому вопросу. В своем афинском особняке. Пацакис-старший ждал возвращения сына. Он на несколько дней остановился дома по дороге на Кипр, где его ждали срочные дела. Напряженная обстановка в Афинах заставила Ахиллеса Пацакиса всерьез задуматься о возможных последствиях неспособности хунты править страной. Он хорошо знал, что вне Греции, даже в Штатах, многие влиятельные общественные деятели и деловые люди отрицательно или весьма сдержанно относятся к хунте и ее главарю. И внутри страны было много недовольных диктатором, даже среди экономических магнатов, которые тем не менее получали от хунты всевозможные привилегии. Как справится президент с инцидентом в Политехническом? Не для этого ли он вызвал ночью Ясона, который, конечно же, не согласится исправлять ошибки и упущения самоуверенного шефа ЭСА? Пацакис-младший вернулся в крайне возбужденном состоянии. На все вопросы отца загадочно ответил: — Под танками может оказаться сам… И рассказал о разговоре в кабинете диктатора. — Что ж, надо из зрительного зала смотреть на сцену, — сделал вывод Пацакис-старший. — Я не привык быть зрителем, — хмуро отозвался Ясон. — Для кого, для кого, я спрашиваю, быть актером? — внезапно проявил былой характер отец и посмотрел на часы. — Наши друзья, конечно, еще дрыхнут. — Американцы? Это их тоже касается. Захотят ли они, чтобы старый агент и послушный исполнитель их власти оказался под танками? — А если у них уже готов более послушный и более подходящий человек? Впрочем, зачем гадать. Утром все будет известно. Не хочешь быть зрителем — не ходи в театр. Там без тебя обойдутся, передерутся между собой, по трупам приползут к власти… Танки растянулись длинной цепью, жерла орудий были направлены на здание, вокруг которого разбили свой лагерь студенты. Самые отчаянные среди них взобрались на массивные железные решетки и ворота, с решимостью не отступить перед танками. По институтскому радио раздавались призывы — к хунте, к танкистам, к гражданам Афин, ко всем грекам. «Мы требуем! Отменить… восстановить… разрешить… изгнать… Мы требуем!» Слова девушки-диктора громким эхом прокатывались по затаившемуся городу. Голос боролся с вооруженными солдатами, готовыми двинуть танки на живую цепь. Голос девушки все узнавали. Ниса! Неуловимая Ниса! Невидимая девушка казалась командиром, который давал распоряжения своей армии. Рано утром к институтским воротам подкатила бронированная автомашина, из которой вышел армейский генерал. Зычным голосом он приказал всем расходиться, сказал, что введенных в заблуждениях студентов ждут в их семьях, что они могут приступить к занятиям, что будут прощены… — Немедленно отпустите наших арестованных товарищей! — закричали в ответ студенты. — Требуем выполнить наши условия! — Мы не уйдем отсюда! — Долой хунту! — Долой вмешательство американцев! — Да здравствует свободная Эллада! Из черных динамиков вырвалась песня. Старый гимн участников антигитлеровского Сопротивления. Ниса пела:
В Афинах подводили итоги кровавого ноябрьского дня. Правительство было напугано мощным взрывом народного сопротивления, самоотверженностью греческой молодежи. Хунтовская военщина жестоко расправилась с участниками антидиктаторского движения. Сотни жертв остались на «островке свободы» в центре Афин. Греция протестовала и негодовала, требуя наказания убийц, освобождения арестованных демонстрантов, которые пришли к Политехнике выразить свою солидарность… Пролитая кровь призывала к отмщению, к усилению борьбы всех честных греков против диктатора и его окружения. В загородном особняке проходила тайная встреча Ахиллеса Пацакиса с эмиссаром ЦРУ, который сменил жердеобразного янки и работал в Греции под прикрытием одной американской фирмы. Даже Ясон не был приглашен на эту встречу, которой хозяин особняка придавал большое значение в связи с чрезвычайным событием в Политехническом институте. Хотя Пацакис-старший отошел от большой, политики, но то, что произошло сегодня в Афинах, беспокоило его возможными нежелательными последствиями. Ахиллес Пацакис давно знал нового эмиссара. Влиятельный и богатый грек оказывал ценные услуги американским спецслужбам. И он понимал, что судьба хунты и самого диктатора в руках этого американца, который управляет действиями послушных ставленников в греческих верхах. — Это победа или поражение вашего протеже? — без обиняков задал вопрос Ахиллес Пацакис. — Он сделал все, что мог, — разжигая сигару, медленно произнес гость. — Сделал и… ушел. — Сам? — удивился хозяин дома. — Вам должно быть известно, уважаемый господин Пацакис, что наш протеже, как вы изволили заметить, ничего не делает сам, — улыбнулся одними губами американец. — Уберете? — пытался уточнить нетерпеливый собеседник. — Уберут. Так будет вернее. — Кто же это сможет сделать? — Более сильные ваши соотечественники. — Есть и такие? Вытащите из нафталина или кто из новых? — Из нафталина слишком резко пахнут, к новым еще надо приглядываться. А кто, по-вашему, я имею в виду ваш опыт и опыт Пацакиса-младшего, мог бы выполнить эту миссию? — Тот, кто рвется к власти. — И кто же? — Герой сегодняшнего дня. — Он был, насколько нам известно, в тени. Танки — акция военных. — Он тоже военный, только с душой тюремщика. Гость глубоко втянул в себя дым и задержал долгий взгляд на хозяине дома. Этот грек был в большой цене, имел хорошие связи за океаном. Приятельские отношения с ним льстили не только эмиссару. И гость сказал ему то, что не сказал бы ни одному человеку в Греции: — Надеюсь, уважаемый господин Пацакис, мы поняли друг друга и нам остается лишь следить за событиями… ближайших дней.
ГРЕЧЕСКОЕ ЭХО
В маленькой комнате Василиса Коцариса давно не собиралось столько друзей-единомышленников, как после трагического сообщения о расправе с участниками антидиктаторского движения. Первыми приехали Елена и Лулу, которые только что возвратились из поездки за океан. Эту весть они услышали по радио еще в поезде и сразу же поспешили к человеку, который всегда был в курсе происходящего в Греции. Провожая певиц, Алексис встретил у подъезда дома отца, которого давно не видел из-за длительного турне по Северной и Латинской Америке. Отец выглядел осунувшимся, раньше обычного вышел на утреннюю прогулку. Поздоровавшись с ним, Алексис сказал, что быстро проводит гостей к Коцарису и вернется, чтобы поговорить. Ему интересно было послушать отца, который, конечно, хорошо информирован о политической ситуации на родине. Да, отец очень разволновался, не спал всю ночь, когда узнал о событиях в Афинах. Он был уверен, что расправа со студентами будет иметь серьезные последствия для диктатора. — И для диктатуры, — заметил Алексис. Отец остановился, внимательно посмотрел на сына. После того как Алексис вошел в контакт с певицами в черном и красном и много ездит по белу свету, он стал иначе относиться к жизни, и часто его точка зрения не совпадает с политическим кредо бывшего министра, который все еще надеялся на важный государственный пост в будущем правительстве. — Это совершенно разные вещи! — резко возразил отец. — Речь идет только о диктаторе. Его песня спета. — Да, но поет не он один, отец, — не согласился Алексис. — Кто же еще? — Хор хунты. Они тоже должны разделить участь диктатора. — Это дело ближайших дней. Кровь убитых не даст им покоя. Они уйдут добровольно или сами, станут жертвами нового переворота. — Кто же придет к власти? — Сильное правительство. — Если хунта будет свергнута силами антидиктаторского движения, то власть должна быть… — Никогда! — выкрикнул бывший министр так громко, что прохожие стали оглядываться. У Алексиса пропал интерес к разговору. Он уже знал, что еще может сказать отец. Его «никогда» означало, что хотя он и против военной хунты и диктатуры, но и против того, чтобы на политической арене Греции первостепенную роль играл объединенный народный фронт. — Отец, я могу лишь сказать, но не в обиду тебе, что греческий народ не жалеет ни об одном предхунтовском правительстве, даже о том, в котором был весьма уважаемый и горячо любимый мною человек, — как можно мягче сказал Алексис. — Ради бога, не сердись, но Греции нужны новые люди, отец. — Чтобы через год-два нас постигла такая же участь, что и Чили? — То, что я видел в Чили, еще раз подтвердило: нельзя бороться с крайне правыми и с левыми одновременно, как делало дохунтовское правительство. Через оголенные фланги легко прорываются заговорщики. — О, я вижу, мой сын может быть в оппозиции своему отцу! — Если ты будешь придерживаться старых взглядов на будущее. Отец не успел ответить, Алексис извинился: он должен был спешить к Василису Коцарису. Хозяин маленькой комнаты встретил Алексиса вопросом: — Интересно, что скажет мой молодой друг и… оппонент? Мы вот дискутируем о судьбе хунты и вариантах нового режима в Греции. — Вариантов быть не должно, — ответил Алексис. — Только один вариант устроит греков, которым давно надоела заржавевшая политическая структура. Коцарис даже сделал попытку приподняться. Взгляд старика говорил: ну и молодец этот парень! Алексис проводил Елену и Лулу домой. Договорились встретиться после короткого отдыха. Но отдохнуть не удалось. Буквально через несколько минут Елена позвонила Алексису и сказала, что из Афин получена телеграмма о смерти ее дяди, брата отца, который во времена хунты стал участником антидиктаторского движения, хотя до этого не разделял либеральных взглядов маэстро Киприаниса. В телеграмме сообщалось, что присутствие на похоронах дочери брата последнее желание Ставроса Киприаниса. Когда Алексис рассказал своим домашним о смерти бывшего муниципального чиновника, отец удивленно произнес: — Он всегда был осторожным человеком и вдруг полез в рукопашную! Чудеса! Для этого надо быть прирожденным бойцом! Опять зазвонил телефон. Звонила Лулу. Было решено встретиться прямо в аэропорту, так как до вылета самолета на Афины осталось немного времени. Когда Алексис уже уходил, отец вдруг сказал: — Госпожа Киприанис не очень-то жалует бывшего министра, но она может передать своим афинским друзьям, что такие, как я, не привыкли сидеть сложа руки, а готовы по первому зову родины вернуться. Нет, отец явно не желал понимать, какие люди понадобятся Греции после полного краха хунты. Думая об этом по дороге в аэропорт, Алексис поймал себя на мысли: а что будет делать он сам, какую пользу сможет принести свободной Греции? Елену в Афинах встречали двое незнакомых мужчин, которые представились дальними родственниками покойного. Уже в автобусе от самолета к аэропорту Елена заметила черный лимузин, в котором показалось знакомое лицо. «Ну и бог с ними! Пусть себе следят вместе с Ясоном Пацакисом!» — решила она и уже не обращала никакого внимания на на черный лимузин, который ехал в некотором отдалении, ни на этих двух подозрительных субъектов. Во время таможенного досмотра чиновник поинтересовался, как долго госпожа Киприанис намерена пробыть в Афинах. И, не дождавшись ответа, продолжил: — Если госпожу Киприанис не устраивает такой срок, она может обратиться в учреждение, занимающееся — зарубежными культурными связями. — К вашему сведению, я гречанка, а не зарубежная гостья, — не сдержалась Елена. В ответ чиновник протянул карточку с адресом учреждения. — Советую все же посетить, госпожа Киприанис, — сказал он и захлопнул окошко. «Знакомый почерк господина Пацакиса, — подумала Елена. — По своему обыкновению он расставляет сети». Во время похорон Елену поразили выступления многих друзей и знакомых ее дяди, которые говорили, что безвременно ушедший из жизни Ставрос Киприанис был истинным патриотом свободной Эллады. Елена с беспокойством осмотрелась по сторонам, внимательно изучая лица присутствующих. Оказывается, дядя был сильно избит военной полицией в тот печально известный кровавый ноябрьский день, ночью ему стало плохо с сердцем, и он умер от обширного инфаркта. «Участников и сторонников антидиктаторского движения, видимо, значительно больше, чем думаем мы, живущие за пределами Греции», — размышляла Елена. Особенно ее поразили смелые высказывания, искренняя убежденность присутствующих в том, что после хунтовской ночи наступит рассвет, придет день свободы. Выступила и Елена: коротко и немногословно. Клятвой прозвучали ее слова и о том, что живые сделают все возможное, чтобы мечты честного грека осуществились. После похорон Елена хотела подробно разузнать о Никосе, попытаться получить разрешение на свидание с ним. Оказалось, что этому может поспособствовать Ясон Пацакис. «Нет и нет!» — решительно отказалась Елена. Поздно ночью в дверь ее номера кто-то постучал. Полицейский чин и двое в штатском предложили ей немедленно покинуть Афины, сообщив номер рейса самолета, который через два часа вылетал в Париж. На возражения Елены, что у нее есть разрешение еще на два дня, один из штатских сказал, что рассмотрение подобных протестов в компетенции того учреждения, о котором ее предупредил таможенник в аэропорту. — Такого удовольствия от меня не дождутся! — в гневе произнесла Елена. — Имеем честь сопровождать вас, — сказал полицейский чин. — В аэропорт, — уточнила Елена. — Но передайте вашему шефу, что я еще вернусь. Ясон Пацакис так и не дождался визита гостьи. Один из агентов сообщил, что интересующая его особа предпочла покинуть Афины. «В какой раз рыбка сорвалась с крючка!» — с досадой подумал Пацакис. Настроение, и так плохое, было вконец испорчено. Он думал о словах отца, что события в Политехнике будут иметь неприятные последствия для верхушки хунты, что возможна смена правительства. Ясон догадался, что эти сведения получены из первых рук, то есть от американцев, которые всегда доверительно и почтительно относились к Ахиллесу Пацакису. Смена правительства не устраивала бывшего шефа тайной полиции. Если в кресло диктатора сядет шеф ЭСА, это может отрицательно сказаться на карьере Ясона Пацакиса. Но он понимал, что падение диктатора не за горами, особенно учитывая поведение высокопоставленных военных, обвинявших Пападопулоса в измене первоначальным задачам хунты и постыдном заигрывании с гражданскими деятелями. Если бы не вмешательство военных, властности, танковых генералов, кто знает, какие размеры принял бы бунт в Политехнике. Армия спасла режим огнем и мечом, но подверглась резкой критике со стороны широких кругов общественности, особенно участников антидиктаторского движения, требующих отставки нынешнего правительства. Пацакиевские агенты доносили, что шеф ЭСА провел ряд совещаний с военными, некоторыми политическими деятелями, представителями крупной олигархии… Знает ли об этом президент? Пацакис попытался встретиться с Пападопулосом, но тот «болел». «Сбежал с корабля, как крыса», — заключил Пацакис и, тоже сославшись на подскочившее давление, уединился на своем острове, лишь по телефону держал связь с верными подручными. Те информировали обо всем, что делается вокруг президентского дворца. Но от подобной тактики пришлось скоро отказаться. «Сильный человек», с которым подобные шутки могли закончиться большими неприятностями, попросил — не приказал, а попросил — Ясона Пацакиса в столь трудный час оставить свой остров и приехать к нему. — Речь идет о спасении режима, нашего с вами режима, мой друг, — без обиняков начал шеф ЭСА, как только «островитяник» вошел в его кабинет. — И кто-то должен быть принесен в жертву? — спросил Пацакис. — Древние, когда дело доходило до того, быть или не быть государству, выбирали жертву среди самых почтенных и любимых. Гость невольно бросил взгляд на большой портрет диктатора, висевший на стене кабинета. Хозяин перехватил этот взгляд, встал из-за стола, расправил плечи, выпятил грудь и незнакомой для Пацакиса походкой медленно и важно стал вышагивать по кабинету. — Вы очень ценный для нас человек, господин Пацакис, — перешел на официальный тон шеф ЭСА. — Как профессионал и как представитель солидных деловых кругов. При соблюдении вами лояльности обещаю, мой друг, достойное Ясона Пацакиса место в новом кабинете. Сделка состоялась. «Чего не сделаешь ради того, чтобы к власти не пришли все эти Ставридисы и Киприанисы», — оправдывал свою измену президенту-диктатору Пацакис. В ночь на 25 ноября он был вызван лично к шефу ЭСА. Ему было лаконично объявлено: вы участник операции. Так был совершен новый переворот. К власти пришел «сильный человек» — ближайший помощник сваленного диктатора и всемогущий шеф военной полиции. Ясон Пацакис был вновь водворен в кресло шефа службы безопасности. «Жестокость, жестокость и еще раз жестокость!» — сказал он сам себе, извлекая уроки из собственного прошлого.…Греческая группа в Париже быстро разучила песню «Режим полковников дал трещину», которую написал композитор-эмигрант на стихи, привезенные Еленой.
РАССВЕТ ПОСЛЕ НОЧИ

СИРТАКИ НА МОГИЛЬНОЙ ПЛИТЕ
Греческая группа остановилась в бухарестском отеле «Атене палас». Обычно зарубежные гастроли греческих певцов и музыкантов начинались встолицах, а затем уже были долгие поездки по стране. Но из Болгарии пришла телеграмма с просьбой начать выступления в приграничных городах на Дунае. После очень теплой встречи в первом болгарском городе директор местной оперы, знавший Елену Киприанис по давним гастролям певицы в Болгарии, сказал: — Жаль, что вас не было на нашем весеннем музыкальном празднике. Один из вечеров был посвящен греческой песне. Мы слушали песни Никоса Ставридиса в его же исполнении. В этом нам помогла супруга этого мужественного человека. — Хтония! — воскликнула Елена. — Она была здесь? — Да, и привезла записи песен Никоса, чудом вывезенные из Греции. Знаете, что мы сделали? Послали Никосу Ставридису приглашение. Адрес: остров — место ссылки. Ответ, разумеется, не пришел. Но очень надеемся, что Ставридис будет на нашем празднике музыки. Будущей весной. Когда в Греции будет другая весна. Лето на дунайском берегу было в разгаре. Многое на болгарской земле напоминало гостям родину, которая была недалеко: день пути — и дома. Ностальгию греков чувствовали заботливые хозяева, поэтому окружили гостей особым вниманием, знакомили с городом, приглашали в свои дома… Поздно вечером в номере отеля, где жили Елена и Лулу, раздался телефонный звонок. Звонила Хтония! Оказывается, она ждала в Софии и сообщила, что немедленно выезжает. Долгие годы разлуки пришлось им пережить! Целых семь лет. С той черной весны в Греции.КРАХ
На Кипр Ахиллеса Пацакиса привели далеко не личные дела. Хозяин большого танкерного флота вел там переговоры о стоянке для его нефтеналивных судов и организации перевозок арабской нефти на выгодных, как он говорил, для Кипра условиях. Многочисленные встречи с государственными деятелями, деловыми людьми, киприотами разных политических ориентаций американизированный грек использовал и для внушения своим собеседникам выгод подобной политики, которая, однако, наталкивалась на упорное сопротивление президента Макариоса и широких кругов общественности этой молодой и независимой республики. Пентагон и НАТО проявляли повышенный интерес к острову в Восточном Средиземноморье, который находился на перекрестке путей, ведущих к арабской нефти, и мог быть использован как плацдарм для военной базы. Поэтому в Штатах миссии Ахи — старого и испытанного друга — придавалось особое значение. В Вашингтоне три заинтересованных лица — руководитель филиала ЦРУ в Средиземноморье, ответственный чиновник госдепартамента и армейский генерал — посвящали Ахиллеса Пацакиса в «тайное тайных» американской стратегии в отношении нейтрального Кипра и его строптивого президента. — Нам нужен посредник, влиятельный среди греков-киприотов, который может приобрести единомышленников в тамошних высоких кругах, — объяснил старый знакомый из ЦРУ. Пентагоновский генерал длинной указкой на карте очертил большой круг вокруг Кипра и продолжил: — Географическое положение острова отменное. Это прежде всего важный стратегический пункт Средиземноморья, юго-восточное крыло НАТО. После известных событий: выхода Франции из военной организации НАТО, нашего ухода из Вьетнама и продолжающегося ближневосточного кризиса — этому району мы придаем очень важное значение. — к вашему сведению, дорогой друг, — заключил чиновник из госдепартамента, — в решении кипрской проблемы греческая хунта, которую мы всячески, поддерживаем, во главе со своим президентом проявляет медлительность и нерешительность. В Никосии Ахиллес Пацакис получил сообщение о смене диктатора в Афинах. Хотя он не симпатизировал генералу — бывшему шефу военной полиции, пересевшему в кресло диктатора, но понимал, что новый глава хунты, представляющий крайне правые силы, именно тот человек, кто способен выполнить волю американских хозяев. Старый политикан и хитрая лиса, Пацакис решил после своей миссии на Кипре лично прощупать нового афинского диктатора. Зная о патологическом тщеславии полицейского генерала, Пацакис-старший вышел с ним на связь через эмиссара ЦРУ в Афинах. Договорились о тайной встрече без единого свидетеля в загородном особняке Пацакисов. Удобно устроившись в мягких глубоких креслах в зале с «сюрпризами» — самораскрывающимися столиками с батареями бутылок, вазами с фруктами и восточными сладостями — два независимых, казалось бы, друг от друга грека обменялись быстрыми изучающими взглядами. Хозяин особняка решил сыграть на доверительном характере беседы, лаконично проинформировал о своих встречах и беседах на Кипре. Диктатор слушал этого часто впадающего в апатию старого грека и старался понять, зачем понадобилось мультимиллионеру, проживающему далеко от родины, к тому же перенесшему большую личную драму — гибель сына, лезть головой в омут больших политических интриг, ведь ни денег, ни высокого чина ему уже не надо. И чтобы немного поиграть на самолюбии старика, диктатор поделился информацией, которой располагал: — Люди из окружения президента Макариоса, с которыми вы были в контакте, господин Пацакис, докладывали своему шефу, что деловой характер ваших бесед всего лишь камуфляж, что визит большого друга американцев на Кипр — это политический зондаж. — Весьма вероятно, — осклабился хозяин особняка. — Ведь я имел дело с умными греками! — Но в греке Пацакисе единокровные братья видели заокеанского… гостя, — осторожно поддел его диктатор. — Ну, бог с ними, с их мнением, — махнул рукой Пацакис. — Важно знать мнение грека, облеченного высоким доверием, о шагах, которые надо предпринять для решения кипрской проблемы, имея в виду, что его предшественник был удален с политической сцены. — Вам, вероятно, известно, господин Пацакис, что в прошлом году мы потребовали от Макариоса ухода в отставку? Нас, как посредников, заинтересованных в том, чтобы политика наших американских друзей была материализована на Кипре, не оставляет мысль о более решительных мерах. Мы ясно отдаем себе отчет в стратегической важности Кипра для Атлантического блока и американского присутствия. Но в ближайшие полгода такие акции, к сожалению, невозможны. — Почему? — подался вперед Пацакис. — Политехника, — процедил сквозь зубы диктатор. — А если шире? — Пацакис уставился немигающими глазами на собеседника. — Португалия, — криво улыбнулся диктатор. — Наши враги расценивают происшедшие перемены в Португалии как симптом. — Враги у нас всегда были и будут. Нам надо думать в первую очередь о сильных друзьях, а американцы заинтересованы в Кипре. И мы не должны мешкать, оттягивать и вызывать недовольство! Это уже было похоже на угрозу. Диктатор сделал нетерпеливое движение, словно хотел возразить, но лишь насупился. Он ждал, что еще скажет этот грек, который был крепко связан с американцами и имел много друзей среди влиятельных политиков и воротил бизнеса в Штатах. Но хозяин особняка лишь добавил, что он удовлетворен разговором и надеется на новые встречи во время следующих приездов на родину, которую он никогда не забывает и делает все, чтобы она не стала такой же жертвой, как несчастная Португалия. — Господин Пацакис, — сказал в конце встречи диктатор, зная, что его слова будут переданы американцам, — мы понимаем всю свою ответственность в решении поставленных перед нами задач и сделаем все от нас зависящее. Но, господин Пацакис, мы нуждаемся, впрочем, как и национальная гвардия на Кипре, в новейшем оружии. — Эту миссию моя компания выполнит, — пообещал Ахиллес Пацакис. Встреча с эмиссаром ЦРУ носила тоже деловой и доверительный характер. Ни разу не прозвучало слово «переворот», но весь разговор в особняке Пацакиса велся так, словно это вопрос давно решенный и лишь необходимо обсудить детали предстоящей важной операции на Кипре. Суть секретной операции «Президент», тщательно разработанной заговорщиками, сводилась к следующему: устранить президента Макариоса, подавить сопротивление, разделить остров на две части по национальному признаку, присоединив их соответственно к Греции и Турции, и фактически ликвидировать независимость суверенного государства. С политической точки зрения успешное осуществление переворота на Кипре по плану «Президент» должно было закрепить позиции фашистской диктатуры в районе Средиземноморья и Балкан, образовать новый очаг напряжений и провокаций, усилить опасность для Европы и всего мира. Старик Пацакис зачастил в Грецию. Своим «коллегам» он объяснял, что ему очень подходит горячее солнце родины. Каждый приезд в Грецию и тайные встречи с диктатором и эмиссаром ЦРУ Пацакис использовал для того, чтобы лично убедиться в том, как идет подготовка к операции «Президент». И наконец в июле 1974 года в Афинах была получена шифрограмма из Никосии: «Операция «Президент» началась». В кипрском перевороте участвовала национальная гвардия, подпольная террористическая организация ЭОКА-2, агенты греческих и американских спецслужб… С ведома НАТО на остров высадились турецкие войска. Но режиссеры переворота на Кипре просчитались. То, что им удалось семь лет назад сделать в Афинах, не удалось в Никосии. На вооруженную провокацию против независимой республики киприоты ответили массовым сопротивлением. В защиту Кипра и президента Макариоса поднялась вся мировая прогрессивная общественность. Операция «Президент» сорвалась. Режиссеры покинули своих «бесталанных» актеров — исполнителей этой опасной политической игры. Особняк Пацакисов в эти июльские дни превратился в своеобразный штаб, где «корректировалась» антикипрская операция. О ходе операции информировал Ясон Пацакис. Хозяин особняка зорко следил за всеми перипетиями, консультировался с эмиссаром ЦРУ. — Игра, кажется, проиграна, — наконец сказал Ахиллес Пацакис сыну после его сообщения о мощном сопротивлении на Кипре и большом общественном резонансе в мире в связи с переворотом и ролью НАТО на острове.
— Для кого проиграна? Для диктатора, для нас — да. Но для тех, кому Кипр особенно нужен? — попытался уточнить сложившуюся ситуацию Ясон. — Кроме американцев, об этом никто не скажет. — Американцы для нас — это эмиссар, который, надо полагать, не будет хитрить с тобой, отец. — Насколько я знаю американцев, они… не отступятся. — А мы? — Нас там уже нет. Зазвонил телефон личной связи Пацакиса-старшего. — Он-то знает, что надо делать, — сказал отец, и сын не сразу понял, к кому относятся эти слова. Ахиллес Пацакис молча слушал, что говорил позвонивший, потом коротко произнес: — Жду. Ясон спросил: — Он? Отец кивнул. — Без меня, — встал Ясон. — А тебя, полагаю, уже и нет. — Как это понимать? — А так. Чтобы сохранить свои позиции на Кипре и в Средиземноморье, наши друзья принесут в жертву диктатора. — Но диктатор — это еще не греческое правительство. — О каком правительстве может идти речь после позорного провала на Кипре! — Это он так сказал? — Не в таких выражениях, но суть едина. — И я, стало быть, тоже жертва? — Да. Это называется приспособить нашу политику к новым условиям. А в большой игре все средства хороши. «Made in USA!» Приоритет наших друзей. Ясон сердито махнул рукой и вышел. Из окна своей комнаты он видел, как из подъехавшей автомашины-пикапа, обычно используемой для перевозок мелких грузов, вышел мужчина с бородой и в темных очках, быстро проследовал в особняк. «Вчера купили, сегодня продают», — со злостью подумал Пацакис-младший. Интересно, что скажет этот изменивший свою внешность янки-эмиссар единственному человеку в Греции, пользующемуся доверием политических боссов в Штатах при любых ситуациях. Но результат разговора между Пацакисом-старшим и эмиссаром ЦРУ остался тайной даже для шефа тайной полиции. Ясон Пацакис дни и ночи проводил в своем кабинете, его то и дело вызывали к диктатору, президенту, премьеру. Ахиллес Пацакис вылетел в Штаты. Он знал о компромиссном решении, принятом его американскими друзьями после провала операции «Президент». — Камарилья, а не правительство! — в гневе воскликнул судовладелец, как бы подписываясь под приговором незадачливому диктатору и его окружению. Конечно, можно было бы посоветовать Ясону, тоже покинуть этот тонущий корабль, но Пацакис-старший справедливо решил, что тогда шишки падут на голову беглого члена свергнутого правительства и о возвращении в Грецию не может быть и речи. — Не думаю, что новое правительство откажется от услуг таких людей, как ты, — успокаивал сына Ахи. — Еще Цирис учил, что люди твоей профессии в воде не тонут и в огне не горят. Без глаз и ушей ни одно правительство не обойдется. И еще не забывай, что ты Пацакис, а у нас всегда были, есть и будут друзья в Греции. Иногда бывает полезно после горячего солнца отдохнуть и в тени. Гуд бай, Пацакис-младший, приспосабливайся к новым временам. А те, кто возьмет бразды правления в свои руки, знают и ценят Пацакиса. Старшего, разумеется. Но это и для тебя, моего наследника, не так уже мало, а? Надеюсь, что скоро вернусь на переговоры с новыми… Им тоже нужна поддержка таких, как один скромный судовладелец. Ахиллес Пацакис получил всяческие заверения от «друзей», что его сын не разделит печальной участи диктатора и его камарильи. И действительно, в числе арестованных деятелей хунты Ясона Пацакиса не было. Бывший шеф тайной полиции проходил лишь по делу нападения на группу Никоса Ставридиса. Судебный процесс состоялся в небольшом городке рядом с местом проведения археологических работ. В числе свидетелей был «археолог» Дастоглу, который и подтвердил главное алиби подсудимых, они, по его словам, оказались лишь случайными участниками потасовки рабочих на раскопках, и среди них были «недисциплинированные иностранцы». На суд не были вызваны свидетели налета агентов тайной полиции Ясона Пацакиса на археологический объект, не была принята во внимание гибель в концлагерях ряда арестованных участников, в частности, изгнанного из университета профессора — любимца студентов. Почти все подсудимые, в том числе и Ясон Пацакис, отделались, условным приговором и запретом состоять на полицейской службе. Никос Ставридис узнал об этом судебном процессе, на котором разбиралось дело о «драке между полицией и археологами», слишком поздно. В Афинах на него навалилось несметное количество неотложных дел. Решение суда вызвало возмущение общественности, левые газеты выступили с резкими протестами и требованием пересмотра дела убийц неповинных людей, предостерегали о возможных последствиях. Зато некоторые правые газеты взяли под защиту Ясона Пацакиса, представив его «противником хунты» и указав на его уходе поста шефа службы безопасности и нейтралитет во время событий в Политехнике. Никос читал газеты, в которых действия старого агента и ищейки Пацакиса оправдывались, и возмущался. Он встретился со своими друзьями — рыбаком Костасом и студентом Георгисом Эмбракисом, которые написали статью об участии шефа тайной полиции в разгроме подпольной радиостанции, попутно вскрыв и многие другие факты антинародной деятельности Пацакиса. — Статья, конечно, привлечет внимание общественности, заставит правосудие пересмотреть принятое решение. Но хорошо бы сочинить и песню-предупреждение, — сказал Костас. — Теперь можно будет спеть ее по радио, верно, Никос? После освобождения из лагеря смерти Костас вернулся в родной город. Рыбаки избрали его, как испытанного и стойкого коммуниста, мэром города. Те два острова, которые принадлежали Пацакисам и бывшему диктатору, входили во «владения» мэрии, и Костас добивался их национализации. В этой акции молодой мэр столкнулся с большими трудностями и саботажем со стороны чиновников. Пришлось Костасу отправиться в Афины, просить совета и помощи у Никоса Ставридиса. Требование мэрии поддержала левая печать. И вот первая победа — бывший диктатор лишился права на все награбленное и нечестно присвоенное недвижимое имущество. Но с островом Пацакисов сделать ничего не смогли — здесь вступал в силу закон о неприкосновенности имущества грека, который не был в правительстве хунты. Да, на острове готовились планы переворота, там встречались заговорщики. Но учреждения, занимавшиеся этим делом, возражали: нет документальных фактов, нет… В общем, было еще много «нет», и предложение-требование мэрии было положено чиновниками под сукно. В разгар работы над песней, о которой говорил Костас, Никос узнал о том, что получено разрешение на возвращение из эмиграции Хтонии и двух детей. А Лулу? Чиновник, к которому обратился Никос, лишь пожал плечами и показал длинный список греков, которые ждали разрешения на возвращение домой. — Это же участники Сопротивления, гражданской войны, жертвы хунты! — возмутился Никос. — Почему они должны ждать? Старик чиновник опять пожал плечами и бесстрастно произнес: — Законы о политических эмигрантах еще никем не отменены. Недалеко от здания столичного муниципалитета размещался Союз борцов национального Сопротивления. Никос зашел туда. Скольких старых товарищей он встретил в тесном помещении этой общественной организации, боровшейся за скорейшее возвращение политэмигрантов, за право участников Сопротивления на признание их заслуг перед родиной! Руководителю союза, бывшему комиссару в партизанском отряде товарища Седого, поведал Никос свои тревоги о близких. Тот сказал: — Никос, главное, мы победили хунту. Теперь будем бороться с ее последышами. А они везде. В правительственных учреждениях тоже. Подписать закон на запрет драконовских мер против нашего брата у временного правительства рука не поднимается. Но заставим. И Лулу вернется, и Елена. И все наши товарищи по Сопротивлению. Твою песню будем мы все петь, Никос!
ДОМОЙ!
У Василиса Коцариса всегда радиоприемник был настроен на афинскую волну. В любой момент, особенно в длинные бессонные ночи, он включал маленький транзистор у своего изголовья и словно переносился в Афины. Радиопередачи были под постоянным контролем властей, так что на правдивую и объективную информацию нечего было и рассчитывать. Но даже из прохунтовских передач можно было угадать, что происходит дома. А когда прикованный к постели грек услышал о зловещих событиях на Кипре, он совсем потерял покой и сои, внимательно слушал все сообщения, предчувствуя приближение важных перемен. И все же не по радио, а по телефону от старого товарища в Афинах услышал Василис, что авантюра провалилась. Больше афинский друг не звонил, а из радиопередач узнать что-либо новое не удавалось. О самом важном ему мог сказать сосед — бывший министр, но он и не вспомнил о коммунисте-инвалиде. Бывшему министру было официально предложено вернуться в Афины. Такие звонки-предложения из Афин раздались в домах еще нескольких эмигрантов — бывших государственных деятелей, а один из них уже вылетел в Афины. Многие греки в Париже знали о падении власти узурпаторов во главе с генералом Йоанидисом и о решении передать власть гражданскому правительству, состоящему из оппозиционных к хунте политических деятелей в основном правых партий. К Василису Коцарису приходили все новые и новые люди: товарищи по партии, старые боевые друзья — все хотели разобраться в новой политической ситуации на родине. С радостью было воспринято сообщение о том, что из лагерей и тюрем выпущено много товарищей, среди которых видные деятели компартии, писатели, поэты художники, издатели и редакторы газет, деятели антихунтовских молодежных организаций… Беспокоило же то, что в Грецию уже возвратились буржуазные политические деятели, а эмигранты — участники антинацистского Сопротивления, гражданской войны и антидиктаторскрго движения — еще не получили подобных разрешений. Это обстоятельство очень тревожило Василиса Коцариса и его единомышленников. — Получается так, что те, кто в неминуемое падение хунты верил, еще не могут вернуться на родину, а скептики уже в Афинах и, конечно же, поспешат занять большие должности, — сделал вывод старый коммунист. Сам он не надеялся из-за болезни в ближайшее время вернуться на родину, но очень беспокоился за многих политэмигрантов, которые могли активно участвовать в обновлении Греции. В комнате Василиса Коцариса старые коммунисты-политэмигранты провели партийное собрание, на котором очень бурно обсуждался главный вопрос — возвращение на родину. Решение в виде открытого письма было послано в адрес греческого правительства. В письме говорилось, что за рубежом многие десятки тысяч греков ждут скорейшего решения вопроса — отмены законов о запрещении деятельности компартии и отказе участникам Сопротивления в правах гражданства. — А мой сосед, который до последнего дня не верил в падение сильной власти диктатора, уже получил важный пост, правда, временный, — с горечью произнес Василис, и все поняли, что речь идет об отце Алексиса. — Интересно, а сына пустили? — спросил кто-то из участников собрания. — Наверное, нет, он ведь по-другому стал жить и думать, — сказал Василис. — Значит, двух знаменитых певиц тоже пока не пустили? — спросила вошедшая в комнату дочь Василиса Зара. — О, песни сейчас тоже опасное оружие! — ответил отец. Вот возьмут певицы и повернут их против новых правителей, как делали в годы хунты. Разве такое понравится властям? — А Ставридис поет! — сказала Зара. — Вчера слышала по радио его песню в защиту таких, как мы с вами. Песня так и называется: «Домой!» — До этой песни он пел песню-протест против слишком мягких приговоров хунтовцам, — заметила пожилая гречанка. — Да, я тоже слышала, — сказала Зара. — И ещё Ставридис сказал, что сочинил песню о Политехнике. — Друзья! Не будем вешать носы. Давайте надеяться, что справедливость восторжествует! — бодро произнес Василис. Но после ухода друзей старик загрустил, сославшись на недомогание, попросил Зару закрыть дверь — хотелось остаться одному. Тяжелые думы нахлынули на Василиса Коцариса. Рано или поздно, но политэмигранты вернутся на родину. Вернутся! Каждому найдется дело в стране, пережившей семь черных лет. Одна из самых больших побед — легализация партии марксистов-ленинцев, издание коммунистической газеты «Ризоспастис», восстановление прогрессивных массовых организаций… Есть к чему приложить руки и знания. Даже дух захватывает! Но только ему, пленнику этой маленькой комнаты, не выбраться домой, не отдать ум и сердце, всего себя возрождению демократических начал в жизни исстрадавшихся греков. Выходит, что пора под жизнью подвести черту? Все уедут; а он останется — один со своими думами, без друзей, без веры и надежды? Всю ночь Василис не сомкнул глав. Маленький радиоприемник он приложил к самому уху. Афины не скупились на песни о новых надеждах, о будущем Греции. Одна песня ему очень понравилась. Пели Елена и Лулу словно специально для него:ВРЕМЯ НАДЕЖД
Прошла неделя после того, как Никос встретил Хтонию и детей, но все еще не верилось, что после долгой и мучительной разлуки они опять вместе, правда, пока без Лулу, под крышей небольшого дома в «красном поясе» Афин. Наговориться вдоволь никак не удавалось. Сразу же после освобождения у Никоса оказалось много срочных и важных партийных поручений, творческих и личных дел, надо было участвовать в разных совещаниях и собраниях, выступать на митингах, хлопотать о возвращении греческих политэмигрантов… Очень мало оставалось времени для того, чтобы посидеть за роялем, заняться любимым делом. Никос даже шутил, что на островах ему удавалось больше сочинять песни, чем теперь. И все же он уже написал несколько новых песен, одну из которых разучили Костас и Мирто. Никос был рад, что не только Лулу, но и младшие дети, которые взрослели без отца, тоже любят петь, причем поют весьма неплохо, с завидным задором. Новую песню отца на слова известного поэта Крстас и Мирто готовились исполнить на митинге, организованном компартией. К этому событию активно готовился и Никос. Знаменитый певец-коммунист был ответствен за художественную программу митинга. Это лето в столице, как шутили афиняне, было дважды жаркое — от сильного солнца и накала политической борьбы. Но люди, готовившие праздничный концерт, словно не замечали зноя и духоты. Никос уходил из дома рано утром, а возвращался порой тоже под утро. Бывало, что засыпал тут же за столом, за который садился что-нибудь перекусить. Но поздно ночью накануне митинга, когда Никос вернулся домой, Хтония сообщила ему, что Лулу возвращается в Афины. Сон как рукой сняло. За разговором не заметили, как начало подниматься солнце. Никос посмотрел на часы. До начала праздника оставалось совсем мало времени. Костасу и Мирто не терпелось побыстрее отправиться на стадион, впервые принять участие в подобной политической акции участников антихунтовского сопротивления. Но Хтония сказала, что она остается дома, — надо же кому-то встретить Лулу. Против этого трудно было что-либо возразить, но Никосу очень хотелось, чтобы Хтония была на стадионе, тем более что ведущая концертную программу греческая актриса будет в образе легендарной эллинки, которая в древности спасла Афины от врагов. — Эллинку, как известно, звали Хтонией, — привел убедительный довод Никос для того, чтобы жена пошла на стадион. Никос обнял Хтонию, Костас и Мирто бросились к матери, поцеловали, весело закружили ее. Выход был найден. Соседка пообещала: как только приедет Лулу, она сразу же пошлет своего сынишку на стадион за Хтонией. По дороге на стадион многие узнавали Никоса, приветствовали его. У самого входа произошла неожиданная встреча — Никос увидел рыбака Костаса и студента Георгиса. После острова смерти «радисты» давно не виделись. Друзья крепко обнялись. — Вот приехали послушать, как ты поешь на свободе, — наконец сказал Костас. — А скоро специально приеду в Афины по делам мэрии и очень надеюсь на помощь старого товарища, которого рыбаки подумывают послать своим депутатом в парламент. — Кого же это? — не сразу понял Никос. — А того, кто еще не спел им обещанную песню о буре, — лукаво щуря глаза, ответил Костас. Никос от смущения не знал, что и сказать, затем поинтересовался у Георгиев, как идут дела. — Работаю на археологических раскопках, — ответил студент. — Где? — Там, где не закончил работу. В лабиринтах старой крепости. Практика нужна для получения диплома. Никос опустил голову и задумался. Слова Георгиев напомнили о Нисе. Георгис, будто угадав мысли певца, продолжил: — К годовщине событий в Политехнике наша студенческая организация решила поставить памятник Нисе. — Да, да, молодцы студенты, — похвалил Никос. — Встретимся, Георгис, после митинга, поговорим еще. Это очень важно. Памятник Политехнике и его героям очень нужен. Я сегодня буду петь о подвиге студентов. Стадион уже бурлил, отовсюду доносились громкие голоса и музыка. Празднично полыхали красные полотнища. Это был грандиозный легальный праздник КПГ. Но вот призывно зазвучали фанфары, и на трибуну-сцену посреди стадиона вышел мужчина с копной белых волос на голове. По стадиону пронеслось: «Товарищ Седой». Высокий, крепкий человек, которого многие на стадионе хорошо знали и уважали, начал говорить: — Греки и гречанки! Дорогие товарищи, друзья! С колыбели грекам поют известную песню о том, что мы не можем жить без свободы. Сегодня мы празднуем день нашей победы, которую мы завоевали в борьбе с новоявленным фашизмом. Многие из вас ценой страданий и лишений, долгих лет заточения принесли нам в подарок этот день. Но борьба, товарищи, не закончена, она продолжается в новой политической ситуации. Борьба за наши права, за возрождение демократической Греции. Сегодня в газете «Ризоспастис» — органе коммунистической партии опубликованы стихи нашего народного поэта Янниса Рицоса с призывом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Мы обращаемся сегодня ко всем грекам и гречанкам объединиться в борьбе за торжество наших идеалов, за которые отдали жизни многие и многие тысячи наших братьев, сестёр, сыновей и дочерей! Да здравствует свободная Эллада! Да здравствует партия греческих коммунистов! Весь стадион встал и, запел «Интернационал». Затем к микрофону подошел худощавый бородатый мужчина. «Яннис Рицос», — доносилось со всех сторон. Поэт начал читать стихи. Коротко и ясно — в своей обычной манере, без громких фраз. Никос, слушая строки из знакомой поэмы «Греция», пожалел, что до сих пор не написал к ним музыку. Не успел об этом подумать, как все на стадионе встали, начали вторить поэту. Много раз в жизни приходилось Никосу подходить к микрофону, но после того, как стадион затих и ждал нового оратора, он почувствовал, что его ноги налились свинцом и он не может справиться с волнением. Никоса встретили долгими аплодисментами, и эта маленькая передышка позволила ему справиться с собой и обрести уверенность. Заиграл оркестр. Никос вдохнул в себя воздух, начал петь:ХАЧАПУРИ В АФИНАХ
Поздно вечером, вернувшись домой, Никос еще в прихожей услышал, как Хтония с кем-то разговаривала по телефону, смешивая греческие слова с русскими. Когда он появился в комнате, Хтония быстро сказала своему собеседнику на том конце провода: — Вот и Никос пришел. Передаю ему трубку. До свидания. — Здравствуйте, дорогой товарищ Ставридис, — услышал Никос показавшийся знакомым мужской голос. А говоривший продолжал по-русски: — Дорогой Никос, не забыли Юрия Котикова? Конечно, Никос не забыл советского журналиста, который до переворота работал в Афинах и предложил ему написать статью к ленинскому дню. Но сколько воды утекло с тех пор! Никос вспомнил, что товарищ Котиков приглашал их на какое-то кавказское кушанье со сложным названием. И вот через столько лет этот звонок, напомнивший о многом. — Какими судьбами, товарищ Котиков? — прервав свои воспоминания, спросил Никос. — Очень рад, что не забыли нас. Мы с Хтонией всегда рады видеть вас у себя дома. Вы опять к нам работать или в командировку? — Приехал в командировку. Дни заполнены до отказа, дел много, но о приглашении на хачапури не забыл. Разузнал, что в «Русском селе» продолжают делать грузинское хачапури, и в этот раз непременно поедем туда, Никос. Прощу извинить за поздний звонок. Очень хотелось бы встретиться, поговорить. Кстати, у меня долг перед вами, Никос. Должен передать номер газеты с вашей статьей. Старый номер газеты. После телефонного разговора Хтония спросила: — О чем говорили, Никос? — О ха-ча-пу-ри! — весело произнес он. — Хо-ро-шо! — так же весело отозвалась Хтония, вспомнив, как ответила на первое приглашение Юрия Котикова поехать в афинский пригород. — Кстати, где ты научилась русскому? — спросил Никос. — Там же, где и болгарскому. Рядом с нашим домом была болгарская школа, там учили детей русскому языку. Из открытых окон доносились голоса учителей. Я запоминала. Ну и практика была. Многие в Болгарии знают русский язык. Даже научилась петь русскую «Катюшу». — «Расцветали яблони и груши»? — вспомнил начало песни Никос. — В нашем партизанском отряде один советский солдат ее пел. Очень мелодичная, запоминающаяся песня. У русских хорошие песни. Жаль, что «Подмосковные вечера» не можем послушать. Когда Никос после ссылки вернулся домой, он увидел на полу разбитую пластинку — давний подарок автора песни «Подмосковные вечера». Агенты Пацакиса, ворвавшись в дом Ставридисов и не застав там никого, стали крушить и переворачивать мебель, разбили и эту пластинку на проигрывателе… — Вот поедешь в Москву и привезешь… Не успела Хтония договорить, как откуда-то сверху донесся голос певицы, зазвучали «Подмосковные вечера» на русском языке. Боже, это же Лулу! Дочь пела в комнате, которая была под самой крышей дома. — Ну прямо как с небес! — удивилась Хтония. — Вы сговорились сегодня говорить и петь по-русски? — спросил Никос. За Хтонию ответила Лулу, появившись на лестнице: — По желанию публики! Пластинку разбить можно, песню нет, верно, товарищ Ставридис? Песня разбудила Костаса и Мирто. — По какому поводу ночной концерт? — спросила Мирто. — Пусть сама виновница объяснит, — сказала Хтония. — За нашим пиршеством. Давно все вместе не сидели за столом. Пока Хтония и Мирто проворно ставили на стол тарелки с едой и бутылки с лимонадом, Лулу рассказала о том, как впервые в Москве услышала эту песню, запомнила ее и стала петь. Она вспомнила, как греческая группа исполняла «Подмосковные вечера» на большом митинге в чилийском городе Вальпараисо накануне фашистского переворота. О прерванном сне никто и не думал, даже Никос, сильно уставший за день, объявил, что с удовольствием просидит за семейным столом хоть до утра. — Интересно, поверит ли приехавший журналист, что всю ночь мы пели одну советскую песню? — спросил он. — Почему одну? — удивилась Лулу. — Я знаю еще несколько. Вот самая известная. Лулу быстро села к роялю, взяла несколько аккордов и запела «Катюшу». Лулу пела по-русски, а маленький домашний хор подпевал по-гречески. Когда Никос встретился с Котиковым, он первым делом рассказал ему о «ночном концерте». — Вот это здорово, просто здорово! — обрадовался журналист. — Никос, вы не возражаете, если в репортаже о послехунтовской Греции я упомяну о том, как пели русскую «Катюшу»? — Хо-ро-шо! — вспомнив, как произносит это слово Хтония, ответил Никос. Они встретились в здании Общества греко-советской дружбы. До прихода туда Никоса Ставридиса Котиков беседовал со старыми работниками этой организации друзей Советской России, которые рассказали, как по приказу самого главы хунты общество было разгромлено. Когда же на днях объявили о восстановлении общества, одними из первых сюда пришли молодые греки, которые хотели бы поступить в школу русского языка. — И не только молодые, — уточнил Никос. — Освобожусь от своих забот и тоже сяду за парту. Хо-ро-шо? — Очень даже хорошо, Никос! Сразу же прочтете… Котиков протянул ему старый, ленинский, номер газеты, в котором была опубликована статья греческого певца и композитора. — Это мне? — после долгого молчания спросил Никос. — Автору, который, надеюсь, скоро будет писать свои статьи и на русском языке. — Пока нет времени писать даже на своем языке. Хунта оставила нам тяжелейшее наследство. — Об этом и хотел поговорить с вами, Никос. — Ваша страна знает, что такое фашизм. Мне еще не удалось побывать у вас, но знаю, что советские люди, ваше правительство, партия коммунистов готовы решительно противостоять этой темной силе. Греки тоже испытали фашизм на себе. Когда мы вместе победили фашизм, кто мог подумать, что неофашисты еще раз будут испытывать терпение греков. Виноваты многие в возрождении в Греции самой оголтелой реакции. В том, что игнорировали единство действий в защиту демократии. В том, что антинародные силы нанесли внезапный удар в сердце Эллады. Тяжелыми потерями, большой кровью исправляют ошибки. Хунты нет, но есть почва, на которой произрастают эти сорняки. Но мы засучили рукава, приходится без устали выпалывать эти сорняки, ликвидировать тяжелые последствия в экономике, в культурной жизни, в жизни нашего общества… Котиков быстро писал, изредка поглядывая на Никоса, который по своей привычке расхаживал по просторной и пустой комнате, и его тяжелые шаги гулко отдавались в тишине… Никос посмотрел на свои часы, улыбнулся: — Цейтнот! Успею только перейти дорогу, чтобы встретиться с чиновниками министерства внутренних дел. Котиков с сожалением захлопнул блокнот: — Да, Никос, значит, условились, завтра — в «Русское село»? Я заеду за вами. Поедем на нашей «Волге», как говорится, с ветерком! Итак, Никос, до… — Ха-ча-пу-ри! — подмигнул Никос и быстро вышел. В километрах тридцати от столичного центра издавна селились греки, которые возвращались на родину из России. Это место получило название «Русское село». Здесь многое напоминало быт русских деревень. Большой популярностью «пользовался ресторан, открытый в этом селе. Там хозяйничала целая семья — несколько братьев и сестер, которые родились и провели детство в Грузии. Зачинателем дела был их отец, который сильно тосковал по приморскому поселку недалеко от Батума — он так по старинке называл грузинский город. Вот ему и пришла в голову мысль собирать под крышей «кавказского духана» всех греков — выходцев из Грузии, готовить для них неприхотливые, но вкусные кушанья. Затея так всем понравилась, что в ресторан, названный по-кавказски духаном, съезжались гости из Афин и из многих греческих городов… После отца ресторан унаследовали его многочисленные дети, которые расширили дело. Не успеет компания усесться за стол, как тут же перед каждым оказывается жестяная «лодочка»— маленькая тарелка с кулинарным чудом — запеченным в тесте сыром-брынзой. Это бесхитростное и легкое в приготовлении хачапури нравилось всем, считалось деликатесным блюдом, сравнимое лишь с шашлыком, хашем и хинкали. В годы черного семилетия популярный духан тоже оказался в списке «опасных заведений» и был запрещен хунтой, а сейчас открылся вновь. В ресторан-духан приехали до часа «пик», когда еще не успели съехаться все любители хачапури. Хозяева узнали Никоса Ставридиса. Один из братьев, самый старший и самый веселый на вид, сказал, что они очень рады гостям, но только жаль, что сегодня нет оркестра бузукистов, в репертуаре которого много песен уважаемого певца и композитора. — Нет худа без добра, посидим в тишине, — сказал Никос. — Есть о чем поговорить с нашим советским гостем. Но, обрадованные возможностью вспомнить русский язык, сами «хачапуристы» — братья и сестры, забросали Котикова вопросами о Советском Союзе, особенно, конечно, о Грузии. Одни «хачапуристы» задавали вопросы, другие накрывали длинный стол для гостей. Ресторан быстро заполнялся новыми гостями. В центре внимания был знаменитый певец Ставридис. — Ай, как жаль, что нет оркестра! — сокрушался старший из братьев. — Даже бузуки нет. Один чонгури. Грузинский чонгури. Но это для «Сулико». Услышал ли кто эти сетования или случайно так вышло, но за соседним столом вдруг поднялся пожилой мужчина и попросил минуту внимания: — Мои друзья за этим столом просят понять и извинить наше горячее желание в присутствии человека, которым гордится вся. Греция, чтобы один наш товарищ после долгих лет, проведенных на чужбине, спел под небом родины самые известные и любимые песни. После первого аккорда бузуки зазвучал сильный, красивый голос:МЕСТЬ У ПОРОГА ДОМА
По старый привычке Котиков остановился в небольшом отеле «Пан» на узкой и длинной улице, которая начиналась с главной афинской площади Синтагма. Это очень устраивало журналиста: неподалеку находились многочисленные учреждения и организации, в которых приходилось часто бывать, встречаться с людьми для подготовки серии репортажей о Греции накануне выборов в парламент. Рабочий день в Афинах начинается рано, поэтому Котиков завтракал и спешил по своим делам. Но в то утро он задержался в отеле дольше обычного. Надо было по горячим следам написать очерк о событиях в «Русском селе». В блокноте было много исписанных страниц. Слепой певец действительно оказался узником Макронисоса: там он начал терять зрение. Судьба изгнанника забросила его за рубеж, последние годы жил во Франции, часто бывал в маленькой комнате своего друга по партизанской дружине Василиса Коцариса. Звали его Маркосом Ангелакисом. Мало кто знал рядового бойца Сопротивления, одного из многих узников острова смерти, да и полная потеря зрения мешала ему быть среди активных участников антидиктаторских движений. Но этот старый и больной грек обладал удивительным голосом. Никос сказал певцу, что он обязательно должен участвовать в хоре участников Сопротивления. Маркос взял бузуки и начал петь. Котиков с трудом успевал записывать слова:
Иоргос скоро появился с чашкой кофе, но был не таким, как обычно. «Что-нибудь случилось, Иоргос?» — спросил обеспокоенный Котиков. Молодой грек кивнул, тяжело вздохнул и сдавленным голосом сказал: «Товарища убили… и жену его». Когда Иоргос вышел, тяжелое предчувствие, что эта трагедия могла произойти с молодоженами, о которых он написал в сегодняшнем очерке, уже не покидало Котикова. Он набрал номер Иоргоса, но другой портье сказал, что тот отпросился и только что уехал в Пирей. Так рано беспокоить Ставридисов было неудобно. От хорошего настроения не осталось и следа. Когда зазвонил телефон, Котиков быстро схватил трубку. По изменившемуся голосу Никоса он понял, что трагедия произошла именно с его друзьями. Никос сказал, что едет в Пирей и готов взять с собой Котикова. Популярная среди простых тружеников кофейня «Самандос» опять была открыта. Под могучими деревьями собирались старые товарищи — кто возвратился с островов смерти, кто из долгой эмиграции. Самандос постарел и сильно сдал. Все заботы о кофейне легли на Самандоса-младшего. После того что пережил молодой грек в годы хунты, эти заботы были ему в тягость. Он мечтал об активной работе в местной организации партии, членом которой стал в эмиграции. Но оказалось, что это было партийное поручение: сплачивать и объединять греков, вести среди них разъяснительную работу. Очень смущало Самандоса-младшего и то обстоятельство, что его работа в кофейне явно не по нраву Лулу, а это может стать серьезным препятствием в их отношениях. Самандос-младший давно стал близким другом семьи Ставридисов. Хтония часто приглашала его в дом. Но отношения с Лулу не продвинулись вперед ни на шаг, девушка, казалось, избегала разговоров о том, что беспокоило Самандоса. Оставалось ждать. Большая толпа людей в темных одеждах молча встретила Никоса Ставридиса у кофейни. Старшим среди них был Самандос. И первое слово было за ним. Простые греки — таксисты, докеры, рыбаки, моряки, швеи, продавцы — внимательно следили за разговором этих двух уважаемых людей. Пирейцы знали, что знаменитый певец вызволил из тюрьмы Тасоса, был свидетелем со стороны жениха, о нем с благодарностью говорили люди, когда молодожены праздновали свадьбу в кофейне Самандоса. Никос Ставридис не смог быть на этом торжестве — спешил на собрание коммунистов, но всем казалось, что он среди гостей. Самандос-младший включил магнитофон с записями песен Никоса Ставридиса. Очень весело было на свадьбе, гуляли до поздней ночи. Все это рассказывал певцу и советскому журналисту Самандос-старший. Старик замолчал, собираясь с силами, чтобы продолжить свой рассказ. Когда гости стали расходиться, один из таксистов, друг Тасоса, предложил отвезти молодоженов в дом родителей жениха. У самого порога дома на темной и кривой улочке портового поселка с ним поравнялся встречный автомобиль. Автоматная очередь прошила такси. Тасос и Рита были убиты, а таксист умер через некоторое время, так и не придя в сознание. Пирейцы Ждали, что скажет Ставридис. Подъехала полицейская машина, из которой вышли двое. Одного из них Никос узнал сразу. Это был бывший охранник с острова смерти, который и познакомил певца с Тасосом. Второй был молодой полицейский офицер. Оба отдали честь, ни слова не говоря. — Что показало расследование? — первым нарушил молчание Никос. — Следы автомобиля, из которого стреляли, затерялись, но поиски продолжаются, — ответил полицейский офицер. Никос перевел взгляд на бывшего охранника, тот опустил голову и только махнул рукой… — И все же убийцы будут найдены! — убежденно произнес певец. По дороге в Афины Никос долго молчал, потом сказал: — Это месть. И совершено убийство явно по плану, который утвердили те, кто отпустил арестованного. Вы, мол, желаете справедливости, мы тоже. Вот вам в придачу автоматная очередь… Без Пацакиса не обошлось. Что ж, поборемся с этим хунтовским последышем. Котиков с беспокойством посмотрел на часы и попросил подвезти его прямо к отелю. — Надо успеть передать в номер, — объяснил он. Афинская телефонистка быстро соединила с Москвой. — Несколько строк дополнения, — сказал стенографистке Котиков. — Юра, что случилось за это время? — удивилась Таня. — Молодожены, о которых я пишу, убиты… Танечка молчала, а Котиков не торопил, хотя времени для передачи оставалось мало. Изменившимся, тихим голосом стенографистка сказала, что готова записывать. Переданные строки заканчивались словами: «Это будни Греции после хунты. Греции с наследием хунты».
С ВЫСОТЫ СУНИЙСКИХ СКАЛ…
Ясон Пацакис недолго находился в больнице после инцидента в прибрежной таверне. В широкой огласке Пацакис не заинтересован, особенно теперь, когда удалось выпутаться из недавнего процесса над хунтовскими агентами госбезопасности. Мадам Бурбулис не отходила от пострадавшего, бдительно охраняла его палату от назойливых репортеров и знакомых, которые хотели навестить несчастного Ясона, а чаще доставить себе удовольствие посмеяться над чванливым наследником папашиных миллионов. В палату допускались только особо приближенные люди, которые сообщали о всех новостях. И скоро Пацакис узнал, что судьбой этого «бешеного» пирейца интересуется Никос Ставридис, даже хлопочет о его освобождении. Неожиданное вмешательство давнего врага в эту историю изменяло первоначальные планы покинувшего больницу Яноса Пацакиса. После того как он избавился от опеки мадам Бурбулис и уединился на своем острове с мадемуазель Бурбулис, Пацакис лихорадочно обдумывал варианты жестокой мести. Теперь от передачи дела в суд надо было отказаться. Коммунисты, все левые газеты поднимут такой шум, что процесс может обернуться против самого Пацакиса — ему припомнят все старые грехи. Об этом предупредил его и знакомый чиновник из министерства внутренних дел, который вел переговоры со Ставридисом. — Мой шеф не советует связываться с этим Ставридисом, который в списке кандидатов в парламент от левых, — докладывал чиновник. — Он сейчас в большой силе и воспользуется этим. — Что же советует ваш шеф? — спросил помрачневший Пацакис. — Сделать красивый жест. Пацакис — дока в таких делах, сразу догадался, что скрывается за этими словами. Расшифровывать ему значение «красивого жеста» было излишне. «Я сам придумаю месть», — решил Пацакис и тайно встретился с людьми, которые часто выполняли его поручения. План был прост. За таксистом установят слежку наемные убийцы и в удобный момент расправятся с ним. Машина с погашенными фарами стояла наготове, и как только молодожены на такси подъехали к своему дому, она стремительно двинулась навстречу… Ее следы затерялись на побережье, словно это была амфибия, продолжившая свой путь по воде. Правда, были обнаружены следы многотонного самосвала, поэтому кто-то высказал предположение, что на него была погружена автомашина, в которой находились стрелявшие. Возникла еще одна версия: автомашину погрузили на яхту. Полицейские, ведущие это дело, были вскоре отстранены от расследования якобы по причине неопытности. Дело поручили детективам из Афин. Левые газеты требовали быстрого и непредвзятого расследования трагедии в Пирее, утверждали, что убийство совершено по политическим мотивам. Похороны Тасоса, Риты и их друга — водителя такси вылились в многолюдную демонстрацию, пирейцы требовали привлечения убийц к ответственности, увольнения из органов внутренних дел и государственной безопасности сторонников «черных полковников». На траурном митинге выступил Никос Ставридис. — Борьба не кончилась, она продолжается! — страстно и горячо начал он. — Сторонники хунты притаились, расползлись по щелям и высматривают, пакостят, осуществляют террористические акты. Неофашисты не останавливаются ни перед чем, нанося удары левым силам, тормозя процесс демократизации. Они мечтают приковать Грецию к колеснице НАТО, сохранить американские военные базы, опять ввергнуть страну в ночь диктатуры. Сегодня из наших рядов вырваны молодые греки, которые еще многое смогли бы сделать для свободы и счастья своей родины. В весеннем саду сорваны, растоптаны не успевшие расцвести цветы. На пороге их дома прозвучали выстрелы наемных убийц. Расследование подлого убийства затягивается. Мы требуем быстрого и честного ответа на вопрос: кто убил наших товарищей? Пусть этот вопрос услышат и подлые организаторы пирейской трагедии, те, кто нанял убийц, кто теперь отсиживается в своей берлоге в надежде на безнаказанность. Но им не удастся скрыться от справедливого суда и возмездия народа! Говорили друзья Тасоса и Риты, говорил старый Самандос… Никос заметил, как к месту похорон подъехала автомашина, из которой вышли Хтония, Лулу и долгожданный гость, которого он не мог встретить сегодня сам. Все заботы и дела, которые навалились на коммуниста Ставридиса после падения хунты, были временно отодвинуты трагедией в Пирее. Поэтому Никос попросил жену и дочь встретить мистера Джекобса, который должен был приехать для участия в празднике, посвященном памяти Байрона. И старый друг прямо из аэропорта направился сюда, на похороны. Всю ночь перед похоронами Никос так и не сомкнул глаз. То, что убийцы были наняты Ясоном Пацакисом, не вызывало сомнений, как, впрочем, и то, что жест, сделанный министерством внутренних дел, был рассчитан на то, чтобы удовлетворить требование общественности и в то же время дать возможность отставному шефу тайной полиции самому осуществить свои коварные планы. Но нужны доказательства и факты. Ход расследования не давал надежд на их получение. По тону выступлений крайне правых газет можно было сделать вывод, что каким-то кругам в верхах не нравится поднятый шум вокруг этого дела. Но отступать нельзя, нельзя опускать руки, думал Никос, виновники должны быть наказаны. Много времени и сил потребуется для этого, придется опять отложить творческие дела. Беспокоил и байроновский праздник. Никосу вспомнились строки из поэмы «Дон-Жуан»:ДРУЖБА ДЛИНОЙ В ЖИЗНЬ
По своему жизненному опыту Никос знал, что человек, имеющий много друзей, имеет и немало недругов. Каждый враг его друга как бы автоматически становился врагом популярного в народе композитора, певца и общественного деятеля. Вот и друзья Шерлока Джекобса были друзьями Никоса Ставридиса, как и враги англичанина стали врагами грека… Да, много лет прошло после знакомства и начала дружбы с байронистом Джекобсом. Три десятка лет. Вся сознательная жизнь. Никос вспомнил, как это было. В один из дней антигитлеровского Сопротивления Никос Ставридис был вызван в штаб соединения ЭЛАС, которым командовал боевой капитан Седой, и увидел там двух незнакомцев — по виду иностранцев. После совещания рядом с Седым стоял один из незнакомцев — коренастый мужчина средних лет. — Никос, с тобой хочет познакомиться наш английский друг капитан Джекобс, — сказал командир. — Я много слышал о вас, маэстро Ставридис, — улыбнулся англичанин. — Рад познакомиться с вами. Я очень люблю народные песни. Греческие песни прекрасны. Об этом говорил еще наш Байрон, — одним духом выпалил он. — Это чрезвычайно интересно! — продолжал он. — Когда вы успеваете воевать и петь? Я надеюсь, у меня еще будет возможность побывать на вашем концерте. К ним подошел второй иностранец — высокий, надменный, со щеточкой усов на узком лице. Он — тоже по-гречески — поинтересовался, о каком концерте идет речь. Услышав ответ, холодно усмехнулся: — Когда говорят пушки, музы молчат. Все почувствовали неловкость, и в самом большом смущении был капитан Джекобс. — О, мой коллега просто военный, и больше ничего, — заговорил он, стараясь сгладить неприятное впечатление. — Майор Стэнли артиллерист. Зато он большой мастер своего дела. — Видимо, так, — согласился Седой. — У нас к музыке свое отношение. Есть песни, капитан Джекобс, которые сильнее сотен пушек. Помните, как сказал Шуман: «Пушки, спрятанные в цветах». Спросите любого в этих горах, и вы узнаете, что певцов здесь почитают так же, как героев и полководцев. А концерт будет, капитан Джекобс, непременно будет. Конец осени был дождливым, с гор дули холодные, пронизывающие ветры. В один из таких ненастных дней из горного селения, где было расквартировано подразделение ЭЛАС, в долину спустилась группа бойцов. Не замеченные охраной, они залегли у подступов к железнодорожному мосту. Подрывники, скрытые сплошной пеленой дождя, заложили детонаторы. Все ждали сигнала. Люди не разговаривали, боялись даже шевельнуться. Этот мост надо было обязательно уничтожить: через него шли гитлеровские эшелоны с солдатами, вооружением, снарядами, продовольствием для войск Роммеля в Северной Африке. Накануне операции капитан Джекобс долго разговаривал с Никосом. — Когда в Каире мне сказали, — рассказывал англичанин, — что предстоит поездка в Грецию, я подумал: это сон. Греция была моей давней мечтой. Я филолог, эллинист, специализировался на творчестве Байрона, еще в детстве был восхищен его подвигом в далекой Элладе. И вот встреча с Грецией. Но с какой? Истекающей кровью, страдающей. И вдруг в этом хаосе войны я слышу звуки песен, вижу одного из лучших певцов. Вы еще только начинаете радовать людей, а рискуете своей жизнью. Отговаривать вас, знаю, бесполезно. Это ваша родина, и вы принадлежите ей. Никос, выросший в порту, неплохо понимал по-английски, и капитан Джекобс в тот день читал ещё много стихов своего знаменитого соотечественника, звучавших как песни для Никоса. Он пообещал англичанину, что уговорит Фотрса написать музыку к греческому циклу стихов Байрона и споет их. Почувствовав доверие, капитан Джекобс прочел Никосу байроновские стансы:ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Никос часто приходил в редакцию коммунистической газеты. За стенами «Ризоспастиса» бурлила и кипела политическими страстями жизнь, на каждом шагу видны были перемены — и смелые, и пока робкие… В Афинах, как в гигантской капле, можно было видеть все происходящие события. И все же в редакции был свой особый микроклимат, по которому можно было безошибочно определить политическую атмосферу Греции. Стоило Никосу с полчаса посидеть в кабинете главного редактора или в отделе культуры «Ризоспастиса», как он будто чувствовал пульс обновляемой жизни, узнавал множество новостей. Кабинета главного редактора как такового еще не было в небольшом, недавно арендованном помещении редакции газеты, вышедшей из долгого подполья. В комнате сидели редактор, его заместители и обозреватели газеты. Всех их Никос знал давно, почти со всеми в разное время находился на островах смерти и в тюрьмах. Здесь же располагался пожилой грек, юрист по образованию, который защищал своих товарищей-газетчиков на многочисленных процессах, а за пламенную речь на суде в защиту жертв хунты и сам угодил за решетку. Вся его семья погибла, поэтому после освобождения старик сразу пришел в редакцию, где он не только работал, но и жил. Рядом стоял стол политического обозревателя газеты, в защиту которого юрист-коммунист особенно горячо выступал на суде». После падения хунты из найденных документов стало известно, что тогда будущему политическому обозревателю грозила смертная казнь, но после речи защитника суд приговорил его к долгому сроку заключения. Когда Никос первый раз вошел в комнату редактора, двое за соседними столами — бывшие защитник и подзащитный — о чем-то горячо спорили. Непосвященному могло показаться, что между этими людьми мало общего. Никос с болью и гордостью думал о них: ведь один ценой своей свободы спас жизнь другому. Главный редактор был старым другом товарища Седого, в их судьбах было много общего, только журналист почти все годы хунты находился в строгой изоляции и, если бы не крах диктатуры, пробыл бы в ссылке еще много лет. Людей в комнате редактора в шутку называли «столетниками». Кто-то в редакции однажды сложил все годы заключения, присужденные им на процессах против коммунистов, и получилась трехзначная цифра. После похорон в Пирее Никос пришел в редакцию с англичанином. Мистер Джекобс знал многих журналистов, которые в годы хунты издавали греческую коммунистическую газету в Лондоне. Поводом для прихода в «Ризоспастис» было желание найти старый номер газеты, издававшейся в Лондоне, в котором была помещена статья руководителя английской археологической группы в Греции об инциденте на раскопках античной крепости. Статью Джорджа Джекобса хорошо помнили старые журналисты. — Желаете приобщить к делу о преступлениях бывшего шефа тайной полиции? — догадался старый журналист Аргирис. — Не только, — ответил гость, — к делу всей хунты. Мистер Джекобс извлек из своего кейса пачку английских газет, объяснил: — И в туманном Альбионе требуют суда над хунтой. В Афинах ли, в другом ли греческом городе должен быть свой Нюрнберг. — У нашего Нюрнберга есть свое название, — сказал Аргирис. — Правда, весьма лирическое. — Надеюсь, что там не будет лирических судей! — Журналистской братии известно, что для процесса над главарями хунты готовятся помещения в афинской тюрьме Коридаллосе. — Стало быть, в Жаворонке. А где они сейчас? — спросил англичанин. — На одном острове. — Из тех, которые назывались островом смерти? — Какой это остров смерти, — помрачнев, ответил Аргирис, — судите сами. Когда-то главарь хунты прибрал к рукам остров Кея для своих удовольствий. Тогда же он заявил, что хотел бы остаток своей жизни провести именно здесь. И такую возможность ему дали. Сейчас он на острове Кея в компании со своими генералами и полковниками. — Но кто-то забывает об общественном мнении! — начал горячиться англичанин, призывая в союзники Никоса, дескать, что скажет об этой несправедливости бывший узник. — На это только и надежда, — согласился Аргирис. — И на мировое общественное мнение! — добавил Никос. — Наша история доказывает, что помощь зарубежных друзей всегда была полезной. Со времен Байрона. Мистер Джекобс хлопнул себя по лбу, вспомнив о памятных значках. — И мы, если понадобится, — сказал он, раздавая значки журналистам, — тоже жизнь свою, как Байрон… Аргирис прочел изречение поэта на значке и сказал: — Мистер Джекобс, написали бы статью по старой дружбе о готовности эллинистов продолжить подвиг вашего великого соотечественника. В комнату вошла седая женщина. — О, Рула! — воскликнул англичанин. — Мне сказали, что вы в «Ризоспастисе», — сказала она. — Сабли в ножны! — пришел в веселое настроение мистер Джекобс. — Будем говорить на другие темы. Рула улыбнулась, но по ее глазам гость понял, что этой женщине не до шуток. Вспомнив о поэте, англичанин поспешно вручил и Руле значок. — Спасибо, — поблагодарила она. — Сын очень будет рад. — Он у вас, верно, уже большой? — спросил англичанин. — Студент факультета английской филологии. — В ее ответе прозвучала гордость за сына. — Почему английской? — Мистер Джекобс сделал удивленные глаза. Рула объяснила: — Александр запомнил, как в первый ваш приезд в Афины вы подарили ему детскую книжку стансов Байрона на английском языке. А мальчик — ему было семь лет — думал, что Байрон грек, потому что ему поставлен памятник в Афинах. В школе он узнал о том, что сделал это английский лорд и великий поэт для Греции. Он выучил английский язык, потом поступил в университет. — Рула, вас арестовали в последний раз за чтение стихов? — неожиданно спросил англичанин. — Да, но это был лишь повод для ареста гречанки, имя которой стояло в черном списке хунты. Аргирис продолжил: — В списке самого Ясона Пацакиса. А это значит, что еще до хунты. — Много же зла сделал этот ищейка! — сердито произнес англичанин. — И продолжает делать, — сказал Аргирис. — Его будут судить с главарями хунты, — убежденно произнес Никос. — Пирейская трагедия ему даром не пройдет! Рула тяжело вздохнула: — Кто и когда ответит за кровь наших мужей и сыновей? Гречанка вытащила из сумки листок бумаги, протянула гостю: — Александр перевел стихи своего дяди на английский. — Рула, спасибо, если это для меня, но я могу прочесть их и в оригинале. — Тогда это для тех, кто не знает греческого. Англичанин кивнул в знак согласия, уже читая стихи, за которые эта немолодая, повидавшая много горя и страданий женщина была арестована, а ее сын изгнан из университета. Стихи назывались «Политехнический, 1973»:ГОРЕЛЬЕФ В НАСЛЕДСТВО
— Если мой конь сам не остановится около рыбаков, то ему не миновать участи легендарного Эгея! — шутливо пообещал Самандос-младший по дороге в Салоники. — Если это и произойдет, то, надо полагать, без пассажиров? — сказал Никос. — Право, не будем рисковать жизнью наших гостей. — Только я буду в ответе за этого коня, — мотнул головой Самандос. — Но он должен остановиться… узнать привычное старое место. — Если следовать легенде, то Эгей бросился в море, — заметил Котиков. — О, я не откажусь от перспективы окунуться! — воскликнул мистер Джекобс, кивнув в сторону моря. Около знакомых скал, нависших над маленьким тихим заливом, где рыбаки готовили к выходу в море свои посудины, машина стала подозрительно чихать, замедлила движение и наконец остановилась: полное впечатление, что «конь сделал это сам». — Браво! — обрадовался Никос. — Даже наш «Фаэтон» подтвердил, что мы здесь свои люди. — Да, не хуже старого «Фаэтона»! — подхватил Самандос. — О, хорошо помню старый добрый «Фаэтон»! — сказал англичанин. — И как пел веселый Фаэтон. Кажется, так:
— Я делал то, что было в моих силах и возможностях. Хочу, в свою очередь, выразить свое восхищение и преклонение перед настоящим человеком, великим греком! — заметно волнуясь, произнес Алексис, Крепко пожимая Никосу руку. — О! Обмен верительными грамотами, как говорится, состоялся. Теперь надо представиться нашим хозяевам, — сказал англичанин. Алексис подошел к рыбакам и, пожимая руки, называл свою фамилию. Старый рыбак отвел Никоса в сторону: — Фамилия… что-то знакомой показалась… Никос не сразу понял, о чем идет речь. — Как у министра, — объяснил старик. — Он его сын, — сказал Никос. — Одного поля ягода, стало быть? — нахмурился рыбак. — Поле одно, ягоды разные, уважаемый Фотис, — похлопал старика по плечу Никос. — Так не бывает! — возразил рыбак и кивнул в сторону островов. — Пацакисы похожи друг на друга, как волки в темную ночь. — У Алексиса свои счеты с Пацакисом, — возразил Никос. — В годы хунты он был среди его врагов. Одним словом, министерский сын заслуживает уважения. Понравится или не понравится — дело ваше, Фотис. Попробуйте… на зубок. Ваше право. — Так он за министра или за тебя? — не сдавался старик. — На чью мельницу будет воду лить? К рыбакам кто-то приближался на мотоцикле. Совсем молодой паренек залпом выпалил, что приехавших Костас ждет в крепости, хочет кое-что показать гостям. Старый Фотис взял слово с Никоса, что он и его друзья перед поездкой в Салоники обязательно отведают здешние рыбные блюда, которые пользуются широкой известностью далеко за пределами побережья. Алексис посмотрел на часы.. — Времени в обрез, — объяснил он. — Но я столько слышал о случае в крепости, что еду с вами, а уже оттуда — в Афины. Мама знает о моем приезде… — И отец, конечно? — ввернул Фотис. Алексис внимательно посмотрел на старого рыбака, затем на Никоса и сказал: — Как и вы, друзья, считаю, что борьба еще не окончена. Взгляд Никоса, обращенный к Фотису, как бы говорил: «Вот и ответ на ваш вопрос — на чью же мельницу будет лить воду этот молодой грек». У въезда в старую крепость гостей ждал сюрприз. Встречавшие их Костас и Георгис стояли около большого горельефа, который выглядел как памятник древности. Но это оказалась совершенно новая работа, сделанная по заказу мэрии, которую возглавлял коммунист Костас Мавридакис. На горельефе воспроизводилась памятная стычка с агентами тайной полиции. Мастерам, видимо, было нетрудно доподлинно изобразить все в камне. Советчиками и консультантами были сами участники — Костас и Георгис. На переднем плане выделялась высокая фигура Никоса Ставридиса с микрофоном в руке. Рядом в позе боксера стоял человек, очень похожий на приехавшего английского гостя. Первый узнал «боксера» мистер Джекобс: — Джордж! Это же Джордж, черт побери! И Никос очень похож! Джордж много рассказывал об этой «большой драке», теперь я представляю, как досталось ищейкам Пацакиса. — И самому Пацакису, — сказал Костас. — Да, друзья, так создается история! — воскликнул англичанин. — Пройдут годы, столетия, эпохи, и такой памятник будет иметь ценность не меньше самых древних эллинских. — Только нас не будет, — заметил Алексис. — В том-то и фокус, что будем. Никос, мой брат, все участники памятного случая навечно останутся, о них будут говорить как о; легендарных греках! Мистера Джекобса нельзя было остановить. Горельеф произвел на англичанина огромное впечатление: он оценил его не только как современник, но и как историк. — Разве мог подумать Байрон, что его подпись на колонне Посейдона будет магнитом притягивать миллионы людей! — продолжал англичанин. — Когда нашим далеким потомкам будут рассказывать об этих черных годах, никто и не вспомнит полицейскую ищейку, а покажут этот горельеф, назовут гордые имена настоящих греков и их друзей. Байрон был один. На этом горельефе уже много его соотечественников. Ну, Джордж, и обскакал ты своего брата! Каков боксер, а! Олимпийский бог Джордж Джекобс! Звучит? Котиков разрывался между блокнотом и фотокамерой: надо было успеть записать, сфотографировать… И еще поговорить с мэром, со студентом-археологом Георгисом Эмбрикосом, который был другом девушки в белом. Мэр развернул лист ватмана и сказал: — Мы вот с Георгисом набросали текст, который должен быть увековечен на другом камне. Надо написать окончательный вариант. Короткий, ясный… — И поучительный для будущих поколений! — опять воскликнул англичанин. Он лукаво прищурил глаза, продолжил: — В знак нашей дружбы можно было бы сделать перевод текста на другие языки. — Да, английский и русский переводы должны быть в первую очередь, — поддержал мэр. — Тогда за работу! — предложил Никос. — В нашем лабиринте, — добавил Костас. В крепости продолжались раскопки. Пояснения гостям давал Георгис. Он еще не получил диплом, но уже был назначен заместителем руководителя археологических работ в античной крепости. Студент заменил погибшего преподавателя — коммуниста Андреаса Киру. Дастоглу уже не было на раскопках. Ждали приезда нового руководителя. Георгис объяснил, что на раскопках, кроме греков, работают англичане, мексиканцы, болгары и впервые русские. — Советские археологи? — переспросил Котиков. — Вернее, без пяти минут археологи, — ответил Георгис. — Студенты. Истинные энтузиасты. Великолепные парни и девушки. У них, как они говорят, соревнование. Социалистическое соревнование под девизом: сегодня лучше, чем вчера, завтра лучше, чем сегодня. Советские археологи вызвали на это соревнование болгар. К тем и к другим приглядываются греки, англичане, мексиканцы… — А зачем приглядываться? — удивился мистер Джекобс. — Если этот девиз идет на пользу делу, пусть работают, как русские археологи. Эх, был бы здесь наш друг Вася, он бы вразумил их. В подземелье — известном лабиринте, ничего не изменилось с тех пор, когда здесь скрывалась группа «радистов». Даже сохранилась посуда и разная хозяйственная утварь, аккуратно расставленная на каменных скамьях. — Здесь будет мемориал в память о «радистах», — объяснил Георгис. — Скоро привезут сюда и нашу рацию. Джордж Джекобс обещал разыскать в Англии транзистор, из-за которого началась стычка. Хозяин его нанялся матросом на торговое судно дальнего плавания. Говорят, что транзистор он сохранил как память о Греции. — А что это за транзистор? — спросил Алексис. — Расскажу по дороге, — пообещал Никос. — Нас ждет работа над текстом. — А тебя, Никос, еще и мелодия песни о событиях, происшедших здесь когда-то, — сказал Костас. — Слова обещал написать Георгис. — Ты еще и поэт? — спросил Никос у студента. — И еще какой! — похвалил своего друга Костас. — Только стесняется. Послушали бы, какие он написал стихи о… Нисе. От первых же слов в дрожь бросает:
СМЕРТЬ РАДИ ЖИЗНИ
Как и семь лет назад, до Салоник добрались поздно вечером. Участники археологических работ в крепости и рыбаки долго не хотели отпускать гостей, особенно Никоса Ставридиса, прося его петь песню за песней. — Опять не увидели салоникские розы днем, — посетовал Никос, когда подъехали к отелю около знаменитой Белой башни. — Не будет ли это плохой приметой? Ведь тогда так и не дождались спокойного утра. Около отеля их ждал Такие Камбанис, в доме которого накануне переворота остановились Никос, Хтония и Самандос-младший. Салоникский певец и композитор сильно изменился, выглядел глубоким стариком, а ведь был лишь немногим старше своего друга Никоса. Сосед-нувориш, который отсыпался в ночь хунтовского переворота, выдал коммуниста Камбаниса. Арестованный даже после жестоких пыток ни в чем не признался, его осудили и бросили вместе с группой взбунтовавшихся военных на судно, превращенное в тюрьму. Над узниками «плавучей тюрьмы» надзиратели всячески издевались: заставляли нырять за брошенными безделушками на морское дно, есть в жару соленую рыбу и «утолять» жажду соленой водой. От морской цинги у заключенных распухали десны, выпадали зубы, а вблизи виднелся берег, на котором были в изобилии овощи, фрукты и пресная вода. Только пожелай, музыкант, и будешь на спасительном берегу. Но с условием: сочинить песни, воспевающие «вождя» и «отца нации», идеи возрождения «Великой Греции» и борьбу с коммунизмом. Как-то из Афин приехал один певец, он предложил салоникскому коллеге написать песню-исповедь бывшего друга Никоса Ставридиса и отречься от этого антипатриота, который только вносит сумятицу в жизнь страны своими передачами по подпольному радио. Такие Камбанис на провокацию не поддался и, хотя к тому времени заметно обессилел, размахнулся и ударил певца-иуду. А был это, как выяснилось потом, тот самый подонок из Пирея, приехавший в Салоники на такси Тасоса. В наказание певца спустили на якорной цепи с тюремного судна и держали в воде, бросая ему с палубы лишь соленую рыбу. Результатом этого жестокого издевательства была болезнь позвоночника и угроза неподвижности. Полуживого заключенного увезли в тюремную больницу, откуда его с трудом вызволили родственники: тюремщики были уверены, что узник все равно погибнет. Но Такие Камбанис яростно боролся за жизнь, и смерть отодвигалась. Вскоре он оказался в Болгарии — у родственников, которые добились разрешения на его отъезд для лечения. Больной грек лежал в софийской больнице, но лечение шло медленно, он лишь мог тяжело передвигаться на костылях по коридору. Однажды его увидел профессор, приехавший из Москвы консультировать тяжело больного старого коммуниста — бывшего политэмигранта в СССР. Советский медик заинтересовался греком, предложил ему лечение по своему методу. Через полгода Такие выписался из больницы и без посторонней помощи направился в дом своих родных. По дороге он зашел в союз композиторов, рассказал о себе, показал новую песню о своих спасителях — болгарских и советских друзьях. Эту песню Такиса Камбаниса Хтония услышала по радио, не поверила своим ушам, когда диктор, рассказывая о судьбе грека, упомянул, что автор сейчас живет в Софии с твердой надеждой вскоре вернуться в демократическую, освобожденную от власти фашизма Грецию. Хтония и Такие встретились, потом в один и тот же день вместе вернулись на родину, только «красный певец» остался в Салониках, а Ставридисы на машине Самандоса поспешили в Афины. Никос сразу узнал своего старого друга и коллегу. Такие пригласил Никоса и его друзей в свой новый дом, правда, не такой просторный, как раньше, но пообещал всех разместить, угостить великолепным кофе… — Пойду к Такису, — решил Никос. — А гости со всеми удобствами остановятся в отеле. Утром, когда проснутся розы, встретимся. Рассчитывать на спокойный сон было нельзя: есть о чем поговорить двум старым друзьям. Только Самандос после ужина прикорнул. — Дождемся рассвета, — предложил Никос, и Такие обрадовался этой возможности продолжить разговор. Крепко спавшего Самандоса с трудом растолкали, когда морское побережье позолотили первые лучи солнца. Как и тогда, семь лет назад, Никос стоял у окна, всматриваясь в оживающие улицы. — Первыми просыпаются салоникские розы, — задумчиво произнес он. Пока Самандос одевался и привадил себя в порядок, Никос у окна тихо пел:РУССКАЯ МАДОННА
Приближался день выборов в парламент. Неотложных и важных дел у Никоса стало еще больше. В предвыборные дни партия призывала истинных коммунистов-ленинцев, всех честных греков к удвоенной бдительности. Возможны были провокации со стороны все еще существующей агентуры ЦРУ, недобитых хунтовцев, приверженцев королевской власти… Никос часто ездил к своим избирателям, участвовал в различных митингах и собраниях, записывал новые песни, выступал на концертах в рабочих предместьях Афин. Вместе с Шерлоком Джекобсом и Юрием Котиковым Никос поехал в Месолонги — место гибели Байрона, там состоялся вечер памяти поэта. Многочисленные заботы казались ему и членам его семьи обычными и нужными, но когда Никос сказал о своем решении начать изучение русского в Обществе греко-советской дружбы, то даже Хтония посчитала, что это все же лучше сделать после парламентских выборов, подготовка к которым отнимала слишком много времени. Однако Никос не согласился и когда объяснил почему, то все родные и друзья поняли его. Никос, англичанин и советский журналист вернулись из «северной столицы» под большим впечатлением. Из их темпераментных рассказов стало известно все, что произошло в Салониках. Журналисты левых газет, конечно, не преминули взять интервью у Никоса, а в газете, издающейся в Афинах на английском языке, Шерлок Джекобс поместил свои впечатления от встреч, с русскими — родственниками погибших в Греции советских солдат и офицеров. Очерк Юрия Котикова о «тайне салоникских роз» был опубликован в Москве. После того памятного вечера трое друзей долго гуляли по салоникской набережной, заново переживая и осмысливая встречу с семьей русского друга. Как же старая фотография вновь оказалась в сибирском селе около озера Байкал? Мария Федоровна рассказала, что спустя десять лет после окончания войны она получила пакет — почтовую бандероль из Греции и письмо от советского военного атташе в Афинах, в котором тот писал, что посылает жене погибшего в годы Сопротивления сержанта Советской Армии Василия Кузьмича Иванова, похороненного в городе Салоники, сохранившиеся его личные вещи. Среди полученных вещей Васи была и фотография со словами на незнакомом языке. Один из вернувшихся фронтовиков сказал, что написано по-английски, но разобрал лишь несколько слов. Сын Васи — Кузьма работал в колхозе. После школы он остался за старшего в доме. Кузьма-то однажды и повез фотографию матери в районный центр, нашел в школе старую учительницу, которая знала, как ему сказали, английский, французский, немецкий и даже греческий. Старушка, прочитав стихи на обороте фотографии, воскликнула в большом удивлении: «Ах, боже ты мой, Байрон!» Одним словом, она объяснила, что это стихи давно погибшего в Греции английского поэта-романтика Джорджа Гордона Байрона. Однако никак не могла понять, каким образом они появились на любительской фотографии жены погибшего в Греции советского воина. «Только время поможет открыть эту тайну военного лихолетья», — заключила учительница, затем сама перевела стихи на русский язык. Всей семьей читали стихи, а когда приходили односельчане, Кузьма давал пояснения. Со слов учительницы он говорил, что стихотворные строки передают состояние матери, запечатленной на снимке прохожим стариком фотографом. Мать тогда всплакнула, а потом перед аппаратом пыталась выглядеть веселой, чтобы муж не расстраивался на фронте, увидев ее печальной, а еще крепче любил и помнил ее. Но ни учительница, ни Кузьма не могли толком объяснить людям, кто же написал по-английски стихи. Правда, позднее возникло одно предположение, что это мог сделать англичанин, которого Василий Кузьмич называл по-своему Шурой и о котором написал в одном неотправленном письме, дошедшем до сибирского села только сейчас. В том письме, оказавшемся среди личных вещей погибшего в Салониках Василия Кузьмича Иванова, рассказывалось о многих новых друзьях, среди которых был Шерлок (Шура) Джекобс и грек Никос (Коля) Ставридис. Но на этом история с письмом и фотографией не кончилась. В сибирском селе была построена новая школа, где преподавать английский язык стала внучка старой учительницы из райцентра. «Англичанка» знала от бабушки эту историю со стихами Байрона на фотографии, хранившейся в доме колхозного тракториста. Приехав на работу в село, она первым делом разыскала тракториста и его мать и попросила дать семейную реликвию. Потом сказала, что тайна обязательно должна быть раскрыта. В то время маленький Вася только пошел в первый класс, но после уроков с удовольствием оставался на английский язык у симпатичной и доброй молодой учительницы. В пятом классе Вася Иванов уже хорошо владел английским. И однажды на школьном вечере мальчик уверенно прочел стихи Байрона, написанные на фотографии кем-то его бабушке. Была у маленького Васи мечта — побывать в Греции, где сражался его дед, а еще раньше сражался и погиб английский поэт Байрон. Вася даже написал в школьном сочинении об этом совпадении, которое считал и символическим и историческим: за свободу другого народа отдали жизни русский колхозник и английский лорд. Из сибирского села в Афины пошли письма от внука погибшего в Греции советского воина. Было принято решение новых властей и Общества греко-советской дружбы пригласить семьи погибших в Салониках русских воинов — участников антинацистского Сопротивления. Долгий рассказ Марии Федоровны, который дополнили сын и внук, произвел большое впечатление на грека, англичанина и советского журналиста. Они долго, до самого рассвета — времени «пробуждения» салоникских роз, — ходили и говорили, говорили, говорили… Каждый из трех друзей по-своему отреагировал на все. На Никоса большое впечатление произвел внук Васи, специально изучивший английский язык для того, чтобы прочесть байроновские стихи о «своей бабушке». Вот Никос и решил изучать русский язык, чтобы читать современника Байрона — великого Пушкина в подлиннике. Никос подарил Васе-младшему томик стихов великого грека Костиса Паламаса. Мальчик попросил прочесть на греческом языке что-нибудь из этой книги. — Интересно, как звучат стихи на вашем языке, — пояснил свое желание Вася. Взгляд Никоса невольно остановился на огромном букете багряных салоникских роз, и ему вспомнились стихиПаламаса. Когда он прочел стихи о розах, Вася с восхищением воскликнул: — Здорово! Красивый у вас язык, дядя Никос. Жаль, что не понимаю слов. Котиков быстро сделал подстрочный перевод и прочел на русском языке:И ГРОМ ВСТАЕТ НА ГРОМ…
Елену уговорили остановиться в доме Ставридисов, где дорогой гостье были очень рады, считали родным человеком. Елена близко к сердцу принимала многие политические события на родине, особенно подготовку к парламентским выборам. — Надо повторить наши турне, предложила Елена, удивив даже Лулу, которая спросила: — Опять за границей? — Нет, теперь мы нужны здесь, — ответила Елена. Идея Елены состояла в том, чтобы с греческой музыкальной группой совершить поездки по стране с предвыборными концертами. — Оркестр бузукистов и две певицы в красном будут петь песни новых надежд, — заключила Елена. Идея всем понравилась, а Никос обещал поддержку греческой группе со стороны компартии. Алексис сказал, что можно рассчитывать и на его участие в турне группы. Вскоре группа отправилась в путь-дорогу. Популярные в народе певицы и музыканты выступали на многих митингах и собраниях, организованных компартией и другими левыми партиями, у которых избирательные платформы во многом были одинаковы. В репертуаре группы в основном были новые песни Никоса Ставридиса. Алексис опять окунулся в интересную и важную работу, накопленный опыт прежних гастрольных поездок помогал в организации новых выступлений греческой группы. — Я как бы заново открываю для себя Грецию, — признался он после выступления музыкальной группы на побережье перед избирателями-рыбаками. — Эти слова могли быть и моими, — улыбнулась Елена. — Да и Лулу, и все наши музыканты заново открывают для себя родину после долгих лет изгнания. Разговор происходил после предвыборного митинга, на котором выступали кандидаты от разных партий. Несколько десятков партий, групп и группировок в Греции выставили своих кандидатов в депутаты. Многие кандидаты от крупных партий, в том числе от коммунистической, были известны в провинции. Но кандидатов «всплывших» после хунты мелких партий и групп, как, например, возглавляемой одним «пивным королем», почти никто не знал. Поэтому на митингах и собраниях в первые дни внимательно слушали всех кандидатов. Но, быстро раскусив некоторых претендентов в парламентские кресла, избиратели, главным образом трудовые люди, уже без всякого уважения и почтения стали относиться к ним, откровенно высказывались против. Чем ближе становился день выборов, тем больше кандидатов теряло шансы на успех личный и своей партии. Выступления главных соперников ожидались с большим интересом и нетерпением. На побережье, в в районе Волоса, ими были Никос Ставридис и отец Алексиса. Кандидаты от крайне правых буржуазных и неофашистских партий потеряли всякие надежды на избрание в парламент. Поэтому борьба между этими двумя кандидатами резко обострилась. Первым на митинге, организованном компартией, выступил с предвыборной речью знаменитый певец и композитор. На следующий день должен был выступать отец Алексиса. Люди собрались на этот митинг под звуки песен Никоса Ставридиса. Это было заранее срежиссировано противоборствующей стороной, чтобы внушить мысль о том, что кандидат другой партии столь же близок к народу, как и автор популярных мелодий. Но на рыбачьем побережье произошло одно событие, которое увеличило шансы кандидата от левых и уменьшило шансы соперника. После речи на митинге Никоса Ставридиса состоялся концерт греческой группы. Как всегда, концерт вел Алексис. Рыбаки узнали сына, министра, и появление Алексиса в такой роли расценили как его твердую поддержку избирательной платформы компартии. В пользу Никоса Ставридиса добавилась и пламенная речь певицы Елены Киприанис в поддержку компартии, которая, как заявила беспартийная гречанка, является совестью и надеждой народа. И конечно, сам концерт из произведений кандидата в депутаты имел большой успех у рыбаков. Вот тогда-то между Алексисом и его отцом состоялся резкий, нелицеприятный разговор. — Как можно считать Ставридиса противником, если он пользуется в народе огромной популярностью и любовью, многие гордятся им и стараются подражать? — удивился Алексис. — То-то и видно, что ты тоже превратился в подражателя, — недовольно произнес отец. — К лицу ли это моему сыну? — Я и не скрываю, что мне импонирует жизнь и борьба грека во имя такой Греции, какой можно будет гордиться после позорного семилетия хунты. — А мы, выходит, не боремся за такую Грецию? Значит, мои семь лет в изгнании, в лишении… — Но не на острове смерти, отец! — А ты хотел, чтобы я был на острове смерти? Мало мне и всей нашей семье выпало испытаний в эмиграции? Что же, может быть, мне надо было не выйти с острова, чтобы хотя бы этим заслужить… уважение своего сына? — Так мы зайдем слишком далеко, отец. Но скажу одно. Понимаешь, дорогой мой и уважаемый отец, я вижу и чувствую, что люди отдают предпочтение и высоко ценят тех, кто на тюремных островах каждый день, каждое мгновение рисковал жизнью, кто кровью своей и здоровьем… — Хватит! Ты уже не маленький, а рассуждаешь, как уличный Гаврош! Народ, кровь, риск! Народом, страной надо управлять, а не ждать дешевых признаний. В парижской квартире я и мои коллеги делали больше, чем все каторжники на этих островах. И я плевать хотел на эти ваши дешевые песенки. Греции нужны государственные умы и государственные деятели, а не горлопаны и певички! Одумайся, Алексис, пока не поздно. Твое место в солидном учреждении, тебя ждет блестящая карьера, ты должен быть достойным отца — государственного деятеля, а не объявлять зевакам, кто выйдет их потешать — женщины в платье или без… — Отец! Они прежде всего женщины. Я их так же высоко ценю, как и товарища Ставридиса. — Товарища? Коммунист товарищ моего сына? — Да. И очень горжусь, что он считает меня тоже товарищем. — Может быть, этот товарищ уже коммунист? — Ну, до этого мне еще далеко. — Заслужить надо. — Заслужить такими делами, как участие в сборищах против собственного отца? — Я участвую в парламентских выборах в меру своих сил и убеждений. — Убеждений, которыми напичкан коммунист-певец и которые идут вразрез с убеждениями твоего отца и его партии? — Только время может подтвердить, чьи убеждения будут на пользу Греции. — Только какой Греции? Такой, какой хочет ее видеть твой кумир и его партия, Греция не будет. Мы смотрели и будем смотреть не на Восток, а на Запад. — Остается только об этом честно сказать людям на побережье, и тогда они сделают выбор. — Между кем и кем? С помощью таких, как мой заблуждающийся сын, эти рыбаки и прочие, убаюканные красивыми словами и песнями, может, и сделают свой выбор в пользу вашего кумира. Но его партия, ваша партия не пройдет. Я не пройду, но все мы, кого призвали из эмиграции возрождать Элладу, пройдем и займем места в парламенте. Мы — голова. Мы — деньги. Мы — сила. Мы — опора Запада. Мы… — Отец, ты меня убедил. Теперь я твердо убежден. В номере отеля прибрежного городка, где происходил этот разговор, воцарилась тишина. Один как бы поставил все точки над «и», а второй раздумывал: в каком контексте это понимать? Отец, видимо, не решался спросить, что означают последние слова сына: в чем он убедился? Если сына убедили его слова, значит, цель достигнута, Алексис возвращается в лоно семьи, пойдет по стопам отца. Ну а если… Нет, нет, тогда разрыв, потеря сына, потеря наследника, удар по престижу отца, скандал в обществе, неприятности по службе, в партии! Конечно, лучше спросить, рассеять все сомнения… Когда отец поднял голову, Алексиса в номере уже не было. Слова о том, что он заново открывает для себя Грецию, Алексис сказал Елене после этого очень трудного разговора с отцом. По настроению Алексиса Елена поняла, результатом чего были эти слова. Она вспомнила свои споры с отцом, с Никосом в месте в жизни, о личном участии в борьбе за счастье народа, о роли искусства в современном мире. Годы нужны, чтобы понять и найти свое место в борьбе со злом. Примером для Елены в причастности к судьбе Греции всегда был Никос. Да, ему приходилось трудно, часто он был между смертью и жизнью, политическая борьба отнимала у него много сил и времени, но Никос с честью, гордо нес предназначенное ему судьбой. И получал большое моральное удовлетворение, признание и благодарность всех честных греков, многих зарубежных друзей. Вспомнились Елене слова Шиллера, которые любил произносить ее английский друг Джекобс: «Кто жизнью не рискует, тот никогда ее не обретет» Да, вот так, вероятно, думала Елена, Алексис столкнулся с иными взглядами на жизнь, на судьбу Греции. И его оппонентом был отец, да еще в столь ответственное время, как формирование высшего органа государственной и законодательной власти. До разрыва, конечно, не дошло, но то, что Алексис горячо поддерживает избирательную платформу компартии, было ясно и Елене, всем участникам греческой группы. Лулу дала лаконичную и точную оценку поведения сына министра: — Ты молодец, Алексис! Один из концертов греческой группы состоялся в рыбачьем стане, откуда виднелись два «собственных» острова на горизонте. Когда Елене объяснили, что один из островов принадлежит клану Пацакисов, певица не без иронии произнесла: — Пошлите приглашение этим островитянам на концерт. Перед тем как они сядут на скамью подсудимых пусть послушают, что о них говорят в народе. В левых газетах были опубликованы слова Елены Киприанис о том, что все участники греческой трагедии, в том числе и хозяева острова в Эгейском море, эти затаившиеся Пацакисы, должны быть немедленно судимы. Открытое обвинение, брошенное в адрес отца и сына Пацакисов, вызвало большой резонанс в стране. В своих речах левые кандидаты в депутаты требовали суда над хунтой, над приверженцами диктаторской власти. В речи перед рыбаками Никос Ставридис требовал ускорить расследование убийства в Пирее молодоженов и таксиста, прямо обвинял в этой трагедии «любителя бить тарелки в таверне» и мастера «мокрых дел» Пацакиса-младшего. На собрании было принято решение вызвать «островитян» на суд рыбаков, потребовать от них отчета о преступлениях в годы хунты. По предложению «красного мэра» Костаса Мавродикиса за ними был послан катер с несколькими смельчаками, который подошел близко к «пацакиевскому острову» и через радиорупоры были переданы требования рыбаков. Остров ответил молчанием. Во второй рейс катер вышел с певицей Еленой Киприанис на борту. Под самым «носом» хозяина острова она спела старую песню на слова Паламаса:ЦВЕТОК ИЗ МЕСОЛОНГИ
— Если день выборов можно сравнить с оперой, то годовщина Политехники — увертюра к ней, — говорил по дороге в институт Никос своим друзьям — англичанину и советскому журналисту, которым даже показалось, что композитор на ходу сочиняет музыку об этих взаимосвязанных друг с другом событиях. За день до выборов в парламент Греция отмечала годовщину подвига Политехники. Рано утром 17 ноября перед длинной железной оградой института было многолюдно. Через новые ворота, около которых, как горькая память, лежали поверженные танками старые, медленно вливался людской поток. Первые цветы и венки были возложены на эти покореженные и обожженные огнем железные ворота, на которых погибли студенты «первого заслона» против танков, грозно выстроившихся год назад у ограды. Институтская территория походила на кладбище: там, где погибли студенты, выросли холмики из принесенных цветов, а на них были имена и фотографии молодых героев. Из репродукторов громко разносились оставшиеся для истории, записанные в Кровавом ноябре призывные слова участников восстания. Никос как вкопанный остановился у входа на территорию института, услышав звонкий, полный тревоги девичий голос. Он узнал этот голос. Никос вздрогнул, до боли сжал кулаки, когда над самой головой раздались слова Нисы: «Греки! В этот момент танки наводят свои орудия на здание института!» Казалось, что сейчас живая Ниса предупреждает об опасности и призывает греков встать на защиту восставших студентов. Никос настороженно оглянулся, но поверженное железо старых ворот заставило его осознать, что все услышанное и увиденное в эти минуты в Политехнике — вчерашняя боль и гордость Греции, страница истории борьбы с хунтой… После освобождения Никос много раз приходил на этот «островок свободы» поклониться подвигу и памяти «девушки в белом». С большого фотопортрета на него задумчиво и вопросительно смотрела Ниса, словно спрашивая: все ли она сделала в трагический час Политехники? За Никоса ответил Шерлок Джекобс, будто почувствовав во взгляде Нисы вопрос, обращенный к ее друзьям: — Я только что видел на большом щите слова, написанные знаменитым греческим поэтом и моим другом, о том, что у этих поваленных ворот мы снова даем клятву бороться до последней капли крови во имя жизни и свободы. Эта девушка, которая первой отдала свою жизнь, как греческие героини древности, кажется мне розой, не успевшей расцвести. Нет, не только греки, все человечество не забудет подвига «юной гречанки. Англичанин опустился на колени и бережно положил на могильный холм цветок. — Из Месолонги, — тихо произнес мистер Джекобс. Ярко-красный, как капля крови, полевой цветок был полузасохшим, но бархатная плотность и блеск лепестков делали его вечно живым маленьким чудом природы. Никос крепко сжал руку Джекобса, с волнением сказал: — Наш Еврипид говорил, что подвиг не умирает с героем, а переживает его. Так стало с Байроном. Так будет и с Нисой, со всеми героями. Спасибо тебе, Шерлок, за этот вечно живой цветок. Котиков вспомнил, что англичанин взял с собой, несколько цветков с места гибели Байрона в Месолонги, подумал, что тот увезет в Лондон эту дорогую реликвию, но вот, оказывается, один из них Джекобс принес с собой в Политехнику, положил на могилу Нисы Гералис. По радио выступали оставшиеся в живых участники восстания в Политехнике. Диктор назвал имя молодого поэта Александра Сарандиса. — Сын Рулы, — заметил Никос. Поэт сказал, что прочтет стихи своего учителя, который одним из первых поспешил на зов восставших студентов. — Это стихи о подвиге греков в борьбе с фашизмом, — объяснил он и стал декламировать:ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
Над Афинами разгорался рассвет, когда Юрий Котиков вышел из пресс-центра, который находился в боковом зале отеля «Гранд Бретань». С улицы он хотел позвонить Ставридисам, чтобы сообщить радостную весть, но решил сделать это попозже, когда в доме его друзей уже проснутся. Провести весь вечер и всю ночь в битком забитом пишущей братией зале было нелегко. Правда, за напряженной работой время проходило быстро. Котиков с чувством облегчения вышел на улицу, несколько раз глубоко вдохнул в себя свежий воздух, благо Афины в этот час еще не были «пленены» огромным множеством машин. Предварительные результаты выборов в парламент свидетельствовали о том, что избиратели сказали решительное «нет» крайне правым, фашистского толка партиям и группировкам, которые были оплотом хунты и противились демократизации греческого общества. Во всех крупных районах страны, особенно промышленных, много голосов получили кандидаты левых партий, в частности коммунистической. Среди кандидатов-победителей был певец и композитор Никос Ставридис. Как только в пресс-центре на большой черной, как в школьных классах, доске появились сообщения о первых результатах голосования в районе, по которому баллотировался Никос, Котиков хотел сразу же броситься к телефону, чтобы позвонить своему греческому другу, но знакомый журналист из Болгарии попросил его принять участие в интервью для телевидения, оценить первые результаты выборов в парламент. Одним словом, до городского телефона Котиков так и не добрался, а выйдя на улицу, подумал, что в такую рань звонить неудобно. В предутреннем городе чувствовалось какое-то напряжение, словно все затаились и ждут, чем кончится массовое голосование. Но тишина была недолгой. Не успел Котиков пересечь площадь Сантагмы, на которой стояло массивное здание отеля «Гранд Бретань», как из-за угла под рев клаксонов, грохот барабанов и прочих «звуковых эффектов» выскочила вереница автомашин, наполненных ликующими молодыми греками. По ярким плакатам, щитам и фотопортретам на машинах, по громким радостным возгласам в них легко было различить приверженцев партии, которая набрала большее число голосов. Котикову надо было лишь перейти улицу, чтобы оказаться в своем отеле, но он задержался, с интересом наблюдая за столь бурной радостью «автопассажиров». Он не заметил, как на оживленной магистрали оказались Никос, Хтония, Лулу и Елена. Советского журналиста, который что-то записывал в блокнот, первой увидела Лулу, и все четверо направились к своему другу. — Ни сна, ни отдыха измученной душе! — пробасил Никос рядом с Котиковым. — А я вам все не решаюсь позвонить, думал, что спите, — обрадовался неожиданной встрече журналист. — Никос, поздравляю! Победа! Елена, не вижу красного платья. Вы же обещали! Невесть откуда появился Шерлок Джекобс. — Вы забыли, что я ношу имя знаменитого детектива? — весело обрушился он на своих друзей. Вопрос повис в воздухе — никто не ответил англичанину. Все смотрели на Котикова. — Ну, как говорится, кворум есть, и можно объявить, что, по предварительным данным, Никос Ставридис намного опередил всех своих соперников, — торжественно сказал Котиков. — Что ни говорите, а прогнозы — великая вещь! — воскликнул Шерлок Джекобс. — Тем более если они принадлежат объединенным нациям! — Браво, Британия! — поддержала англичанина Елена. — Но нас поставили перед фактом, и слово за Грецией. Никос молчал и по давней привычке, когда волновался, тер свой подбородок. Он знал, что от него с нетерпением ждали реакции на радостную весть, в которую еще не верилось, да еще на улице, где надо было перекричать сильный гвалт и шум. Лучше всех поняла состояние Никоса Хтония. Она взяла его под руку, легко прижалась к нему. — Спасибо тебе, дружище, — сказал Никос Котикову. — Браво, Совьет Юнион! — опять воскликнул англичанин. — Ты принес всем нам добрую весть. — Ой, даже петь хочется, — сказала Лулу. — Пой, девочка, пой, сейчас только и петь, — быстро откликнулся Шерлок Джекобс. — Даже «Налей-ка нам грогу бокал» подойдет для этого случая. И окончательно развеселившийся англичанин затянул знаменитую шотландскую… — Продолжим у нас, — сказал Никос. — Сейчас нам надо быть вместе. Хтония угостит всех знаменитыми ха-ча-пу-ри. — Я только переговорю с редакцией, — предупредил Котиков. — Передам материал о предварительных результатах выборов и сразу же приеду. На пороге дома их поджидали Костас и Мирто. Завидя отца, они бросились к нему, наперебой сообщая о множестве телефонных звонков от знакомых и незнакомых людей, поздравлявших Никоса с победой на выборах. Звонили и с побережья. Мэр рыбаков Костас Мав-ридакис сказал, что люди на побережье ликуют, с нетерпением ждут своего депутата… На заре нового дня в дом вошла большая радость. А сколько было дней, когда заря так и не рождалась, не горела багряным огнем над Акрополем. «Заря пленительного счастья», — вспомнил Никос пушкинские слова и поспешил к роялю. Он давно собирался написать музыку к стихам известного греческого поэта о заре. Удивительно легко и быстро рождалась мелодия на слова о греческой заре:СВЕТ И ТЕНИ
В греческом королевском дворе считалось хорошим тоном приглашать на концерты для монаршей семьи и близкого окружения известных певцов и музыкантов. Устраивались и состязания молодых талантов, на которых, правда, не компетентное жюри, а хозяева дворца на улице Герода Аттики определяли лауреатов. В годы второй мировой войны концерты и конкурсы во дворце стали редкими, а затем и вовсе прекратились, когда последний король оказался в изгнании после неудавшегося контрпереворота в декабре 1967 года: ему не удалось договориться с «черными полковниками» о разделе власти, и он был вынужден спешно покинуть родную страну и поселиться в Италии. Король без королевства сохранял некоторые традиции, заведенные при дворе. Пробовал приглашать на редкие королевские концерты популярных греческих певцов, которые прославились на сценах ведущих мировых оперных театров. Среди них была и звезда первой величины Елена Киприанис. Интерес к певице сильно возрос, когда «женщина в черном» своей бескомпромиссной и мужественной борьбой с военной хунтой произвела огромное впечатление за рубежом. Когда разговор заходил об этой легендарной гречанке, король и его окружение давали понять, что завоеванное лауреатское звание на конкурсе в афинском дворце положило начало блестящей карьере певицы. Елене Киприанис посылались письма-приглашения, где певицу называли не иначе как славной дочерью Греции, но все было тщетно. Гордая гречанка решительно отклоняла все приглашения, во всеуслышание заявила, что у нее нет ничего общего с королевской властью. Случайная встреча с королем-изгнанником произошла в Лондоне вскоре после падения греческой хунты. Елена приехала на берега Темзы по приглашению одного известного импресарио, который предлагал очень выгодный контракт: петь на лучших сценах. На месте выяснилось, что было одно условие — одновременно сниматься в фильме с интригующим названием «Женщина, которая пела в черном и продолжает петь в красном». То, что было свято для гречанки, превращалось в доходное дело для дельцов от искусства. И Елена Киприанис решительно отказалась от этого шоу-бизнеса. Она уже собиралась было покинуть Лондон, но случайно забрела в музей, и то, что увидела там, заставило задержаться еще на несколько дней. Скульптуры и фризы из Парфенона, античные изделия из мрамора и бронзы, обломки знаменитых памятников и фрески… Боже, сколько же национальных ценностей разграблено и вывезено из Греции! Беспокойные мысли теснились в голове, заставляли искать ответа на главный вопрос: как оказались эллинские шедевры далеко от ее родины? Елена поспешила к старому другу Шерлоку Джекобсу, который, как она надеялась, должен был знать, тайны «перекочевывания» греческих ценностей со своих пьедесталов, постаментов, фундаментов… Но англичанина в Лондоне не оказалось. Младший из братьев, Джордж Джекобс, прочел гостье небольшую лекцию о том, как «визитные карточки Эллады» оказались в Англии. В начале прошлого века один лорд вывез из Афин уникальные мраморные статуи Парфенона, которые находятся в Британском национальном музее. Многочисленные греческие скульптуры, фрески, изразцы и другие шедевры искусства «получили прописку» в Соединенных Штатах, Италии, Франции, в частности, Венера Милосская в Лувре. — Все разграбленное, вывезенное из Греции культурное наследие народа должно быть возвращено, — заключил англичанин. Первым делом он повез гостью в Британский национальный музей. Около статуй, некогда украшавших храм на Акрополе, Джордж Джекобс указал Елене на мужчину и тихо спросил: — Узнаете? Елена внимательно посмотрела на того, но лишь когда мужчина повернулся к ним лицом, догадалась, кто это. Они смотрели друг на друга — греческий король, находящийся в изгнании, и греческая певица… Они узнали друг друга. Королю эта встреча, которая, Конечно же, станет известна всем благодаря газетам, была на руку. — Приятно встретить знаменитую соотечественницу, — произнес он. — Да еще около наших древних достопримечательностей. Елена кивнула в ответ и сказала, явно игнорируя дворцовый этикет, без всяких «ваших величеств» и тому подобного: — Вы печетесь об их возвращении? — Все, что принадлежит Греции, все истинно греческое должно рано или поздно возвратиться на нашу с вами родину, госпожа Киприанис. Елене хотелось упомянуть о предстоящем референдуме, но она ограничилась лишь намеком на событие, которое, конечно же, больше всего интересовало ее неожиданного собеседника. Этот диалог мог зайти слишком далеко, и король поспешно сменил тему разговора, поинтересовавшись творческими планами певицы. Думаю поехать в Афины и уговорить композитора Ставридиса создать произведение, в котором отразилась бы наша борьба с хунтой, — ответила Елена. — Да, господин Ставридис обрел большую популярность. В нашем доме знают некоторые его песни. Прошу передать господину Ставридису наши добрые пожелания. Был бы рад познакомиться с ним. Надеюсь, госпожа Киприанис, что вы окажете любезное содействие, когда мы встретимся в городе нашего детства и мечты? — Разумеется, если… встретимся в этом городе. Извините, но я задержала своего спутника и должна идти. Елена сухо попрощалась с беглым королем, который все еще надеялся занять кресло в Греции. Эта встреча в Британском музее вспомнилась Елене декабрьским днем в Афинах, когда на объявленном плебисците греки должны были сказать «да» или «нет» возвращению короля. «Да» — коричневый бюллетень в урну, «нет» — зеленый. Подавляющее большинство греков сказало «охи» — «нет». «Встреча в городе детства и мечты не состоится», — сделала вывод Елена. Греция без короля. Греция — республика. Греция — на пути демократизации. Результаты референдума были достигнуты в напряженной борьбе с приверженцами королевской власти. Какой-то прыткий малый около здания парламента всунул в руки Елены небольшой плакат, на котором певица прочла: «Вернись, орел!» Елена усмехнулась, догадавшись, что «орел», конечно же, король. И вот тогда она невольно вспомнила встречу в музее, короля, который вовсе не походил на мощную и гордую птицу… «Разве сильный, самолюбивый человек после такого фиаско просил бы разрешения приехать в Грецию как «частное лицо»? — раздумывала Елена. — Скорее «частное лицо» хочет прибрать к рукам королевское состояние, которое оценивается по меньшей мере в сто миллионов долларов». В течение трех недель Елена была свидетельницей и участницей двух крупных политических акций в Греции. После парламентских выборов и референдума собрался парламент. И Елена терпеливо ждала, чтобы поговорить с Никосом, обсудить с ним главное, что заставило ее приехать в Афины. Она жила надеждой создать вместе с Никосом большое музыкальное произведение, в котором греки предстали бы перед всем миром победителями в противоборстве с хунтой — продолжателями подвигов легендарных героев Эллады. Музыку для такой оперы или героической оратории мог написать только человек, который сам был участником трагических событий в Греции. И Елена очень надеялась на Никоса. Но в день ее приезда Никос сказал, что вдохновлен одиссеей русской мадонны, и в главной роли видит только Елену. Новая работа Никоса продвигалась медленно из-за занятости политическими делами, однако то, что Елена уже слышала, когда композитор музицировал по утрам, очень нравилось и волновало ее. — К Новому году наша прекрасная Елена уже сможет спеть партию своей русской героини, — сказал Никос за ужином в тот день, когда начал свою работу парламент. — Никос, а мои контракты? — спросила Елена. — Но у тебя же есть опыт заменять контракты антрактами, — весело возразил Никос. — То были вынужденные, а это будут добровольные, — все еще сопротивлялась гостья, но всем за столом было понятно, что она согласится. — Нет, Елена, ты должна встретить Новый год только в Афинах, — сказала Хтония. — Такого Нового года у нас еще не было. Греция без хунты, без короля. — И в звании республики, — поддержал ее Никое. — Да, кстати, сегодня позвонил из Лондона Джекобс. — Джекобс? — переспросила Елена. — Какой… — Тот, кто нужен в твоей новой важной миссии, — ответил Никос. — Археолог Джордж Джекобс приедет на заседание национальной комиссии, которая занимается проблемой возвращения из других стран шедевров греческой культуры. Он интересовался, в Афинах ли член этой комиссии… — Когда он должен приехать? — Сказал, что хочет убить двух зайцев сразу: побывать на заседаниях комиссии и встретить Новый год в Греции. Просил передать энтузиастке общего дела сердечный привет и наилучшие пожелания. — Он очень похож… на нашего старого друга Шерлока, — проговорила Елена. — Братья! И оба — отличные люди, настоящие друзья, — похвалил Никос. — Этот Джордж так боксирует, что диву даешься, как этот похожий на добродушного мистера Пиквика британец так ловко колошматит… — Мистер Пиквик? — рассмеялась Елена. — А я-то думала, на кого похож брат Шерлока? Только это внешне… Когда он смотрел на нашего монарха, казалось, что у него сжимаются кулаки… — Он же боксер! Да еще какой! Агенты этого Пацакиса отлетали от него как горошины, — продолжал Никос хвалить бывшего руководителя группы английских археологов на раскопках античной крепости. — Кстати, вчера вечером взят под стражу Ясон Пацакис, — сообщила Елена. — Находится недалеко от нас. В тюрьме Коридаллос. Будут судить в компании главарей хунты. — Сегодня фракция депутатов от левых партий сделала парламентский запрос, — сказал Никос. — Ответ был, что скоро состоится суд над главными виновниками греческой трагедии. Десятка два негодяев во главе с бандитом Пападопулосом. — Вот для того, чтобы своими глазами посмотреть на этих преступников, я готова разорвать самый хороший контракт! — воскликнула Елена. — Так и будет, прекрасная Елена! — пообещал Никос. — И Новый год будет. И английского льва… то бишь археолога-боксера, встретим. И русскую мадонну споем. — Браво, папа! — захлопала в ладоши Лулу. — Атмосфера парламента отлично на тебя подействовала! Никос встал. — Да, на меня хорошо действует новая атмосфера в Греции, — начал он, словно произносил спич. — О теневых сторонах и моментах говорить не будем. Там, где родился свет, есть и тени. Главное — атмосфера новая. И высокую трибуну мы получили. Конечно, кое-кто знал про сегодняшний запрос в парламенте. И накануне Пацакиса засадили в Коридаллос. Но нам предстоит еще чертовски много работать, бороться и творить. Елена, я вижу тебя русской мадонной. А завтра увижу Электрой двадцатого века. И — не выдуманной, а реальной. И Лулу вижу в новой роли. И Костаса с Миртой в роли детей и внуков» моего друга Васи. И Хтонию вижу… как всегда, за кулисами, прячущей слезы… Раздался звонок в дверь. Вошел Самандос-младший. — Извините за поздний час, — сказал он. — Ехал из больницы. — Как Алексис? — спросил Никос. — Его пытались похитить, — ответил Самандос. — Похитить? Кто? — встревожился Никос. — Приехали четверо в белых халатах, — начал рассказывать Самандос. Сказали, что есть распоряжение срочно перевезти Алексиса из Пирея в хорошую афинскую больницу. На журналиста даже не обратили внимания. Алексис сказал, что ему и здесь неплохо, тем более что он вместе со своим другом. Те стали настаивать, пытались насильно уложить его на носилки. В это время как раз вошел в палату отец Алексиса. Он спросил, почему не в курсе того, что сына перевозят в другую больницу. В общем, он что-то заподозрил и сказал, что пойдет позвонить в ту больницу. Вслед за ним вышел один из четверых, а остальные опять пытались уложить Алексиса на носилки. Когда я вошел в коридор, то увидел, как человек в белом халате ударил сзади по голове другого человека, который держал телефонную трубку. Я кинулся к ним, узнал отца Алексиса. Тот, в белом халате, хотел ударить и меня, но я размахнулся и своим тяжелым свертком ударил его пр лицу, да, видно, так сильно, что он взвыл и бросился в палату Алексиса. Я громко звал на помощь. Из палат, из кабинетов выбежали люди. Врачи занялись отцом Алексиса, а я вместе с пятью-шестью мужчинами поспешил в палату, но оттуда уже выскочили эти четверо в халатах и, расталкивая всех и нанося удары, вырвались из больницы и скрылись на поджидавшей их машине. — Когда это произошло? — спросил Никос. Часа два назад. Отец Алексиса еще не пришел в сознание. Врач сказал, что жизнь его, однако, вне опасности. Но самое главное, Алексис, кажется, узнал одного в белом халате. Говорит, что заметил его в Риме, когда была попытка взорвать бомбу, заложенную под трибуну… Самандос печально посмотрел на сидевших рядом Елену и Лулу.ВМЕСТО КОРОЛЕВСКОЙ СВАДЬБЫ
Елена часто возвращалась к воспоминаниям о курьезном случае — неожиданной встрече в Лондоне с королем-изгнанником. Думала: могла бы рассказать ему о том, что она была в тот день в Афинах, когда состоялась помпезная королевская свадьба. Конечно, мог бы возникнуть вопрос: была ли известная певица свидетельницей нашумевшего события в сентябрьский день 1964 года? Ответом Елены Киприанис было бы… Свадебный кортеж медленно двигался по центральным улицам Афин. В осенний день заключили супружеский союз молодой король эллинов и одна из дочерей датского короля. Приглашенных на свадьбу было много. Среди гостей находилась и греческая певица, которая уже много лет не была на своей родине и приехала в Афины, чтобы принять участие в скромных памятных торжествах, посвященных ее отцу. И вот Елена Киприанис приглашена на королевскую свадьбу. Торжественная процессия приближалась к королевскому дворцу на красивой и тихой улице. Вдоль проспекта растянулась длинная цепь автомобилей. И вдруг среди шикарных автомобилей Елена увидела престранную, но такую знакомую машину. Только за рулем восседал уже не тот маленький и смешной грек, который весело напевал: «На земле — Фаэтон, и на небе — Фаэтон», а огромного роста мужчина с большими и пышными усами. Его лицо показалось Елене знакомым. И когда эта машина была рядом, Елена сделала знак водителю остановиться, быстро пересела в «Фаэтон». — Здравствуйте, я… Невозмутимый водитель тут же показал на большие афиши с портретом певицы, расклеенные на стенах. — Давно вас знаем, — пробасил он дружелюбно. — Кофейню на Пирейской дороге помните? Я не забыл, как друг мой Фаэтон вез однажды вас из Пирея. — Самандос засмеялся и, совершенно не обращая внимания на гневные взгляды и сердитые крики шоферов, прорвал цепь автомашин и выехал на улицу, ведущую в Пирей. — Вы молчите, — продолжал Самандос, — но я знаю, что вам хочется побывать в Пирее. Эх, если б «Фаэтон» был как ракета! Мы немного опоздаем… — На концерт? — спросила Елена. — А вы знаете? Гостей знаменитых там нет, афиши тоже не зазывают… — А как вы очутились в такой день около дворца? — поинтересовалась гостья. — Русского Никоса отвозил в советское посольство, рядом с дворцом. — Русский Никос? — Боевой друг нашего Никоса. Вместе были в горах, воевали с фашистами. Когда «Фаэтон» остановился около портового клуба докеров, концерт уже начался. Елену провели на балкон. На сцене пел хор в сопровождении небольшого оркестра. Среди поющих Елена сразу узнала Никоса, хотя тот и заметно изменился с тех пор, когда они почти десять лет назад последний раз виделись в Париже. Никос сделал несколько шагов к краю сцены. Елене показалось, что сделал он это не без труда, словно у него были не ноги, а протезы. Да, да, она слышала, что Никоса жестоко пытали. Неужели верны слухи о том, что ему перебили ноги? В буйной копне светлых и вьющихся волос на голове Никоса виднелась пепельная седина. Черты его лица стали резче, глубже глаза… Никос стоял в середине первого ряда и пел вместе со всеми. Но когда хор кончил петь, собравшиеся в зале стали кричать: «Никос, Никос!», «Ставридис, браво!» На сцену вышла женщина в черном и торжественно объявила: — Баллада о павших. Солисты Никос и Лулу Ставридис. Баллада посвящается памяти наших братьев и сестер, погибших в годы Сопротивления. Сердце Елены билось гулко, тревожно. Она чувствовала себя случайно оказавшейся среди людей, которым так близка и понятна баллада о павших. Но она пришла, и Никос, быть может, уже знает об этом. То, что она сейчас услышит и почувствует, должно облегчить ей разговор с Никосом после долгих лет разлуки. Да, она осталась на чужбине, стала известной певицей, а другой певец вернулся, прошел через круги ада… Елена жила своей жизнью, Никос — своей. Позади целая жизнь. И об этом, так казалось Елене, должна рассказать баллада. Елена внимательно разглядывает лица певиц на сцене. Узнает ли она Лулу? Кто из этих женщин Лулу? Крошечная девочка превратилась в девушку. Никос очень хвалил ее в Париже, радовался ее способностям. После первых аккордов оркестра вступил хор. Плач женщин. Скорбные раздумья мужчин. Женщины пеплом посыпают головы. Звенят набатом колокола. Люди в печали. Печаль по павшим не расслабляет. Мужчины и женщины, старики и дети — потомки и наследники сулиотов, сыновья и дочери клефтов — объединены гневной ненавистью, мужественной решимостью. Люди готовы на подвиг. Из мужских голосов выделяется голос Никоса — великолепный баритон, который снова так восхитил ее в Париже. Елена закрывает глаза, вслушивается в песню — и перед нею всплывают картины, которые она видела в Афинах, в Пирее, на Олимпе… Люди, о которых сейчас поется в балладе, никогда не отступают, они в вечном бою. Хор продолжает петь, но это уже не традиционный плач, а клятва. И Елена чувствует, что вот-вот должен прозвучать сольный женский голос. Она не сразу замечает ту, чей голос один зазвучал со сцены. Все женщины в одинаковых платьях, никто из них не вышел вперед. Высокая стройная девушка с длинными черными косами, с красивым светлым лицом лишь чуть-чуть выдвинулась из среднего ряда и пела прозрачным, как хрустальный родник в горах, голосом. Лулу! Та самая Лулу, маленькая лакомка! Тогда, в горах, Лулу несколько месяцев была дочкой Елены. Потом Лулу потеряла Елену, и Хтония стала единственной женщиной, которую она называет мамой. О чем поет Лулу? Елена пытается успокоиться, понять слова песни. У женщины пал в бою сын. Мать гордится сыном. Она сохранит горсть его праха. Она прокляла бы сына, если бы он сдался врагу. Жить только честно. Жить только с горячим сердцем. Жить только с чистой совестью. И только стоя. Никогда не опускаться на колени. Иначе презрение. Самое страшное презрение — презрение матери. Вот о чем поет Лулу. С каждой нотой голос ее крепнет, он звучит гневно, страстно и убежденно. Опять вступает хор. Теперь все повторяют клятву. Жить Жизнью тех, кто пал в сраженьях за справедливое дело. Никогда не забывать о павших. Жить и бороться. Жить стоя. Павшим — память благородных сердец. Павшим — клятва новых борцов за Элладу, за свободную Элладу. Да здравствует Элефтери Эллада! Зал встает, восторженно аплодирует. И Елена вместе со всеми. Она испытывала и чувствовала то же самое, что и все в зале. Это радовало ее, освобождало от тревожных дум. Самандос, которого Елена встретила около выхода, сказал: — Никос пока ничего не знает, но вас могут провести за кулисы. Самандос говорил и лукаво улыбался. — Вы не знакомы с этим знаменитым пирейцем? Не узнаете? А, да-да, много воды утекло с тех пор. Тогда он был совсем юным. Он был одним из тех, кто сопровождал Киприанисов на Олимп. Елена смотрит на высокого, смущенно улыбающегося мужчину и с трудом вспоминает лицо пирейского парня, который первым бросился к ее раненому отцу. — Вы? И вы помните Олимп, перестрелку, моего отца, меня? Очень хорошо помню, — уверенно прозвучал ответ — Такое не забывается. Я провожу вас к Никосу. — Да, прошу вас, — сказала Елена и хотела уже идти, но толпа расступилась, пропуская молодую женщину, которая только что покорила всех своим пением. — Лулу! — Елена бросилась навстречу к ней, обняла. А Лулу что-то говорила, говорила и целовала… Елена увидела девочку и мальчика, которые с молчаливым любопытством смотрели на нее. Она догадалась, что это дети Никоса. И тут она услышала знакомый голос: — Здравствуй, Елена! Никос стоял совсем рядом, улыбался, радостно протягивая руки… — Вы все здесь! — воскликнула Елена, совсем растерявшись, ошеломленная происходящим. — А это Хтония. Узнаешь? — спросил Никос, и Елена увидела рядом с ним незнакомую, словно она никогда ее раньше и не встречала, худую, с заметной сединой в волосах, со строгим и удивительно спокойным лицом женщину. Хтония протянула ей руку. Несколько минут, всего несколько мгновений, а сколько встреч, сколько воспоминаний! Самандос глухо пробурчал: — Гостью неплохо бы и усадить. Накинулись как пчелы на мед. За сценой поговорите. Да и антракт кончается. Но воспользоваться этим советом не пришлось. К ним направлялись двое мужчин. — Наши советские друзья, — сказал Никос и двинулся навстречу гостям. И по тому, как он тяжело переставлял ноги, Елена уже не сомневалась, что Никос из Макронисоса вышел инвалидом. — Очень рад, — сказал первый из гостей, — Николай Романов. Только учтите, не самодержец, не царь, а простой советский человек. Люди кругом заулыбались. — Таких, как я, у нас двести с лишним миллионов, — заметил русский. — И один из них — наш советник по торговым делам Сергей Арамян. Елена протянула им руку, с улыбкой сказала: — Был бы здесь советник по культурным делам, посоветовала бы ему показать вашим зрителям Никоса. — Могу обрадовать госпожу Киприанис, что гастроли певца Никоса Ставридиса состоятся в нашей стране в конце этого года, — сообщил Арамян. — А вы бывали у нас? — поинтересовался Романов у Елены. — Меня вы не приглашаете. Я бездомная бродяга. Гречанка, а живу в Париже, Риме, Лондоне… — Но вас хорошо знают в нашей стране, — заметил Арамян. — Я видел пластинки с записями ваших песен. …Елена была уверена: вряд ли такой рассказ польстил бы самолюбию, гордыне экс-короля. — Ну и бог с ним! — воскликнула она и дала себе слово больше не вспоминать об этом.НЕТ КОНЦА ДОБРОМУ ПРИМЕРУ
Напасть на след налетчиков в белых халатах помогли несколько пирейцев, запомнивших автомашину, на которой те быстро скрылись. Сыграло свою роль описание примет одного из них, сделанное Алексисом. Этот тип, узнанный Алексисом, и был первым арестован. Он долго отпирался, говорил, что никогда не был в Риме, но когда ему прокрутили старую киноленту, кем-то случайно заснятую в день подготовки покушения на двух греческих певиц в черном и красном, и арестованный увидел себя, ему ничего не оставалось, как признаться. — Как только агент Пацакиса увидел себя на экране, он даже вскрикнул от неожиданности, — рассказывал главный следователь депутату парламента Никосу Ставридису. — Ну а когда мы сказали, что его шеф арестован и его будут судить по всей строгости, то у него исказилось лицо, он замычал, замахал руками… — История в больнице тоже имеет отношение к его шефу? — спросил Никос, хотя до разговора со следователем подозревал, что и к этому делу приложил руки Ясон Пацакис. — Все арестованные подтвердили, что выполняли поручение близких к шефу людей. — Для какой цели? — Они не знают, но один из них высказал предположение, что, может быть, для обмена министерского наследника на арестованного шефа. — Похоже на Пацакиса, — сказал Никос. Сам Пацакис при допросе в тюрьме Коридаллос категорически отрицал свою причастность к неудавшемуся похищению сына министра и к автокатастрофе. Четверо арестованных тоже отрицали свою причастность к автокатастрофе, но, когда им сказали, что чистосердечное признание может смягчить наказание, навели на след других агентов — подручных шефа, которые, однако, тоже наотрез отрицали свое участие в этом деле. Кое-кого из следователей вполне устраивал такой поворот дела. Этих подозрительных типов уже хотели было отпустить, но еще один парламентский запрос депутатов левых партий вынудил отменить такое решение. Под нажимом общественности во главе следствия был поставлен опытный юрист — член партии «Всегреческое социалистическое движение» (ПАСОК), который в годы хунты просидел долгое время на острове Юра. Он и объяснил своему давнему знакомому и «коллеге» по острову смерти Никосу Ставридису сложившуюся ситуацию. — Как реагирует на случившееся отец Алексиса? — поинтересовался Никос. — Несколько… странно, — прозвучал ответ. — Он-то должен быть в первую очередь заинтересован в разоблачении тед, кто стоял за бандитами, хотевших сперва устранить, а потом похитить его сына, — недоумевал Никос. — Он предпочитает не поднимать шума и, главное — не делать далеко идущих политических выводов. — Какие же выводы его устраивают? — Настаивает на версии, что четверо вымогателей хотели заработать на похищении сына министра. — Политическую акцию представить как банальную уголовную историю? — Да, напрашивается такой вывод. И это обстоятельство затрудняет следствие. Ведь Пацакис и четверо других арестованных категорически отрицают политический характер дела, ссылаясь на заявление одного из пострадавших. — И Алексис, вероятно, оказался в затруднительном положении? — Он твердо стоит на том, что, с его точки зрения, была заранее подготовленная политическая акция. — Надо надеяться, что следствие учитывает позицию человека, жизнь которого дважды в течение нескольких дней подвергалась смертельной опасности? — Разумеется, учитываем, но должен признаться вам, что на ход следствия оказывается… давление. К сожалению, это обстоятельство я вынужден учитывать. Разговор с главным следователем оставил тяжелое впечатление. Никоса тревожило, что желание объективно вести следствие наталкивается на чье-то упорное сопротивление, и в такой ситуации нетрудно догадаться, к каким результатам это может привести. Если следствие «учтет» давление «солидных верхов» — согласится с версией об уголовном, а не политическом характере преступления в Пирее, — это может в определенном смысле повлиять и на будущий судебный процесс над главарями хунты. Допустить, чтобы процесс, которого требует и с нетерпением ждет общественность, был бы заранее обречен на провал, нельзя. Во имя справедливости и памяти погибших участников антихунтовского сопротивления. Поэтому Никосу Ставридису опять пришлось отложить творческую работу и включиться в борьбу за то, чтобы совершенные агентами хунты преступления квалифицировались как политические, антинародные и соответственно с этим судить главарей хунты и их многочисленных пособников. Левые силы организовали кампанию протеста против давления на следствие. После долгих проволочек, частых откладываний слушания дела суд над главарями хунты все же начался. В группе иностранных журналистов Юрий Котиков приехал к зданию тюрьмы Коридаллос и у входа случайно встретился с Еленой Киприанис. — На фасаде этого здания не хватает цицероновского изречения о том, что нужно воздавать каждому свое, — сказала она. — Или же шиллеровское, что злому злой конец бывает. В большом зале суда Елена и Котиков сели рядом. — Вы всех этих знаете? — спросил журналист, кивнув на места для подсудимых. — Всю волчью свору нет, только нескольких вожаков. В зал длинной цепочкой вошли подсудимые. Елена тихо называла их имена своему соседу: — Пападопулос… Паттакос… Макарезос… Йоаннидис… А вот и этот… Пацакис. Котиков увидел, что Ясон Пацакис бросил быстрый взгляд на Елену, но сразу же сделал вид, что не узнал, продолжая кого-то искать среди публики. «Черные полковники» и генерал Йоаннидис сидели на последней скамье, совсем близко от, Елены и Котикова, были им хорошо видны… Но во время процесса все внимание было сосредоточено на небольшом возвышении, на которое поднимались для допроса свидетели: очевидцы, родственники, бывшие подчиненные подсудимых… В первый день суда перекрестно допрашивались главари хунты и их первые жертвы, среди которых были бывшие депутаты парламента, члены правительственных кабинетов, военные чины… — Если бы вместо судебного зала это была бы учебная аудитория, — наклонилась Елена к Котикову, — показалось бы, что идет урок анатомии. — Анатомии хунты? — Анатомии предательства. Судьи, представители обвинения, многие свидетели вскрывали действительно анатомию предательства — секреты, механику, коварство хунты… Назывались имена прогрессивных деятелей, которые были в «самом черном списке хунты», подлежавших физическому уничтожению. Среди первых жертв значился и певец-коммунист Никос Ставридис. Когда было произнесено имя грека, который с группой «радистов» вел передачи против хунты, Пацакис не удержался, повернулся в сторону Елены. Их взгляды встретились. И Пацакис не выдержал — первым отвел глаза, с показным равнодушием уставился на судей. В работе суда был объявлен перерыв. Елена и Котиков оказались в тесном проходе, который вел в тюремную половину здания — туда, где находятся подследственные. Один из охранников предупредительно поднял руку, дескать, дальше хода для посторонних нет. Елена и ее спутник повернулись и увидели, как по проходу ведут подсудимых. Последним шел Ясон Пацакис. Елена в упор смотрела на своего давнего знакомого и врага. Поравнявшись с Еленой, Пацакис еле кивнул и тихо произнес: — Вы опять вспомнили свою родину? — Я приехала посмотреть на тех, кто ее предал, — последовал ответ. Тут подскочил охранник и рукой сделал знак подсудимому — идти вместе со всеми в тюремную половину здания. Когда Пацакис скрылся, Елена горько усмехнулась: — Поистине, злому злой конец бывает. Однако дождаться конца судебного процесса Елене не довелось, да и разучивание партии русской мадонны тоже пришлось отложить. Из Лондона Ставридисам позвонил Шерлок Джекобс, поделился новостями и в конце сказал, что его младший брат Джордж в тяжелом состояний лежит в одной из больниц Парижа, где он продолжал поиски давно вывезенных эллинских скульптур. О звонке английского друга Никос сообщил за поздним ужином, когда все были в сборе. — Последствия давней стычки в крепости, — сказал он, когда разговор зашел о несчастье с археологом Джорджем Джекобсом. — Видимо, его травма трудноизлечима. — Да, почти неизлечима, — грустно произнесла Елена. — Как же он там один? — спросила с беспокойством Хтония. — Шерлок сказал, что брата навещают его греческие друзья, оказывают содействие сотрудники нашего посольства в Париже, — сказал Никос. — У него есть семья, жена? — спросила Лулу и посмотрела на Елену, но та молчала. Прервав долгое молчание за столом, Никос предложил: — Надо узнать, где он находится, и позвонить в Париж. — Звонить не надо!. Я должна там быть, — твердо произнесла Елена. Ночью Никос отвез Елену в аэропорт. После долгого молчания наконец Елена сказала: — Ты думаешь, зачем это мне надо ехать в Париж, да еще в такой спешке? Я высоко оценила бы человека любой национальности, кто столько бы сделал для нашего народа, нашей страны. — С такой мыслью я и везу высокочтимую гречанку в ночную даль, — мягко произнес Никос. — Но возникла и другая мысль, Елена прекрасная. Когда мы угомонимся? — Когда следуешь доброму примеру, то этому пути нет конца, — ответила Елена и продолжала: — Джордж как-то вспомнил слова своего древнего и мудрого соотечественника, что создать добрый пример так же хорошо, как и всю жизнь следовать ему. Мы с тобой, Никос, следуем давно доброте великих греков. А они вечны, как вечен их пример служения человеку. Значит, и мы с тобой вечны, а покоя, не видно на длинном пути. — Признаться, Елена прекрасная? — Что и ты так думаешь? Зачем же тогда задаешь вопрос? — Он больше касался представительницы слабого пола. Оседай, Елена прекрасная, на земле предков, и мы с тобой еще скажем свое слово. — После Парижа. Обещаю, Никос. — Одна? — Никос, ты мне когда-нибудь еще раз задашь этот вопрос, и я тебе отвечу. Через несколько дней Елена позвонила из Парижа и сообщила Никосу, что находится в гостях у старого друга Василиса Коцариса, который передает всем привет и живет надеждой вернуться в Грецию. — Как Джордж? — спросил Никос. — Почти полная неподвижность, — еле слышно ответила Елена. — Вот Василис говорит, что в таком тяжелом положении был русский человек, фотография которого висит на его стене. Тот человек жил, работал, писал книги… — Я знаю, о ком ты говоришь, Елена. Русский коммунист Николай Островский показал добрый пример, которому следуют поколения молодежи вот уже много лет. — Никос, я передам твои слова Джорджу. — Это не мои слова. Прошу тебя, возьми книгу Островского у Василиса. Там найдешь прекрасные слова о том, как надо прожить одну-единственную жизнь, которая дана человеку, Прожить так, чтобы было не стыдно… В Париже Елена задержалась надолго. Джордж все еще находился в больнице, и об отъезде в Лондон не могло быть и речи, его даже нельзя было перевезти в особняк у Булонского леса, как предложила Елена. Вынужденное пребывание в Париже срывало репетиции. Нашли выход из создавшегося положения: Никос послал ноты в Париж, и Елена разучивала свою роль. Она отказывалась от многочисленных предложений зарубежных концертных организаций и знакомых импресарио, разрывала старые контракты. Что же происходило с Еленой? Этот вопрос задавали ее многочисленные друзья, прежде всего Ставридисы. Задавала его себе и Елена. После знакомства в Лондоне с англичанином-археологом, оказавшимся братом Шерлока и участником нашумевшего события в античной эллинской крепости, Елена виделась с ним еще дней пять, посещая музеи и частные коллекции. Среднего роста крепыш, на округлом лице которого выделялись умные голубые глаза и пышные бакенбарды, не только не делал никаких попыток выразить свои чувства гречанке, но и очень смущался в ее присутствии, и если бы не разговоры о похищенных эллинских скульптурах, повод для иных бесед, казалось, он вряд ли бы нашел. Но когда Елена приехала в Афины и там узнала о подвиге ее нового знакомого в хунтовские времена, она стала часто задумываться о судьбе английского археолога, которая чем-то была схожа с ее собственной судьбой. Они оба беззаветно служат своим народам, да и не только своим, а вот личную жизнь откладывали на лучшие времена, которые, как им казалось, должны обязательно наступить… Елена видела, как Джордж стоически переносит сильные боли в спине, борется со своим недугом. Он часто говорил, что в жизни для него главное — устраивать «свидания» своих современников с прошлым, приобщать людей к вечной красоте творений далеких предков: «О, дел столько, что нет времени обращать внимание на боль!» — со стеснительной улыбкой объяснял Джордж Джекобс. В больнице тяжело больной археолог вел себя мужественно, он спокойно воспринял даже сообщение, что может быть прикован к постели навсегда. После того как Елена прочла ему строки из книги русского писателя — о смысле жизни человека на земле, — Джордж попросил привезти его боксерские перчатки. Елена не спросила, зачем ему они понадобились. «У него будет сдой бой», — подумала она с уважением о человеке, который так внезапно вошел в ее жизнь. Теперь она точно знала, что поистине нет конца доброму примеру.ЗЛОМУ ЗЛОЙ КОНЕЦ
Далеко от своей родины — в Париже Елена физически ощутила, как над Афинами опустилась ночь фашизма. Казалось, в день ее рождения — 20 апреля, когда в маленьком особняке около Булонского леса собрались самые близкие и дорогие люди, ничего не предвещало того, что Эллада вновь будет ввергнута в долгую ночь. Но рано утром радио принесло трагическую весть — на рассвете 21 апреля 1967 года власть в Греции узурпировала военная хунта неофашистов. До этого рокового часа было весело и непринужденно во временном парижском обиталище Елены Киприанис. В памятный апрельский вечер было очень оживленно: во всех комнатах зажглись огни, оттуда доносились песни, веселый разговор… Новый привратник Жан — боевой друг погибшего в годы Сопротивления Пьера — вместе со своей женой то и дело бегал в кладовую и на кухню, щедро потчуя гостей. А гостей было много. Словно заранее сговорившись, они съехались в Париж из разных мест. Из Лондона приехал мистер Джекобс, из Египта — певица Акифа, из Милана — давняя подруга, балерина Сильвана, а из Греции — маленький ансамбль музыкантов, который гастролировал в Париже; среди них была Лулу, несказанно обрадовавшая Елену. И еще приехали русские — молодые родственники «красной княгини» Марии и других эмигрантов из знаменитого «Русского дома», которые погибли в годы Сопротивления. Все они помнили о дне рождения Елены Киприанис. Гости знали, что вот уже несколько лет — после смерти ее учителя и наставника Ланжевена — в этот день она обычно не бывает дома, гастролирует, а нынче осталась в Париже, отказавшись от нескольких предложений продюсеров. Сама Елена не ждала гостей. Ей казалось, что, кроме отца и маэстро Ланжевена, да еще Никоса, никто никогда не знал точно о дне ее рождения. Из оставшихся в живых лишь Один человек мог вспомнить и, как всегда, поздравить ее телеграммой или телефонным звонком из Афин. И вдруг такое нашествие: приехали самые даяние, самые желанные друзья. Не было только Никоса. Он прислал поздравительную телеграмму из Афин и еще сообщил: скоро собирается в Россию, где встретится с греческим музыкальным ансамблем, с Лулу, и все вместе они дадут долгожданные концерты. Всех огорчило отсутствие Никоса. Особенно сожалел об этом Джекобс. — Я перевел стихи друзей Никоса по Макронисосу, чтобы он послушал, как они звучат на языке Байрона, — горячо говорил он. — Муза Сопротивления — это самая яркая и трагическая страница в мировой поэзии нашего века. Она не только рассказывает о том, что было, но и предупреждает о новой опасности. Да, опять стало тревожно в Греции. Не нравится мне эта чехарда с правительственными кабинетами, с переменами премьеров… Как, интересно, сейчас там Никос? Это хорошо, что он собирается в Россию. Там, уверен, очень полюбят его голос… Словоохотливый англичанин не отходил от Лулу, рассказывая о том, как вместе с Никосом и Хтонией он воевал с фашистами, когда Лулу была совсем малышкой, он подружился с Никосом и гордился этой дружбой, что дети, внуки Джекобса и Ставридиса должны тоже дружить, потому что без братства честных людей трудно одолеть врагов свободы и демократии. Дружно и вдохновенно гости пели греческие, французские, русские, английские, арабские песни. — С таким ансамблем все продюсеры мира заключили бы контракты на сто лет вперед, — сказала Елена. Сегодня она была счастлива. Такое не часто бывало в ее жизни. Под одной крышей собралось столько друзей! Помнится, так было вовремя последней поездки в Грецию три года назад, когда собирались в доме Никоса, в пирейском клубе докеров, в маленькой кофейне «Самандос»… После тех памятных дней Елена стала совсем другой: иные дела, кроме сцены, живо интересовали ее, особенно все то, что происходило на ее родине. Греческая певица-эмигрантка гневно осудила действия реакции и королевского двора, заставившие уйти в отставку либеральное правительство: «То, что произошло на моей родине, это первый акт большой по-литической драмы, авторами которой являются неофашисты и финансовые тузы типа Ахиллеса Пацакиса. Эта драма должна сойти с греческой политической сцены, иначе опять прольется кровь народа, опять моя родина будет брошена в огонь братоубийственной войны». Голос певицы и трибуна становился все громче, к нему прислушивались. Артистическая и общественная деятельность требовала много времени, энергии, душевных сил… Елена очень уставала, но еще никогда не чувствовала такого удовлетворения от сознания полезности своей деятельности, как после поездки в Грецию. Она была популярна как певица, и в многочисленных поклонниках ее таланта недостатка не было. Елена была уверена, что популярность певицы — лучшая память об отце, который очень мечтал об этом, и что своим пением она прославляет свою нацию, свою родину. Она поняла, что в то время, когда в Греции происходят правительственные перевороты, когда подымает голову фашизм, когда страну оптом и в розницу продают американцам, когда демократия в опасности, ей, гречанке, нельзя быть посторонним наблюдателем. Она твердо встала на защиту той Греции, за которую погибли ее отец, Мелина Ригас, Селина и Фаэтон, за которую боролись Никос, Хтония, Самандос, Лулу и — многие другие ее афинские друзья. Об этом и говорили гости в день ее рождения. Говорили греки, которые с особенным почтением относятся к своей соотечественнице, Высоко ценят ее деятельность во имя свободной Эллады. Говорил Джекобс, до слез растроганный ее страстными выступлениями в лондонском Гайд-парке. Говорили французы — очевидцы ее популярности на берегах Сены. Говорила Акифа, которая не только пошла по пути певицы, но и научилась у нее гражданскому служению своему народу. Говорили молодые русские, передающие из уст в уста легенду о дочери греческого маэстро — создателя знаменитого цикла «Прометей»… И как бы в подтверждение известности греческой певицы поздно вечером в особняк приехали еще человек двадцать. Многих из гостей Елена не знала, но все они знали ее. Это были греческие студенты и эмигранты, французские коммунисты и артисты, просто соседи по улице и друзья Пьера по Сопротивлению, старые знакомые Дени Ланжевена… Елена была безмерно счастлива. Она только просила гостей уже ничего не говорить о ней, потому что слишком поздно начала делать что-то полезное для Греции. Тогда все согласились и решили просто веселиться, петь, да еще в доме, где хозяйкой является сама муза. Джекобс предложил объявить конкурс на лучшую песню. Приз не за исполнение, а за песню. И когда собралось жюри во главе с Еленой, то Джекобс торжественно вручил приз — портрет виновницы торжества с ее посвящением — очаровательной Лулу. Гости разошлись под утро. В особняке остались только Лулу, Акифа и Джекобс. Они договорились, что днем поедут в «Русский дом», а вечером будут присутствовать на первом концерте греческого ансамбля. Елена не успела заснуть, как в дверь ее комнаты постучали, потом вбежала Лулу. — Что случилось? — встревожилась Елена. Лулу смотрела какими-то остекленевшими глазами и не отвечала. — Что, что случилось? Ну, Лулу, что с тобой? — бросилась к ней Елена. Словно выйдя из забытья, Лулу тихо произнесла: — Переворот. Военный переворот. Всех арестовывают… — Где? У нас? Откуда ты знаешь? — Радио. Я всегда слушаю радио… по ночам. Чтобы успокоить сердце. В последнее время у нас очень тревожно. И вот… Боже мой! Лулу разрыдалась. — Ну, а Никос, Никос? — спросила Елена, ошеломленная страшной вестью. — Арестовали. Одним из первых… Елена стала нервно крутить колесико радиоприемника. На разных языках встречали дикторы утро нового дня. Все они подтвердили то, что сказала Лулу: на рассвете в Греции произошел военный переворот. В Афинах, Пирее, Салониках и других городах начались повальные аресты греческих патриотов. Елена поспешила в греческое посольство, где узнала все подробности военного переворота, имена заговорщиков, среди которых был Ясон Пацакис. Грозные тучи опять заволокли небо Эллады. Еще одна черная весна пришла на греческую землю. Потрясенная случившимся, Лулу не хотела выступать вечером на концерте, но Елена уговорила Лулу петь именно сегодня, чтобы выразить свой гнев против нового разгула греческой реакции и американской военщины. Лулу согласилась. До начала концерта на сцену вышла группа греческих эмигрантов-демократов. Зал встретил их стоя. Слово было предоставлено Елене Киприанис. Зал рукоплескал, скандировал имя греческой певицы. С трудом сдерживая волнение, Елена начала говорить: — Сегодня рано утром на греческой земле совершено преступление не только против моего народа, но и против всего человечества. По указке и с ведома Центрального разведывательного управления США в Греции совершен военно-фашистский переворот. Тюрьмы, концлагеря, даже стадион в Афинах переполнены арестованными патриотами, коммунистами, участниками Сопротивления, героями нации. Сегодня мы говорим: мы с вами, наши многострадальные отцы, матери, братья, сестры, дети. Мы слышим гулкое биение ваших сердец, понимаем ваши тревоги, ваше горе. У нас общее горе. Мы уверены, что все честные люди на Земле скажут «нет» заговорщикам и их американским хозяевам. Справедливость, Свобода и Демократия восторжествуют на земле героической Эллады! Скоро наступит день, грядущий день, когда придет наша долгожданная победа. Для этого мы не пожалеем своей жизни. Перед лицом человечества клянемся, клянемся, клянемся! Да здравствует Элефтери Эллада! В зале творилось что-то невообразимое. Люди кричали, аплодировали, скандировали… А греки на сцене плакали: но это не были слезы отчаяния… Концерт начался с исполнения гимна Греции. Все встали. Продолжали стоять и тогда, когда на сцену вышла Лулу и сказала, что споет песню Фотоса и Рицоса, которую они написали за несколько дней до ареста и которую не успел спеть Никос Ставридис. В зале воцарилась такая тишина, что казалось, все перестали дышать, боялись шелохнуться… Лулу смотрела большими, немигающими глазами в зал, где люди ждали обещанную песню. Печально и протяжно, как плач греческих женщин, запела Лулу:ГРЕЧЕСКИЙ УРОК
На первом процессе над главарями хунты и их ближайшими помощниками, несмотря на сильное давление на суд, были вынесены смертные приговоры «чёрным полковникам», длительные сроки лишения свободы получили шефы тайной и военной полиции, участники кровавой расправы со студентами Политехники… Но смертная казнь главарям хунты была заменена на пожизненное заключение. — Не все горькие плоды упали с ядовитого дерева, — сказал о процессе над хунтой товарищ Седой, когда несколько старых друзей по движению Сопротивления обсуждали в доме Никоса итоги суда в Коридаллосе. Руководящие деятели компартии, в том числе и товарищ Седой, не были допущены на процесс в качестве свидетелей обвинения. Поэтому многие преступления хунты остались, как говорится, за пределами судебного зала. — Да, не все злодеяния хунты стали известны греческому народу и всему миру, — пояснил сказанное о горьких плодах и ядовитом дереве товарищ Седей и вытащил из своего портфеля пухлую папку с бумагами. — Здесь столько свидетельств злодеяний хунты, что отмена смертного приговора кажется кощунством над памятью жертв и страданием греческого народа. Коммунисты, все левые силы, широкие круги греческой общественности настойчиво требовали возобновления судебного дела с учетом материалов, которыми рас полагали многие греки, не допущенные на процесс в качестве свидетелей обвинения. Правые силы и неофашисты пытались представить дело таким образом, что военный путч в апреле 1967 года был лишь результатом заговора небольшой группы офицеров, нарушивших присягу. Выходило, что «черные полковники», как их с презрением и ненавистью называл весь мир, лишь банальные заговорщики, которые потом сами отказались от власти и добровольно передали правление страной авторитетным гражданским политическим деятелям. Будто и не было семи черных лет, которые привели страну к национальной катастрофе. Почти полностью затушевывалась на процессе причастность НАТО и ЦРУ к военно-фашистскому перевороту с кодовым названием «Прометей» в условный час «икс». Общественный опрос в Греции после процесса над хунтой показал: лишь 250 свидетелей обвинения были допущены в зал суда, хотя многие тысячи греков могли предоставить судьям материалы, изобличающие «черных полковников» и сменивших друг друга диктаторов — Пападопулоса и Йоаннидиса, как совершивших государственную измену и цепь кровавых злодеяний по указке и под руководством секретных служб. Недовольство и возмущение большинства греков результатами процесса, прекрасные условия, созданные в «лирическом Жаворонке» кровавым палачам и истязателям, заставили власти объявить о втором суде. Новый процесс над хунтой должен был начаться в тот день, когда весь прогрессивный мир, все антифашисты отмечали 30-летие со дня начала исторического суда народов планеты над главарями гитлеровского рейха. Как и в немецком городе Нюрнберге, в греческой столице судили фашизм, который не сдавал свои позиции в многострадальной стране. — Фашизм живуч, как гидра, — говорил товарищ Седой, возвращаясь с друзьями домой после долгой беседы у Ставридисов. — Необходимо полное уничтожение фашизма, иначе мы будем опять поставлены перед фактами новых заговоров и новых переворотов. Попытка переворота уже была — в зимний день 1975 года, вскоре после двух крупных политических событий в стране: выборов в парламент и антикоролевского референдума. Группа военных пыталась поднять армейский корпус на севере Греции на антиправительственный путч и освободить из-под ареста бывшего шефа военной полиции диктатора Йоаннидиса. Следствие по делу о неудавшемся военно-фашистском перевороте показало, что заговорщики действовали по инструкции, которую передал из тюрьмы через своих сообщников генерал-палач. Это было еще одним доказательством, что армия — самый опасный очаг, в котором зреют перевороты. Греческая общественность требовала ускорения чистки в армии, смещения с командных должностей офицеров, генералов и адмиралов, которые в годы хунты поддерживали диктаторов. Второй судебный процесс над главарями хунты совпал с днями, когда из многих стран в греческую столицу приехали участники форума солидарности с Чили. Своих старых друзей — чилийских певцов и музыкантов встречали Лулу и Алексис, который уже поправился после автокатастрофы и даже успел организовать клуб политической песни. Кто точно приедет в Афины, они не знали, но надеялись, что среди гостей непременно будут чилийцы, с которыми подружились в дни памятного турне. Первой на трапе самолета показалась молодая чилийка в черном пончо и с гитарой. Лусия! Жена и единомышленник певца-гитариста Луиса. Молодые супруги не только имели похожие имена, но и внешне очень были похожи друг на друга. Тогда, в Сантьяго, Лусия не выступала на сцене — ждала ребенка. За Лусию, за маленького Луиса — он был уверен, что у него будет сын — пел и играл на гитаре очень темпераментный и разговорчивый Луис-старший. Он погиб, став первой жертвой в цепи кровавых преступлений военной хунты, — исполнитель политических песен Луис Хуанито. Теперь песни чилийского героя по всему миру разносит Лусия. А сын Лусии и Луиса — маленький Луис, родившийся после гибели отца, терпеливо ждет свою мать, но не в Сантьяго, а в маленькой горной деревушке, куда каратели-фашисты редко наведываются. Лусия узнала знакомых греков и поспешила к ним. Она случайно задела струны, и гитара, знаменитая гитара Луиса, зазвенела, словно раздался голос ее хозяина, голос живого певца… А когда в доме греческих друзей чилийская гостья пела, аккомпанируя себе на гитаре, все заметили небольшую дырочку на гитаре. — Фашистская пуля, — коротко объяснила Лусия и нежно провела рукой по гитаре, потом тихо продолжила: — Одна пуля попала в Луиса, вторая… Видно было, что слезы душили ее, не давали говорить. Но Лусия не заплакала. Маленькая и хрупкая, с черными горящими как угольки глазами чилийка неожиданно сильно ударила по струнам и громко запела:И СНОВА МАЙ
Рано утром в доме Ставридисов раздался телефонный звонок. Никос снял трубку и услышал знакомые слова песни-веснянки, которую в детстве пели на острове Идра:О ЧЕМ РАССКАЖЕТ «МОНОМАХИАС»
«Когда-то на мономахиас чуть ли не каждый день нанизывались важные события», — думал Никос, перелистывая свой старый дневник. Вспомнил, что мономахиасом назвал дневник товарищ Седой, когда увидел, как его молодой друг записывает самое интересное в боевой жизни партизанского отряда, словно нанизывает события на рапиру. Никос давно не брал в руки дневник — не хватало времени. Правда, о самых важных событиях все же были сделаны короткие записи, однако они не были похожи на подробную хронику, как в годы антинацистского Сопротивления и гражданской войны. А жаль! Сколько разных событий произошло в Греции после окончания второй мировой войны! Нанизать их на мономахиас — получилась бы толстенная книга, летопись греческой трагедии, пропущенная через сердце. Вот Юрий Котиков аккуратно ведет свои записи — со дня первого приезда в Грецию, опять работая собственным корреспондентом московской газеты в Афинах. Дневник, известно, дело личное, но часто он содержит бесценные описания самых интересных и важных событий общественной и личной жизни. Советский журналист говорит, что надеется свои записи переплавить в повесть-хронику. Сам Никос тоже подумывает о такой книге, но времени для этого по-прежнему не хватает. Никос перелистывал страницы довольно пухлого и тяжелого дневника, и перед ним возникали знакомые лица, вновь воссоздавались подлинные эпизоды жизни, события… Самые первые страницы — «нанизанного на мономахиас» — посвящены партизанскому ансамблю певцов и музыкантов. Какой это был ансамбль! Ничего подобного не было в Греции, да и будет ли еще когда-нибудь! В ансамбле было много профессиональных греческих певцов, музыкантов и танцоров, но знаменит он был тем, что в его составе были партизаны многих национальностей — воины Советской Армии. Почти все они бежали из гитлеровских концлагерей, тюрем, из железнодорожных эшелонов и примыкали к участникам Сопротивления, воевали в партизанских отрядах и боевых частях ЭЛАС. Одним из первых оказался среди греков сержант Василий Иванов — Вася, которого все любили за его общительный, добрый и веселый нрав. Вася храбро сражался. В ансамбле он был гармонистом, Никос записал в дневнике историю появления в отряде русской гармошки, как Вася называл свой инструмент. Дело в том, что русской гармони нигде не могли найти. Перепробовали разные аккордеоны, даже баяны, но Вася говорил, что все это не то: гармошку ни с какой другой музыкой не сравнить. В общем, искали долго, но так и не нашли «Васькину музыку». Гармошка объявилась сама. К отряду присоединилась небольшая группа болгарских партизан, которые чудом спаслись от фашистских карателей и переправились через границу. Среди них был русский эмигрант, донской казак, который, покидая свой дом в Болгарии, взял лишь ружье да гармонь. Вася был счастлив, он играл мастерски, послушать его приходили даже греки из соседних городов и сел. А еще были в ансамбле украинцы с невесть откуда взявшимися бандурами и свирелями, армяне с национальной дудкой — зурной, грузины с чонгури, молдаване со свистульками, похожими на губную гармошку. И еще был в ансамбле тар, на котором играл усатый великан азербайджанец. Этот инструмент Никос опять увидел ныне на борту советского теплохода «Азербайджан». Это событие и заставило вытащить из ящика письменного стола старый «мономахиас». В доме Ставридисов появился маленький Никос. Вскоре после памятного митинга на стадионе «Пананион» сыграли свадьбу Лулу и Алексиса. Сына-первенца назвали в честь деда Никосом. Посаженым отцом и матерью на свадьбе были Шерлок Джекобс и Елена Киприанис. Отгуляли свадьбу на большой старой яхте, которую раздобыл «красный мэр» Костас Мавридакис, одновременно совершив и морское путешествие от Пирея до Салоник с остановками у рыбаков, археологов, старых боевых друзей по годам Сопротивления… Вышло, что на свадьбе побывали сотни гостей. Во главе праздника был один из братьев из «Русского села», который угощал всех знаменитыми кавказскими блюдами, произносил длинные речи, играл на своем чонгури и пел прекрасные грузинские песни. Ставридисы пригласили на свадьбу всех друзей, самым почетным гостем был Самандос-старший. Старый грек недавно пережил трагедию похоронил Самандоса-младшего. Его сын стал жертвой коварного «паука», как назывались террористические группы, действовавшие исподтишка против активистов прогрессивных организаций. Самандос-младший женился на сестре погибшей Риты — Мелине, которая помогала мужу вести дела в кофейне. У них вскоре родилась девочка, которую назвали Ритой. Самандос-младший очень подружился с Алексисом, особенно когда тот находился в больнице после автокатастрофы. Алексис как-то доверительно сказал Самандосу, что занят очень важной работой, которая в случае успеха будет иметь большое значение в разоблачении грубого вмешательства ЦРУ в дела страны, тайных связей американских агентов с военной полицией и лично с диктатором Йоаннидисом. И еще он сказал, что «нащупал продолжение этих связей кое с кем из нынешних греческих политических деятелей». Самандос вызвался помогать в этом нужном деле — выполнять поручения Алексиса. Вскоре после выхода из больницы Алексис уехал за границу, и лишь немногие, в числе которых был и Самандос-младший, знали, что в Испанию, откуда всеми этими греческими бандитскими «пауками» и неофашистскими организациями руководила резидентура ЦРУ. В афинском аэропорту «Эллиникон» возвратившегося Алексиса встретил Самандос-младший. А через несколько дней его машина взорвалась по дороге из Пирея в Афины — кто-то заложил бомбу с часовым механизмом. Ставридисы и Алексис получили конверты, в которых были листочки с изображением паука. Еще одной неожиданностью, о которой стоило записать в дневник, стало участие отца Алексиса — ушедшего в отставку с поста министра из-за распрей в своей партий — в работе, начатой сыном. Да, такая вот метаморфоза. Бывший министр начал помогать сыну в розыске разоблачительных документов, он передал материалы, которыми располагали тайная полиция и контрразведка относительно вмешательства в дела современной Греции ЦРУ, Пентагона и НАТО, одна из целей которых была — вновь запрячь страну в колесницу агрессивного Североатлантического блока. Гостей радостно встречали рыбаки во главе с «красным мэром». Все отправились на остров, который раньше был собственностью главаря хунты. С этого острова хорошо был виден пацакиевский. Ясон Пацакис отсиживал свой срок в Коридаллосе, а одряхлевший глава клана пребывал на «фамильном острове» в одиночестве, окончательно покинутый старыми американскими друзьями. Ни папашины миллионы, ни нажим американцев, ни провокации агентов ЦРУ не могли высвободить из-под стражи полицейскую ищейку. Но даже из своего заточения обезвреженная ищейка огрызалась: многие террористические акции в Греции проходили не без тайного участия Пацакиса-младшего, который ухитрялся поддерживать связь с внешним миром. Пацакиевский остров казался вымершим, там никак не отреагировали, когда мимо прошла яхта с веселой свадьбой. Да, даже награбленные миллионы не приносили счастья и спокойствия врагам новой Греции. В античной крепости во главе встречавших — интернационального отряда археологов стоял, Правда, ещё опираясь на костыли, Джордж Джекобс. Когда свадебный кортеж подъезжал к развалинам крепости, то, к удивлению всех гостей, среди встречавших началась потасовка, археологи разделились на два лагеря… Несколько человек кинулись к Джорджу, но тот мастерски отражал нападение… Оправившись от шока, гости кинулись на помощь англичанину, но тот внезапно весело рассмеялся, а за ним и все археологи. — Ну, как, дорогой певец и будущий дедушка, напомнила эта инсценировка некоторые события нашей молодости? — лукаво спросил «боксер». — От таких инсценировок недалеко до инфаркта, — ответила за Никоса Елена, но подошла и нежно поцеловала Джорджа. — Всякое вытворял мой брат, но такое не видел даже сам Шерлок Холмс, — рассмеялся мистер Джекобс. — Кто-то сказал, что женщины — первые воспитательницы рода человеческого, — произнес Никос. — Елена доказала, что женщины могут сделать больше. — Мой главный тренер! — похвалил ее Джордж. В Салониках участников свадьбы тоже ждал сюрприз — песня, специально написанная в честь молодоженов. Может быть, думал Никос, о свадьбе можно было написать в дневнике всего лишь в нескольких словах. Но, во-первых, за этим семейным торжеством стояли события большого общественного значения, во-вторых, это был повод лишний раз, пусть мысленно, побывать в местах, где находился в годы Сопротивления, встретиться с давними друзьями. Поэтому запись получилась длинной, с многими подробностями. Сегодня же Никос хотел записать историю, которая произошла в Пирее в день рождения маленького Никоса. Утром первым позвонил и поздравил Юрий Котиков. Он сказал, что сегодня прибывает новый советский теплоход, совершающий круиз по Средиземноморью. «Мне надо там обязательно побывать, — сказал журналист. — А потом мы с женой обязательно приедем к вам. Спасибо за приглашение». Ставридисы решили отметить пятилетие Никоса скромно, в кругу самых близких родственников и друзей. Но вскоре опять позвонил Юрий и сказал, что капитан теплохода был бы очень рад видеть на борту Никоса Ставридиса и его близких, разумеется, и виновника сегодняшнего торжества. Больше того, было послано официальное приглашение ознакомиться с судном, посетить концерт и дружеский обед.Так Ставридисы попали на «Азербайджан», где сразу же оказались в центре внимания совершающих круиз советских и иностранных туристов. После осмотра судна туристы и экипаж собрались в большом зале на концерт-экспромт: в нем мог принять участие каждый — выходи ла сцену и показывай свой «коронный» номер. Первыми выступили члены азербайджанской группы — оркестр народных инструментов. Никос сразу узнал тар в руках молодого музыканта, напомнившего ему воина-азербайджанца из их партизанского отряда. Никос закрыл глаза, и сразу вспомнился тот усатый великан по имени Мамед, который погиб в тот же день, когда был смертельно ранен Вася. Молодой музыкант играл какую-то грустную, берущую за душу мелодию, а красивая женщина пела низким, грудным голосом. Когда песня кончилась, музыкант обратился к гостям: — Эту песню, которую на нашей родине называют мугамом, мы с женой посвящаем известному и в Советском Азербайджане греческому певцу и композитору Никосу Ставридису. Мы знаем, что товарищ Ставридис в годы антигитлеровского Сопротивления воевал в партизанском отряде, где было много советских воинов. Может быть, среди них были и наши земляки. В знак нашей дружбы и уважения к знаменитому греческому гостю позвольте преподнести наш скромный подарок, который так же популярен и любим в нашей республике, как бузуки в Греции. Певица высоко подняла тар, а затем протянула его греческому гостю. — А этот сувенир маленькому юбиляру, — сказал музыкант и потряс бубном с колокольчиками. Два Никоса — дед и внук в большом смущении стояли с подарками в руках, а люди в зале долго аплодировали. Никос поблагодарил за памятные подарки, сказал, что действительно, среди партизан был уроженец Азербайджана, который превосходно играл на таре и всех приглашал на свою родину, которая очень похожа на Грецию — такие же горы и море. Еще он сказал, что обязательно напишет музыку о братьях по оружию и их наследниках, которые хотят жить в мире. Никос сел за рояль и кивнул внуку. Мальчик кашлянул, потом звонким голосом весело начал петь:ЗДРАВСТВУЙ, ТОВАРИЩ!
Давняя мечта композитора о комнате, где можно было бы спокойно работать, наконец осуществилась после переезда в более просторный дом недалеко от кофейни. «Самандос». Никос мог в любое время садиться к роялю, и домашние не входили к нему. Но в то утро Хтония нарушила этот негласный распорядок, принесла весть, которую с нетерпением ждал Никос: — Звонят из консульского управления министерства иностранных дел. Никос не сразу взял трубку, словно опасаясь чего-то. Невольно вспомнился далекий апрельский день, когда он позвонил консульскому чиновнику и из разговора с ним понял, что поездка в Советский Союз вряд ли состоится. На днях Никоса пригласили в советское посольство и сообщили о том, что знаменитого композитора и главных участников героической оратории «Русская мадонна» приглашают в Москву. Обещание, которое дали советские товарищи после большого успеха грандиозного музыкального спектакля на стадионе «Пананион», было выполнено. Только Хтония могла догадаться, почему Никос медлит снять трубку. Прошлый разговор остался в памяти. Хтония сама с улыбкой протянула трубку мужу. — Последуем совету великого и веселого грека Менандра, что время залечивает все раны, — ободряюще произнесла она. Многое изменилось в Греции после падения хунты. Не успел он назвать себя, как чиновник сказал, что визы на всех готовы и приглашенные могут выехать в любое время. — Чудеса, да и только! — сказал Никос после короткого разговора. — Время не только залечивает раны, но и меняет многих, в том числе и этого чиновника. Оставалось выбрать, каким видом транспорта поехать в Москву. Много была «за», чтобы полететь на самолете, но Никос давно хотел оказаться на советской пограничной станции и поприветствовать первого же встреченного там человека, как это давно сделал поэт Яннис Рицос. Он взял с собой в дорогу лист бумаги, который подарил ему товарищ Седой, со словами поэта: «Товарищ, знаешь ли ты, что ты дал человечеству? Знаешь ли ты, брат мой, в своей честной замасленной робе, какую мечту, какую надежду, какую веру ты подарил людям всего мира? Какую окрыленную юность вселил ты в этот дряхлый ворчливый мир? Здравствуй, товарищ! Дай мне свою руку. Твои друзья в Греции просили тебя расцеловать». Этот текст уже знали наизусть все Ставридисы и Елена Киприанис. По мере приближения к границе все чаще возникал вопрос: «Кто же будет первым советским человеком, которого встретит и которому скажет слова приветствия Никос?» До советской границы были Болгария и Румыния. В Софии греческих друзей встречала большая группа композиторов, певцов, музыкантов, здесь были и соседи по дому, где жила Хтония во время эмиграции, и школьные товарищи Костаса и Мирто. Румынские коллеги показали грекам Бухарест. В солнечный полдень поезд медленно пересек советскую границу и остановился на станции Унгены — недалеко от Кишинева. Никос уже давно — на подступах к пограничной станции — стоял в тамбуре и ждал, когда поезд сделает первую остановку на советской земле. Когда он оказался на платформе, первым увидел молодую женщину в строгой темно-зеленой форме. Никос огляделся, но поблизости других людей, особенно брата, к которому, судя по словам поэта, он должен был первым обратиться, не было. Белокурая женщина внимательно посмотрела на пассажира. — Здравствуй, товарищ! — громко произнес Никос. — Здравствуйте! — улыбнулась женщина. — Вы иностранец, вероятно? — Грек. Мы из Греции. — Добро пожаловать к нам, товарищ. — Я думал, товарищ, что встречу брата, но встретил вас, значит, сестру. — Как вы хорошо говорите по-русски! — похвалила женщина. — Вы жили у нас? — Нет, учил русский в Афинах. Я очень много хотел вам сказать, как говорил Яннис Рицос… — Поэт? Мы хорошо знаем этого замечательного поэта. Вы тоже поэт, товарищ… К ним подошли Хтония, Лулу, Елена, другие греки. Хтония поздоровалась: — Здравствуй, товарищ! — Здравствуйте, товарищи, здравствуйте! — вся зарделась женщина. — Вы члены делегации, товарищи? Вот товарищ говорит… — Товарищ Ставридис приготовился много что сказать, но он… ждал брата, а оказалась сестра, — весело произнесла Хтония. — Что ж, Можно и брата, — улыбнулась женщина. — Я дежурная по станции. Анна Николаевна Иванова. Очень рады вам, товарищи из Греции. Хотите поговорить с братьями? — Иванова? — переспросил Никос. — У нас есть друзья в Сибири. Тоже Ивановы. — У нас, в России, «Иванов» такая же фамилия, как, наверное, и у вас… — Ставридисы не самая известная, — проговорил Никос. — Папандопуло! — весело воскликнула русская женщина. — А фамилию Ставридис я слышала. Вернее, слышала песни Ставридиса? — Какие? — спросил Никос. — Ну, например, о бесконечной молодости. На слова Янниса Рицоса. Знаете такую песню? Никос ответить не успел. К ним подбежали двое — мужчина и женщина, запыхавшиеся от бега, с большими букетами цветов. — Товарищ Ставридис? — громко спросил мужчина, а его спутница быстро, протянула гостю цветы. Мужчина, не дождавшись ответа, вручил цветы всем приехавшим грекам. — Добро пожаловать, товарищ Ставридис. Мы из молдавского отделения Общества советско-греческой дружбы. Просим вас извинить за задержку. Поезд остановился далеко от вокзала. — И женщина с укоризной посмотрела на дежурную. — Не поезд, а вагон, — корректно уточнила дежурная. — А мы не скучали, вот познакомились с товарищем Ивановой, — сказал Никос и протянул дежурной бумагу со словами поэта. — Так говорил поэт Яннис Рицос почти тридцать лет назад. Дежурная быстро пробежала глазами текст и с волнением сказала: — Это было в 1956 году. Год моего рождения. — Примите, товарищ Иванова, как подарок от поэта и грека, которому тоже нравится Яннис Рицос. — И который пишет музыку на его слова, — сказал встречавший мужчина. — Так вы и есть автор песни о бесконечной молодости? — удивленно спросила дежурная. Никос что-то сказал сыну, Костас исчез, но вскоре появился с диском в красивом пакете. — В знак нашего знакомства, товарищ Иванова, — сказал Никос, вручая диск дежурной. — Это песня, которую вы знаете. А поют две гречанки. Они тоже здесь. Но нас, кажется, куда-то приглашают. Я должен, товарищ сестра, выполнить еще одно поручение, о котором написал поэт. Никос взял руку новой знакомой и поцеловал. Но женщина озорно махнула головой и сказала? — Нет, тут написано, что греки просили расцеловать первого встреченного советского человека. И первой поцеловала смутившегося гостя в щеку. Двое встречавших уже уводили Никоса и других треков к зданию вокзала, где гостей ждал обед, а молодая русская женщина в строгой форме железнодорожника продолжала разглядывать неожиданный подарок. После дружеских встреч в Кишиневе греческих гостей тепло приветствовали и в Киеве. Разговоры с людьми разных национальностей были короткими, обычно на перронах вокзалов, но Никосу казалось, что он давно всех знает. Беседы были о музыке, о роли деятелен культуры в современном мире, о борьбе народов за предотвращение новой войны… Во время встреч с советскими людьми Никос незаметно наблюдал за детьми, особенна за младшими — Костасом и Мирто. Было очень интересно видеть, как они реагируют, относятся к тому, что происходит на земле, о которой много слышали и где так хотели побывать. Костас и Мирто уже сделали выбор жизненного пути. Костас — композитор, сочиняет музыку, главным образом политические песни, а Мирто стала историком, интересуется политикой, занимается общественной деятельностью. Два призвания Никоса Ставридиса были как бы разделены между сыном и дочерью. Никоса и Хтонию радовала эта преемственность, унаследованные детьми духовные, моральные и идейные принципы родителей. Никос чувствовал, как его дети впитывали в себя новь иной жизни, внимательно наблюдая и прислушиваясь к тому, что происходило по дороге от границы до Москвы. Они, конечно, немало знали о первом в мире государстве людей труда, о стране, которая была прообразом будущего мира. Но они жили на другой половине современного мира, где противники лучшего будущего Греции клеветали на Советский Союз, а антикоммунизм был поднят до уровня государственной политики самыми злейшими врагами человечества — фашистскими правителями, хунтой «черных полковников». С детских лет грекам внушалась мысль об «угрозе с Севера», повторялось, что СССР — враг номер один для Европы. Младшим Ставридисам, да и старшим предстояло увидеть своими глазами страну, на которую враги всех мастей выливали ушаты клеветы. В Москве гостей из Афин встретили работники Общества советско-греческой дружбы, представители музыкальных кругов столицы, греки-политэмигранты, один из которых — поэт, старый товарищ Никоса по Макронисосу, взобрался на какое-то возвышение и приветствовал их стихами. На вокзале звучали по радио греческие песни, главным образом Никоса Ставридиса. Программа пребывания в Советском Союзе была обширной и насыщенной. Первым делом Никосу хотелось показать москвичам новую симфонию, которую он назвал «Моя первая встреча с Лениным». — Большой музыкант не может быть маленьким человеком, — сказал дирижер, стоявший за пультом в тот вечер. — Наш греческий коллега — большой маэстро и большой человек. Посему достоин почетных наград. Но сегодня после вручения медали этому выдающемуся греческому музыканту и общественному деятелю я говорю от имени моих коллег: мы склоняем головы перед твоим подвигом, наш друг и брат, подвигом во имя самых светлых идеалов человечества! Синонимом слова «человек» в наш бурный и неспокойный век является слово «борец». Наш греческий гость кровью сердца; годами лишений и страданий завоевал гордое имя «человек-борец». Хвала тебе! Ответом Никоса на столь высокую оценку его вклада в борьбу греческого народа за свободу и демократию была симфония — музыкальная ода о дружбе между двумя народами и государствами. Вторую часть симфонии дирижировал сам автор. Успех был огромным. После концерта состоялась пресс-конференция, греческих гостей забросали вопросами… — Мы думали, что наши советские друзья зададут нам тысячу вопросов, — с улыбкой начал Никос Ставридис. — Но их оказалось много больше. Последний вопрос был о том, как в Греции относятся к советским людям, к вашей стране. Это главный вопрос. Древний Плутарх учил говорить как можно короче или же как можно приятнее. Ваш вопрос дает повод объединить эти два мудрых совета и ответить: греки относятся к вам с любовью! Нет ничего сильнее человеческого слова, но нет сильнее слова, когда мы говорим о Советском Союзе, чем любовь! Вторым «греческим событием» в столице стал концерт приехавших певцов и музыкантов. Любители пения давно ждали выступления знаменитой гречанки Елены Киприанис. После известных зарубежных турне греческой группы большой популярностью пользовалась и молодая певица Лулу Ставридис. Две гречанки вышли на сцену и спели известную песню с родившимся уже в Москве новым текстом:Ал. АВДЕЕНКО СЛОВО ОБ ЭЛЛАДЕ
Перевернута последняя страница, и, я думаю, для читателя совершенно ясно: то, о чем он узнал, прочитав политический роман-хронику Николая Паниева, не вымысел автора. За каждым эпизодом книги, за каждым персонажем — реальные события, происходившие в Греции, реальность человеческих судеб представителей греческой культуры, связавшей свое творчество с интересами трудового народа, с борьбой за демократию, мир, взаимопонимание между народами. В январе 1985 года я был в Греции, на земле древней и великой, где буквально каждый шаг — это приближение к истокам той античной культуры, без которой невозможно представить себе развитие всей последующей истории человечества. Какое бесчисленное количество сюжетов для искусства дала греческая мифология, какое неизгладимое влияние оказала эллинская культура, на все без исключения виды творчества. Нет в России ни одного крупного художника, который в начале своего пути не впитал бы в себя дух и идеи эллинизма. И лицеист Пушкин, постигавший торжественный ритм гекзаметра, и зрелый писатель Толстой, изучавший древнегреческий, чтобы в подлиннике читать Гомера, — в самом подробном списке вы не сделаете прочерка. Гомер, Эсхил, Софокл, Аристофан, Фидий — сколько можно назвать имен небожителей мирового искусства, блистательных парнасцев, ставших вровень с богами-олимпийцами, о которых они писали, которых изображали. Память о них навсегда живет в сердце каждого художника. Их высочайшие традиции в современном искусстве Греции несут замечательные мастера, имена которых тоже известны всему миру. С одним из них — Яннисом Рицосом — вы встретились в книге Николая Паниева. В январе 1985-го я видел его в Афинах — выдающегося поэта, общественного деятеля, почетного председателя греко-советского Общества дружбы, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Первого мая ему исполнилось семьдесят шесть, но никогда не дашь этому моложавому, стройному и подтянутому человеку его лет. А ведь долгие годы он провел в тюрьмах, в ссылках, в заточении, там мучил его туберкулез, там его травили голодом, всяческими уничижениями, какие может придумать изощренный ум палачей. Его заставляли отречься от убеждений, от его коммунистических идеалов, хотели сломить его волю, заставить замолчать его музу. Но тщетны были все эти усилия. Голос поэта не смолк. Лучшие его стихи рождались наперекор палачам. Весь мир встал на его защиту. И мир победил. Мы сидели дома у Янниса Рицоса. Несколько дней он не выходил на улицу — простудился. Но поэт смеется над болезнями. — У меня работает сейчас четверть сердца, — говорит он. — Тромб на ногах. Если я начну перечислять все свои болезни, получится целый медицинский справочник. Меня держит работа, — просто говорит он. И усмехается — Время проходит, а я чувствую себя моложе. Когда мне было двадцать четыре года, я написал стихи «Рапсодия голого света». Каждое утро я смотрю из открытого окна на цветущее небо, на то, как оно отражается в море. Я делаюсь моложе, чем вчера. Представляете, на сколько веков я делаюсь моложе каждый день?! Яннис показывал десятки книг, изданных во многих странах мира, пластинки, где звучат его стихи, положенные на музыку. Две из них особенно заинтересовали меня: записи Седьмой («Весенней») симфонии Микиса Теодоракиса на стихи Янниса Рицоса. Одна сделана в Афинах, другая в Москве на фирме «Мелодия» оркестром под управлением Дмитрия Китаенко. Я хорошо помню майский день 1984 года, когда эта симфония впервые прозвучала на Втором международном музыкальном фестивале в Москве. С режиссером Центральной студии документальных фильмов, лауреатом Ленинской премии Львом Даниловым мы снимали фильм об этом событии, и симфония Теодоракиса так же покорила нас, как покорила она весь зал. Именно с проникновенной, широкой мелодии Теодоракиса мы начали ленту о том, как музыка служит делу мира, и мелодией Теодоракиса ее закончили, услышав в ней страстный призыв к доброте человеческих отношений, к взаимопониманию, почувствовав в ней выражение неукротимости духа греческого народа и подлинное интернациональное звучание. Именно об этом говорим в Афинах с Рицосом. — Искусство, — размышляет он вслух, — в частности, поэзия, музыка — это архитектура человеческой души. Поэт должен, пока существует жизнь на земле, все делать для ее расцвета. Нужна всеобщая борьба за процветание мировой культуры, за гуманизм. Такой музыкальный фестиваль, какой был в Москве, это прекрасно. Встречи и диалог деятелей культуры — это прекрасно. Я высоко ценю объединяющую силу советского искусства. Оно помогает честным художникам Запада осознать и свой вклад в общее дело. И вы и мы своей борьбой и своим искусством хотим подготовить мир к тому, чтобы человечество вздохнуло свободно, чтобы оно верило в разум, ощутило слово правды. Ради этого стоит жить и работать Ради этого мы и создали свое произведение, прозвучавшее в Москве, и многие другие вместе с моим другом Микисом Теодоракисом. Яннис Рицос, снял трубку и позвонил Микису, сказав, что у него советские гости. Звонок застал композитора на пороге — он торопился на аэродром, а оттуда в Париж, где предстояли гастроли. И в трубке зарокотал сочный и быстрый голос композитора: — Я сердцем с вами. Я сердцем с теми, кто борется за мир и социальный прогресс. Ныне все деятели искусства самой историей призваны поднять свой голос В защиту мира, революционных завоеваний прогрессивного человечества, в авангарде которого идут Советский Союз и другие социалистический страны. Я горд, что ношу на груди медаль лауреата международной Ленинской премии. За эту премию, за медаль с профилем великого Ленина я признателен прежде всего греческому народу, который принял меня в ряды борцов за мир, демократию и лучшую жизнь. Я признателен и советскому народу, который увидел нашу борьбу и высоко ее оценил. Таков этот человек — выдающийся музыкант, утонченный художник, один из самых крупных среди ныне живущих композиторов, артист, все это так, но прежде всего убежденный борец за правду и справедливость, несгибаемый человек, которого не устрашили никакие испытания, который идет по жизни с высоко поднятой головой и смело смотрит в лицо любым испытаниям. Читатель, без сомнения, понял, что в романе Николая Паниева речь идет о музыканте и гражданине масштаба Микиса Теодоракиса. Я не хочу сказать, что описан в книге именно он, — мы имеем дело с художественным произведением, — но второго такого музыканта, как Микис, нет в сегодняшней Греции. Его любят все. За прозрачность мелодий, за то, что народная песня и народная интонация стали неотъемлемой принадлежностью сегодняшней классики. За то, что он пропагандист настоящей музыки и не только сочиняет ее, но и устраивает просветительские концерты, мечтая, чтобы истинное искусство стало достоянием простого люда. Его чтят за то, что его музыка стала послом доброй воли, и ее верительные грамоты доходят до сердец людей земли быстрее, чем дипломатические ноты. Ноты мира — вот что такое музыка Теодоракиса. Голос сердца — вот что такое весь он. И в жизни, и в творчестве, и в общественной деятельности. В Афинах зимой 1985 года я встретился еще с одним человеком, без которого невозможно представить культурную и обще-ственную жизнь Греции Последних лет. Это огненноволосая женщина, знаменитая актриса, сменившая свое артистическое амплуа на прямое служение своему народу. Когда-то она так сказала о себе: «Я по профессии не актриса, я по профессии — гречанка. И не знаю лучшей профессий на свете». Долгие годы мрачного режима «черной хунты» она была знаменем свободолюбивых сил Греции, ее гневный голос звучал как набат. Изгнанница, Медея наших дней, она победила вместе с Трудовым народом Грации, и он избрал ее своим депутатом в парламент. А йотом она стала министром культуры и наук Греции. Каждый понимает, что речь идет о Мелине Меркури. Мы сидели у нее дома, в старом греческом квартале Афин Колонаки и разговаривали так, будто были знакомы много лет. Простота — вот что подкупает в Мелине, добросердечие — вот что светится в ее взгляде, непреклонность — вот что прорывается сквозь все ее обаяние, когда она говорит о защите демократии, о праве народа на собственную судьбу, о борьбе против войны, против ядерного безумия. Ее голос — это голос тех сил в Греции, которые хорошо понимают, чём грозит стране потеря независимости, что с собой несёт американский ядерный диктат, какую опасность для страны представляют ядерные арсеналы, размещенные на натовских базах на территорий Греции. Как гром среди ясного неба прозвучало для натовских стратегов заявление правительства Греции, что оно пересмотрело свою роенную и оборонительную доктрину, будучи абсолютно убежденным, что стране не угрожает никакая агрессия с Севера Словно ушат ледяной воды пролился на головы натовских ястребов, когда в солнечный день правительство Греции заявило, что базы НАТО находятся на греческой территории незаконно и должны быть удалены с нее. Как грозное предзнаменование прозвучало заявление военного министра, что Греция не допустит натовских учений в Эгейском Море и сама не будет в них участвовать. Уходит почва из-под ног тех, кто привык дирижировать миром. Ответом такой политике была делийская декларация государств; которая выступает за прекращение ядерных испытаний, за достижению соглашений в области разоружения. Среди стран — инициаторов этой декларации была Греция. И через несколько дней после делийской встречи по инициативе Греции состоялась новая встреча в Афинах, которая подтвердила приверженность политике мира и мирного сосуществования. Я был в этот день во дворце «Заппион», видел решимость государственных, общественных деятелей активно воздействовать на политику мира. И такой подход полностью отвечает позиции Советского Союза, становится важным факторов мирового развития. Это голос разуму, голос совести, голос всего человечества. Не случайно он исходит и от деятелей культуры. Яннис Рицос сидел в зале заседаний, афинской встречи — он был делегатом от Греции. Мелина Меркури приветствовала делегатов из других стран на правительственном приеме по случаю окончания афинской дискуссии и сказала, что долг деятелей, культуры — крепить мир. Микис Теодоракис в это время боролся за мир своей песней, своей мелодией. В январе 1985-го Грецию потряс один документ, просочившийся сквозь покровы тайны натовских военных приготовлений. В школе обороны НАТО в Риме шли учебные занятия, и слушателям предложили изучить «сценарий» военного переворота в Греции на тот случай, если осенью на парламентских выборах победят левые силы. Штабисты НАТО, когда разразился скандал, уверяли, что это всего лишь военная «игра» и такой сюжет в ней разворачивается лишь для занимательности, для того, чтобы участникам было «интересно». Что попусту играть словами — чей тут «интерес» затронут, видно невооруженным глазом. Запугать, затравить «красной опасностью», вызвать к жизни силы реакции — вот на что расчет. И возможность нового военного переворота не пустая угроза. В сегодняшней Греции не затихает острая политическая борьба. На, пороге лета 1985 года общественная атмосфера в стране достигла высшей точки кипения. Досрочные всеобщие выборы должны были ответить на основной вопрос: какой политический курс поддерживает большинство народа? Партия «Новая демократия», развернув бурную предвыборную деятельность, всеми средствами пыталась очернить независимую политику ПАСОК, запугать избирателей, Но попытки эти с треском провалились. Большинство избирателей отдали свои голоса социалистам и коммунистам. И глава правительства Андреас Папандреу, поддержанный демократическими силами страны, вновь со всей твердостью заявил о незаконности размещения американских баз на греческой территории, заверил, что Греция будет проводить политику, направленную на международное сотрудничество, создание безъядерной зоны на Балканах, укрепление мира во всем, мире. Лучшие сыны и дочери Греции стоят в первых рядах демократических сил страны, но они знают, что борьба будет нелегкой и упорной, потому что силы реакции не сложили оружия. Так что читатель, познакомившись с романом Николая Паниева, может прибавить к своему сегодняшнему знанию и новые факты. Есть еще черные силы, которые хотели бы повторить черные страницы истории. Но на пути этих сил стоит трудовой народ, лучшие деятели культуры которым народ доверил выразить свои мысли и чаяния. Не нравится заокеанским воротилам истории, когда народы строят свои отношения на основе равноправия, сотрудничества, взаимной выгоды. А именно так складываются в последнее время отношения между СССР и Грецией. Корни нашей дружбы и сотрудничества прочны, они уходят в глубь времен. Мы никогда не воевали и не враждовали друг с другом. Год от года крепнут экономические и культурные связи, межгосударственные контакты. Как событие большого значения для наших стран оценивается визит премьер-министра Греции А. Папандреу в Советский Союз в феврале 1985 года, проведенные во время этого визита переговоры и заключенные долгосрочные соглашения. Главная надежда автора романа — это сердце, ум человека — человека, главным образом молодого, отвечающего за все, что происходит в современном мире, это и страстный призыв к бдительности, и бесконечная вера в торжество разума, добра и прогресса. Уверен, что новая книга нашего публициста и журналиста-международника, специалиста по Балканским странам Николая Паниева, будет с интересом встречена читателями.

Последние комментарии
8 часов 27 минут назад
8 часов 28 минут назад
15 часов 11 минут назад
15 часов 19 минут назад
21 часов 31 минут назад
21 часов 35 минут назад