Из потаенной истории России XVIII–XIX веков [Натан Яковлевич Эйдельман] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Натан Яковлевич Эйдельман
Из потаённой истории России XVIII–XIX веков
Федеральная целевая программа книгоиздания России
Подготовка текста Ю. М. МАДОРА
Составитель доктор исторических наук А. Г. ТАРТАКОВСКИЙ
История продолжается…
1
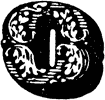 Окидывая сейчас взглядом наследие Натана Яковлевича Эйдельмана — выдающегося писателя-историка, безвременно скончавшегося на взлете своих духовных сил 29 ноября 1989 г., невольно немеешь перед громадностью сделанного им в различных сферах историко-литературного и собственно исторического знания. В самом деле, автор около 25 книг, нескольких сотен статей, очерков, эссе и других произведений «малых жанров». Участник издания (как публикатор, текстолог, комментатор) целой серии ценнейших памятников русской общественной мысли и литературно-общественного движения XVIII–XIX вв. Один из инициаторов и редакторов многотомного свода декабристских мемуарно-документальных материалов «Полярная звезда». Пушкинист, декабристовед, герценовед. Авторитетнейший специалист в двухвековой истории российского абсолютизма от Петра I до Столыпина (где вообще трудно назвать какое-либо крупное событие или заметный исторический персонаж, которых бы не коснулся его пытливый исследовательский глаз). Великолепный знаток новой русской литературы, неустанно размышлявший (и немало писавший) о творчестве и жизненном поприще Д. И. Фонвизина и А. Н. Радищева, А. С. Грибоедова и В. А. Жуковского, П. А. Вяземского и А. И. Одоевского, Ф. И. Тютчева и Л. Н. Толстого. Во всех этих областях Эйдельман оставил свой заметный след, а в некоторых явился новатором и автором трудов, ставших классикой современной исторической литературы.
К тому же прирожденный биограф, вдохнувший свежую струю в принципы построения жизнеописаний деятелей прошлого, — вспомним хотя бы его замечательную декабристскую тетралогию о М. Лунине, С. Муравьеве-Апостоле, И. Пущине, В. Раевском, только сейчас являющуюся нам в своей внутренней цельности.
К тому же неутомимый архивист, проторивший дорогу во множество отечественных архивов и начавший осваивать богатство зарубежных архивохранилищ по русской истории; география его «архивных разведок» — не только Москва, Санкт-Петербург, Киев, она простирается от Иркутска и Читы, Саратова и Одессы до Стэнфорда и Парижа.
К тому же публицист, откликавшийся на жгучие проблемы современной ему политической и литературной жизни и много сделавший для осознания связи потребностей нынешнего общественного развития с опытом прошлого.
К тому же… К тому же… К тому же… Диапазон историко-литературных интересов Эйдельмана трудно поддается исчерпывающему описанию.
Представление о них будет неполным, если не сказать и о его неосуществившихся по тем или иным причинам замыслах. Назову лишь некоторые. Так, в разные годы он вынашивал планы биографических повествований о Е. Пугачеве, Екатерине II, Александре I, Д. В. Давыдове, Г. Р. Державине, Ф. В. Булгарине, А. О. Корниловиче, А. И. Герцене, о первых пушкинистах П. В. Анненкове и П. И. Бартеневе. В связи с последним не могу не упомянуть и о таком оригинальном замысле (Эйдельман рассказывал мне о нем еще в начале 70-х годов), как «Пушкин в Южной России», — предназначавшаяся для серии «Литературные памятники» публикация напечатанных в свое время в «Русском архиве» одноименной работы П. И. Бартенева и примыкавших к ней мемуарно-дневниковых записок И. П. Липранди. Сюда же должны были войти подробные комментарии, учитывавшие новейшие достижения пушкинистики и декабристоведения.
В труднообозримом многообразии всех этих работ и начинаний впечатляет прежде всего продуктивность феноменально — если не сказать более — одаренного человека. Озадачивала сама стремительность, с которой он фундаментально овладевал новыми для него сферами истории и литературоведения со своими сложившимися традициями, школами, проблематикой, с огромной, десятилетиями накопленной литературой. То, на что у других уходили многие годы, если вообще не значительная часть жизни, Эйдельман с какой-то легкостью и свободой, с радостным удивлением первооткрывателя неизведанных материков прошлого осваивал в предельно сжатые сроки.
Окидывая сейчас взглядом наследие Натана Яковлевича Эйдельмана — выдающегося писателя-историка, безвременно скончавшегося на взлете своих духовных сил 29 ноября 1989 г., невольно немеешь перед громадностью сделанного им в различных сферах историко-литературного и собственно исторического знания. В самом деле, автор около 25 книг, нескольких сотен статей, очерков, эссе и других произведений «малых жанров». Участник издания (как публикатор, текстолог, комментатор) целой серии ценнейших памятников русской общественной мысли и литературно-общественного движения XVIII–XIX вв. Один из инициаторов и редакторов многотомного свода декабристских мемуарно-документальных материалов «Полярная звезда». Пушкинист, декабристовед, герценовед. Авторитетнейший специалист в двухвековой истории российского абсолютизма от Петра I до Столыпина (где вообще трудно назвать какое-либо крупное событие или заметный исторический персонаж, которых бы не коснулся его пытливый исследовательский глаз). Великолепный знаток новой русской литературы, неустанно размышлявший (и немало писавший) о творчестве и жизненном поприще Д. И. Фонвизина и А. Н. Радищева, А. С. Грибоедова и В. А. Жуковского, П. А. Вяземского и А. И. Одоевского, Ф. И. Тютчева и Л. Н. Толстого. Во всех этих областях Эйдельман оставил свой заметный след, а в некоторых явился новатором и автором трудов, ставших классикой современной исторической литературы.
К тому же прирожденный биограф, вдохнувший свежую струю в принципы построения жизнеописаний деятелей прошлого, — вспомним хотя бы его замечательную декабристскую тетралогию о М. Лунине, С. Муравьеве-Апостоле, И. Пущине, В. Раевском, только сейчас являющуюся нам в своей внутренней цельности.
К тому же неутомимый архивист, проторивший дорогу во множество отечественных архивов и начавший осваивать богатство зарубежных архивохранилищ по русской истории; география его «архивных разведок» — не только Москва, Санкт-Петербург, Киев, она простирается от Иркутска и Читы, Саратова и Одессы до Стэнфорда и Парижа.
К тому же публицист, откликавшийся на жгучие проблемы современной ему политической и литературной жизни и много сделавший для осознания связи потребностей нынешнего общественного развития с опытом прошлого.
К тому же… К тому же… К тому же… Диапазон историко-литературных интересов Эйдельмана трудно поддается исчерпывающему описанию.
Представление о них будет неполным, если не сказать и о его неосуществившихся по тем или иным причинам замыслах. Назову лишь некоторые. Так, в разные годы он вынашивал планы биографических повествований о Е. Пугачеве, Екатерине II, Александре I, Д. В. Давыдове, Г. Р. Державине, Ф. В. Булгарине, А. О. Корниловиче, А. И. Герцене, о первых пушкинистах П. В. Анненкове и П. И. Бартеневе. В связи с последним не могу не упомянуть и о таком оригинальном замысле (Эйдельман рассказывал мне о нем еще в начале 70-х годов), как «Пушкин в Южной России», — предназначавшаяся для серии «Литературные памятники» публикация напечатанных в свое время в «Русском архиве» одноименной работы П. И. Бартенева и примыкавших к ней мемуарно-дневниковых записок И. П. Липранди. Сюда же должны были войти подробные комментарии, учитывавшие новейшие достижения пушкинистики и декабристоведения.
В труднообозримом многообразии всех этих работ и начинаний впечатляет прежде всего продуктивность феноменально — если не сказать более — одаренного человека. Озадачивала сама стремительность, с которой он фундаментально овладевал новыми для него сферами истории и литературоведения со своими сложившимися традициями, школами, проблематикой, с огромной, десятилетиями накопленной литературой. То, на что у других уходили многие годы, если вообще не значительная часть жизни, Эйдельман с какой-то легкостью и свободой, с радостным удивлением первооткрывателя неизведанных материков прошлого осваивал в предельно сжатые сроки.
2
Масштаб совершенного им на научно-литературном поприще тем удивительнее, что он сравнительно поздно проявил себя профессионально: первая его печатная работа вышла в свет только в 1962 г., когда ему уже исполнилось 32 года, — согласимся, это не тот возраст, с которого обычно начинают свое восхождение люди творческих профессий. И дело было, конечно, не в «запоздалости» его собственного развития. Наоборот, я помню Эйдельмана на историческом факультете МГУ, где на своем курсе, полном по-настоящему талантливых студентов, он был одним из наиболее блестящих и уже тогда поражал зрелостью и неординарностью богатой ассоциациями мысли и совершенно непостижимой в его годы начитанностью. Дело было в другом — в тех суровых условиях времени, в которых пришлось вступать в самостоятельную жизнь его поколению. Эйдельман окончил университет в 1952 г. — в разгар исступленного сталинского мракобесия, и с его анкетой, с томившимся в лагере отцом нечего было и думать о научной карьере. По тем временам для него не оставалось ничего иного, как искать работу в средней школе, что тогда тоже было сопряжено с немалыми затруднениями. Он учительствовал почти шесть лет, правда, не без пользы для себя и к еще большей пользе для множества своих учеников: об Эйдельмане — школьном преподавателе истории и до сих пор рассказывают легенды. А после 1956 г. он оказался прикосновенным к кружку свободомыслящих историков, в том числе и его однокашников, — воистину «детей XX съезда», поверивших в долговременность его курса, но в осознании постигшей страну трагедии и путей выхода из нее пошедших намного дальше буквы его решений. То, что говорили и писали участники кружка, не выходило в целом за пределы марксистской критики сталинизма и сейчас кажется нам вполне умеренным, но в то время представлялось настолько опасным, что они были арестованы и судимы, получив свои достаточно внушительные сроки. Университетский кружок второй половины 50-х годов — яркий эпизод ранней послесталинской духовно-политической оппозиции. И хотя Эйдельман в самом кружке не состоял, находясь как бы на его периферии, и не был подвергнут прямым репрессиям (а на следствии проявил завидную стойкость и не дал себя запугать), университетское дело на несколько десятилетий, вплоть до второй половины 80-х годов, нависло над ним мрачной тенью, вынудив бросить школу (после чего, опять же с трудом, удалось устроиться в Московский областной краеведческий музей в Истре), навсегда закрыв дорогу в вузовско-академические учреждения и крайне затруднив возможность заграничных поездок. О том, насколько объективно-напряженными, хотя и не всегда видимыми на первый взгляд, были в этом смысле условия его существования и сколь долго рыцари полицейской нравственности с Лубянки держали его (как, впрочем, и множество других российских интеллигентов) в орбите своего охранительного внимания, мы узнаем из только еще раскрывающихся документов бывшего КГБ. Так, в секретных отчетах по политическому сыску за 1987 год — в самый что ни на есть пик перестройки! — было сакраментально отмечено: «Взят в изучение литератор Н. Эйдельман»[1]. Именно тогда, на исходе 50-х годов, думается мне, закладывались идейно-нравственные устои его личности — тот крепкий «заквас» «шестидесятничества», который он выстрадал собственной судьбой и которому оставался привержен до конца своих дней. Впрочем, об этом периоде жизни Эйдельмана хорошо рассказано в статьях его однокурсника и друга, известного историка, академика Н. Н. Покровского, к которым я и отсылаю читателя[2]. Из бегло очерченной выше тематики историко-литературных интересов Эйдельмана нетрудно увидеть, в какой мере уже в начальную пору его деятельности они не укладывались в рамки официальной науки. Надо сказать, что культурно-идеологическая ситуация была в этом отношении достаточно сложной и вовсе не такой однотонно-беспросветной, как представляется ныне некоторым нашим молодым «восьмидесятникам». Смещение партийной бюрократией Хрущева в октябре 1964 г., означавшее крутой поворот в сторону неосталинизма, казалось бы, похоронило и без того неустоявшуюся «оттепель». Однако поворот этот не сразу выявил все свои реакционные потенции и не в одночасье пресек порыв к духовному обновлению — лишь в самом конце 60-х годов политический курс, неизбежно скатывавшийся в «застой», определился в полной мере. Мощный импульс, полученный общественным сознанием от XX съезда, продолжал приносить свои плоды — и в силу заданной инерции, и потому, что новый режим не успел еще укрепиться и повсеместно распространить свой диктат. Во всяком случае середина и вторая половина десятилетия — это время подъема гуманитарной мысли: оживления философских и иных теоретических дискуссий, создания современных научных учреждений и новых журналов, пересмотра иссушающих догм предельно вульгаризированного марксизма. В других, смежных науках на этом пути удалось сильно двинуться вперед. В истории же, особенно отечественной, более испытавшей давление аппаратно-идеологических «инстанций», дело обстояло куда как хуже. При всех позитивных сдвигах раскрепощавшаяся историческая мысль не смогла все же преодолеть барьер ортодоксальной методологии и на большее, чем «очищение» ее от извращений и фальсификаций в духе «Краткого курса», как правило, не покушалась. Поэтому оставалась незыблемой традиционная схема исторического развития с последовательно сменяющими друг друга пятью формациями, с приоритетом экономико-производственных факторов и классовой борьбой как его движущей силой, наконец, с метафизическим разрывом между «объективностью» материально-вещественного мира и «человеческой субъективностью» во всем спектре ее духовных проявлений[3]. В соответствии с этим выстраивалась и жесткая номенклатура тем, предпочтительных для государственно организованной историографии, сосредоточившейся преимущественно на изучении социально-экономических процессов, крестьянского и рабочего движения, на революционно-центристских построениях, подменявших собой все богатство общественной жизни. Вместе с тем «власть предержащие» с их отношением к прошлому как к своей вотчине и с мистическим страхом перед нежелательными для себя историческими аллюзиями стремились исключить из публичного рассмотрения целые пласты прошлой жизни, причем их сфера год от года расширялась. В результате такие, например, темы, как царизм и политический механизм его господства, оппозиционные общественные движения нереволюционного толка, положение литературы в самодержавном государстве, религия и церковь, социально-психологические и культурно-бытовые аспекты исторической жизни, с трудом допускались в официальную науку. (Если же подобного рода темы и становились предметом научных штудий, то благодаря главным образом энтузиазму и частной инициативе отдельных ученых, находивших в себе силы пренебрегать общепринятым порядком вещей.) Реальный и полнокровный исторический процесс представал, таким образом, не только обедненным в своих важнейших компонентах, но и в значительной мере дегуманизированным. Эйдельман с его темпераментом, внутренней свободой и раскованностью с первых же шагов восстал против системы недомолвок и «белых пятен» табуированной историографии и официозного литературоведения — запретных тем для него не существовало.3
«Случай ненадежен, но щедр» — он часто повторял эту старинную присказку. В начале его поприща «случай», а точнее — сочетание «случаев» тоже оказалось необыкновенно щедрым для всей дальнейшей его судьбы. Нет худа без добра, — попав в Московский областной краеведческий музей, Эйдельман очень скоро обнаружил в его хранилищах, в подшивке запретного в России «Колокола» за 1857–1858 гг., три примечательные рукописи: два письма к А. И. Герцену Ю. Н. Голицына — отпрыска знаменитого княжеского рода, богатейшего помещика, камергера, музыканта, ярого поклонника лондонского изгнанника, одного из колоритнейших персонажей «Былого и дум», а также и автограф ответного письма к нему Герцена. Не представляло труда выяснить, что последнее было давно напечатано, голицынские же письма никогда не публиковались. Эта неожиданная находка — о ней сам Эйдельман живо и увлекательно рассказал в одной из своих научно-популярных книг[4] — подтолкнула к углубленным занятиям Герценом и его окружением. Примерно тогда же П. А. Зайончковский, с которым Эйдельман был связан еще с университетских лет, познакомил его с Ю. Г. Оксманом, а тот подсказал конкретное и чрезвычайно плодотворное направление этих занятий, ставшее впоследствии «золотой жилой» исторических разысканий Эйдельмана: тайные корреспонденты Вольной русской печати. Все это совпало еще с одним «случаем»: в начале 60-х годов в Институте истории АН СССР развернулись под руководством М. В. Нечкиной и Е. Л. Рудницкой масштабные работы по факсимильному воспроизведению изданий Вольной русской печати, целое столетие принадлежавших к разряду библиографических раритетов. Вслед за «Колоколом» начали выходить тома «Полярной звезды», затем «Исторических сборников», и Эйдельман был привлечен к их комментированию. (Потом он будет комментировать «Голоса из России», щербатовско-радищевский конволют, серию мемуарных памятников XVIII в. в изданиях Вольной типографии — записки Е. Р. Дашковой, Екатерины II, И. В. Лопухина[5].) Достаточно перелистать книги с этими комментариями, чтобы увидеть, что они определили собой весь его творческий путь, объем, характер и сам тип его научных устремлений. Именно здесь (а также в книге «Тайные корреспонденты „Полярной звезды“», сконцентрировавшей итоги этой комментаторской работы) заключены как бы в свернутом виде, в зародыше все его темы, сюжеты и герои, все его историко-литературные занятия, весь декабризм, пушкинизм и весь XVIII век, основные его будущие книги, статьи, публикации — почти все, что делал он до последних дней жизни. В этом отношении творческий путь Эйдельмана при всей обширности и кажущейся разбросанности его интересов представляется на редкость цельным и последовательным, я бы сказал — монистичным. Прикосновение к беспримерной по размаху и целеустремленности деятельности Герцена и Огарева по «рассекречиванию былого», по обнародованию множества исторических документов, раскрывавших тайные «пружины» и затемненные стороны «императорского периода» истории России, сформировало и специфический метод эйдельмановских разысканий, как он сам его формулировал: «взгляд на XVIII–XIX вв. через материалы Вольных изданий»[6]. Иными словами: отталкиваясь от этих обличительных материалов, прослеживая пути их движения в Лондон, их предшествующее бытование в русском обществе, доходить до самых корней — до породившей их исторической среды. Некоторое время спустя плоды этих изучений были представлены в книге «Герцен против самодержавия», сочетающей занимательность изложения с фундаментальной разработкой ряда ключевых сюжетов потаённой истории «императорского периода», — и сейчас, по прошествии 20 лет после ее первого издания в 1973 г., она остается настольным пособием всякого, кто всерьез занимается политической историей России и русской литературой XVIII–XIX вв. В ходе этих изучений стало очевидным, что предшественником Герцена в «рассекречивании былого» был Пушкин с его трудами о Петре I и Пугачеве, с его неосуществившимися замыслами написания истории России от преемников Петра I до Павла I, с его страстным стремлением проникнуть в государственные архивы, наконец, с его «Замечаниями о бунте» — целой программой исследований в области потаенной истории XVIII в. Позднее Эйдельман вспоминал: «От Герцена мои занятия пошли концентрическими кругами: круги расширились — „Колокол“, потом „Полярная звезда“, декабристы, Пушкин… А от Пушкина — XVIII век. Все шло вглубь»[7]. Вот этот особый, «концентрический», углубляющийся угол зрения — проникновение в события «императорского периода» сквозь призму герценовских публикаций и пушкинских исторических интересов — решающим образом отразился не только на содержании, но даже на архитектонике многих его исторических сочинений. Но этот же специфический подход определил собой и общий камертон проблематики научных занятий Эйдельмана: свободное и преследуемое слово, цензурная политика и независимая позиция литератора, власть и общество, личность и государство, самодержавие и интеллигенция — нечего и говорить, что такого рода темы, многие годы бывшие в центре его внимания и остро созвучные общественной атмосфере 60–70-х годов нашего века, официальной наукой тогда не поощрялись. Еще более «крамольным» был его пристальный интерес к российским императорам и царской фамилии, внутридинастическим отношениям и нравам, придворной борьбе, дворцовым переворотам, аристократической фронде и т. д. Один только намек на возможность занятия такими сюжетами воспринимался чиновно-академическим «олимпом», да нередко и самими историками, как отход от «марксистско-ленинского учения о решающей роли народных масс в истории», а в иных случаях — и как прямое проявление монархических симпатий. «Попытки рассмотреть какого-либо царя, правившего после Петра Великого, не агитационно-разоблачительно, но чисто исторически обычно встречали отпор», — заметил сам Эйдельман в одной из последних своих книг, и эти слова воспринимаются сейчас почти как автобиографическое признание[8]. Он был одним из немногих, кто в те годы вопреки подобным предрассудкам отчетливо понимал, что при вековом господстве абсолютизма, при его воздействии на все политические и социальные установления, на массовую психологию, когда малейшие изменения в «династических верхах» и даже личные свойства императора могли самым болезненным образом отразиться на состоянии целых сословий, классов и частной жизни отдельного человека, — при всем этом без знания истории «царствований» нельзя представить и саму жизнь народа и гражданскую историю страны в целом. Справедливости ради надо сказать, что в этом направлении своих исторических изысканий Эйдельман, с одной стороны, перенимал опыт исследований «царствований» дореволюционной историографии, а с другой — находил опору в превосходных книгах о самодержавии второй половины XIX в. П. А. Зайончковского, восстановившего прерванную в 20-х годах традицию изучения этого влиятельнейшего в истории России института. Еще один пример дерзкого вторжения Эйдельмана в непрестижные исторические сюжеты связан со следственным процессом декабристов. Дореволюционная историография вообще не очень жаловала его своим вниманием — прежде всего из-за недоступности самих следственных материалов, введение которых в оборот началось только после 1917 г. Для советских же историков это была малоперспективная тема уже хотя бы потому, что достаточно сложно было объяснить покаянные речи и взаимооговоры большей части подследственных, исходя из принятых представлений о «моральном кодексе» истинного революционера, сложившихся, кстати, на более поздних этапах революционного движения. Поэтому их поведение на следствии или замалчивалось, или истолковывалось в духе расхожих ссылок на «ограниченность» дворянской революционности декабристов, на их оторванность от народа, на отсутствие в стране революционного класса и т. д. Нестойкость декабристов на следствии как бы «перекрывалась» соображениями о твердости их убеждений в последующие периоды жизни, на каторге и в ссылке. В ходе работы над биографией Лунина Эйдельману стала очевидной узость и недостаточность этих объяснений, и он ринулся, буквально погрузился в скрупулезное изучение важнейшего, «интегрирующего» источника по теме — журналов и докладных записок царю Следственного комитета, тогда еще не опубликованных. В своей книге он не только воссоздал на этой основе историю следственного процесса в системе его разнообразных связей, динамике и глубочайшем драматизме, но и раскрыл эволюцию поведения на следствии множества декабристов сквозь призму их социально-психологических, идейных, этических и индивидуально-тактических мотиваций. Но всякий раз оставался при этом «внутри» эпохи, не соскальзывая на зыбкую почву перенесения современных политических понятий на реалии прошлого. В итоге едва ли не впервые в литературе было дано исторически достоверное описание этого феномена дворянской ментальности первой четверти XIX в. (Несколько лет спустя Эйдельман посвятил журналам и докладным запискам специальное источниковедческое исследование[9].)4
Ко времени появления книги о Лунине вполне сложилось его историческое миросозерцание. Позднее он вспоминал: «Назрела потребность в личностно-психологическом подходе к истории XIX века. Сломал для себя стену между объективным и субъективным. Думал — что я, что мы?»[10] В этом знаменательном свидетельстве уже была заложена установка на преодоление отчуждения личности от чрезмерно «объективированного» вульгарным материализмом исторического процесса, на возрождение его человеческого, нравственного содержания, на «реабилитацию» «простой истории» (удачное выражение А. П. Чудакова[11]) живых людей в реальных обстоятельствах их повседневного существования. Естественно, что при таком подходе центр внимания переносился с макропроцессов, с социологически абстрагированных закономерностей на микроуровень человеческого бытия, на первичную его клеточку — исторически конкретную личность, независимо от ее места в иерархии «вековых» ценностей, во всем богатстве ее внутреннего мира и ее связей с эпохой, сложно детерминированных «объективными» факторами. «Если мы серьезно стремимся вдохнуть, уловить аромат, колорит века, его дух, мысль, культуру, нам непременно нужно просочиться в тогдашний быт, в повседневность канцелярии, усадьбы, избы, гимназии…»[12] — так сам он точно выразил свое кредо. Можно даже сказать, что Эйдельман исповедовал некоторый культ личностной «микроистории» и с удовольствием повторял шутливое изречение одного близкого своего приятеля: «Макромир ужасен, микромир прекрасен». И такая история мыслилась им не как легковесное и эпатирующее противопоставление «истории закономерностей», а глубоко и ответственно: «Меж тем потребность в человеческой истории не проходила никогда, — настаивал он в рецензии на книгу Н. И. Павленко о А. Д. Меншикове, — и в наше время есть все возможности для такой науки: мы говорим не о возвращении к былому, простодушному бытописанию, а к личностной истории, опирающейся на все научные завоевания последнего столетия»[13]. Но такой подход требовал и более тонкого исследовательского инструментария, нежели всеобъемлюще верные, но в реконструкции «простой истории» мало что дающие понятия: «формации», «классы», «способ производства», «базис», «надстройка» и т. д. Гораздо содержательнее представлялись ему с этой точки зрения такие категории, как, например, «социальное поведение», «общественная репутация» или «поколение» — строго определенная во времени социокультурная общность. Короче, в этом была установка на возвращение к гуманистическим истокам исторического познания, воплощавшаяся во всем том, что с тех пор выходило из-под пера Эйдельмана, и не только о XIX в., но и о других столетиях, которыми он занимался. Если же посмотреть на вещи в более широкой методологической перспективе, то мы должны будем признать, что это знаменовало собой и принципиальное обновление структуры исторического знания, пересмотр самих основ его предметной сферы. Было бы неверно, однако, представлять в этом отношении Эйдельмана некоей одинокой, изолированной фигурой. Нет, его научно-исторические устремления были рождены своим временем и неотделимы от него. В первую очередь я хотел бы назвать здесь три книги, издание которых (1965–1966) совпало с вхождением Эйдельмана в науку и литературу и которые — не побоюсь сказать — перевернули сознание его сверстников-единомышленников, особенно тех, кто всерьез размышлял над путями исторического развития России в свете резкого «похолодания» тогда общественной атмосферы. Это «Чаадаев» А. Лебедева, «Юрий Тынянов» А. Белинкова (2-е изд.), «Запретная мысль обретает свободу» (о духовной драме Радищева после Французской революции) Ю. Карякина и Е. Плимака, надолго определившие ауру умственной жизни гуманитарной интеллигенции, во всяком случае московской. Но отмеченные выше устремления Эйдельмана невозможно представить и вне более обширного культурно-научного контекста 60–70-х годов. Вне, скажем, движения так и не замолкнувшей вовсе философской мысли. Вне именно тогда возникшей, словно Феникс из пепла, культурологии. Вне великих по своим теоретическим открытиям трудов М. М. Бахтина. Вне достижений филологов-литературоведов, в частности замечательных работ Ю. М. Лотмана и его школы. Вне новаторских исследований по социальной психологии средневековья А. Я. Гуревича с их перспективными методологическими обобщениями. Научно-исторические устремления Эйдельмана, реализованные на материале отечественной истории, перекликались и с современными исканиями зарубежной гуманитарной мысли. Речь идет, например, о таком ее направлении, как культурная или историческая антропология, и особенно о школе французских историков, группировавшихся вокруг «Анналов». Своим обращением к различным проявлениям социально обусловленной человеческой активности, к истории «ментальности» как центральному узлу, стержню исторического процесса, и разработкой методов их изучения «анналисты» совершили подлинно «коперниканский переворот» в историческом познании XX в.[14] (Созвучие работ Эйдельмана новациям школы «Анналов» было отмечено в прекрасном докладе Г. С. Кнабе «Современное общественно-историческое сознание и творчество Н. Я. Эйдельмана» на первых эйдельмановских чтениях в апреле 1991 г.[15]) Наконец, интерес к «простой истории» спорадически пробивал себе дорогу в трудах некоторых историков по общественно-политической тематике и в обширной биографической литературе, не говоря уже о лучших образцах художественно-исторической прозы. Но, наверное, мы не ошибемся, если скажем, что у Эйдельмана он выразился с наибольшей полнотой, последовательностью и блеском. В том же, что касается исторической науки в нашей стране, есть достаточно оснований считать, что его творческая практика сыграла здесь вообще особую роль, предвосхитив в известной мере то расширение горизонтов исторической мысли, то обновление проблематики исследований, наконец, ту направленность массовых исторических интересов, которые лишь в последние годы получили «права гражданства». В подтверждение сказанного сошлюсь на один, мне кажется, очень выразительный пример. Он связан с преломлением в творчестве Эйдельмана еще в те давние годы чрезвычайно модной сейчас идеи альтернативности в истории. Мысль о том, что в ней наличествует не какой-то один, заранее предопределенный путь развития, а по меньшей мере несколько различных по потенции осуществимости путей, что неизбежны и неотвратимы только те события, которые уже состоялись, все же остальное открыто осознанному историческому действию, — мысль эта признана ныне одним из краеугольных положений современной методологии исторического и — шире — социального познания. Разговоры об альтернативности ведутся не только в ученой среде, но и в публицистике, массовых аудиториях, за всякого рода «круглыми столами» т. д. Но до середины 80-х годов попытки всерьез затронуть эту проблему решительно пресекались. Историкам жестко предписывалось заниматься только тем, что совершилось, — в этом усматривался как бы «символ веры» материалистического понимания истории, но, разумеется, в сугубо механистической трактовке. Его адепты под флером рассуждений о примате «исторической необходимости» усердно проповедовали, что сослагательное наклонение имманентно противопоказано исторической науке. Все это, если называть вещи своими именами, нельзя оценить иначе, как реанимацией в лоне марксизма старых как мир фаталистических, провиденциальных взглядов на историю, глубоко религиозных по своему существу и происхождению. Для Эйдельмана такого рода постулаты были неприемлемы и в общетеоретическом и профессиональном плане. Вот что писал он в конце 1980-х годов в одной из последних своих книг: «Странное, с виду бесполезное, а на самом деле весьма и весьма важное занятие — разгадывать, разыгрывать несбывшиеся исторические варианты. Много лет нас учили, что историку негоже рассуждать, „что было бы, если бы…“. Подозреваем, что наставники таким способом прежде всего стремились нас убедить, что „все действительное разумно“, а прочее „от лукавого“: опасные сомнения в единственности того, что произошло. Скажем, коллективизация, тирания, террор»[16]. Эйдельман, как видим (а эти мысли он вынашивал едва ли не со студенческой скамьи), раньше и глубже других почувствовал, что отрицание альтернативности, помимо научно-философского догматизма, таит в себе и некий нравственный изъян, ибо оборачивается апологией возвысившихся над обществом деспотических режимов и служит оправданию политического конформизма, отторгая от истории активно действующую личность с ее правом на выбор и с ее ответственностью перед будущим. Особенно коробили его непререкаемые утверждения об исторической неизбежности поражения восстания декабристов. В свое время А. И. Герцен проницательно заметил, что «попытка 14 декабря вовсе не была так безумна, как ее представляют» и что «это-то и было с ужасом понято правительством»[17]. Отталкиваясь от этой мысли, а также от несколько наивного мнения П. В. Долгорукова о том, что они вполне могли бы победить — «следовало только восстать ночью», Эйдельман еще в 1973 г. высказался на сей счет со всей определенностью. Высказывание это настолько содержательно, что позволю себе привести его почти полностью: «Не совсем ясными и доказательными представляются суждения некоторых историков и литераторов о том, что декабристы были обречены на стопроцентный неуспех. Действительно, слабости этого движения, отсутствие массовой основы определяли большую вероятность неудачи, и эта вероятность 14 декабря „сработала“. Однако могла ведь осуществиться и меньшая вероятность: кто-то из декабристов (Якубович, например) мог бы, конечно, убить Николая I, восставшие лейб-гренадеры без труда могли бы завладеть дворцом. Об этих возможностях, как вполне реальных, вспоминал позже сам царь. Тогда могла бы образоваться ситуация, при которой власть в Петербурге перешла бы к восставшим <…> В случае хотя бы временного захвата столицы 14 декабря были бы изданы важные декреты — о конституции, крестьянской свободе, что, конечно, имело бы значительное влияние на историю. Этого не случилось, хотя, бывало, осуществлялись куда менее вероятные события, например, „сто дней“ Наполеона, которые могли быть пресечены случайной пулей сторонников Бурбонов»[18]. Точности ради надо, однако, сказать, что над такой возможностью Эйдельман задумался еще за несколько лет до того, занимаясь биографией М. С. Лунина: если бы участники восстания твердо следовали принятому накануне плану, «тогда, — рассуждал он, — взяли бы власть, сразу издали бы два закона — о конституции и отмене рабства, — а там пусть будут междоусобицы, диктатуры — истории не повернуть, вся по-другому пойдет!»[19] Свое претворение эти мысли, по сути дела восстанавливавшие в своих правах исторический случай как категорию научной историографии, получили развитие в книге «Апостол Сергей» — в рассказе о вероятном развитии событий при успешном исходе декабристского переворота. Здесь он стал всерьез их «разыгрывать», развернув в обширную главу, в первоначальном варианте называвшуюся кратко и просто «1826». Я прочел ее еще в рукописи и до сих пор, по прошествии почти 20 лет, не могу забыть того чувства ошеломления, которое возникло от неожиданности и размаха нарисованной в ней картины. Эйдельман проделал редкий эксперимент. Прежде всего он тщательно суммировал все сохранившиеся в мемуарах и следственных материалах показания декабристов об их планах и предположениях о том, что произойдет с ними и в стране при победе восстания Черниговского полка. И это дало ему основания выдвинуть захватывающую гипотезу состояния революционной России, совершавшей необратимые преобразования и в то же время раздираемой внутренними смутами. Особенно впечатляли смелые, психологически и исторически тонко обоснованные догадки об образе действий в новой социально-политической ситуации лидеров тайного общества, виднейших генералов, государственных сановников, членов царской фамилии, церковных иерархов и т. д. Предсказывались также «вычисляемые» из реальных условий русской жизни 20-х годов варианты поведения войск и крестьянских масс. Словом, эпоха плотно входила в гипотетическое повествование, убеждавшее точностью своей фактуры, своей подлинностью и конкретикой. Это был один из немногих в те годы — да и сейчас! — опытов плодотворного применения альтернативного метода в исследовательской практике историка. Но именно это, видимо, и насторожило издательство. В опубликованном в 1975 г. тексте книги глава оказалась сокращенной. Правда, общий ее смысл и даже колорит сохранились, но все же она стала заметно суше, бледнее, и, что самое досадное, к прежнему названию было добавлено слово «фантастический», хотя всем ее содержанием, всей логикой повествования автор подводил к тому, что как раз ничего фантастического в его документально оснащенной гипотезе не было.5
Говоря о включенности научных исканий Эйдельмана в общее русло достижений современной гуманитарной мысли, не могу не сказать и о глубоко своеобычных чертах его исторического мышления, неповторимого в своем полифонизме, парадоксальности и зримо отразившегося на самой «поэтике» его исторической прозы. Выработанные им с годами общие теоретические взгляды на смысл и ход истории — его, если можно так сказать, «историософия» — питались из многих отечественных и зарубежных источников, в том числе и таких мощных, как великий труд и «апофегмы» Н. М. Карамзина, историографическое творчество и воззрения на историю А. С. Пушкина, социально-этическая философия А. И. Герцена, — титанов, особенно близких ему по духовно-нравственному складу. Вообще-то говоря, с философией отношения у него были довольно сложные — философской зауми, схоластического «любомудрствования» он чурался и этого не скрывал. Помню, как на одной из всесоюзных источниковедческих конференций Эйдельман язвительно, даже с излишней резкостью, высмеял попытки дать абстрактное, вечное для всех времен и стран определение того, что есть исторический источник. Больше всего он не выносил априорно-логических, оторванных от живого конкретного материала построений. Еще в 1967 г. Эйдельман предостерегал против умозрительно-спекулятивной и сильно преуспевавшей тогда историографии: «Концепции, вырастающие из фактов, усиливали науку, но „недостатки — продолжение достоинств“, и все чаще — по разным причинам — концепции от фактов начинали открываться. Порою они совсем не вытекали из фактов, еще немного — и концепции начинали сами группировать и даже создавать факты. Так вползали в науку работы-оборотни, не завершавшиеся, но начинавшиеся с выводов»[20]. Видимо, из-за органического неприятия этих «оборотней» он избегал прокламировать в печати свою «историософию», но судить о ней мы вполне можем по самим его историческим сочинениям — она как бы разлита в их текстах. Здесь, разумеется, не место разбирать ее во всей полноте. Даже отдельные ее слагаемые было бы поучительно рассмотреть специально. Например, представления о соотношении «цели и средств», политики и морали в поведении исторических лиц и целых социальных групп, о критериях общественного прогресса, которые Эйдельман видел в расширении «поля» свободы человеческой деятельности и прежде всего во внутреннем освобождении личности. Или его неустанные поиски оснований исторической объективности — то, что он называл пушкинско-шекспировским взглядом на историю. А такой взгляд обнимал собой исторический процесс во всей его цельности и противоречивости, находя «момент истины» в действиях и побуждениях каждой из противоборствовавших сторон и объясняя его результаты естественной «силой вещей». Особого разговора заслуживала бы тема рока, судьбы, предназначения в исторических размышлениях Эйдельмана — при атеистической природе его мировоззрения она была тем не менее ему отнюдь не чужда. Прошлое было для него хотя и вполне познаваемым, но вместе с тем и порою непредсказуемым, исполненным неожиданностей, всякого рода исторических загадок, «разгадывание» которых составляло, казалось, лейтмотив многих его трудов и разысканий. Хотелось бы лишь заметить, что это не было средством «завлечь» читателя искусственно построенной интригой. Это — тайна самой прошедшей жизни, намеренно скрываемая ее вершителями, или тайна еще не понятого, трудно понимаемого, наконец, вовсе не поддающегося рациональному научному объяснению события прошлого или даже целой эпохи. Загадка, тайна — это, по словам Эйдельмана, «отличная приправа к истине»[21]. Вот как он интерпретирует, например, пушкинскую строку из «Полководца»: «Народ, таинственно спасаемый тобою…» — по поводу споров современников о руководимом М. Б. Барклаем де Толли отступлении русской армии в 1812 г. и пророческие слова Карамзина о близости конца Наполеона, сказанные в трагический момент сдачи Москвы: «Поэт чувствует тайну, сложнейшую тайну той войны. <…> Карамзин, Пушкин первыми эту тайну почувствовали, — Толстой, вероятно, первым эту тайну понял <…> Подобная же тайна, несомненно, существует и для великой войны 1941–1945 годов…» Стало быть, тайна для Эйдельмана — это прежде всего «непроявленное прошлое» это, в конечном счете, еще не преодоленные трудности исторического познания. Известные пушкинские слова о «странных сближениях» Эйдельман переосмыслил как определенный эвристический принцип. Он постоянно сталкивал отдаленные во времени вещи, внешне как будто бы между собой не связанные, проводя читателя через толщу веков и тысячелетий, населяя страницы своих книг множеством великих и заурядных имен и событий, колоритнейшими подробностями, старинными документами, легендами и т. д. из жизни Старого и Нового Света, Древнего Востока и античности, средневековья, Возрождения и последующих европейских столетий, — тут, конечно, «работала» его всеобъемлющая образованность. Это было для него, однако, не столько эффективным повествовательным приемом, сколько опять же способом «высечения» истины о прошлом, которое благодаря такому контрастному сопряжению «далековатых» событийных «блоков» представало стереоскопически-объемным, многоликим и многокрасочным. Одно из самых характерных свойств «историософии» Эйдельмана — обостренное чувство исторического времени. Оно проявлялось, в частности, в прерывистой структуре его хронологического мышления и соответственно в напряженно-прерывистом ритме повествования. В отличие от большинства нынешних историков и старинных летописцев он обычно не выстраивал события в однолинейно-последовательный, мерно текущий ряд — нить времени у него то и дело обрывается, разветвляется, переносясь из сферы обитания его персонажей «вниз» и «вверх» по хронологической шкале с тем, чтобы снова вернуться в исходную точку, но уже обогащенной опытом разных эпох и оригинальными размышлениями по сему поводу автора. Отсюда — смысловая многомерность числовых показателей исторического процесса или, по образному выражению А. П. Чудакова, «магия исторического числа»[22]. Так, И. И. Пущин, по Эйдельману, в декабре 1856 г. вернулся после сибирского заточения в Москву, которую покинул в декабре 1825 г., не просто 31 год спустя, а «372 месяца назад». Или для него, скажем, было далеко не безразлично, что С. И. Муравьев-Апостол прожил именно 10 880 дней, а XVIII век состоит из 36 525 дней — это заставляло как-то иначе взглянуть на хронологическое наполнение и пределы существования человека в истории. Важно при этом, что ощущение времени органически сопрягалось с пространственными координатами исторического процесса и вообще с пониманием относительности восприятия этих основополагающих параметров человеческого бытия в разные эпохи. В данной связи, мне кажется, название вступительной статьи Н. Н. Покровского в книге «„Революция сверху“ в России» — «В пространстве и времени», как нельзя более удачно передает сам стиль эйдельмановского историзма, его соответствие современным научно-философским представлениям. Приметами этого стиля густо насыщена, например, книга «Грань веков» — крупное явление и современной исторической прозы, и обширной историографии российского абсолютизма. «Особо торжественной встречи нового столетия ни в 1800-м, ни в 1801-м не происходило (в отличие от 1901-го и — угадываем — 2001-го!)», — констатирует Эйдельман на первых же страницах своего повествования и тут же поясняет: «В то время не придавали значения „мелким делениям“ — минуте, секунде: у большинства жителей, ложившихся с темнотой, поднимавшихся с рассветом, нистенных, ни каких других часов не было и в помине. В тех же домах, что жили по часам, знали только свое время: в самом деле, как сверить, согласовать стрелки, маятник в столице, на Волге, в Сибири, на Камчатке — не по радио же? Одновременность была в ту пору растянутой; то, что происходило сей час на другом краю планеты, плохо воспринималось как синхронное, и, скажем, накануне рождения Пушкина „Московские ведомости“ от 25 мая 1799 г. печатали столичные известия от 19 мая, из Италии — апрельские, из Нового Йорка — мартовские». Правительственный же курьер, отправленный из Петербурга с извещением о смерти Екатерины II (6 ноября 1796 г.), только через 34 дня преодолел расстояние в 6 тыс. верст до Иркутска — отсюда, по неожиданному наблюдению Эйдельмана, и такой парадокс русской жизни конца XVIII в., что город этот больше месяца пребывал под властью умершей императрицы[23]. Естественно, что «огромные расстояния — немаловажный элемент истории, социальной психологии»[24]. Поэтому, часто предаваясь подобным расчетам (за сколько, например, дней можно было 150–200 лет назад добраться из Петербурга в Москву или за сколько недель и месяцев — из Москвы до Парижа или Сахалина) и не уставая каждый раз поражаться неспешному течению времени в старину сравнительно с нашими умопомрачительными скоростями, Эйдельман не просто давал пищу своему изобретательному уму. Такие пространственно-хронологические выкладки были поводом для точных наблюдений над ментальностью людей отдаленных эпох, их привычками, стереотипами, мироощущением, над своеобразием темпов их исторической жизни. История для Эйдельмана — это не некий внеположенный, отчужденный объект, с которым современный человек связан лишь познавательными отношениями, а всеохватывающий и непрерывный, продолжающийся в нем самом и длящийся бесконечно процесс. «История продолжается» — его любимое изречение, которое рассыпано в его сочинениях и которое множество раз слышали от него окружающие. Утром того ноябрьского дня 1982 г., когда должны были официально объявить о смерти Брежнева и вся Москва после многих тягостно-безысходных лет полнилась смутными слухами и тревожными ожиданиями, он позвонил мне и с необычной для него строгостью и с некоторой даже торжественностью сказал (за точность передачи не отдельных слов, а смысла и тональности услышанного могу поручиться): «Ты чувствуешь, как бьется время, его подземные толчки — история продолжается!» Я не встречал никого, кто бы так живо ощущал близость людей во времени, «плотность» их «вертикальных» связей, преемственность поколений, бывшую в глазах Эйдельмана одной из непременных предпосылок прогресса всякой цивилизации. Этим же объясняется и его пристрастие ко всякого рода историческим анекдотам, легендам, к слуху и молве как источнику ценной исторической информации. Разыскивал же он их не только в старинных журналах и фолиантах. Эйдельман постоянно выспрашивал десятки людей о том, что они помнили примечательного о прошедшем и нынешнем веке. Столь же пристально он следил и за наиболее значимыми событиями протекавшей у него на глазах политической, литературной, общественной жизни. Всем же услышанным с удовольствием делился с окружающими и регулярно заносил это в свои дневниковые, «амбарного» формата тетради, которые всегда носил с собой в бесформенном от переполнявших его книг и рукописей портфеле, побуждая и близких закреплять для будущего память о быстро ускользающей современности. Первое, что он говорил в ответ на рассказ о каком-либо из ряда вон выходящем происшествии или просто занимательном эпизоде нашего или недавнего времени, был напряженный вопрос: «А ты это записал?» С полным основанием Эйдельмана можно было бы назвать блюстителем и мастером живого исторического предания. Его генеалогию в этом отношении следует искать в опыте таких выдающихся историков и пушкинистов прошлого — первой трети нынешнего века, как, например, П. И. Бартенев, М. И. Семевский или П. Е. Щеголев. Погруженные в стихию устного предания — этого «фольклора» образованных слоев общества — его неутомимые собиратели и пропагандисты, они сами по себе были для Эйдельмана фигурами историческими, по-своему не менее значимыми, нежели традиционно-признанные герои его книг. Наверное, поэтому он так дорожил дружбой и со своими старшими современниками и учителями, незаурядными учеными, яркими, независимыми в своих взглядах и общественном поведении личностями — такими, например, как историки и литературоведы Ю. Г. Оксман, П. А. Зайончковский, С. А. Рейсер, С. Я. Боровой или выдающийся знаток русской культуры и быта, коренной петербуржец, писатель В. М. Глинка. Эйдельман бесконечно ценил этих людей еще и потому, что видел в их богатейшем жизненном опыте и — главное — в их прелюбопытнейших рассказах о «неписаных» страницах истории двух последних столетий олицетворение связи с ушедшими поколениями российской интеллигенции, с ее культурно-этическими традициями — словом, видел в них воплощенное предание о прошлом. «История одного — история всех. Но зато все связано сильнее, чем мы обычно думаем», — сказано в «Лунине»[25]. «Сцепление всего со всем», — часто повторял он как своего рода девиз эту гениальную по точности и простоте формулу Л. Н. Толстого. Вскрывать в пластах исторического материала эту зыбкую, почти не заметную связь было для Эйдельмана самым увлекательным и почтенным занятием. Он, например, искренне сожалел, что не имел ни одного знакомого, который бы родился в XVIII в., а уж о том, сколько и каких у него было знакомых, появившихся на свет в 40–60-х годах прошлого века, рассказывал охотно и повсюду. С раннего детства он запомнил почти столетнего ветерана русско-турецкой и чуть ли не Крымской войн, который вспоминал, как при выпуске из юнкерского училища ему пожимал руку сам Николай I, и это «рукопожатие через столетие» было для Эйдельмана ценностью наивысшего порядка. «Я знаю нескольких пожилых людей, которые беседовали со старшим сыном Пушкина, Александром Александровичем. Последний хоть и смутно, но помнил Александра Сергеевича: всего два звена до Пушкина», — писал он не без горделивого чувства[26]. По его вполне достоверным исчислениям каждый из нас, ныне живущих, имел в XIX в. не менее сотни близких родственников, так сказать, «прямых предков»[27]. Эйдельману представлялось исторически небезынтересным, что, как он выяснил, Александр I в юности был на балу партнером графини Румянцевой, танцевавшей с его прапрадедом Петром I, а Пушкин в начале 1820-х годов общался со 135-летним украинским казаком Николой Искрой, хорошо помнившим Карла XII в 1709 г. Он с наслаждением рассказывал об одном почти анекдотическом случае, о котором поведал ему С. А. Рейсер со слов известного исследователя русской литературы и общественного движения XVIII в. Я. Л. Барскова. Последний пользовался в свое время расположением при дворе, и вот однажды Александр III, уединившись с ним, чуть ли не шепотом стал расспрашивать, чьим же все-таки сыном был Павел I? На что многознающий Барсков с истинно ученым беспристрастием, невзирая на деликатность темы, ответил: возможно — чухонских крестьян, «но скорее всего прапрадедом Вашего Величества был граф Салтыков». — «Слава тебе Господи, — воскликнул Александр III, перекрестившись, — значит, во мне есть хоть немного русской крови»[28]. Прежде всего, конечно, Эйдельмана привлекла здесь парадоксально-неожиданная реакция монарха, как и другие Романовы, не знавшего толком своего родословия, но в угоду националистическим предубеждениям готового признать достоверными сомнительно-легендарные обстоятельства появления на свет своего прадеда, так тщательно скрывавшиеся предшественниками на престоле. Но внутренне очень важной для него была и личная прикосновенность к самому бытованию истории об этом скандально-династическом казусе. Ведь о том, как в конце прошлого века предпоследний российский император был посвящен в тайну происхождения своего предка, восходящую еще к середине позапрошлого века, он, Эйдельман, уже в наши дни узнает всего через одно опосредствующее звено от участника этого «посвящения» — не ярчайшее ли то свидетельство «тесноты» связи во времени отдаленных исторических эпох! Еще больше его занимал анекдот о попугае Екатерины II, дожившем до 1918 г. в особняке князей Салтыковых, где и был конфискован со всем княжеским имуществом революционной властью. Когда дошла очередь до попугая, он хрипло запел: «Славься сим Екатерина… Платош-ш-ш-а!!!» И подумать только, рассуждает Эйдельман: «1918 год, революция, красный Петроград — и вдруг попугай из позапрошлого века, переживший Екатерину II, Павла, трех Александров, двух Николаев и Временное правительство. Платоша — это ведь Платон Александрович Зубов, последний, двенадцатый фаворит старой императрицы, который родился на 38-м году ее жизни» С. А. Рейсер, рассказавший Эйдельману этот анекдот, слышал его от очевидца конфискации, попугай же тем и хорош, что на несколько звеньев сокращает расстояние, значит, всего три поколения и до Екатерины II — рукой подать[29]. Вот через такие только им увиденные детали, нащупывая неразрывность связи с людьми ушедших эпох, он и самого себя ощущал частицей общего потока истории. Этот, я бы сказал, оживотворенный историзм был для Эйдельмана не только методом познания прошлого и повествования о нем, но и свойством личного мирочувствования, способом собственной ориентации в современном мире. Ощущение себя участником продолжающейся в современности истории во многом объясняет, между прочим, и глубинные основания публицистичности творчества Эйдельмана, и его брутального вторжения в историческую публицистику уже в последние, «перестроечные» годы.6
Это помогало ему как историку и писателю само прошлое постигать, говоря пушкинскими словами, «домашним образом» — «вживаться» в эпоху, «изнутри» проникаться сознанием и настроениями реальных исторических персонажей, зная о них все, что только можно было знать, и предугадывая их поступки в разных жизненных ситуациях. Казалось, он чувствовал себя как бы «накоротке» с ними, их современником и добрым приятелем, никогда, впрочем, не переходя грани «амикошонского», фамильярного обхождения с историческими деятелями прошлого. В этом отношении Эйдельман, видимо, имел нечто общее с Ю. Н. Тыняновым — ученым и писателем, который, по воспоминаниям знавших его, был в высокой мере наделен редчайшей способностью перевоплощаться в реальные исторические фигуры XIX в., составлявшие предмет его научных и литературных интересов, с истинно художнической, почти гениальной проницательностью угадывать и воспроизводить устно и на страницах своих книг их духовный и даже физический облик. (Вообще следовало бы поставить вопрос более широко: отражение в творческой практике Эйдельмана наследия Тынянова; Эйдельман и тыняновские традиции в нашей культуре — это, несомненно, самостоятельная тема, которая заслуживала бы специального рассмотрения[30].) Очень существенны были тут и сверхъестественная память Эйдельмана, и его доскональная осведомленность в культурно-бытовых реалиях эпохи, но более всего — его особое, чувственное, артистическое восприятие прошлого или, как я бы обозначил это, дар исторической контактности, который нельзя воспитать, выработать долгими годами обучения, ибо это именно дар врожденный, данный свыше. Но в нем выявлялись и необыкновенные свойства самой его личности. Его заразительная общительность. Его душевная щедрость. Его редкое умение располагать к себе окружающих и дружить одновременно с сотнями самых разных людей (рассердить Натана или поссориться с ним было делом практически невозможным: уже одного его мягкого, бархатного, переливающегося интонациями баритона в телефонной трубке, произносившего, как ни в чем не бывало, какие-то приветливые слова, было достаточно, чтобы предмет ссоры вмиг улетучился). Его, наконец, жизнерадостное, полнокровное, моцартианское, если позволительно так выразиться, ощущение мира. Столь же щедро, но, конечно, в строгую меру присущего ему историзма Эйдельман готов был наделить наиболее дорогих ему исторических персонажей своей добротой, мудростью, юмором, сокровенными переживаниями и страстями. Уже было замечено, что его книги об исторических событиях и лицах прошлого автобиографичны — личность рассказчика как бы выплескивается на их страницы, открыта читателю, которого он постоянно вводит в курс своих научных дел и забот, удач и сомнений, архивных путешествий и впечатлений от прочитанного, иногда даже знакомит со своим литературно-дружеским окружением и т. д. Но в немалой мере автобиографизм исторических повествований Эйдельмана проистекает и из этой его поистине артистической способности переносить на своих персонажей частицу самого себя. «Читаю Пущина — думаю о Натане», — афористически емко подметил это известный писатель-биограф и литературовед В. И. Порудоминский («Пущин» — это повесть Эйдельмана «Большой Жанно»)[31]. Но и он сам попадал под их обаяние и в ходе многолетнего соприкосновения с десятками замечательнейших исторических лиц XIX в. формировался как литератор, ученый, гражданин под их властным влиянием. В. И. Порудоминский вспоминает время работы над «Луниным»: «Все в Натане было в ту пору замешано на декабристах <…> — увлекательные рассказы о каждом, о наружности и характере, привычках, особенностях, какие-то занимательнейшие подробности, неожиданные переклички. Он как бы вбирал в себя декабристов, декабризм, они становились частью его самого, его состава, что-то существенное и навсегда определяли в его собственных суждениях, чувствах, поступках»[32]. В этом смысле можно, наверное, сказать, что Эйдельман был конгениален любимым своим героям. Сам он, размышляя над законами творчески активного постижения прошлого, заметил как-то: «Всякий ученый, а пушкинист особенно, невольно окрашивает своих героев, а также их обстоятельства в „собственные цвета“, оставляет отпечаток своей личности», «значение открытия немало зависит от личности первооткрывателя»[33]. В самом деле, задумаемся: ведь при всех достижениях последних 60–70 лет в изучении литературно-общественного движения первой половины XIX в. наше восприятие, скажем, облика Грибоедова, Кюхельбекера или юного Пушкина невозможно элиминировать от «открытий» Тынянова — оно уже неотделимо от них. Точно так же, например, Лунин, С. И. Муравьев-Апостол или Пущин отныне прочно «окрашены» в нашем сознании в эйдельмановские «цвета», несут на себе такой «отпечаток» его личности и таланта, который еще очень долго не изгладится. Книги Эйдельмана одновременно и веселы и печальны. Веселы — в силу его жизнерадостного, полнокровного мироощущения. Печальны — потому что трагически обрывается жизнь многих его героев и щемяще неизбежно расставание с ними: ведь завершая повествование, автор расстается и прощается отчасти и с собой. Вот типичные концовки его книг:«Венки и ветер скрежещут все сильнее. Я ухожу и несколько раз оборачиваюсь, но памятника уже не различить… Прощай, Лунин!»(«Лунин», 1970).
«Почто, мой друг, почто, слеза катится?»(«Апостол Сергей», 1975).
«Прощай, мой город. Прощай, моя юность, моя молодость и моя старость. И если навсегда — то навсегда прощай».Еще одна черта личностного постижения Эйдельманом истории — это его врожденная, но, разумеется, развитая годами исследовательского труда историческая интуиция. Проявлялась она, например, в предощущении какого-либо архивного открытия или в свойстве предсказывать, «вычислять» (одно из любимых его словечек) не только поведение и образ мысли своих героев, но и создание ими важных, впоследствии исчезнувших исторических документов, о которых до него вообще никогда и никому не приходило в голову. Об одном таком эпизоде не могу здесь не вспомнить. Летом 1974 г. Эйдельман принес мне на рецензирование рукопись не раз уже упомянутой выше книги «Апостол Сергей». За несколько лет до того «прогремел» принесший автору широкую популярность «Лунин», и я думал, не повторит ли он в новой книге уже сложившуюся манеру повествования. Важно было, кроме того, понять, насколько вообще преодолимы трудности создания биографии человека, у которого, собственно, не было биографии, — в том смысле, что почти не сохранились или имманентно отсутствовали биографические источники. Казненный в 1826 г. 30 лет от роду, С. И. Муравьев-Апостол, в отличие от многих других декабристов, не успел оставить после себя ни воспоминаний, ни каких-либо иных литературных произведений, ни значительной переписки, его конспиративная деятельность в тайных обществах письменно почти не фиксировалась, по характеру же он был весьма сдержан и с трудом раскрывался даже перед близкими людьми. Обо всем этом завязался длинный разговор, и Эйдельман сказал, что сперва собирался строить книгу в форме позднейших записок отца своего героя — Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, просвещенного вельможи и дипломата александровской эпохи, известного в свое время писателя. Вынужденный летом 1826 г., еще до казни декабристов, покинуть родину, Иван Матвеевич оставшиеся годы (он умер в марте 1851 г.) провел большей частью за границей, лишь изредка наезжая в Россию. На склоне лет, подавленный горем, утратами близких, крушением некогда дружной и счастливой семьи, всеми забытый, он, как бы исповедуясь перед потомством, заново переживает в предсмертных записках блестящую молодость, взлет своей карьеры, расцвет литературной деятельности и по ходу воспоминаний восстанавливает жизненный путь повешенного на кронверке Петропавловской крепости сына — такой поначалу мыслилась Эйдельману композиционная канва биографии Сергея Муравьева-Апостола. Этот далеко не ординарный по тем временам и, кстати, чрезвычайно сложный в литературном воплощении замысел уже сам по себе сообщил бы будущей книге трагический регистр и драматическое напряжение рассказа о духовном мире ее героев. (К сожалению, осуществить его не удалось: редактор, которого Эйдельман посвятил в свой план, не помню уже, по какой причине, решительно не поддержал идеи стилизованной под мемуарные записки биографии декабриста, и она была написана в виде традиционного авторского повествования, в каком и известна ныне миллионам читателей.) При всей заманчивости такого замысла мне показалось, что он не очень органичен для творческих устремлений Эйдельмана, приверженного к строгой документальности и чуравшегося слишком «вольного» вымысла. Ведь о том, что старик Муравьев-Апостол, о последних десятилетиях жизни которого мы вообще мало что знаем, составлял свои записки, в документах эпохи какие-либо сведения дотоле отсутствовали — и в его немногочисленных жизнеописаниях, и в откликах на его кончину, и в воспоминаниях и переписке современников, и в бумагах его наполовину утраченного архива. Об этом не без скепсиса и иронии я и напомнил Эйдельману, заметив, что, взявшись за «сочинение» мемуаров Ивана Матвеевича, которые тот никогда, наверное, не писал, он отступил бы от собственных принципов, от своей, как он говорил, «привычки к документу» и оказался бы в плену «голого», ничем не мотивированного домысла. На что он со спонтанно вспыхнувшей откуда-то изнутри убежденностью и с присущей ему экспрессией ответил: «Человек такой культуры, такой среды должен был писать, не мог не писать!» Года два спустя, уже после выхода в свет первого издания «Апостола Сергея», разыскивая в Рукописном отделе Пушкинского Дома материалы по совсем другим сюжетам, в собрании бумаг Л. Б. Модзалевского я совершенно неожиданно наткнулся на копию отрывка воспоминаний А. Я. Булгакова — в молодости дипломата, позднее московского почт-директора, литератора и мемуариста, бывшего в знакомстве и переписке чуть ли не со всей культурной Россией первой половины XIX в. При первом же взгляде на архивное название рукописи меня охватил сильнейший трепет: «Иван Матвеевич Муравьев-Апостол и его биография „Моя исповедь“ (Из воспоминаний старого дипломата)». Повествуя о своих отношениях с ним (они познакомились за 50 лет до того, еще в екатерининское царствование), Булгаков рассказывал здесь о пятинедельном пребывании Ивана Матвеевича в 1846 г. в Москве, об их совместных прогулках и взаимных визитах, о том, как Иван Матвеевич охотно делился устными воспоминаниями о перипетиях своей трагической судьбы, государственном поприще, дипломатической службе в Испании. Здесь же Булгаков поведал о том, как по его настоянию Муравьев-Апостол стал писать по-французски автобиографические записки и даже регулярно пересылал ему составленное за день. И что всего любопытнее, из этого рассказа следовало, что по прошествии нескольких лет после смерти Ивана Матвеевича Булгаков собирался напечатать в России муравьевские записки, а найденный мной отрывок из его собственных воспоминаний представляет собой не что иное, как предисловие к их публикации. «Таким образом, — свидетельствовал Булгаков, — составилась незаметно предлагаемая здесь читателям Автобиография, которую Муравьев назвал „Своею Исповедью“. Всякий любознательный Русский прочтет, без сомнения, с удовольствием рассказы любезного и умного человека, переданные бойким и замечательно отчетливым пером»[34]. (Дабы не интриговать далее читателя, скажу лишь, что эти ценнейшие записки ни тогда, ни после никто в России, видимо, не прочел, так как напечатаны они не были, а их подлинник и подготовленная к печати рукопись исчезли, не оставив каких-либо следов и в сохранившихся частях обширного булгаковского архива.) И тут я не мог не оценить всю меру своей опрометчивости и всю силу чутья и исторической проницательности Эйдельмана, предугадавшего не только факт существования записок Муравьева-Апостола и вероятность их находки, но даже время их составления и саму их исповедальную тональность. Когда по возвращении в Москву я сразу же рассказал ему об обнаруженной рукописи, он с простодушной улыбкой и как-то растерянно разводя руками, словно извиняясь, заметил только: «Я же тебе говорил», и больше мы к этому не возвращались. Но Эйдельман был не из тех, кто мог бы пренебречь столь драгоценной для него находкой. В первом издании «Апостола Сергея» повествование об Иване Матвеевиче обрывалось на словах о том, что он «умер в Петербурге, 82-летним, в 1851 году. Могила его на Охтенском кладбище затерялась…». Во втором же издании после того добавлена фраза, происхождение которой проясняется лишь в свете рассказанного выше: «Так же, как библиотека, как мемуары, которые (точно известно) — старик писал…»[35] — явственный отголосок того давнего и столь памятного мне эпизода.(«Большой Жанно», 1982).
7
С наибольшей силой артистизм натуры Эйдельмана выразился, конечно, в «художестве» его сочинений. Многим читателям, захваченным их повествовательной стихией, более всего бросается в глаза именно эта литературная сторона дела. Эйдельман же мыслитель и ученый со всеми его изысканиями и открытиями отходит на задний план — как нечто второстепенное, может быть, и важное для него самого и узкого круга специалистов, но не имеющее в глазах читателя общезначимой ценности. Эйдельман, несомненно, — замечательный писатель, можно взять какую угодно из его книг и, открыв на любой странице, погрузиться в увлекательное, располагающее к глубоким размышлениям чтение, от которого уже невозможно оторваться до последней строки, — признак действительно высокой литературы. Но отделять в них «научное» от «художественного» — значит не вникать в самою природу и качество его дарования как исторического писателя. Очевидно, самые распространенные случаи сочетания того и другого — это писатель, работающий в жанре исторической беллетристики, или литератор, популяризирующий достижения ученых-историков. И у Эйдельмана были книги, где он выступал популяризатором в тех областях знания, где не был специалистом, — «Ищу предка» и «Путешествие в страну летописей». Были в его творчестве примеры совершенно полярного порядка — исследовательские статьи, выдержанные в канонах академической науки. Вообще совмещение научного и художественного начал в одном авторе, когда он продуцирует как ученый-исследователь и выпускает литературно-беллетристические произведения, встречается довольно редко. И уж совсем редки такие прецеденты, когда оба эти начала совмещены в рамках одного произведения. Даже у Ю. Тынянова, как известно, историко-литературная деятельность реализовывалась в строгих по форме научных статьях и книгах, а художественная — в параллельно писавшихся о той же эпохе исторических повестях и романах, т. е. то и другое являлось как принципиально различные по словесному воплощению ипостаси творческого бытия. У Эйдельмана же его сочинения в большей своей части (каждое в своих рамках) образуют некий органический сплав научного и художественного — и не только в биографических повествованиях, но и в таких внешне «ученых» работах, как три книги о Пушкине, «Герцен против самодержавия», «Грань веков». Ибо для него сама историческая действительность была наполнена эстетическим содержанием и воспринималась эмоционально. Выхваченный из событийного потока исторический документ получал в его повествовании выразительную силу типического обобщения, а зорко подмеченная единичная подробность быта, характера, поступков, речи людей прошлых эпох, слишком мелкая доля «обычного» историка и вовсе не обязательная для писателя-беллетриста, который сам может легко ее «сконструировать», под его пером обретала энергию и пластику художественного образа. Естественно, все это переплавлялось мощной мыслью и воображением, но оно — глубоко своеобразно. Эйдельману, как уже отмечалось, был чужд вымысел в его, так сказать, «чистом» виде — как свободный полет фантазии художника, когда он, отталкиваясь от определенной суммы исторических знаний об эпохе, вольно домысливает, «творит» ее образ. Единственное произведение Эйдельмана, написанное в этой, казалось бы, манере «вымышленного повествования» — повесть «Большой Жанно», — лишь подтверждает сказанное. По выходе в свет вокруг повести развернулась острая полемика. Ее участники, к сожалению, не дали себе труда вникнуть в авторский замысел произведения и судили его как научно-историческое, а не художественное повествование, игнорируя, по сути дела, опыт отечественной и европейской исторической прозы двух последних столетий. И это тем досаднее, что повесть «Большой Жанно», так и не получившая, на мой взгляд, достодолжной оценки, обозначила новые пути развития художественно-биографического жанра. Наверное, это и одна из самых «тыняновских» книг Эйдельмана. Построена она, если помнит читатель, в виде «сочиненных» автором записок И. И. Пущина — композиционный прием, всецело «подсказанный» мемуарно-эпистолярной культурой эпохи и мемуарной практикой самого Пущина. Свободно льющийся автобиографический рассказ, его речевой поток, все его ситуации, эпизоды, характеры, сюжетные линии до мельчайших деталей пронизаны подлинным историческим материалом. Это тот случай, когда, по словам самого же Эйдельмана, «документ… стал не истоком романа, а его тканью»[36]. Вымысел здесь особого рода, он документально детерминирован, документ как бы регулирует и дисциплинирует авторское воображение, и оно настолько исторически правдоподобно, что тяготеет к вероятностному знанию, сродни научной гипотезе. Рассуждая о соотношении документа и вымысла в художественно-историческом творчестве Тынянова, Эйдельман писал: «Тынянов — ученый мирового уровня. И, пожалуй, писатель такого же значения. Он обладал такими познаниями, что мог позволить себе создание достаточно достоверной историко-психологической модели облика героев, „заполняя“ пробелы между документами цементом творческих домыслов. Конструкции на этом фундаменте оказывались чрезвычайно прочными. И что знаменательно — последующие научные находки нередко подтверждали его художнические гипотезы»[37]. Эта лаконически точная характеристика Эйдельмана относилась прежде всего к тыняновскому роману «Кюхля», но она с известными коррективами, если отвлечься от высоких эпитетов, по самой сути творческого метода применима, мне думается, и к его собственной повести «Большой Жанно». Что же говорить об остальных его сочинениях, где «чистый» вымысел как принцип эстетически организованного повествования вообще не присутствует! Художественный эффект достигался, таким образом, путем претворения самих реалий исторической действительности, «добываемых» в ходе ее параллельного или опережающего исследования, но каким именно образом ему удавалось это слияние научного и образного, — тоже своего рода таинство, формула которого пока не разгадана. Поэтому так трудно разобраться и в жанровой специфике сочинений Эйдельмана. Вряд ли оправданно считать, что у него историческая наука «перерастала в беллетристику»[38],— с беллетристикой в привычном понимании этого термина его сочинения не имеют ничего общего, поскольку всегда остаются на почве научных изысканий. Их жанр более точному определению, чем «историческая проза Эйдельмана», наверное, вообще не поддается[39]. Здесь у него были свои предшественники. Помимо сильно, хотя и по-разному повлиявших на него М. О. Гершензона и уже не раз упомянутого Ю. Н. Тынянова можно назвать, например, такого великого историка-мыслителя и вместе с тем художественно одаренную натуру, как В. О. Ключевский, или такого талантливейшего ученого, как более близкий к нам по времени Е. В. Тарле, — Эйдельман упорно осваивал их научно-художественное мастерство. Но их монографии, курсы лекций, статьи, при всех блистательных литературных достоинствах, оставались в целом в лоне академической, «профессорской» историографии, и «писательство» занимало в их творчестве все же подчиненное положение: «Ключевский, Тарле обладают художественным даром, но они все-таки прежде всего ученые, избегавшие такого совмещения науки и „летописи“, какое было в „Истории государства Российского“»[40]. О художественном и историографическом вкладе карамзинского труда в русскую культуру Эйдельман проникновенно и с размахом рассказал в своем жизнеописании историка «Последний летописец». Карамзин был для него в этом отношении, действительно, более всего близок. И на то имелись свои причины. В разные годы он много размышлял над судьбами исторического знания нового времени, утратившего ввиду выделения и дифференциации различных сфер духовной деятельности и специализации наук свойственную античности (и отчасти средневековью) цельность, известную универсальность научно-познавательного и художественного, когда историк и писатель соединялись в одном авторе. В России размежевание между тем и другим отчетливо обозначалось в XVII в. Творчество Пушкина 1830-х годов, когда он одновременно выступает с исторической монографией о пугачевском восстании и пишет на материале из этой же эпохи романическое повествование, знаменовало собой окончательное обособление научно-историографического и художественного начал. «История государства Российского» Н. М. Карамзина была последним произведением, в котором слияние этих двух начал ощущается еще достаточно органично и полно. В своих исторических трудах Эйдельман стремился по мере возможности преодолеть это отчуждение, эту дихотомию истории и искусства и на новом «витке», в иных культурно-научных условиях возродить прерванную веками традицию цельно-синкретического постижения исторической жизни. И тут, пожалуй, у него в нашей историографии не было аналогов — его опыт поистине уникален.8
Есть еще одна сторона деятельности Эйдельмана, где он следовал своим предшественникам, — это его публичные выступления перед различными контингентами слушателей с рассказами о своих разысканиях по истории России XVIII–XX вв. Он явился здесь прямым продолжателем благородной традиции «публичных чтений» и лекций Т. Н. Грановского, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского и их последователей, превративших университетскую аудиторию в арену исторического образования публики, а сами «чтения» и лекции — в общественное событие. Лишенный университетской кафедры, Эйдельман нашел своим просветительским устремлениям куда более адекватное применение. В 60–80-х годах количество его выступлений по всей стране (он изъездил ее вдоль и поперек), а в последние годы — и за рубежом исчислялось не одной сотней. Друзья даже шутили, что нет ни одного сельского клуба, где он не был бы готов выступить. Их укоризненные замечания, что слишком уж он себя тратит и не лучше ли было бы вместо этого написать книгу-другую да и здоровье поберечь, Эйдельман парировал обычно тем, что общение с аудиторией приносит ему огромное удовлетворение и в этом — его профессиональный долг. В том, что говорили друзья, несомненно, были свои резоны, но по высшему счету, думаю я теперь, прав был все-таки он. Хотя Эйдельман скромно и несколько по-старинному называл свои выступления «лекциями», это были, конечно, не академические лекции, а каждый раз нечто такое, что я назвал бы пиршеством духа. Посвящая слушателя в сложные исторические и филологические проблемы, в рассуждения о социальном и нравственном смысле познания прошлого, он одновременно артистически разыгрывал целые сцены из жизни отдаленных эпох в их красочности и многоголосии, с впечатляюще живыми характерами исторических персонажей, с занимательными сюжетными повествованиями и т. д. В обращенности к широкой публике сказался прежде всего демократизм научно-литературной позиции Эйдельмана, но в этом был и демократизм самого творческого процесса, ибо на слушателях он постоянно «проигрывал», обкатывал, шлифовал свои будущие, только еще рождающиеся книги. Знакомил он их (а потом и читателей) не только с итогами своих исследований, но и с их ходом, с логикой научного открытия, с «интригой» «следствия» над участью исчезнувших документов и целых архивов, доводя разыскания биографических сведений о своих персонажах до их потомков — наших современников, когда «Месяцесловы», «Адрес-календари» прошлого века или выпущенные недавно «Адресные книги» были для него в равной степени незаменимыми пособиями. Некоторые из этих детективно занимательных работ собраны в книге с экзотическим названием «Вьеварум», где хорошо переданы страсть и азарт, поэзия и романтика исследовательского поиска. И на этом поучительном пути у Эйдельмана тоже были свои выдающиеся предшественники и учителя, например И. Ю. Крачковский или И. Л. Андроников, сумевшие поднять рассказ о «технологии» научных разысканий до уровня высокого искусства. (Вообще поразительно, как Эйдельману удавалось быть одинаково доступным и интересным совершенно различным возрастным категориям, выступая, скажем, перед седовласой профессурой с докладом по запутанным вопросам пушкинской текстологии и в то же время выпуская в издательстве «Малыш» книжку с популярной биографией С. Крашенинникова для только еще приобщавшихся к чтению детей.) В сущности, Эйдельман впервые у нас вывел историю на подмостки массовой аудитории, воплотив в своем облике ее устную, говорящую, ораторскую стихию, — он был единственным в своем роде устным историческим писателем. Во второй половине 60-х и в 70-х годах, в самую мрачную, беспросветную пору, просветительские усилия Эйдельмана — благодаря и устным выступлениям и, еще более, огромным тиражам его книг и статей — сыграли роль, которую мы пока не представляем в подлинном ее масштабе и которую еще предстоит оценить. Мало того, что это был один из наиболее читаемых историков и едва ли не самый популярный из них. Мало того, что он доносил до миллионов читателей и слушателей свежее, научно выверенное, многослойное и образное знание о последних веках российской истории, являвшееся для многих откровением. Он еще и прививал навыки нового, раскованного, освобождающегося от догм исторического мышления, вселяя в своих современников понимание того, что они живут в Истории. За свою в общем-то недолгую, трагически оборвавшуюся творческую жизнь Эйдельман, быть может, как никто другой, много сделал, по словам Булата Окуджавы, «для того, чтобы мы не забывали в суете и поспешности нашей жизни, кто мы, из каких глубин вышли, какой груз печалей, радостей, грехопадений и удач несем на своих плечах, за что мы ответственны перед Историей, перед Отечеством и друг перед другом»[41]. Но его просветительство не только исторически образовывало, но и нравственно воспитывало целые поколения наших соотечественников — в первую очередь молодежь, студенчество, учителей и вообще интеллигенцию в широком смысле слова. «Трудно переоценить, — вспоминает Н. Н. Покровский, — эту нравственную сторону воздействия эйдельмановской прозы на читателя глухих 70-х годов. Я наблюдал, как в свои приезды в Новосибирск Натан от раза к разу в своих выступлениях все больше уделял внимания моральным факторам движения общества вперед, как жадно внимала студенческая аудитория его рассказам о жизни по законам правды, чести, бескорыстия не только Лунина, Пушкина, но и Мицкевича, Карамзина»[42]. А вот живое свидетельство другого очевидца, но уже не историка, а философа — Э. Ю. Соловьева, еще в молодости, когда Эйдельман только начинал, уже испытавшего на себе воздействие его творчества, которое, как он пишет, «давно имеет для меня значение недосягаемого образца»: «Статьи и книги Н. Я. Эйдельмана — в частности его работа „Тайные корреспонденты „Полярной звезды““ (1966) — сыграли немалую роль в моем профессиональном (да, возможно, и гражданском) самоопределении. Где-то в середине 1966 года я понял, что обязан попробовать силы в историко-философской публицистике, то есть попытался говорить о современности, прямое социальное изучение которой все более попадало под цензурно-идеологические запреты». Чем же конкретно историческая проза Эйдельмана производила такое глубокое и далеко идущее воздействие? «Если предельно коротко определить, — продолжает Э. Ю. Соловьев, — что сделал Н. Я. Эйдельман в 60–70-х годах, то придется сказать так: он поставил перед глазами общества, присвоившего себе титул развитого социализма, его гнетущее и неоспоримое подобие — николаевскую Россию. Нимало не погрешив против фактов, историк сумел перевести суждения ее исповедников, отщепенцев, страдальцев, обвинителей в такой смысловой регистр, что они зазвучали как адресование непосредственно нам, обитателям России брежневской. Пушкин, Чаадаев и Вяземский, Белинский, Анненков и Герцен стали высказываться по ее проблемам, причем с такой проницательностью, словно подрядились писать ежегодные критические обзоры для „Нового мира“. Каков же суммарный диагноз и приговор, вынесенный этими мыслителями российской действительности 70-х годов XX столетия? Его можно уложить в одно слово, ныне прекрасно всем известное, — застой! Да, это ситуационно-историческое понятие уже присутствовало в публикациях Н. Я. Эйдельмана. <…> Его описания застоя очень далеки от пессимизма или квиетизма и стоят, если угодно, под знаком стоической просветленности. Эйдельмановский застой — это застой перед реформами. Последние обязательно придут, и опять-таки не в силу некоего присущего истории фатального ритма, а просто потому, что пробудившийся дух человеческий застоем не убит»[43]. Печатное и устное слово Эйдельмана, как видим, влияло на общественное самосознание и на выбор жизненного пути, несло в себе заряд социальной активности и исторического оптимизма, помогая устоять и выжить духовно. Мне он всегда казался мощным и вместе с тем необыкновенно чувствительным органом нашего времени, устанавливающим диалог с отдаленными историческими эпохами, славным преемником дела великих русских историков-писателей XIX–XX вв., ренессансной фигурой отечественной историографии — и по возрождению истинно человеческих начал в истории, и по всему складу своей разносторонне и ярко одаренной натуры. Одна из излюбленных «апофегм» Эйдельмана: вклад человека в культуру — это не только творение его рук и мысли, но и сама его личность. Биографии же крупнейших, великих деятелей прошлого — «культурное явление высокого порядка», продолжавшееся в веках[44]. Личность Эйдельмана — тоже достояние культуры, по которому потомки будут судить о нашем веке.* * *
В день смерти Эйдельмана Юрий Щекочихин написал: «Мы потеряли нашего великого современника»[45]. Сегодня мы — его современники — в долгу перед памятью о нем. Еще не разобран его архив и не расшифрованы его дневники, веденные им четверть века. Еще не учтена его переписка со множеством разных людей — Эйдельмана как «эпистолярного» писателя мы пока просто не знаем. Еще не составлена полная библиография всего написанного им и написанного о нем. Еще не дана точная и всесторонняя историографическая оценка основных его трудов в области истории и литературоведения. Наконец, еще не собраны рассеянные во всевозможных сборниках, журналах, газетах 60–80-х годов его сочинения «малых жанров», не перекрывающиеся содержанием его прежде изданных книг. Предлагаемое вниманию читателя собрание работ Эйдельмана и имеет своей целью восполнить отчасти этот пробел. Из множества такого рода сочинений в него включены разыскания, документальные очерки, портреты и т. д. по одному из магистральных направлений исторических занятий Эйдельмана. Почти в каждом из них в той или иной мере затронуты какие-то существенные моменты «секретной»истории царизма в тесной связи с внутренней политикой, общественными движениями и освободительной мыслью на протяжении двух столетий — от царевича Алексея до государственного секретаря А. А. Половцева. Почти каждое из них отмечено пафосом разгадывания «загадок» прошлого, каждое — обнажает трудные для разъяснения исторические проблемы и открывает перспективу дальнейших изучений и новых находок. Читатель познакомится здесь со двором стареющей Елизаветы Петровны и молодыми, «допрестольными» годами Екатерины II, с мрачными обстоятельствами заговора против Павла I и цареубийства 11 марта 1801 г., с растянувшейся на 70 лет трагедией семьи одного из самых несчастных российских императоров, Иоанна Антоновича — Ивана VI, с мучительно сомневающимся, готовым отречься от трона Александром I и тайной старца Федора Кузьмича, с жестоко-лицемерным самовластием Николая I и скрытыми в течение полутора веков подробностями следственного процесса над декабристами, наконец, с загадочной участью ряда важных для русской истории мемуарных, публицистических памятников и конституционных проектов. В свежем ракурсе раскрываются в книге сложные пути восприятия общественным сознанием XIX в. революционного наследия А. Н. Радищева, неумолимая логика антифеодальных войн и судьбы дворянской культуры в России, социальные чаяния народных низов, самозванчество в его причудливом переплетении с закулисной жизнью двора и с «противозаконной» практикой дворцовых переворотов. Со страниц книги предстают, словно вылепленные из разнородного биографического материала, сочные, неповторимо индивидуальные образы пушкинского прадеда — любимца Петра I А. П. Ганнибала и неукротимого духом вождя крестьянского бунта Е. Пугачева, масона-просветителя, вечно гонимого И. В. Лопухина, и генерал-кондотьера на русской службе Л. Л. Беннигсена со всеми взлетами и падениями его авантюристической карьеры, боевого офицера-разведчика и военного писателя И. П. Липранди — сподвижника южных декабристов и провокатора в деле петрашевцев. Предстанут здесь и многие другие, известнейшие и совершенно безвестные, впервые извлекаемые из небытия исторические лица. Познакомится читатель и с некоторыми образцами исторической эссеистики Эйдельмана, в том числе и с блистательно написанными рецензиями, служившими чаще всего поводом для высказывания давно выношенных идей и наблюдений. При всем своем сюжетном и жанровом разнообразии собранные в этой книге работы Эйдельмана обладают определенным единством. Прежде всего благодаря тому, что в них очень полно запечатлелись своеобразные черты исторического миросозерцания автора, в частности его склонность к остро публицистическому сопряжению актуальных проблем современности с уроками прошлого. Вот, например, как злободневно, почти пророчески звучат сегодня размышления Эйдельмана более чем двадцатипятилетней давности над страницами дневника ближайшего советника Александра III, консервативного «прогрессиста» А. А. Половцева: «Половцев, как позже Столыпин, надеялся, что новые богачи укрепят старую империю. Однако, если посмотреть на экономические мечтания в духе Половцева со стороны, имея в виду, что стало потом, то легко заметить, как хотелось умным сановникам некоторыми экономическими реформами избежать крупных политических реформ. Столыпин просил „двадцать лет“, чтобы преобразовать Россию: за двадцать лет, может, и преобразовал бы, создал бы новый „фундамент“. Но не было у них этих „двадцати лет“. Мало было одних ограниченных экономических реформ: политические преобразования, вовремя осуществленные, были бы последним шансом для того мира спастись. <…> Но царь и большинство людей „первого ранга“ не умели и не желали перестраиваться. <…> Если бы люди поважнее Половцева могли предвидеть, высмотреть точную картину того, что станет с ними и их детьми в 1917 году, они бы…»[46] Но есть еще одно обстоятельство, сообщающее материалам настоящей книги внутреннюю цельность, — ведущая ее тема раскрывается сквозь призму интереса Эйдельмана к «рассекречиванию былого», чему он, как уже отмечалось, был привержен на всем протяжении своего творческого пути. Почти все они имеют свою «завязку» в разысканиях вокруг изданий Вольной печати 1850–1860-х годов или исторических занятий Пушкина 1830-х годов, в них часто присутствует «концентрическое» построение, пересечение нескольких сюжетных линий и совмещение различных хронологических слоев, что придает повествованию и дополнительный эффект исторической глубины, и фабульную, иногда просто детективную занимательность. Отобранные для этой книги работы Эйдельмана в большей своей части возникали как бы параллельно с его крупными монографическими трудами, но в их издания, как правило, не включались, были в свое время напечатаны как самостоятельные произведения, именно так воспринимались читательской аудиторией и с тех пор не перепечатывались (если не считать нескольких очерков, вошедших в 1987 г. в однотомник «Обреченный отряд»). Затерянные в малотиражных научных изданиях или в давно вышедшей из оборота старой периодике, незаслуженно забытые, ныне они мало кому доступны, а в своей совокупности вообще никогда не являлись перед публикой. Таким образом, настоящая книга открывает широкому читателю ранее почти не известного, «нового» Эйдельмана.А. Г. Тартаковский

Розыскное дело
Процесс царевича Алексея Петровича и его сторонников (1718) был связан с острейшей борьбой вокруг преобразований. Хотя основа конфликта между Петром и Алексеем давно выяснена, однако до сей поры не раскрыт ряд важных подробностей, а также действия и мотивы некоторых участников. Поводом для обращения советских историков к этой и другим спорным тайнам является недавняя научная публикация и комментирование вольных изданий Герцена и Огарева — «Колокола», «Полярной звезды», «Исторических сборников». Сто с лишним лет назад великий революционер Герцен впервые напечатал за границей некоторые сокровенные, опасные для властей материалы, долго хранившиеся под спудом. Сегодня, идя по следам этих публикаций, исследователи заново углубляются в архивы, пытаясь проникнуть в самые глубины «темных преданий» прошлого.
I часть
Для приближения к неразгаданному мы углубляемся сначала в давно известную переписку Петра I с царевичем Алексеем…ПЕТР — АЛЕКСЕЮ
…Я с горестью размышлял и, видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей последний тестамент тебе написать и еще мало подождать, аще нелицемерно обратишься. Ежели же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангренный, и не мни себе, что я сие только в устрастку пишу: воистину исполню, ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный. В 11-й день октября 1715 при Санкт-ПитербурхеПетр
АЛЕКСЕЙ — ПЕТРУ
…Милостивейший государь батюшка! Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения. Раб ваш и непотребный сынАлексей
ПЕТР — АЛЕКСЕЮ
Мой сын!.. Когда прощался с тобой и спрашивал тебя о резолюции твоей на известное дело, на что ты всегда одно говорил, что к наследству быть не можешь за слабостию своею и что в монастырь удобнее желаешь; то я тогда тебе говорил, чтобы еще ты подумал о том гораздо и писал ко мне, какую возьмешь резолюцию, чего ждал 7 месяцев… Ныне (понеже время довольно на размышление имел), по получении сего письма немедленно резолюцию возьми, или первое, или другое, о чем паки подтверждаем, чтобы сие конечно учинено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплодии. Из Копенгагена в 26-й день августа 1716Петр
ПЕТР I — ГЕРМАНСКОМУ ИМПЕРАТОРУ КАРЛУ VI
Пресветлейший державнейший цесарь! Я принужден вашему цесарскому величеству сердечною печалию своею о некотором мне нечаянно случившемся случае в дружебно-братской конфиденции объявить, а именно о сыне своем Алексее. Перед нескольким временем, получа от нас повеление, дабы ехал к нам, дабы тем отвлечь его от непотребного жития и обхождения с непотребными людьми, прибрав несколько молодых людей, с пути того съехав, незнамо куда скрылся, что мы по сё время не могли уведать, где обретается. Того ради просим вашего величества, что ежели он в ваших областях обретается тайно или явно, повелеть его к нам прислать, дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли… Вашего цесарского величества верный брат. Из Амстердама в 20-й день декабря 1716Петр
УКАЗ ПЕТРА I КАПИТАНУ ГВАРДИИ РУМЯНЦЕВУ
(Амстердам, 7 марта 1717 г.) …Ежели помогающу Богу достанут известную персону, то выведать, кто научил, ибо невозможно в два дни так изготовиться совсем к такому делу… Всякими мерами трудиться это исполнить, для чего поступать, несмотря на оную персону, но как бы ни возможно было. Господам генералам, штаб- и обер-офицерам: когда доноситель сего капитан Румянцев у кого сколько людей для караула требовать будет, также ежели кого арестовывать велит, кто б оной ни был, тогда повинны все его слушать в том…
Вот начало нашей истории. Весна 1717 г. 35-й год царствования Петра Великого. Еще продолжается война со шведами, но уже были и Полтава и Гангут. Столица давно в Санкт-Питербурхе. Еще 8 лет царствовать Петру и не одну сотню указов сочинить и подписать, но уже много тысяч указов давно подписаны и действуют, и Россия «вздернута на дыбы» и обновляется, и уже заплачено за обновление шестой или седьмой частью населения, а науки и мануфактуры удесятерились, а ропот и бунт умножились, и царский сын сбежал… Огорченный наследником, Петр Великий странствует по Европе. В Париже у могилы кардинала Ришелье он будто бы произносит: «О великий министр, я отдал бы тебе половину своего царства, чтобы научил, как управлять другою половиною». Капитан Румянцев меж тем инкогнито бродит по Австрии: не жалеет денег, пьет с кем нужно, шутит на нескольких языках с кем полезно, побеждает обаянием и золотом слабые сердца среднеевропеек и узнает, что надо. Капитан гвардии Александр Иванович Румянцев мог все, за что его и держали. Род Румянцевых старинный, но захирелый, да Петру I и плевать было на знатных предков. Ему важно, что высокий и красивый собою солдат, затем сержант, поручик, капитан быстро исполняет самые разнообразные приказы царя. Например, такие: «Ехать тебе с Францем Вильбоем до Борнгольма, и там сесть на Лизетку и отдать командиру той шнавы указ, и в море объявить командиру, чтоб шел в Ревель, а когда прибудет в Ревель, тогда объявить обер-командиру, дабы велел город запереть, и в тот час отдать указ капитану Сиверсу и чтоб более 5 часов не мешкал, и ты поезжай с ним и тщитесь как возможно скорей поспеть в Копенгаген…» И не успеет исполнить, как к нему уже спешит новый царский указ — разыскать тех, кто расклеил «странные, якобы пророческие надписи» в двух уездах, а оттуда — строить корабли и сразу же к туркам на переговоры, к шведам с дипломатической миссией и снова вернуться к особе государя в качестве особо доверенного денщика или камердинера… Капитан время от времени просил повышения, но Петр приказывал повременить, «пока царская рука не разверзнется»: Румянцеву не следовало получать чересчур высокие ранги, чтоб не слишком выделяться и легко переходить в инкогнито. Перед нами российский д’Артаньян, родившийся через несколько десятилетий после того, как волею Александра Дюма был погублен гасконец: сходства много (вплоть до чина), главных же отличий два: Румянцев больше умел, чем д’Артаньян, ибо в России 1700-х годов требовался весьма культурный д’Артаньян; Румянцев больше исполнял: гасконец, получив некоторые деликатные распоряжения, которые петербургский капитан Румянцев принимал с улыбкой, непременно сломал бы шпагу и сам сдал бы себя коменданту крепости Бастилия. Во всяком случае, отыскать царевича, охраняемого всем авторитетом и силою его близкого родственника — германского императора, отыскать в самой Германской империи, где он под секретом и большой охраной содержался в тирольском замке, а затем еще с бóльшим секретом и большей охраной в неаполитанском замке — это было делом д’артаньяновской трудности. Однако мало было узнать, где царевич, требовалось невозможное: вернуть.КАПИТАНУ ГВАРДИИ РУМЯНЦЕВУ — ПЕТР I
(Из Кале, 19 апреля 1717) …Господин Румянцев, получил я твое письмо из Вены от 31 числа, из которого о всем уведомился… И надобно тебе, конечно, ехать в Тироль или в иное место и проведывать, где известная особа обретается, и когда о том уведаешь, то тебе жить в том месте инкогнито, но о всем, как он живет, писать, и буде куды поедет, то секретно за ним следовать и не выпускать его из ведения и нас уведомлять…
За царевичем Алексеем отправлялся еще и Петр Андреевич Толстой, тайный советник, государственный человек по сути — в ранге министра (между прочим, прапрадед Льва Николаевича Толстого). Этого посылали для официальных переговоров с высокими персонами венского двора. Толстой тоже все мог, за что его и держали. В молодости когда-то был в заговоре против Петра, но уцелел; однажды царь сорвал с него парик и хлопнул по голове: «Эх, голова, головушка! Если бы ты не так была умна, то давно б была отсечена!» Капитан Румянцев был придан Толстому для таких действий, которые производить самому министру и тайному советнику было бы не совсем прилично. Кроме инструкции им было вручено секретное и весьма грозное письмо Петра I императору Карлу VI с требованием «решительной резолюции» насчет возвращения Алексея, «дабы мы свои меры потом воспринять могли». Венский двор был напуган. Министры на тайном совещании решили, что «по своему характеру царь может ворваться в Богемию, где волнующаяся чернь легко к нему пристанет». В конце концов император разрешил Толстому и Румянцеву отправиться в Неаполь для свидания с беглым наследником: «Свидание должно быть так устроено, чтобы никто из московитян (отчаянные люди, на все способные) не напал на царевича и не возложил на него руки, хотя того и не ожидаю».ИНСТРУКЦИЯ ПЕТРА I ТАЙНОМУ СОВЕТНИКУ ТОЛСТОМУ
И КАПИТАНУ ОТ ГВАРДИИ РУМЯНЦЕВУ
(Курорт Спа, 10 июля 1717) …Ехать им в Вену и на приватной аудиенции объявить цесарю, что мы подлинно чрез капитана Румянцева известились, что сын наш Алексей принят под протекцию цесарскую и отослан тайно в тирольский замок Эренберк, и отослан из того замка наскоро, за крепким караулом, в город Неаполь, где содержится за караулом же в крепости, чему капитан Румянцев самовидец. Буде позволит цесарь им с сыном нашим видеться, того б ради послушал нашего родительского увещания, возвратился к нам, а мы ему тот поступок простим и примем его, паки в милость нашу, и обещаем его содержать отечески во всякой свободе и довольстве, без всякого гнева и принуждения. Буде же к тому весьма он не склонится, объявить ему именем нашим, что мы за такое преслушание предадим его клятве отеческой и церковной…
Из донесения П. А. Толстого: «Государь, доносим, что был царевич в том мнении, будто мы присланы его убить; а больше опасался капитана Румянцева…»
Тайный советник и капитан сделали невозможное: два месяца длилась массированная операция с применением всех видов давления. Они встретились с царевичем, обещали отцово прощение, подкупили всех вокруг, вплоть до вице-короля Неаполя, запугали Алексея, что непременно будет убит, если не вернется, запугали и уговорили повлиять на царевича его любовницу Евфросинью. (Толстой докладывал: «Нельзя выразить, как царевич любил Евфросинью и какое имел об ней попечение»; в письмах же Румянцева мелькает презрение красавца-гвардейца к наследнику, обожающему простую и некрасивую девку.) Наконец, все австрийские власти были запуганы угрозою военного вторжения войск Петра — и в результате 4 октября 1717 г. Алексей пишет отцу: «Всемилостивейший государь батюшка!.. Надеяся на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу, и с присланными от тебя, государь, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санктпитербурх. Всенижайший и непотребный раб и недостойный называться сыном Алексей». Царевич сдался, поехал домой. На последней австрийской станции их все же догнал посланец Карла VI, чтобы в последний раз уяснить, добровольно ли возвращается царевич. Толстой был недоволен этим допросом, отвечал холодно. Алексей подтвердил, что возвращается добровольно…
1718
3 февраля царевич отрекается в Москве от прав на престол и получает отцовское прощение, получает при условии, что выдаст сообщников, которым прощение не было обещано. Алексей выдал, но не всех, и вскоре уж в Петербурге меряют широту Невы «для узнания, какою кратчайшею линиею ездить государю для делания застенков в крепость».Судьи опросили представителей разных групп и сословий. «Духовенство, — по слосам Пушкина, — как бабушка, сказало надвое»: привели для царя цитаты из Ветхого завета, позволявшие наказать непокорного сына, и вспомнили Христа, советовавшего простить блудного сына. Царю предлагалось избрать ту часть, «куда рука божья тебя клонит». Гражданские же чины порознь объявили единогласно и беспрекословно, что царевич достоин смертной казни. Приговор подписали 127 человек — первым Александр Меншиков, затем генерал-адмирал граф Апраксин, канцлер-граф Гаврило Головкин, тайный советник князь Яков Долгорукий. На 9-м месте — тайный советник Петр Толстой, на 43-м «от гвардии капитан Александр Румянцев»; гвардии подпоручик Иванов расписался за себя, и «он же вместо подпоручика Коростылева за его безграмотностью», и еще двое расписались за себя, а также за неграмотных прапорщика и капитана. Четверо подписавших только что вышли из крепости, где сидели как заподозренные в связях с Алексеем, число же не сидевших в крепости, но так или иначе «замешанных» трудно было и сосчитать: многие прежде тайно поддерживали контакты с Алексеем как с возможным будущим царем (даже Яков Долгорукий, даже сам Меншиков!). Из крупных приближенных Петра не подписал приговор только фельдмаршал Шереметев. Известный историк М. М. Щербатов позже утверждал, будто фельдмаршал объявил: «Рожден служить своему государю, а не кровь его судить», — другой же историк, И. И. Голиков, настаивал, что Шереметев был болен, находился в Москве, и только потому его подпись отсутствует. Вскоре по приказу Петра на русском и нескольких европейских языках было напечатано немалым по тому времени тиражом (несколько тысяч экземпляров) «Объявление» и «Розыскное дело», то есть история следствия и суда над Алексеем: царь не желал, чтоб наказание его сыну было тайным — наподобие убийства Иваном Грозным своего сына. Это был шаг вперед по части цивилизации и гласности…ПЕТР I — СУДЬЯМ ПО ДЕЛУ ЦАРЕВИЧА
«Прошу вас, дабы истинно суд вершили, чему достойно, не флатируя[47] мне и не опасаясь того, что ежели сие дело легкого наказания достойно, и когда вы так учините осуждением, чтоб мне противно было, в том отнюдь не опасайтесь: також и не рассуждайте того, что тот суд надлежит вас учинить на моего, яко государя вашего, сына; но несмотря на лицо сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты и отечество безбедно».
ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ О СМЕРТИ АЛЕКСЕЯ
«Узнав о приговоре, царевич впал в беспамятство. Через некоторое время отчасти в себя пришел и стал паки покаяние свое приносить и прощение у отца своего пред всеми сенаторами просить, однако рассуждение такой печальной смерти столь сильно в сердце его вкоренилось, что не мог уже в прежнее состояние и упование паки в здравие свое придти и… по сообщение пречистых таинств, скончался… 1718-го года, июня 26 числа».
ИЗ «ПОДЕННЫХ ЗАПИСОК ДЕЛАМ КНЯЗЯ МЕНШИКОВА»
«1718, 26 июня. Его светлость, прибыв в дом свой, лег опочивать. День был при солнечном сиянии, с тихим ветром. В тот день царевич Алексей Петрович с сего света в вечную жизнь переселился». За гробом царевича «изволил высокою своею особою идти его царское величество, а за его царским величеством генерал-фельдмаршал светлейший князь Меншиков и сенаторы и прочие знатные персоны. А потом изволила идти ее величество государыня царица, а за ее величеством госпожи, вышеописанных знатных персон жены».
СЛУХИ, МНЕНИЯ
Донесение австрийского резидента Плейера: «Носится тайная молва, что царевич погиб от меча или топора… В день смерти было у него высшее духовенство и князь Меншиков. В крепость никого не пускали и перед вечером ее заперли. Голландский плотник, работавший на новой башне в крепости и оставшийся там незамеченным, вечером видел сверху в пыточном каземате головы каких-то людей и рассказал о том своей теще, повивальной бабке голландского резидента. Труп кронпринца положен в простой гроб из плохих досок; голова была несколько прикрыта, а шея обвязана платком со складками, как бы для бритья». Голландский резидент Якоб Де-Би: «Кронпринц умер в четверг вечером (то есть в ночь с 26 на 27 июня) от растворения жил». Затем сообщались подробности, близкие к австрийскому донесению. Депеша была перехвачена, допрашивали резидента, затем его повивальную бабку и голландского плотника, который признал, что сидел в крепостной башне ночью, но большего не открыл… Так закончилась на 29-м году жизнь царевича Алексея. Немного о судьбе остальных действующих лиц: Румянцев, едва дело царевича было закрыто, срочно скачет в Казань набирать корабельных плотников и строить 15 гекботов, затем (уже в чине майора гвардии) по флотским делам несется в Англию, оттуда — послом в Швецию, с которой только что подписан мир, оттуда — на Каспийское море штурмовать Дербент. Тут царева рука «разверзается»: Петр вдруг запрещает Румянцеву жениться на выгодной невесте с тысячью душ и выдает за него знатнейшую и богатейшую красавицу Марию Андреевну Матвееву. Однако счастливого супруга за три месяца до появления первенца гонят послом, по тогдашним понятиям, за тридевять земель — в Турцию и Персию и выдают множество инструкций «о грузинцах, армянах, провианте, крепостях», и еще вдогонку посылается курьер с царским мнением относительно привлечения армян к России («ехать тебе…» — так обычно начинались царские инструкции, но послу и генералу Румянцеву царь пишет — «Ехать вам»). Следующая депеша, полученная уже в Константинополе, извещала нового посла, что императрица Екатерина явилась восприемницей новорожденного Петра Румянцева, которому пожелала «счастливого воспитания во увеселение вам». Так появился на свет Румянцев II — будущий великий полководец, граф и фельдмаршал Румянцев-Задунайский, отец Румянцевых Николая и Сергея, государственных деятелей, из библиотеки и коллекции которых образуется Румянцевский музей, ныне — Ленинская библиотека в Москве… В те годы из Константинополя в Петербург дорога была долгая, и Александр Румянцев увидел будущего полководца лишь через пять с лишним лет, а за это время на берегах Босфора ему пришлось поволноваться: через месяц после известия о сыне Екатерина известила посла, что «по воле всемогущего Бога его величество государь император, наш прелюбезнейший супруг, от сего временного жития в вечное блаженство отошел». Императрица благоволила к Румянцеву, но чрез два с половиной года на ее месте был уже Петр II, сын царевича Алексея. Меншикова сослали, печатные издания «розыскного дела» уничтожили и запретили, сняли с колов и виселиц казненных 10 лет назад приближенных царевича, многих судей его без чинов прогнали в деревни, а самого Петра Андреевича Толстого били кнутом и сослали в Соловки, где он и умер. Румянцев один уцелел, потому что, пока думали и «перебирали людишек», Петр II тоже успел помереть, а Румянцев благополучно отсиделся в Турции. Потом, уже при царице Анне Иоанновне, он возвращается домой. Правда, был момент, когда Бирон велел Румянцева взять, и казалось, счастливцу не миновать казни, но… прямо из-под ареста его посылают управлять Казанской губернией, а оттуда воевать турок. Тут кстати на престоле оказалась Елизавета Петровна, которая стала собирать уцелевших «птенцов гнезда Петрова»: Румянцева отправляют заключать новый мир со шведами, после чего делают сенатором, повышают в генеральском чине, наделяют новыми деревнями. В 1749 г. на 70-м году, он благополучно заканчивает свое фантастическое существование… Дело царевича Алексея меж тем лежало запечатанным в секретном государственном архиве, печати свидетельствовались ежегодно, и толковать на эту тему было опасно. Румянцев же и другие еще живые участники дела Алексея не хотели даже в 1740-х годах вспоминать о 1718-м: кто знает, как отнесется к этому следующий монарх, да и Елизавете Петровне Алексей все же сводный брат… Только в личных архивах наиболее влиятельных фамилий (Воронцовы, Куракины, Румянцевы) хранились под замком ранние или поздние копии тех секретных документов, время которых «еще не настало»… XVIII век приближался к концу, а легенды и споры умножались. Автор многотомных «Деяний Петра Великого» купец-историк Иван Голиков обращался к «не зараженному предупреждением» читателю: «Слезы сего великого родителя (Петра) и сокрушение его доказывают, что он и намерения не имел казнить сына и что следствие и суд, над ним производимые, были употреблены как необходимое средство к тому единственно, дабы, показав ему ту пропасть, к которой он довел себя, произвесть в нем страх следовать впредь теми же заблуждения стезями». Голиков защищает официальную версию о смерти царевича «от огорчения», подчеркивая, что Петр еще не успел утвердить приговор. Вольтер, который, занимаясь русской историей, старался не ссориться с петербургскими властями, все же писал 9 ноября 1761 г. Шувалову: «Люди пожимают плечами, когда слышат, что 23-летний принц[48] умер от удара при чтении приговора, на отмену которого он должен был надеяться». Однако и 140 лет спустя, в 1901 г., соотечественник Вольтера Мюрак свою пятиактную драму «Le Tsarevitch Alexis» завершал следующей сценой: «Петр (бросаясь к умирающему царевичу и сжимая его в объятиях): Алексис, мой сын!..»Наступил XIX век. 1812 год оставил в этой истории некоторый след, что отражено в старинном архивном документе: «Следственное дело о царевиче Алексее Петровиче и о матери его царице Евдокии Федоровне хранилось в особом сундуке, но в нашествие на Москву французов сундук сей злодеями разбит и бумаги по полу все были разбросаны; но по возвращении из Нижнего архива вновь описан и в особой портфели положены».
ИЗ ЗАПИСКИ ГРАФА БЛУДОВА ДЛЯ НИКОЛАЯ I:
«Суд несчастного царевича Алексея Петровича сопровождался розысками и последствиями, пробуждающими тяжкое воспоминание и тайна которого, несмотря на торжественность главных действий суда, может быть, и теперь еще не вполне раскрыта».
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НЕССЕЛЬРОДЕ — НИКОЛАЮ I
(12 января 1832): «Благоугодно ли будет вашему императорскому величеству, чтобы титулярному советнику Пушкину открыты были все секретные бумаги времен императора Петра I, в здешнем архиве хранящиеся, как-то: о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче…»
После гибели Пушкина тетрадь его архивных выписок была представлена в цензуру, и царь нашел, что «рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений на счет Петра Великого». Тетради были опубликованы и исследованы 100 лет спустя. Среди записей Пушкина, между прочим, находим: «25 (июня 1718) прочтено определение и приговор царевичу в Сенате… 26 царевич умер отравленным». Откуда узнал Пушкин об отравлении? Сюжет этот был еще столь опасен в то время, что лишь теперь с помощью криминалистов известный пушкинист И. Л. Фейнберг прочел тщательно зачеркнутые строки в дневнике переводчика Келера: «Пушкин раскрыл мне страницу английской книги, записок Брюса о Петре Великом, в которой упоминается об отраве царевича Алексея Петровича, приговаривая: „Вот как тогда дела делались“». Пушкин верно понял, что именно так тогда дела делались, но подробности насчет отравления были недостоверны: записки Брюса считаются едва ли не подделкой конца XVIII в. Как видим, даже Пушкин, жадно вылавливавший каждую деталь тайной истории Петра, не смог прийти к ясной истине. Через несколько лет этими же сюжетами занялся историк Н. Г. Устрялов — человек весьма благонамеренный и верноподданный, но притом усердный, дотошный исследователь. Пока царствовал Николай I, Устрялов издавал, по сути, не историю Петра, а документальный панегирик прапрадеду своего императора. Однако в конце 50-х годов, когда Николая уже не было и начиналось освобождение крестьян, когда повеяло более свободным, теплым воздухом и заговорила герценовская Вольная печать в Лондоне, — тогда-то Устрялов решился и выпустил в свет целый том, посвященный делу Алексея…[49] Герцен не пропустил этого обстоятельства и в одной их своих статей заметил: «Золотые времена Петровской Руси миновали. Сам Устрялов наложил тяжелую руку на некогда боготворимого преобразователя». Перед выходом своей книги Устрялов отправился к профессору К. И. Арсеньеву, прежде читавшему русскую историю наследнику, чтобы «узнать у него наверное, как умер царевич»: «Я рассказал ему, — вспоминал потом Устрялов, — все как у меня написано, т. е. что царевич умер в каземате от апоплексического удара… Арсеньев мне возразил: „Нет, не так. Когда я читал историю цесаревичу, потребовали из государственного архива документы о смерти царевича Алексея. Управляющий архивом принес бумагу, из которой видно, что царевич 26 июня (1718) в 8 часов утра был пытан в Трубецком раскате, а в 8 часов вечера колокол возвестил о его кончине“». Это была запись в гарнизонной книге Санкт-Петербургской крепости. Последовательность событий кажется достаточно ясной: царевича пытали утром его последнего дня, уже после приговора, и он оттого скончался… Казалось бы, все выяснилось. Один из рецензентов Устрялова восклицал, что «отныне процесс царевича поступил уже в последнюю инстанцию — на суд потомства». Но именно в 1858 г., когда Устрялов закончил свой труд и отдал его в типографию, появился странный документ о той же истории, и вокруг него начались любопытные споры и разговоры.А. С. ПУШКИН — М. П. ПОГОДИНУ:
«…Архивы… Сколько отдельных книг можно составить тут! Сколько творческих мыслей тут могут развиться!»
1858
Сначала письмо появилось там, где оно и должно было появиться: в Вольной типографии Герцена. Весной 1858 г. вышла 4-я книга «Полярной звезды», где на странице 279 помещался заголовок:В конце письма — примечание, скорее всего Герцена и Огарева: «Мы оставили правописание нам присланного списка». Под письмом дата — Июля 27 дня 1718 года, из С.-Петербурга, — то есть ровно через месяц после смерти царевича. Вот как начинается письмо: «Высокопочтеннейший друг и благодетель Дмитрий Иванович! Се паки не обинуясь, веление ваше исполняю и пишу сие, чего же не поведал бы, ни во что вменяя всяческие блага, и отцу моему мне жизнь даровавшему, понеже бо чту вас, яко величайшего моего благотворца… А как я человек живый, имеющ сердце и душу, то всего того повек не забуду, и благодарствовать Вам, аще силы дозволят, потщуся. От искренности сердца возглаголю, что как прочитал я послание ваше да узнал, каких вестей требуете от меня, то страх и трепет объял мя, и на душу мою налегли тяжкие помышления»… Румянцев рассуждает далее, что, открыв страшную тайну, будет «изменник и предатель» своего царя, но не может отказать «благотворцу своему» и, конечно, молит его — «сохраните все сие глубоко в сердце своем, никому не поведая о том из живущих на земле». Затем начинается собственно сама тайна. Рассказ об Алексее ведется с того времени, когда его привезли из Москвы (где он отрекался от наследования) в Петербург, и при этом открылись новые провинности царевича. Заметим (это важно для последующего изложения): в рассказе нет никакой предыстории насчет бегства царевича за границу, роли Румянцева в его доставлении домой и т. д. Все происходит уже после отречения. Румянцев кратко рассказывает о следствии и суде, о царевичевой девке Евфросинии, давшей ценные показания, «за что ей по царскому милосердию живот дарован и в монастырь на вечное покаяние отослана». Затем сообщается о пытках и казнях разных сообщников Алексея, о смертном приговоре ему и о том, как «светлейший князь Меншиков, да канцлер граф Гавриил Головкин, да тайный советник Петр Толстой, да я, и ему то осуждение прочитали. Едва же царевич о смертной казни услышал, то зело побледнел и пошатался, так что мы с Толстым едва успели под руки схватить и тем от падения долу избавить. Уложив царевича на кровать и наказав о хранении его слугам да лекарю, мы отъехали к его царскому величеству с рапортом, что царевич приговор свой выслушал, и тут же Толстой, я, генерал-поручик Бутурлин и лейб-гвардии майор Ушаков тайное приказание получили, дабы съехаться к его величеству во дворец в первом часу пополуночи». Румянцев не понимал, зачем его вызывают, а когда явился, застал кроме Петра также царицу и троицкого архимандрита Феодосия. Петр плакал, сетовал на Алексея, но заявил: «Не хощу поругать царскую кровь всенародною казнию; но да совершится сей предел тихо и неслышно, якобы ему умерети от естества предназначенного смертию. Идите и исполните…» Румянцев далее рассказывает, как был поражен этим приказом, «ибо великость и новизна сего диковинного казуса весь мой ум обуяла и долго бы я оттого в память не пришел, когда ты Толстой напамятованием об исполнении царского указа меня не возбудил». Четверо исполнителей идут в крепость, Ушаков отсылает стражу к наружным дверям — «якобы стук оружия недугующему царевичу беспокойство творит», — и в крепости не остается никого, кроме царевича. Входят в камеру. Алексей спит и стонет во сне. Пришедшие рассуждают, как лучше: убить ли царевича, пока спит, или разбудить, чтобы покаялся в грехах? Решились на второе. Толстой «тихо толкнул» царевича и объяснил ему, что происходит. Едва царевич сие услышал, как вопль великий поднял, призывая к себе на помощь, но из того успеха не возымев, начал горько плакатися и восклицал: «Горе мне, бедному, горе мне, от царския крове рожденному! Не лучше ли мне родитися от последнейшего подданнаго!» Тогда Толстой, утешая царевича, сказал: «Государь яко отец, простил тебе все прегрешения и будет молиться о душе твоей, но яко монарх, он измен твоих и клятвы нарушения простить не мог, приими удел свой, яко же подобает мужу царския крови и сотвори последнюю молитву об отпущении грехов своих». Но царевич того не слушал, а плакал и хулил его Царское Величество, нарекал детоубийцей. А как увидели, что царевич молиться не хочет, то, взяв его под руки, поставили на колени, и один из нас, кто же именно, от страха не помню, говорит за ним: «Господи! В руцы твои предаю дух мой!» Он же, не говоря того, руками и ногами прямися и вырваться хотяще. Тогда той же, мню, яко Бутурлин рек: «Господи! Упокой душу раба твоего Алексия в селении праведных, презирая прегрешения его, яко человеколюбец!» И с сим словом царевича на ложницу спиною повалиши, и взяв от возглавия два пуховика, главу его накрыли, пригнетая дондеже движения рук и ног, утихли и сердце битяся перестало, что сделалося скоро, ради его тогдашней немощи, и что он тогда говорил, того никто разбирать не мог, ибо от страха близкия смерти ему разума потрясение сталося. А как то совершилося, мы паки уложили тело царевича якобы спящего и, помоляся Богу о душе, тихо вышли. Я с Ушаковым близ дома остались, да-кто либо из сторонних туда не войдет, Бутурлин же, да Толстой к Царю с донесением о кончине царевичевой поехали. Скоро приехали от дворца госпожа Крамер и, показав нам Толстого записку, в крепость вошла, и мы с нею тело царевича спрятали и к погребению изготовили, облекли его в светлые царские одежды. А стала смерть царевича гласна около полудня того дня, сие есть 26 июня, якобы от кровяного пострела умер… А на похоронах Царь с Царицею был и горько плакал, мню, яко не о смертном случае, о припамятуся, что из того сына своего желал доброго наследника престола сделать, но ради скверных его свойств многия страдания перенес и вотще труд и желание свое погубил… Вашему сыну, а моему вселюбезнейшему благоприятелю Ивану Дмитриевичу мое почтение отдайте, а я вам нижайше творя поклонение, по гроб мой пребуду Вашим вернейшим услужником.УБИЕНИЕ ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА
Письмо Александра Румянцева
к Титову Дмитрию Ивановичу
Вот какое письмо появилось в печати в 1858 г.Александр Румянцев.»
Через некоторое время отрывки из него просочились в русскую легальную прессу. Хотя в газете «Иллюстрация» в начале 1859 г. публикация этого документа оборвалась посередине, как объявила редакция, «по причинам, от нас не зависящим», — газета успела сообщить, что «это письмо давно уже ходит по рукам любителей отечественной истории». Письмо зловещее и сильное. Оно как будто освещает темную страницу, почти полтора столетия скрытую от мира. Кажется, какая разница, сам царевич умер после пыток или был задушен? Разница действительно невелика, но ведь не зря же сто сорок лет вообще отрицалась насильственная смерть Алексея. Власть боялась, чтобы лишние глаза не заглянули за ширму, отделяющую парадную, официальную историю от секретной, откровенной, кровавой. Кроме всего прочего, нужно еще раз напомнить и о том времени, когда появились публикации насчет смерти царевича: 1858–1859 годы, канун реформы, острая борьба нового и отживающего, стремление лучших сил русского общества атаковать своих противников не только в настоящем времени, но и отбивать у них захваченное, оболганное прошлое. Не случайно именно Герцен первым печатает этот документ, как и другие материалы по секретной истории, хотя, разумеется, редакторы «Полярной звезды» отнюдь не могли поручиться, что письмо Румянцева исторически достоверно. Как и следовало ожидать, вокруг письма Румянцева вскоре закипели баталии. Первым высказался Устрялов. Он объявил документ подложным. Доводы историка были не лишены основания; он нашел в письме несколько неточностей и несообразностей. Кое-какие сподвижники Алексея, упомянутые в этом письме от 27 июля 1718 г. как уже казненные, на самом деле погибли только в конце того года; никакого Дмитрия Ивановича Титова среди известных лиц петровской эпохи не находилось. Наконец, одним из самых серьезных аргументов Устрялова было то, что письмо это распространилось совсем недавно, то есть в середине XIX в. Действительно, все известные его списки относятся примерно к концу 1840 — началу 1850-х годов. Где же пролежал этот документ почти полтора столетия, почему о нем никто прежде не слыхал? Новейшая подделка, заключил Устрялов, и это его заявление чрезвычайно не понравилось либеральной и революционной публицистике, враждебно относившейся к консервативному историку. В начале 1860 года ему отвечали два знаменитых русских журнала: «Русское слово», где уже начал печататься юный Писарев, и «Современник», который тогда вели Чернышевский, Добролюбов и Некрасов. В «Русском слове» выступил молодой историк Михаил Семевский. Семевский был в то время деятельным тайным корреспондентом герценовской печати. Скорее всего именно он передал Герцену румянцевское письмо. Полемика Семевского с Устряловым поэтому как бы защищала и честь заграничной публикации. Некоторые неточности письма, по мнению Семевского, рождены переписчиками. Относительно неизвестного Титова Семевский замечает, во-первых, что было несколько Титовых при Петре (правда, среди них нет Дмитрия Ивановича и его сына Ивана Дмитриевича). «Но, — продолжает Семевский, — еще вопрос: к Титову ли писал Румянцев?..» В одном из списков адресатом, оказывается, назван Татищев. Затем историк резко и во многом справедливо нападает на Устрялова, потому что тот хотя и опубликовал впервые в своей книге многие важные документы, но как бы нехотя, без должного разбора: «Он не представил состояния общества, в котором оно находилось, когда из среды его исторгали почетных лиц, именитых женщин, гражданских, военных и духовных сановников, когда хватали толпы слуг, монахов, монахинь — заковывали в железа, бросали в тюрьмы, водили в застенки, жгли, рубили, секли, бичевали кнутами, рвали на части клещами, сажали живых на колы, ломали на колесах. Представить бы нам страх и смятение жителей Петербурга и Москвы, когда прерваны были по высочайшему повелению сообщения между тем и другим городом, а по домам разъезжали с собственноручными ордерами денщики, сыщики, палачи». Разумеется, в этих строках ясно видны политические симпатии юного Семевского, и его пафос не столько относится к 1718-му, как к своему 1860-му. Семевский, естественно, защищает подлинность письма Румянцева. Одновременно, также в первом номере за 1860 год, с отзывом на книгу Устрялова выступил и «Современник». И «Русское слово», и «Современник» напомнили Устрялову об одном обстоятельстве, которое еще более усиливало их мнение насчет подлинности письма. Дело в том, что письмо Румянцева к Титову было как бы «посланием № 2»; но еще за 16 лет до того стало известно другое послание Александра Румянцева — «письмо № 1».
II часть
Итак… Год 1718-й — суд и смерть Алексея. 1858–1860-й — появление в печати письма Румянцева к Титову, впервые сообщившего тайные обстоятельства гибели царевича. 1844 год, через 7 лет послесмерти Пушкина. В третьей-четвертой книге знаменитого петербургского журнала «Отечественные записки» печатается большая статья (32 страницы) «Материалы для истории Петра Великого». Статья подписана «Князь Влад. К-в; г. Глинск, 25 ноября 1843 г.». Это имя встречается в журнале не раз. Однажды редакция даже поблагодарила «почтенного автора за прекрасный подарок». В «Современнике», «Московских ведомостях», опять в «Отечественных записках» и снова в «Современнике» в течение 1840-х годов подпись «Князь Вл. К-в» появляется около 10 раз в связи с различными историческими материалами и публикациями, все больше о Петре I. Иногда около сокращенной фамилии князя-историка указание «Ромны» или «Глинск»: это Полтавская губерния (и гоголевские времена!). В заштатном Глинске было меньше жителей, чем в Миргороде; там среди Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей находился и тот человек, чьи исторические материалы печатали первейшие журналы столицы. Полное имя князя было установлено историками только в 1920-х годах: Владимир Семенович Кавкасидзев (иногда писали — Кавказидзев). Необычная фамилия, напоминавшая о Кавказе, объяснялась историей рода: в XVIII в. предки князя переехали вместе с другими грузинскими дворянами с Кавказа в российские пределы. Какими же особенными материалами о Петре мог располагать в украинской глуши князь Кавкасидзев? В статье его 14 документов, большей частью относящихся к делу царевича Алексея. Зачем «Отечественные записки» печатали эти материалы: ведь к тому времени на русском языке имелось несколько печатных изданий, где эти материалы воспроизводились? Ответ может быть трояким. Во-первых, те книги были достаточно дороги и редки. Во-вторых, Кавкасидзев прислал эти документы в журнал с любопытными дополнениями против прежних изданий (о чем пойдет особый разговор). В-третьих, в его статье среди известных текстов были кое-какие материалы, которые вообще прежде нигде не появлялись. Так, двенадцатым по счету (из 14) документов шло странное письмо Александра Румянцева к некоему Ивану Дмитриевичу (фамилия не обозначена). Письмо вот о чем: Румянцев сообщает своему «милостивцу и благоприятелю» Ивану Дмитриевичу о событиях, происшедших за «недолгое время». Речь идет о событиях начала 1718 г., когда царевич Алексей был доставлен Толстым и Румянцевым в Москву. Далее подробно описывается процедура первой встречи беглеца с отцом: царевича привезли, «а что там меж ними деялось, тому мы неизвестны; а как нас потом от дежурства сержант к его величеству покликал, то застали мы царя сидящего, царевича же вельми слезяща и стояща середи упокоя. И взяли мы его по царскому приказу и повезли в уготованный прежде во Кремле дом; царь же, выпровожаючи его, говорил: „Помни и не забывай, что обещал ты“, а царевич молчал, кланялся. Той ночи мы его с Толстым по ряду стерегли, а он, мало времени пописав, спокойно почивал». Затем описывается процедура отречения в Грановитой палате и присяги другому наследнику, малолетнему Петру Петровичу (вскоре, впрочем, умершему). «Мы же, — продолжает Румянцев, — по царскому его величества приказу, взяв царевича, повезли его в дом, где он крепким караулом содержан, а после и от нас, по царскому же указу, отобран. Царь же, зело доволен будучи нашими поведениями, меня и Толстого благодарил и царского милостию взыскать обещал. И было мне вельми радостно, что от сего горького дела освободили, ибо жалко было глядеть на повинного царевича, и сердце от тоски разрывалося, памятуя его грусть и многие слезы. Да не на долгое время та радость моя вышла, ибо скоро после того царь, не возымев успеха в дознании общенников царевичева утека и видя его в запирательствах винна, разгневался пуще прежнего и суд строгий над тем делом устроил, и меня с Толстым и Ушаковым в тот суд посадил. Того ради ныне к истязанию многих привели, да еще мало добра учинили; царевич же стоит на едином, яко бы без всякого чьего-либо совета на две галеры со своими челядинцами сел и в море отплыл, из Кенигсберга же в Цесарию поворотил, а галеры назад в Петербург отправились. И то его упорство к добру не приведет, а лишь в большее раздражение царю послужит. А как тое случится, к вам я паки в Рязань отпишу, когда к тому такая же благоприятная оказия будет. Драгому родителю вашему мое нижайшее поклонение отдайте, а об Михайлушке своем не жалейте на меня; его сам светлейший к ученью назначил, паче же радуйтеся, ибо его величество ученых много любит и каждодневно говорить нам изволит: „Учитеся, братцы, ибо ученье свет, а неученье тьма есть“. А за тем прощайте и добром поминайте вашего усердного услужника Александра Румянцева. Москва. 1718». И Семевский и Пекарский в 1860 г., возражая Устрялову, вспомнили об этом письме из «Отечественных записок». Ведь связь его с письмом Румянцева к Титову очевидна. В письме № 1 (так назовем публикацию Кавкасидзева) Румянцев рассказывает довольно откровенно об определенном этапе в деле царевича — примерно с начала февраля до марта 1718 г. При этом Румянцев обещает продолжить отчет о событиях, что и делается в письме № 2 от 27 июля 1718 г. (описание смерти царевича). Важная подробность из первого письма — что оно отправляется в Рязань (а оттуда, возможно, в близлежащую вотчину). В первом документе нет никакой фамилии, но адресат, Иван Дмитриевич, очевидно, сын Дмитрия Ивановича, которому адресовано второе послание. Еще заметим, что если второе письмо о гибели царевича известно во многих списках, то первое — только в публикации «Отечественных записок». Откуда же получил князь Кавкасидзев такие документы и где они были в 1718 по 1843 г.… На это сам он дает любопытный ответ в предисловии к своей публикации: «Представляю вниманию любознательных читателей несколько актов, взятых мною из бумаг моего покойного соседа; но прежде чем изложу содержание их, считаю себя обязанным упомянуть о том, каким образом достались они моему соседу, предварив сперва читателей, что эти сведения почерпнуты мною из изустного рассказа его». Далее сообщается, что в 1791 г. сосед, служивший тогда в чине поручика при Воронежском и Харьковском генерал-губернаторе В. А. Черткове, был послан своим начальником в имение Вишенки, где жил на склоне лет фельдмаршал Петр Александрович Румянцев-Задунайский. Молодого офицера пригласили за стол. Во время обеда Румянцев обратился к приближенному чиновнику: «Павел Иванович, прикажи хорошему писцу снять копию с этих бумаг и потом доставь их мне. Я обещал дать список с них одному знатоку отечественной истории». Павел Иванович был земляком и приятелем кавкасидзевского соседа; он пригласил поручика к себе и, узнав о желании того служить при великом полководце, дал ему случай угодить будущему начальнику: поручик славился как искусный каллиграф и получил для переписки ту самую тетрадь, которая только что была передана Павлу Ивановичу. За ночь офицер не только переписал рукопись, но и снял копию документов для себя. Румянцев, восхищенный почерком, взял поручика к себе, сказав: «Если этот офицер будет так же хорошо работать шпагой, как работает пером, то я сделаю из него человека». Кавкасидзев сообщает, что «именно копия, снятая когда-то с румянцевских бумаг, и досталась мне… по смерти моего соседа», и прибавляет затем: «Не мое дело рассказывать, сделался ли сосед мой человеком, в том значении, какое дал этому слову Задунайский, или остался им только в смысле зоологическом, а потому обращаюсь к бумагам, составляющим и предмет статьи моей». К сожалению, Кавкасидзев не сообщил фамилии своего покойного соседа, но зато привел сохранившееся среди «румянцевских бумаг» письмо некоего Андрея Гри… (фамилия, очевидно, не разобрана или нарочно сокращена). Этот человек сообщал фельдмаршалу, что, разбирая его архив, нашел документы, связанные с Петром Великим и «в бозе почившим родителем Вашего высокографского сиятельства» (то есть Александром Румянцевым). Среди бумаг обнаруживаются материалы о царевиче Алексее, а также собственноручное письмо Румянцева I (к Ивану Дмитриевичу) — очевидно, авторская копия или послание, возвращенное адресатом. Документы эти пролежали с 1718 по 1790 г. в архиве Румянцевых. Это также объяснимо: слишком мрачные и опасные сюжеты в них затрагивались… Затем сосед Кавкасидзева снимает для себя копию, а от него она попадает к князю и достигает печати. Но мало того: письмо к Ивану Дмитриевичу настолько родственно письму к Дмитрию Ивановичу, что мы имеем право предположить, будто у Кавкасидзева в руках было и «письмо № 2», полученное тем же путем. Однако в 1844 г. при Николае I было, разумеется, немыслимо мечтать о напечатании документа, где описывается убийство члена российской императорской фамилии. Поэтому второе письмо Кавкасидзев мог в лучшем случае пустить по рукам, и если так, то очень понятно, почему списки с него пошли только в 1850-х годах: ведь лишь в 1840-х оно оказалось в руках князя. До наших дней загадка этих писем так и не разрешена. В книгах по истории Петра чаще всего сообщается, что царевич погиб вскоре после пытки, как сказано в «Гарнизонной книге», открытой Устряловым. Однако еще несколько раз (например, в 1905 г. в журнале «Русская старина») письмо Румянцева к Титову перепечатывалось как существенный исторический документ. В советской исторической энциклопедии статья «Алексей Петрович» заканчивается так: «По существующей версии он был задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости». Попробуем разобраться в этой загадке, которой — от времени появления писем — более столетия, а от времени, протекшего после описанных событий, — четверть тысячелетия. Очевидны три главных пути исследования: за Румянцевыми, за Титовыми, за Кавкасидзевым.РУМЯНЦЕВЫ
Рукописный отдел Ленинской библиотеки, бывшего Румянцевского музея, конечно, имеет собрание румянцевских бумаг. Сохранились, например, такие семейные документы, как выписки из царских указов, относящихся к Александру Ивановичу Румянцеву, однако, судя по всему, это поздние (XIX в.) копии более ранних документов. Вообще ранних материалов в этом архиве немного. Некоторые документы об Александре Румянцеве, которые дошли до наших дней по другим каналам, здесь отсутствуют. Никаких следов писем к Дмитрию Ивановичу и Ивану Дмитриевичу здесь нет. Не буду утомлять читателя подробным рассказом о безуспешных моих поисках в других собраниях румянцевских бумаг — в Военно-историческом архиве, Архиве древних актов. Скажу только, что просмотрел, кажется, все опубликованные и большинство ненапечатанных писем фельдмаршала и к фельдмаршалу за 1790-е годы (каждый год — тетрадь листов 500–600). Тщетно искал я фамилию кавкасидзевского соседа или Андрея Гри… в громадных и часто менявшихся штатах румянцевской канцелярии, в списках помещичьих имений Полтавской губернии и других бумагах. По интересующему меня сюжету абсолютно ничего! Правда, легкой находки, связанной со столь щекотливыми обстоятельствами, и нельзя было ожидать. Разумеется, я не мог охватить все бумаги и всех Румянцевых — часть из них рассредоточена по украинским и другим архивам — не в личных фон дах этой семьи, а в канцеляриях различных учреждений и архивах других деятелей XVIII–XIX вв. Разумеется, надо будет еще и еще смотреть, но, ознакомившись с главными румянцевскими фон дами, я заметил отсутствие многих документов и писем, которые должны были бы там находиться. Возможно, это обстоятельство объясняется следующей заметкой, напечатанной 8 июня 1854 г. в газете «Русский инвалид»: «Д. Е. Ясновский, доверенный адъютант и правитель военно-походной канцелярии графа Румянцева, дал себе обет написать историю Румянцева; он долго приготовлял и собирал материалы, стал уже обрабатывать некоторые части истории, но случившийся, к общему сожалению, пожар истребил все материалы и начальный его труд». Итак, в румянцевских бумагах ничего не нашлось…ТИТОВЫ
Дворян Титовых много, есть целая книга родословия этого рода (хотя кто поручится, что наш Титов, например, не духовного звания? Мог же быть благодетелем юных лет А. Румянцева какой-нибудь священник Титов, чьи потомки потом поступили на службу, получили дворянство и т. п.?). Больше всего имений Титовых в Рязанской губрении, куда и писал Румянцев. Во времена Петра было несколько Михаилов Титовых («Михайлушка») — один с 1727 г. служил в гвардии, но звался Михаилом Васильевичем, сыном Василия Григорьевича. Был еще Данила Иванович Титов (1665–1740). Даты подходят, инициалы тоже; возможно, первоначально в письме был не Дмитрий, а Данила? Однако в родословных книгах что-то не значатся дети этого Данилы Титова. Однако, может быть, как полагал Семевский, «Титовы» — это ошибка, искажение реальной фамилии? Были сопоставлены более десятка списков письма «№ 2» Румянцева к Титову, сохранившихся в архивах различных историков и собирателей. Отличия между списками небольшие и вполне укладываются в возможные пределы неточного копирования. Лишь на одном списке в Отделе рукописей Пушкинского Дома имеется примечание неизвестной рукою: «Подлинная рукопись хранилась в семействе Титовых и вместе с имением последних досталась Капнисту». Если прибавить к этому еще и свидетельство искусствоведа П. Н. Петрова, что на одном из списков он видел не «Титов», а «Татищев», — то дело еще более осложняется. Без успеха провел я розыски в колоссальном архиве Петрова, искусствоведа, историка, все знавшего, обо всем писавшего и оставившего колоссальное, в основном забытое литературное наследство; были проверены по родословным и архивам также «подозреваемые» Татищевы и Капнисты. Последняя семья очень известна: отец — видный поэт и драматург XVIII в., автор нашумевшей «Ябеды», сын — декабрист; имения их находились в Полтавской и Харьковской губерниях, где-то неподалеку от Кавкасидзева… Ничего, однако, не нашлось, хотя, конечно, нужно еще и еще искать в различных архивах Украины. Линия Титовых также заводит пока в тупик.КАВКАСИДЗЕВ
Принимаясь за поиски, связанные с этим человеком, я, по правде говоря, мечтал, чтобы он оказался как можно менее культурным, как можно более похожим на «гоголевских» соседей: тогда возрастала вероятность, что он передал в «Отечественные записки» те материалы, что попали в его руки, а не присочинил их сам… Однако, чем больше я следовал за князем, тем больше «разочаровывался»; иллюзии о недостаточной образованности рассеивались. Во-первых, о многом говорило обилие его статей. Кроме XVIII века он интересовался также и более близкими сюжетами. Так, еще в 1858 г. в «Земледельческой газете» опубликовал в нескольких номерах весьма квалифицированную работу «О табаководстве в Полтавской губернии». Во-вторых, настораживала родословная князя: по материнской линии он был внуком Василия Полетики и правнуком Григория Полетики — видных украинских историков, вероятных авторов знаменитой «Истории руссов»; принадлежность к такой семье «красила» князя; понятно, откуда у него такой вкус к старине; по семейным связям он мог действительно иметь доступ к редким историческим материалам. Но, с другой стороны, эта же образованность могла и поощрять его воображение… Впрочем, не будем торопливо обвинять без оснований. Я искал бумаги князя в различных архивах Москвы, Ленинграда, Украины. Ни в одном архиве СССР личного фон да Кавкасидзевых не сохранилось, хотя письма чисто семейного характера имеются в Чернигове. Самое позднее упоминание о князе я отыскал в памятной книжке Полтавской губернии за 1865 год, где встречается «кандидат в мировые посредники по Роменскому уезду губернский секретарь князь Владимир Семенович Кавкасидзев». В родословных справочниках конца XIX в. этот княжеский род уже не значится: то ли вымер, то ли растворился в дочерях… Однако уже говорилось, что кое-какие материалы Кавкасидзева сохранились среди бумаг журнала «Отечественные записки». И вот у меня в руках его письмо в редакцию: тонкая бумага, мелкий изысканный аристократический почерк. Передавая журналу список так называемого «Жития Петра Великого», князь демонстрирует глубокое знание литературы и вполне приличный для того времени источниковедческий уровень, сообщает, что сличил рукопись со старинным венецианским изданием «Жития Петра Великого», написанного Катифором, сравнил ее с трудами Ивана Голикова, отметил «щекотливость» некоторых сюжетов, связанных с царевичем Алексеем… Итак, грамотный, очень образованный, отлично разбирающийся в литературе и истории человек — вот кто таков князь Кавкасидзев. Подобный знаток мог бы при желании сочинить переписку Румянцева с Титовым и с кем угодно… Больше никаких данных о нем и его трудах не находится, и настало время снова внимательнейшим образом вчитаться в его статью о деле Алексея, в те 14 документов, среди которых было письмо Румянцева к Ивану Дмитриевичу (и, вероятно, «невидимый» 15-й документ — письмо Румянцева к Титову). Первое же письмо Петра к Алексею (октябрь 1715) поражает отличием от подлинного текста (который уже не раз печатался до Кавкасидзева). Помня, что князь, по его же словам, все время пользовался изданием грека Катифора (переведенным на русский язык Писаревым), я положил рядом три текста петровского письма: 1) подлинный, 2) по Кавкасидзеву и 3) по Катифору (напомним, что Катифор издал письма Петра по-гречески, а русский переводчик перевел обратно с греческого на русский…). ПОДЛИННЫЙ ТЕКСТ: «Объявление сыну моему Алексею. Понеже всем известно есть, что пред начинанием сея войны, как наш народ утеснен был от шведов, которые не толико ограбили толь нужными отеческими пристаньми, но и разумным очам к нашему нелюбозрению добрый задернули завес и со всем светом коммуникацию пресекли».ПО КАТИФОРУ (ПЕРЕВОД 1743–1772 гг.): «Наставление сыну моему: небезызвестно тебе, сын мой, о том, о чем всему свету явно, а именно: какую нужду претерпевал народ наш от насильств шведских по завладении ими многих приморских наших городов и отнятии у нас всякого с другим народом сообщения».
ПО КАВКАСИДЗЕВУ (1844): «Объявление сыну моему: небезызвестно тебе, сын мой, о том, о чем всему свету явно, а именно: какую великую, тяжкую нужду претерпевал народ наш от несказанных насильств шведских по завладении ими многих приморских городов и отнятии у нас всякого общения с другими просвещенными народами». Сходство текста Катифора и Кавкасидзева поражает. Такое не может быть случайностью, тем более что абсолютно та же картина при изучении следующих документов из той же статьи. Все эти материалы у Кавкасидзева отличаются от подлинных и очень близки к русскому переводу Катифора, хотя встречаются некоторые разночтения, добавления, впрочем, не меняющие общей картины. Для 12 документов из 14, опубликованных в статье Кавкасидзева, источник очевиден: они списаны или «смонтированы» из книги грека Антония Катифора, вернее, из ее русского (писаревского) перевода. Перевод был сделан в 1743 г., так что «списывание» и «монтаж» происходили не раньше этой даты. Осталось объяснить происхождение еще двух документов Кавкасидзева. Одно письмо (в статье — под № 10) в отличие от только что разобранных абсолютно неизвестно и не зарегистрировано ни в одном архиве России или Австрии, не значится и в подготовительных материалах по изданию бумаг Петра Великого, никак не упомянуто ни в официальных материалах, ни в книге Катифора. Вот он, № 10 кавкасидзевской публикации: «Из Спа, 16.VII. 1717. Ваша высокая эминенция! Чаю, вам небезызвестно, по близости вашей к возлюбленному брату нашему, к его царскому величеству, что непослушный сын наш Алексей, всегда в презоре держав наши родительския и государския повеления, под конец утек из России, нас словесно и письменно обманув, и к покровительству цезаря прибег… Вы же, яко следует Вам по долгу служителя господня, напутствуйте цесаря к благому исполнению справедливого хотения нашего. А за то мы сего не забудем и вам царскою вашею милостью благодарственны будем». Подпись по-латыни: Петр, царь и самодержавец всея Руси. Можно только гадать, какой тут предполагался адресат. Очевидно, духовное лицо, кардинал, или архиепископ, влиятельная персона при императоре. Наконец, последний документ, нигде до и после не известный, — это письмо Румянцева к Ивану Дмитриевичу, из которого происходит и письмо Румянцева к Дмитрию Ивановичу… Письмо Петра I к «высокой эминенции» и письмо Румянцева к Ивану Дмитриевичу не имеют никаких видимых источников. Поэтому либо они существовали на самом деле, но, кроме составителя этого сборника документов, ни прежде, ни после никто к ним не имел доступа. Либо и эти письма полностью сочинены… Остановимся на последнем. Если все это — компиляция, ловкое сочинение, то чье? Подозрение, конечно, прежде всего падает на Кавкасидзева: князь сам признается, что под руками у него Катифор и другие книги. Знание эпохи, хороший слог — все это позволило бы ему сконструировать нужные документы. Семевский писал, что не видит мотивов для литературной подделки. Но, во-первых, столичные журналы неплохо платили за публикации, а, во-вторых, такое желание, как сочинить документы в духе какой-либо эпохи, выдать свое сегодняшнее за чужое прошедшее, часто не поддается достаточно рациональному объяснению. Ограничимся выводом, что Кавкасидзев мог это сделать — и тогда мог сочинить также и письмо Румянцева к Титову. И если бы это было так, пришлось бы признать, что он был весьма способным и дерзким мастером подделки: ведь сам пишет в «Отечественные записки» о своем знакомстве с Катифором и т. п., ведь у многих крупных русских знатоков были в руках и Катифор и Голиков, и ведь незадолго перед тем, в 1829 г., было переиздано «Розыскное дело» об Алексее, где еще раз перепечатывались основные документы… Но, несмотря на это, князь сумел напечатать и свои. В России в ту пору уже знали отменных мастеров фальшивки — Бардина, Сулакадзева и других. Правда, они специализировались на подделках куда более древних рукописей. И все же князь или другой фальсификатор не очень-то рисковал: если бы его публично начали разоблачать (а этого, заметим, не произошло!), он всегда мог бы объявить, что у него был список именно таких документов: он за старых переписчиков не отвечает, и откуда такие документы попали в архив Румянцевых — ведать не ведает. В общем, улики против князя серьезные, и это пока главная версия, объясняющая всю историю. Но все же не будем торопиться… Уж не слишком ли нахален и лих полтавский помещик Кавкасидзев? А вдруг с водой выплескивается и ребенок… Нет ли в этом странном компилятивном собрании хоть крупицы истинных петровских тайн? Как же, где же? А вот как. Если не князь все это сотворил, то главным подозреваемым лицом становится будто бы работавший на Румянцева Андрей Гри… Он (или кто-то перед ним) мог составить для фельдмаршала экстракт из писаревского перевода книги Катифора. Это имело бы смысл делать, пока та книга еще не вышла, но была в списках — то есть между 1743-м и 1772-м. Андрей Гри…, как видно из его письма, помнил и знал самого Александра Румянцева, умершего в 1749-м (именует того своим «высоким благотворцем», «незабвенным и достохвальным, в бозе почившим родителем вашего сиятельства»); так что тут противоречия нет. Но зачем (даже в середине XVIII века!) украшать и придумывать письма? А затем, что в ту пору на это смотрели во многом иначе, чем в наше время и даже во времена князя Кавкасидзева. История еще не полностью отделилась от литературы. Принцип строгой научности еще не вытеснил окончательно наивное своеволие древних летописцев, вводивших в чужие тексты различные вставки и вовсе не подозревавших, что это «нельзя…». Приведем недавно опубликованное интересное рассуждение на эту тему крупных современных специалистов: в статье под названием «Историк-писатель или издатель источников?» Е. М. Добрушкин и Я. С. Лурье обсуждали сложный вопрос об «Истории Российской» В. Н. Татищева (1686–1750), где имеются спорные и сомнительные места, иногда рассматриваемые как фальсифицированные, присочиненные… «Даже если мы придем к выводу, — пишут авторы, — что те или иные известия не заимствованы Татищевым из древних памятников, а принадлежат ему самому, это вовсе не будет равносильно обвинению историка в „недобросовестности“ или „нечестности“ и уж тем более никак не поставит под сомнение ценность „Истории Российской“…»[50] Если Андрей Гри… действительно скомпилировал и украсил из лучших побуждений для фельдмаршала Румянцева отрывки из писаревского перевода Катифора, если он это сделал, то уж придумать самому «письмо его (Александра Румянцева) руки» к Ивану Дмитриевичу, разумеется, никак не мог. Значит, если составителем — компилятором документов был Андрей Гри…, тогда письмо № 1 (к Ивану Дмитриевичу) становится реальностью. А письмо № 2 об убийстве царевича Алексея? Если рассуждать очень строго, то реальность письма № 1 еще не доказывает подлинности письма № 2: его ведь могли подделать, руководствуясь именно первым документом… Но тут мы уж заходим слишком далеко: фактов нет, всяческие умозрительные построения слишком легки, а история наша не закончена… Зачем же было ее рассказывать? Да затем, во-первых, чтоб показать, как порою мучительно трудно продвигаться историкам даже по сравнительно недавним столетиям; затем, чтобы напомнить об исторических тайнах (а следствие, суд и смерть Алексея еще во многом таинственны); рассказать о жизни этой тайны в сознании следующих поколений, о том, как и во времена Вольтера, и при Пушкине, и в 1860-х годах дело Алексея было предметом жестоких дискуссий, связанных с самой современной темой, темой важных размышлений о том, как должна писаться история, и о том, когда же события прошлого выносятся на «суд последней инстанции».
Наука и жизнь. 1971. № 9, 10.

«Счастья баловень безродный…»
 Александр Данилович Меншиков — фигура всем известная: почти нет книг и статей о Петре Великом без Меншикова — второго человека после царя-преобразователя, «герцога Ижорского, светлейшего князя Римской империи и Российского государства, генералиссимуса, верховного тайного действительного советника, рейхсмаршала, президента Военной коллегии, адмирала красного флага, санкт-петербургского губернатора, кавалера русских и иностранных орденов».
Через сто лет после его смерти любопытство потомков приведет к двукратному вскрытию предполагаемой могилы Меншикова в Березове, когда тобольский губернатор и известный ученый Д. Н. Бантыш-Каменский распорядится «выдернуть из бровей покойного несколько волос, поместить их в пробирку со спиртом и отправить ее вместе с башмаком родственникам в столицу». (За эту инициативу губернатор получит царский выговор, а позже еще откроется, что могила не Меншикова, а, вероятно, его дочери.) «Светлейший» и до того, и после постоянно волнует воображение многих славных мастеров: «Счастья баловень безродный, полудержавный властелин» появляется на страницах пушкинских стихов и прозы, на знаменитой картине Сурикова, в «Петре Первом» Алексея Толстого, в «Восковой персоне» Тынянова; миллионам запомнился на киноэкране в исполнении Михаила Жарова…
Можно ли сегодня отыскать нечто существенно новое о столь заметном и уж третье столетие «наблюдаемом» политическом деятеле?
Можно и должно — отвечает советский историк Н. И. Павленко своею книгой «Александр Данилович Меншиков», выпущенной издательством «Наука» под редакцией и с предисловием академика А. П. Окладникова[51].
В этом сравнительно небольшом сочинении имеется 285 ссылок на цитируемые или использованные материалы; из них почти половина (128) начинается со странных для неискушенного читателя и столь милых сердцу специалиста сочетаний вроде ЦГАДА, ЛОИИ — сокращенные названия Центрального государственного архива древних актов, Архива Ленинградского отделения Института истории…
Архивы, архивные сноски — признак того, что данный материал впервые вводится в научный оборот; за каждой же сноской — одно или несколько прежде не изученных или совершенно не известных обстоятельств.
Итак, сотни новых фактов о Меншикове, не говоря о том, что и старые, прежде уже публиковавшиеся материалы в книге часто осмысляются по-новому. Сотни фактов: споры о происхождении Меншикова, о мифических знатных предках, которых изобретал для себя светлейший, теперь, вероятно, прекратятся — пирожник он, «блинник»!
Распространенное предание подтверждено научным разбором.
Другую легенду «о Данилыче» — насчет его неграмотности — Н. И. Павленко подтверждает с поражающей буквальностью: главный помощник царя по внедрению новой культуры, губернатор, командующий, администратор, финансист, хитроумный дипломат, бегло говоривший по-немецки, Меншиков, оказывается, был неграмотен абсолютно (умел только подписаться, вернее, нарисовать свою подпись), зато какова должна быть смекалка такого человека, каковы его секретари и помощники!
Между тем в документе, написанном не кем иным, как Исааком Ньютоном, Александр Данилович извещается об избрании в члены Британского королевского общества в знак уважения к его «величайшей просвещенности»!
И ведь в самом деле — министр очень много сделал для российского просвещения… Но таков был век, таковы были герои, что просветитель Данилыч участвовал в казнях стрельцов и «хвастал, что самолично отрубил головы двадцати обреченным».
Он — герой, одно из главных действующих лиц в сражениях при Калише, Батурине, Переволчне, Полтаве. Но служа отечеству, слаб и к «маятностям»: за успех при Калише награждается тростью, оцениваемой в «3064 рубля 16 алтын 4 деньги». Подобная точность, сохраненная в документе, особенно парадоксальна на фон е других, куда более приблизительных и «обширных» чисел: Петр разрешает любимцу в связи с рождением у него сына взять какую пожелает деревню с сотней дворов, а любимец жалуется, что «сто дворов не изыскал, а сыскал деревню в 150 дворов», и просит удержать с него деньги за лишние пятьдесят дворов. От царя получил ответ, на который и рассчитывал: «О деревне будь по вашему прошению, а вычту в те поры, когда бог даст вам другого сына».
Позже царь разгневается, ибо Меншиков заподозрен в хищении 1 млн. 581 тыс. 519 рублей. «Ему мало, — отмечает Павленко, — ста тысяч крепостных, золота, бриллиантов, роскошных дворцов. Он весь в поисках новых источников дохода и безоговорочно принимает любой совет, если его реализация сулила получение хотя бы мелочных барышей. В Москве он скупал лавки, харчевни, погреба, торговые места с тем, чтобы все это на выгодных условиях сдавать в оброк мелким торговцам и промысловикам. За границу Меншиков продавал традиционные товары русского экспорта. Его агенты действовали в районах производства пеньки, воска, сала, кож и отправляли их в Петербург и Архангельск для продажи английским и голландским купцам».
«Маетности» по всей Европе, но когда в пьяном виде светлейший теряет драгоценный орден с бриллиантами, из объявленной награды в двести рублей выдает принесшему 190…
Миллионы и гроши, великие битвы и мелкие надувательства соседствуют на страницах книги — и порою второстепенная, бытовая деталь куда резче обозначает личность, натуру, чем обстоятельные рассуждения о более важных предметах.
Меншиков в книге Павленко живет, действует, разговаривает: он встает ежедневно между пятью и шестью утра и до полудня делает основную часть дел; моется в «мыльне», как правило, раз в месяц (за что слывет при дворе чистюлей), в любую свободную минуту садится за шахматы; опасаясь петровского гнева по поводу погибших в море судов, восклицает: «Я отправил оный флот против неприятеля, а не против бога и элементу (случая)!»; в другой раз для того, чтобы удивить своего повелителя, велит к свадьбе царевой племянницы свезти со всей страны карликов и карлиц: «Из двух разрезанных пирогов вылезли модно одетые карлицы, обратившиеся к новобрачным со словами приветствия. Затем, по свидетельству очевидца, заиграли менуэт, и карлицы весьма изящно протанцевали этот танец на столе перед новобрачными. Каждая из них была ростом в локоть».
Но вот Петр умирает, и Меншиков как будто уже не вторая, а первая фигура: «Кто-то из сенаторов предложил было открыть окно, чтобы спросить у толпы людей, собравшихся у дворца, кого они желают видеть преемником, но Меншиков пресек эту затею.
— На дворе не лето, — сказал он хладнокровно. Весомость своим словам он придал приглашением в покои вооруженных офицеров».
На дворе не лето…
Еще немного — и его дочь, кажется, станет женой Петра II, а он сам — членом царствующей фамилии. Уж приготовлен план из шестидесяти пяти пунктов для составления грандиозной его биографии.
Однако колесо фортуны, подняв вверх, сбрасывает вниз. Князь-генералиссимус проигрывает политическую игру и едет в ссылку — впрочем, на 33 каретах, со 148 слугами…
Потом специальные чиновники станут описывать меншиковское имущество, чтобы доказать преступные хищения, однако улик найдут так мало, что власть вынуждена отказаться от мысли о выпуске специального обвинительного манифеста, его черновик обнаружат в архиве два века спустя (в 1728 г. ограничились лишь кратким указом о каких-то преступлениях Меншикова).
Вместо предполагаемых многих миллионов оказалось «всего» 400 тыс. рублей (по курсу начала XX в. — 3,5 млн.); впрочем, даже эта сумма составляла двадцатую долю ежегодного государственного дохода страны! Загадка меншиковских «маетностей» затем переходит к следующим поколениям. Н. И. Павленко спрашивает: «Какова дальнейшая судьба сокровищ светлейшего, кто стал владельцем осыпанного бриллиантами складня, оцененного в 16 тыс. рублей, бриллианта к прусскому ордену Черного Орла в семь тыс. рублей, кому достались запонки, серьги, перстни, булавки и прочее добро? Канули в неизвестность — таков самый короткий ответ. Попытки обнаружить следы сокровищ Меншикова в собраниях главных музеев страны — Эрмитаже, Оружейной палате, Историческом музее — не увенчались успехом».
Множество любопытных эпизодов, цифр, «бытовых анекдотов» делает работу Н. И. Павленко чтением очень занимательным. Меж тем в ней ставятся и самые общие вопросы — о типе отношений царя Петра со своими «птенцами» (слуги или друзья?), высвечиваются некоторые прежде не очень ясные этапы Северной войны (глава «Удачи и промахи в Померании»).
Любопытны и размышления о «пополнении» правящего класса из народа: «Прошлое оставляло (у Меншикова) всего лишь неприятное воспоминание, создавало своего рода комплекс социальной неполноценности в общении с родовитыми людьми, впрочем, легко преодолеваемый при жизни Петра, поскольку рядом с сыном конюха с царем сотрудничали сын сидельца в лавке купца, сын пастора, а супруга царя, будущая императрица, в прошлом была прачкой».
Интересно было бы проанализировать, в какие исторические периоды особенно интенсивно происходит такое пополнение господствующего слоя, как это сказывается на методах, своеобразии политического и культурного развития (с одной стороны, неграмотность, с другой — бешеная, неукротимая энергия!).
Н. И. Павленко рассматривает личность главного героя с должным историческим подходом — без насильственного навязывания человеку XVIII в. мерок и критериев позднейших времен (хотя, полагаем, следовало бы больше порассуждать о взгляде той эпохи на пределы жестокого и дозволенного — в связи с делом стрельцов и процессом царевича Алексея).
Итак, свежая, насыщенная новыми фактами и соображениями книга о человеке, которого изучают уже добрую четверть тысячелетия. Но как же десятки прежних историков не заметили того, что публикует Н. И. Павленко? Как могло такое произойти? Попробуем ответить вкратце на этот вопрос.
Во-первых, долгое время многие важные, откровенные, страшные подробности не допускались в печать. Так, важные материалы по делу Алексея Петровича были впервые обнародованы лишь в конце 1850-х годов, почти через полтора века после самого события.
Во-вторых, число старинных бумаг огромно, работа по их выявлению, прочтению, толкованию необыкновенно сложна и трудоемка: достаточно сказать, что издание «Писем и бумаг императора Петра Великого», начатое более ста лет назад, еще не завершено.
И наконец, третье соображение: в давние времена история писалась преимущественно как «история личностей» — царей, полководцев, великих людей. Возможно, книги были от того интереснее (много анекдотов, бытовых подробностей), но легковеснее.
Когда наступил век научного познания прошлого, когда были поняты социальные и другие общие закономерности, прежним наивным рассказчикам досталось немало насмешек. История стала умнее, научнее, но… Но… как бы выразиться точнее? Во многих работах «с водой выплеснули ребенка». Рассказ подчас становится суше, скучнее — лишается человека: в самом деле, современному ученому легче описать внутреннюю и внешнюю историю больших человеческих групп (класс, сословие, нация), нежели биографию отдельного деятеля!
Меж тем потребность в человеческой истории не проходила никогда — и в наше время есть все возможности для такой науки: мы говорим не о возвращении к былому, простодушному бытописанию, а к личностной истории, опирающейся на все научные завоевания последнего столетия.
В этом смысле работа Н. И. Павленко отражает самую современную тенденцию, это научная биография в сложнейшем историческом контексте, это — общее, всероссийское, рассмотренное сквозь быт, денежный счет, анекдот, колоритный языковой строй, семейный уклад одного примечательного человека.
Мы верим в силу, жизнеспособность подобного «возвращения к личности», и достоинства книги «Александр Данилович Меншиков» — весомое тому доказательство.
Александр Данилович Меншиков — фигура всем известная: почти нет книг и статей о Петре Великом без Меншикова — второго человека после царя-преобразователя, «герцога Ижорского, светлейшего князя Римской империи и Российского государства, генералиссимуса, верховного тайного действительного советника, рейхсмаршала, президента Военной коллегии, адмирала красного флага, санкт-петербургского губернатора, кавалера русских и иностранных орденов».
Через сто лет после его смерти любопытство потомков приведет к двукратному вскрытию предполагаемой могилы Меншикова в Березове, когда тобольский губернатор и известный ученый Д. Н. Бантыш-Каменский распорядится «выдернуть из бровей покойного несколько волос, поместить их в пробирку со спиртом и отправить ее вместе с башмаком родственникам в столицу». (За эту инициативу губернатор получит царский выговор, а позже еще откроется, что могила не Меншикова, а, вероятно, его дочери.) «Светлейший» и до того, и после постоянно волнует воображение многих славных мастеров: «Счастья баловень безродный, полудержавный властелин» появляется на страницах пушкинских стихов и прозы, на знаменитой картине Сурикова, в «Петре Первом» Алексея Толстого, в «Восковой персоне» Тынянова; миллионам запомнился на киноэкране в исполнении Михаила Жарова…
Можно ли сегодня отыскать нечто существенно новое о столь заметном и уж третье столетие «наблюдаемом» политическом деятеле?
Можно и должно — отвечает советский историк Н. И. Павленко своею книгой «Александр Данилович Меншиков», выпущенной издательством «Наука» под редакцией и с предисловием академика А. П. Окладникова[51].
В этом сравнительно небольшом сочинении имеется 285 ссылок на цитируемые или использованные материалы; из них почти половина (128) начинается со странных для неискушенного читателя и столь милых сердцу специалиста сочетаний вроде ЦГАДА, ЛОИИ — сокращенные названия Центрального государственного архива древних актов, Архива Ленинградского отделения Института истории…
Архивы, архивные сноски — признак того, что данный материал впервые вводится в научный оборот; за каждой же сноской — одно или несколько прежде не изученных или совершенно не известных обстоятельств.
Итак, сотни новых фактов о Меншикове, не говоря о том, что и старые, прежде уже публиковавшиеся материалы в книге часто осмысляются по-новому. Сотни фактов: споры о происхождении Меншикова, о мифических знатных предках, которых изобретал для себя светлейший, теперь, вероятно, прекратятся — пирожник он, «блинник»!
Распространенное предание подтверждено научным разбором.
Другую легенду «о Данилыче» — насчет его неграмотности — Н. И. Павленко подтверждает с поражающей буквальностью: главный помощник царя по внедрению новой культуры, губернатор, командующий, администратор, финансист, хитроумный дипломат, бегло говоривший по-немецки, Меншиков, оказывается, был неграмотен абсолютно (умел только подписаться, вернее, нарисовать свою подпись), зато какова должна быть смекалка такого человека, каковы его секретари и помощники!
Между тем в документе, написанном не кем иным, как Исааком Ньютоном, Александр Данилович извещается об избрании в члены Британского королевского общества в знак уважения к его «величайшей просвещенности»!
И ведь в самом деле — министр очень много сделал для российского просвещения… Но таков был век, таковы были герои, что просветитель Данилыч участвовал в казнях стрельцов и «хвастал, что самолично отрубил головы двадцати обреченным».
Он — герой, одно из главных действующих лиц в сражениях при Калише, Батурине, Переволчне, Полтаве. Но служа отечеству, слаб и к «маятностям»: за успех при Калише награждается тростью, оцениваемой в «3064 рубля 16 алтын 4 деньги». Подобная точность, сохраненная в документе, особенно парадоксальна на фон е других, куда более приблизительных и «обширных» чисел: Петр разрешает любимцу в связи с рождением у него сына взять какую пожелает деревню с сотней дворов, а любимец жалуется, что «сто дворов не изыскал, а сыскал деревню в 150 дворов», и просит удержать с него деньги за лишние пятьдесят дворов. От царя получил ответ, на который и рассчитывал: «О деревне будь по вашему прошению, а вычту в те поры, когда бог даст вам другого сына».
Позже царь разгневается, ибо Меншиков заподозрен в хищении 1 млн. 581 тыс. 519 рублей. «Ему мало, — отмечает Павленко, — ста тысяч крепостных, золота, бриллиантов, роскошных дворцов. Он весь в поисках новых источников дохода и безоговорочно принимает любой совет, если его реализация сулила получение хотя бы мелочных барышей. В Москве он скупал лавки, харчевни, погреба, торговые места с тем, чтобы все это на выгодных условиях сдавать в оброк мелким торговцам и промысловикам. За границу Меншиков продавал традиционные товары русского экспорта. Его агенты действовали в районах производства пеньки, воска, сала, кож и отправляли их в Петербург и Архангельск для продажи английским и голландским купцам».
«Маетности» по всей Европе, но когда в пьяном виде светлейший теряет драгоценный орден с бриллиантами, из объявленной награды в двести рублей выдает принесшему 190…
Миллионы и гроши, великие битвы и мелкие надувательства соседствуют на страницах книги — и порою второстепенная, бытовая деталь куда резче обозначает личность, натуру, чем обстоятельные рассуждения о более важных предметах.
Меншиков в книге Павленко живет, действует, разговаривает: он встает ежедневно между пятью и шестью утра и до полудня делает основную часть дел; моется в «мыльне», как правило, раз в месяц (за что слывет при дворе чистюлей), в любую свободную минуту садится за шахматы; опасаясь петровского гнева по поводу погибших в море судов, восклицает: «Я отправил оный флот против неприятеля, а не против бога и элементу (случая)!»; в другой раз для того, чтобы удивить своего повелителя, велит к свадьбе царевой племянницы свезти со всей страны карликов и карлиц: «Из двух разрезанных пирогов вылезли модно одетые карлицы, обратившиеся к новобрачным со словами приветствия. Затем, по свидетельству очевидца, заиграли менуэт, и карлицы весьма изящно протанцевали этот танец на столе перед новобрачными. Каждая из них была ростом в локоть».
Но вот Петр умирает, и Меншиков как будто уже не вторая, а первая фигура: «Кто-то из сенаторов предложил было открыть окно, чтобы спросить у толпы людей, собравшихся у дворца, кого они желают видеть преемником, но Меншиков пресек эту затею.
— На дворе не лето, — сказал он хладнокровно. Весомость своим словам он придал приглашением в покои вооруженных офицеров».
На дворе не лето…
Еще немного — и его дочь, кажется, станет женой Петра II, а он сам — членом царствующей фамилии. Уж приготовлен план из шестидесяти пяти пунктов для составления грандиозной его биографии.
Однако колесо фортуны, подняв вверх, сбрасывает вниз. Князь-генералиссимус проигрывает политическую игру и едет в ссылку — впрочем, на 33 каретах, со 148 слугами…
Потом специальные чиновники станут описывать меншиковское имущество, чтобы доказать преступные хищения, однако улик найдут так мало, что власть вынуждена отказаться от мысли о выпуске специального обвинительного манифеста, его черновик обнаружат в архиве два века спустя (в 1728 г. ограничились лишь кратким указом о каких-то преступлениях Меншикова).
Вместо предполагаемых многих миллионов оказалось «всего» 400 тыс. рублей (по курсу начала XX в. — 3,5 млн.); впрочем, даже эта сумма составляла двадцатую долю ежегодного государственного дохода страны! Загадка меншиковских «маетностей» затем переходит к следующим поколениям. Н. И. Павленко спрашивает: «Какова дальнейшая судьба сокровищ светлейшего, кто стал владельцем осыпанного бриллиантами складня, оцененного в 16 тыс. рублей, бриллианта к прусскому ордену Черного Орла в семь тыс. рублей, кому достались запонки, серьги, перстни, булавки и прочее добро? Канули в неизвестность — таков самый короткий ответ. Попытки обнаружить следы сокровищ Меншикова в собраниях главных музеев страны — Эрмитаже, Оружейной палате, Историческом музее — не увенчались успехом».
Множество любопытных эпизодов, цифр, «бытовых анекдотов» делает работу Н. И. Павленко чтением очень занимательным. Меж тем в ней ставятся и самые общие вопросы — о типе отношений царя Петра со своими «птенцами» (слуги или друзья?), высвечиваются некоторые прежде не очень ясные этапы Северной войны (глава «Удачи и промахи в Померании»).
Любопытны и размышления о «пополнении» правящего класса из народа: «Прошлое оставляло (у Меншикова) всего лишь неприятное воспоминание, создавало своего рода комплекс социальной неполноценности в общении с родовитыми людьми, впрочем, легко преодолеваемый при жизни Петра, поскольку рядом с сыном конюха с царем сотрудничали сын сидельца в лавке купца, сын пастора, а супруга царя, будущая императрица, в прошлом была прачкой».
Интересно было бы проанализировать, в какие исторические периоды особенно интенсивно происходит такое пополнение господствующего слоя, как это сказывается на методах, своеобразии политического и культурного развития (с одной стороны, неграмотность, с другой — бешеная, неукротимая энергия!).
Н. И. Павленко рассматривает личность главного героя с должным историческим подходом — без насильственного навязывания человеку XVIII в. мерок и критериев позднейших времен (хотя, полагаем, следовало бы больше порассуждать о взгляде той эпохи на пределы жестокого и дозволенного — в связи с делом стрельцов и процессом царевича Алексея).
Итак, свежая, насыщенная новыми фактами и соображениями книга о человеке, которого изучают уже добрую четверть тысячелетия. Но как же десятки прежних историков не заметили того, что публикует Н. И. Павленко? Как могло такое произойти? Попробуем ответить вкратце на этот вопрос.
Во-первых, долгое время многие важные, откровенные, страшные подробности не допускались в печать. Так, важные материалы по делу Алексея Петровича были впервые обнародованы лишь в конце 1850-х годов, почти через полтора века после самого события.
Во-вторых, число старинных бумаг огромно, работа по их выявлению, прочтению, толкованию необыкновенно сложна и трудоемка: достаточно сказать, что издание «Писем и бумаг императора Петра Великого», начатое более ста лет назад, еще не завершено.
И наконец, третье соображение: в давние времена история писалась преимущественно как «история личностей» — царей, полководцев, великих людей. Возможно, книги были от того интереснее (много анекдотов, бытовых подробностей), но легковеснее.
Когда наступил век научного познания прошлого, когда были поняты социальные и другие общие закономерности, прежним наивным рассказчикам досталось немало насмешек. История стала умнее, научнее, но… Но… как бы выразиться точнее? Во многих работах «с водой выплеснули ребенка». Рассказ подчас становится суше, скучнее — лишается человека: в самом деле, современному ученому легче описать внутреннюю и внешнюю историю больших человеческих групп (класс, сословие, нация), нежели биографию отдельного деятеля!
Меж тем потребность в человеческой истории не проходила никогда — и в наше время есть все возможности для такой науки: мы говорим не о возвращении к былому, простодушному бытописанию, а к личностной истории, опирающейся на все научные завоевания последнего столетия.
В этом смысле работа Н. И. Павленко отражает самую современную тенденцию, это научная биография в сложнейшем историческом контексте, это — общее, всероссийское, рассмотренное сквозь быт, денежный счет, анекдот, колоритный языковой строй, семейный уклад одного примечательного человека.
Мы верим в силу, жизнеспособность подобного «возвращения к личности», и достоинства книги «Александр Данилович Меншиков» — весомое тому доказательство.
Знание — сила. 1983. № 2.

Колокольчик Ганнибала
Памяти Владислава Михайловича Глинки
В гости к XVIII столетию
 Гениальный правнук родился 26 мая 1799 г. и, полагаем, совсем не заметил, как окончился XVIII и начался XIX век. Позже начал, конечно, расспрашивать о дедах, прадедах — но ничего почти не сумел узнать. Батюшка Сергей Львович, дядя Василий Львович, матушка Надежда Осиповна отвечали неохотно — и на то были причины, пока что ему непонятные. Дело в том, что родители, люди образованные, светские, с французской речью и политесом, побаивались и стеснялись могучих, горячих, «невежественных» предков. Там, в XVIII столетии, невероятные, буйные, безумные поступки в среднем «раз в несколько лет» совершали и южные Ганнибалы, и северные Пушкины (еще неведомо — кто горячее!); там были неверные мужья, погубленные, заточенные жены, повешенные соперники, бешеные страсти, часто замешанные на «духе упрямства» политическом, когда Пушкины и Ганнибалы не уступали даже царям (но и цари в долгу не оставались!).
Александр Сергеевич мог бы расспросить стариков — но это оказалось почти невозможным: родной дед с материнской стороны Осип Абрамович Ганнибал был в разводе с бабкою и умер, когда внуку было семь лет; бабка, Марья Алексеевна, правда, жила с Пушкиными, часто выручала внука, когда на него ополчались отец с матерью, выучила его прекрасному русскому языку (ее письмами внуку после восхищались лицеисты!), но она, видно, не хотела распространяться о том, что много лет спустя Александр Сергеевич опишет коротко, жестко, с печальной иронией: «Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились разводом. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения. Он женился на другой жене, представя фальшивое свидетельство о смерти первой. Бабушка принуждена была подать просьбу на имя императрицы, которая с живостию вмешалась в это дело. Новый брак деда моего объявлен был незаконным, бабушке моей возвращена трехлетняя ее дочь, а дедушка послан на службу в Черноморский флот. Тридцать лет они жили розно. Дед умер в 1807 г. в своей псковской деревне от последствий невоздержанной жизни. Одиннадцать лет после того бабушка скончалась в той же деревне. Смерть соединила их. Они покоятся друг подле друга в Святогорском монастыре».
Миновало пушкинское детство, позади Лицей, Кишинев, Одесса — и осенью 1824 г. поэта ссылают в имение матери, село Михайловское. Здесь, близ Пскова и Петербурга, находилась когда-то целая маленькая «империя» — десятки деревень, полторы тысячи крепостных, пожалованных или купленных самим Ганнибалом I, Арапом Петра Великого. После его кончины четыре сына, три дочери, множество внуков разделились, перессорились — немало продали, перепродали, — и даже память о странном повелителе этих мест постепенно уходила вместе с теми, кто сам видел и мог рассказать…
Но неподалеку от Михайловского, в своих еще немалых владениях, живет в ту пору единственный из оставшихся на свете детей Абрама Ганнибала, его второй сын Петр Абрамович. Он родился в 1742 г., в начале царствования Елизаветы Петровны, пережил четырех императоров и — хотя ему 83-й год — переживет еще и пятого.
Любопытный внучатый племянник, разумеется, едет представляться двоюродному дедушке; едет в гости к XVIII столетию.
Гениальный правнук родился 26 мая 1799 г. и, полагаем, совсем не заметил, как окончился XVIII и начался XIX век. Позже начал, конечно, расспрашивать о дедах, прадедах — но ничего почти не сумел узнать. Батюшка Сергей Львович, дядя Василий Львович, матушка Надежда Осиповна отвечали неохотно — и на то были причины, пока что ему непонятные. Дело в том, что родители, люди образованные, светские, с французской речью и политесом, побаивались и стеснялись могучих, горячих, «невежественных» предков. Там, в XVIII столетии, невероятные, буйные, безумные поступки в среднем «раз в несколько лет» совершали и южные Ганнибалы, и северные Пушкины (еще неведомо — кто горячее!); там были неверные мужья, погубленные, заточенные жены, повешенные соперники, бешеные страсти, часто замешанные на «духе упрямства» политическом, когда Пушкины и Ганнибалы не уступали даже царям (но и цари в долгу не оставались!).
Александр Сергеевич мог бы расспросить стариков — но это оказалось почти невозможным: родной дед с материнской стороны Осип Абрамович Ганнибал был в разводе с бабкою и умер, когда внуку было семь лет; бабка, Марья Алексеевна, правда, жила с Пушкиными, часто выручала внука, когда на него ополчались отец с матерью, выучила его прекрасному русскому языку (ее письмами внуку после восхищались лицеисты!), но она, видно, не хотела распространяться о том, что много лет спустя Александр Сергеевич опишет коротко, жестко, с печальной иронией: «Ревность жены и непостоянство мужа были причиною неудовольствий и ссор, которые кончились разводом. Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения. Он женился на другой жене, представя фальшивое свидетельство о смерти первой. Бабушка принуждена была подать просьбу на имя императрицы, которая с живостию вмешалась в это дело. Новый брак деда моего объявлен был незаконным, бабушке моей возвращена трехлетняя ее дочь, а дедушка послан на службу в Черноморский флот. Тридцать лет они жили розно. Дед умер в 1807 г. в своей псковской деревне от последствий невоздержанной жизни. Одиннадцать лет после того бабушка скончалась в той же деревне. Смерть соединила их. Они покоятся друг подле друга в Святогорском монастыре».
Миновало пушкинское детство, позади Лицей, Кишинев, Одесса — и осенью 1824 г. поэта ссылают в имение матери, село Михайловское. Здесь, близ Пскова и Петербурга, находилась когда-то целая маленькая «империя» — десятки деревень, полторы тысячи крепостных, пожалованных или купленных самим Ганнибалом I, Арапом Петра Великого. После его кончины четыре сына, три дочери, множество внуков разделились, перессорились — немало продали, перепродали, — и даже память о странном повелителе этих мест постепенно уходила вместе с теми, кто сам видел и мог рассказать…
Но неподалеку от Михайловского, в своих еще немалых владениях, живет в ту пору единственный из оставшихся на свете детей Абрама Ганнибала, его второй сын Петр Абрамович. Он родился в 1742 г., в начале царствования Елизаветы Петровны, пережил четырех императоров и — хотя ему 83-й год — переживет еще и пятого.
Любопытный внучатый племянник, разумеется, едет представляться двоюродному дедушке; едет в гости к XVIII столетию.
«Я не поморщился…»
Отставной артиллерии генерал-майор и на девятом десятке лет жил с удовольствием. Жена не мешала, ибо давно, уже лет 30, как ее прогнал и не помирился, несмотря на вмешательство верховной власти (раздел же имущества происходил под наблюдением самого Гаврилы Романовича Державина, поэта и кабинет-секретаря Екатерины II). Все это было давно; говаривали про Петра Абрамовича, что, подобно турецкому султану, он держит крепостной гарем, вследствие чего по деревням его бегало немало темнокожих, курчавых «арапчат»; соседи и случайные путешественники со смехом и страхом рассказывали также, что крепостной слуга разыгрывал для барина на гуслях русские песенные мотивы, отчего генерал-майор «погружался в слезы или приходил в азарт». Если же он выходил из себя, то «людей выносили на простынях», иначе говоря, пороли до потери сознания. Заканчивая описание добродетелей и слабостей Петра Абрамовича, рассказчики редко забывали упомянуть о любимейшем из его развлечений (более сильном, чем гусли!), то есть о «возведении настоек визвестный градус крепости». Именно за этим занятием, кажется, и застал предка его молодой родственник, которого генерал, может быть, сразу и не узнал, но, приглядевшись, отыскал кое-какую «ганнибаловщину». «…Попросил водки. Подали водку. Налив рюмку себе, велел он и мне поднести; я не поморщился — и тем, казалось, чрезвычайно одолжил старого арапа. Через четверть часа он опять попросил водки и повторил это раз 5 или 6 до обеда. Принесли… кушанья поставили…» К сожалению, здесь, на очень интересном месте у самого начала беседы запись Пушкина о достопамятной встрече обрывается; но и в этих нескольких строках, кажется, отнюдь не только описание аперитива «по-ганнибаловски». В действительности молодому родственнику устраивается нечто вроде экзамена: дедушка велит поднести — внук «не поморщился»… Дело в том, что одетый по моде, современный молодой человек должен был вызвать у старика подозрение: кто их знает, нынешних, петербургских, — каковы они, стоит ли толковать? Там, в столицах, водка не очень принята: во дворце, на великосветских балах подают шампанское или другое сравнительно легкое вино — иначе могут нарушиться общественные приличия! Толковали о неслыханной дерзости декабриста князя Барятинского, который явился на придворный бал, выпив перед тем крепкого ямайского рома; когда одна из великих княгинь ядовито спросила, какими это новыми духами надушился князь, Барятинский смело ответил — «ямайскими»… Итак, водка для дворянина — питье домашнее, чаще деревенское, или — на войне, походное… Но внук «не поморщился, чем… чрезвычайно одолжил». «Старый арап» расположился, подобрел, может быть, даже в «азарт вошел». И тут, мы точно знаем, пошли разговоры, имевшие немалые последствия для российской литературы… Разговоры, за которыми и ехал Александр Сергеевич. Петр Абрамович принялся рассказывать о «незабвенном родителе» Абраме Петровиче; признался, что сам в русской грамоте не очень горазд — поэтому лишь начал свои воспоминания (сохранились несколько страничек корявого почерка, начинавшихся: «Отец мой… был негер, отец его был знатного происхождения…»). Зато — на стол перед внуком, столь одолжившим дедушку, ложится тетрадка, испещренная старинным немецким готическим шрифтом: «Awraam Petrovisch Hannibal war wirklich diesheis-tander General Anschef in Russisch Kaiserlichen Diensten…» Абрам Петрович Ганнибал был действительным заслуженным генерал-аншефом русской императорской службы, кавалером орденов святого Александра Невского и святой Анны. Он был родом африканский арап из Абиссинии, сын одного из могущественных, богатых и влиятельных князей, горделиво возводившего свое происхождение по прямой линии к роду знаменитого Ганнибала, грозы Рима… Пушкин держит в руках подробную биографию прадеда, написанную лет за 40 до того, вскоре после кончины «Африканского Арапа». Прежде, как видно, заветная тетрадь была у старшего сына, Ивана Абрамовича Ганнибала, знаменитого генерала, одного из главных героев известного Наваринского морского сражения с турками в 1770 г. Пушкин гордился, что в Царском Селе на специальной колонне в честь российских побед выбито имя Ивана Ганнибала, писал о нем в знаменитых стихах, но единственная встреча будущего поэта с этим двоюродным дедом, увы, происходила… в 1800 г.: годовалого мальчика привезли познакомиться со стариком, которому оставалось лишь несколько месяцев жизни. С того самого 1800 г. старший в роду уже Петр Абрамович, и к нему, естественно, переходит немецкая биография отца. Пока что он не желает ее отдавать Пушкину, но разрешает прочесть, сделать выписки… 1824 год: XVIII столетие осталось далеко позади; а в тетрадях Пушкина, один за другим, отрывки, черновики, копии документов, заметки о черном прадеде. В I главе «Евгения Онегина» (еще за несколько месяцев до приезда в Михайловское, когда был план побега из Одессы):
Петр и Петров
В то самое время, когда 24-летний царь Петр и его потешные осаждали и брали турецкую крепость Азов, при впадении Дона в Азовское море, — на берегу совсем другого моря, Красного, там, где сегодня Эфиопия граничит с Суданом, родился Ибрагим… Многоточие означает, что ни полного родового имени, ни имени его отца мы не знаем. 1696 г. Мы сегодня, в конце XX столетия, очень любим, пожалуй, гордимся быстрыми, фантастическими, совершенно обыкновенными человеческими перемещениями и превращениями (с полюса на полюс, из дебрей Африки — в Нью-Йорк, из актера — в президенты, из королей — в спортсмены…). Нет спору, наш век — фокусник, но и прежние умели вдруг слепить такую биографию, которая не скоро приснится и в XXI столетии. Оттого же, что нам кажется, будто старина была медленней и уравновешенней, — ее чудеса, наверное, представляются более неожиданными и удивительными. В самом деле, Северо-Восточная Африка, одно из самых жарких мест на земле; местный князек, у которого 19 сыновей (Ибрагим младший): «их водили к отцу, с руками, связанными за спину, между тем как он один был свободен и плавал под фон танами отеческого дома» (из пушкинского примечания к первому изданию «Евгения Онегина»). Отец Ибрагима, спасавший своих старших сыновей от естественного искушения — захватить власть и сесть на отцовское место, — этот вождь, шейх, или как как-то иначе называвшийся правитель почти наверняка и не слыхал о существовании России; но если бы кто-то ему объяснил, что он, владелец земель, фон танов, многочисленных жен и детей, — что он уже наперед знаменит как прапрадед величайшего русского поэта (а одна из его жен, конечно не главная, ибо мать всего лишь девятнадцатого сына, — это любезная нам прапрабабка); если бы кто-нибудь мог показать сквозь «магический кристалл», что в далекой, холодной, неизвестной «стране гяуров» проживают в это время, в конце XVII столетия, полтора десятка потенциальных родственников, тоже прапрадедов и прапрабабок будущего гения; если бы могли темнокожие люди в мальчике угадать российского воина, французского капитана, строителя крепостей в Сибири, важного генерала, который окончит свои дни в деревне среди северных болот под белыми ночами… Если бы все это разглядели оттуда, с тропического Красного моря, — то… вряд ли удивились бы сильно. Скорее — вздохнули б, что пути аллаха неисповедимы; и, пожалуй, эта вера в судьбу позволила бы понять случившееся как нечто совершенно естественное… Случилось же вот что. Семилетнего Ибрагима сажают на корабль, везут по морю, по суше, опять по морю — и доставляют в Стамбул, ко дворцу турецкого султана. Пушкин, беседуя с двоюродным дедушкой и разбирая немецкую биографию прадедушки, никак не мог понять — зачем мальчика увезли? Петр Абрамович за рюмками ганнибаловской настойки объяснил поэту, что мальчика похитили, и даже припомнил рассказ своего отца, как любимая его сестра в отчаянии плыла за кораблем… Немецкая же биография (составленная со слов Ибрагима-Абрама) толковала события иначе: к верховному повелителю всех мусульман, турецкому султану, привозили в ту пору детей из самых знатных фамилий в качестве заложников, которых убивали или продавали, если родители «плохо себя вели». Впрочем, дедушка и другие родичи ни словом не касались одного обстоятельства, которое открылось полностью уже в наши дни, в XX в.: дело в том, что похитили или увезли двух братьев, из которые Ибрагим был младшим… Нет сомнения, что о старшем ни Пушкин, ни Петр Абрамович не знали ничего. Тут любопытная загадка, но к ней еще вернемся. Так или иначе — в 1703 г. Ибрагим с братом оказались в столице Турции, а год спустя их вывозит оттуда помощник русского посла. Делает он это по приказу своих начальников — управителя Посольского приказа Федора Алексеевича Головина и русского посла в Стамбуле Петра Андреевича Толстого. Тут мы не удержимся, чтобы не заметить: Петр Толстой — прапрадед великого Льва Толстого, прямой предок и двух других знаменитых писателей, двух Алексеев Толстых, — именно он руководит похищением пушкинского прадеда! И, разумеется, все это делается по приказу царя Петра и для самого царя Петра. Двух братьев (и еще одного «арапчика») со всеми мерами предосторожности везут по суше, через Балканы, Молдавию, Украину. Более легкий, обычный путь по Черному и Азовскому морям сочли опасным, так как на воде турки легче настигли бы похитителей… Зачем же плелась эта стамбульская интрига? Почему царю Петру срочно потребовались темнокожие мальчики? Вообще было модно иметь придворного «арапа», негритенка при многих европейских дворах. Но Петр не только эффекта ради послал секретную инструкцию — добыть негритят «лучше и искуснее»: он хотел доказать, что и темнокожие арапчата к наукам и делам не менее способны, чем многие упрямые российские недоросли. Иначе говоря, тут была цель воспитательная: ведь негров принято было в ту пору считать дикими, и чванство белого колонизатора не знало границ. Царь Петр же, как видим, ломает обычаи и предрассудки; ценит головы по способности, руки — по умению, а не по цвету кожи… И вот мальчиков везут в Россию. По дороге они впервые в жизни увидели снег; точно известно, что в Москву прибыли 13 ноября 1704 г., куда вскоре возвращается из удачного похода против шведов царь Петр. Можем вообразить первую встречу с братьями, царский экзамен — на что способны, — затем крещение… Пушкин: «Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707 г., с польской королевой, супругой Августа, и дал ему фамилию Ганнибал. В крещении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр оставил при себе своего крестника. До 1716 г. Ганнибал находился неотлучно при особе государя, спал в его токарне, сопровождал его во всех походах; потом послан был в Париж». Вот уже, как видим, Арап Петра Великого делается более похожим «на самого себя», хотя историки поправляют поэта чуть ли не на каждом слове. Крещение было действительно в Вильне, но не в 1707-м, а на два года раньше; польской королевы при этом не было; гордое, древнее имя Ганнибал — так стал называться Ибрагим (Абрам) только после смерти царя Петра, а до того везде — Абрам Петров или Абрам Петрович Петров. Пушкин того не знал — да и дедушка Петр Абрамович плохо различал подробности. Конечно, немецкая биография утверждала, что Арап Петра Великого действительно происходил от великого карфагенского полководца (имевшего если не негритянскую — арапскую, то, во всяком случае, потемневшую «арабскую» кожу); Пушкин же, понятно, не стал настаивать, будто находится в прямом родстве с победителем при Каннах! Зато Абрам Петров, как мы сейчас догадываемся, еще обходился без столь громкого древнего имени при царе Петре, который невысоко ценил знатность рода: чего стоит, например, Меншиков, впрочем, успевший еще при Петре стать «герцогом Ижорским, светлейшим князем Российской империи и Римского государства»; споры о происхождении Меншикова, о мифических знатных предках, которых изобретал для себя светлейший, теперь, в связи с выходом отличного исследования Н. И. Павленко «Александр Данилович Меншиков», вероятно, прекратятся — пирожник он, блинник! Притом, как точно доказал Н. И. Павленко, главный помощник царя по внедрению новой культуры, губернатор, командующий, администратор, финансист, хитроумный дипломат, бегло говоривший по-немецки, Меншиков, оказывается был неграмотен абсолютно (умел только подписаться, вернее, нарисовать свою подпись)! Зато какова должна быть смекалка такого человека, каковы его секретари и помощники… Между тем в документе, подписанном не кем иным, как Исааком Ньютоном, Александр Данилович извещается об избрании в члены Британского королевского общества в знак уважения к его «величайшей просвещенности»! Наш-то герой, Ганнибал, по крайней мере был грамотен, образован на самом деле; действительно знал разные языки, геометрию, фортификацию… Но, во-первых, простонародная фамилия Петров. Во-вторых, «подозрительный» старший брат… Абрам Петрович, как видно, не любил толковать о нем; знаем только, что тот звался после крещения Алексеем Петровичем, что, вероятно, не очень понравился царю и карьеры не сделал: через 12 лет после прибытия в Россию он, согласно документам (недавно найденным В. П. Козловым), числился гобоистом Преображенского полка и был женат на крепостной ссыльных князей Голицыных. Женат на крепостной — значит, и сам почти такой же… Насчет же другого старшего брата, который будто бы приезжал из Африки в Петербург и предлагал за младшего выкуп, — об этом, кроме как в немецкой биографии, сведений нет; и вообще странная это история, чтобы один из сыновей, некогда являвшихся на глаза к отцу «со связанными руками», вдруг так воспылал братскими чувствами, что отыскал младшего «за шестью морями»… Подозреваем, что в семейных рассказах неблагополучный гобоист Алексей Петров вдруг переменил свою роль, превратился в легенду, на самом же деле — умер, уехал, может быть, и попытался найти дорогу на родину — кто знает? Наконец, третий довод против особой знатности «африканского принца»: не так давно И. Л. Фейнберг отыскал в библиотеке Академии наук в Ленинграде рукописное сочинение «Геометрия и фортификация» Абрама Петрова (преподнесенное в 1726 г., вскоре после смерти Петра Великого, императрице Екатерине I)[53]. Ученый сообщил, что «книга эта вид имеет великолепный. Текст в ней начертан каллиграфически, в ней превосходнейшие, первоклассные по уровню чертежи, выполненные, по-видимому, самим Арапом, и предпослано этой книге посвящение». В посвящении царице сочинитель «Геометрии и фортификации» рассказывает свою биографию и подробно перечисляет заслуги — где сражался, где учился, как и за что был награжден Петром Великим. Именно в документе было бы, конечно, очень уместно напомнить о своем знатном происхождении, о родстве с великим полководцем древности. Но ни о чем подобном, как и вообще о своем рождении и детстве, Абрам Петров не пишет ни слова. И мы хорошо понимаем — почему! Ведь Екатерина I (как и многие ее приближенные) знала Арапа Петра Великого с малолетства, и, разумеется, царица хорошо помнила, что ни о каких знатных африканских предках никогда речи не было: Абрам Петрович слишком умен, чтобы вдруг объявить о чем-то эдаком; ведь не поверят, на смех поднимут! Иное дело — когда свидетели, помнившие начало XVIII в., сходят со сцены… Новое поколение властителей уже смутно помнит, кто был и что было в 1704-м и следующих годах. И чем позже, тем смелее Арап вводит в свою биографию знатных предков… Императрице Елизавете, дочери Петра, в 1742-м (через 16 лет после осторожного перечисления своих заслуг в посвящении к «Геометрии») он уже сообщает: «Родом я, нижайший, из Африки, тамошнего знатного дворянства, родился во владении отца моего, в городе Логоне, который и кроме того имел под собою еще два города». Вскоре после смерти царя-благодетеля титулы, звания возрастают в цене, становятся способом выжить, пробиться… И тут-то Абрам Петров впервые называется Ганнибалом, да еще заказывает особый герб: слон под короной; намек на африканский царский род. Те, кто сегодня, 200 лет спустя, улыбнутся тщеславию или фанфаронству нашего Африканца, будут судить неисторически: ведь нельзя же мерить людей былых веков мерками наших представлений! Эдак можно упрекнуть Петра, что он, скажем, не освободил крепостных крестьян, или — что люди XVI–XVII вв. проливали кровь из-за «чепухи» — разницы в религиозных обрядах… Если же судить XVIII век по законам XVIII в., то мы сразу увидим, что Абрам Петрович был похож на многих лучших людей того времени, которые с большой энергией воевали, строили, управляли, учились, учили — но притом постоянно интриговали, рвались к имениям, придворным должностям, титулам, капиталам, мучили крестьян, собственных жен, детей и себя самих… Так обстояло дело с Ганнибаловой знатностью… Чтобы покончить с этим сюжетом, заметим, что при всем при том черный мальчик действительно мог быть сыном какого-нибудь африканского князька: ведь его, как мы точно знаем, выкрали в 1704 г. в Стамбуле не без опаски! Может быть, главная трудность для Ибрагима (Абрама) — перевести африканские понятия о знатности на «русский язык», на термины и понятия другой, сильно отличающейся феодальной системы. Это было так сложно, воспоминания детства были так смутны, что легче было придумать задним числом нечто понятное, привычное его российским современникам… Придумать, например, родство с древним Ганнибалом, в то время как все попытки советского журналиста Хохлова узнать родословное древо владетельных фамилий в Ганнибаловых краях на берегу Красного моря, окончились неудачей: оказывается, в тех местах феодальные владельцы не признают «европейской генеалогии», не запоминают далеких предков… Не исключено, что со временем разобраться в этом запутанном деле помогут турецкие архивы. Ведь если действительно выкрали африканского заложника из султанского двора, то это могло быть зафиксировано в стамбульских документах летом или осенью 1704 года… Специалисты по Турции, правда, сомневаются. Во-первых, напоминают, что после свержения последнего султана в 1918 г. турецкие республиканцы столь сильно желали истребить всякую память о прежнем режиме, что побросали древние бумаги в Черное, Мраморное и Эгейское моря… К счастью, уничтожено не все… Во-вторых, вздыхают коллеги-востоковеды, не столь уж грамотной была Оттоманская империя, чтобы всякое слово «в строку писать». Но тут мы позволяем себе не согласиться: могучая империя, несколько веков существовавшая в трех частях света, — такая империя не продержалась бы и десятилетия без обширной бюрократической писанины… А если так, надо заглянуть в бумаги, относящиеся к правлению двадцать четвертого султана и халифа Ахмета III, вступившего на престол в 1703 г. Запрос в Турцию послан, скорого ответа не ждем, а посему отправимся дальше — вслед за нашим героем…
1717–1723. Париж
Абрам Петров туда не «послан» (как думал Пушкин), но оставлен Петром для учения: в 1717-м царь со свитой, где был и Арап, посетил Францию, познакомился с ее науками, искусствами, знаменитыми полководцами и, разумеется, — с самим королем («…объявляю Вам, — писал Петр царице, — что в прошлый понедельник визитировал меня здешний королище, который пальца на два более Луки <карлика> нашего, дитя зело изрядное образом и станом, и по возрасту своему довольно разумен, которому семь лет»). Король Людовик XV вступил на трон пятилетним и правил уже второй год. Мы не знаем, был ли допущен Абрам Петров на встречу монархов, но точно известно благодаря исследованиям Фейнберга, что царь сам лично рекомендовал его герцогу Дю Мену, родственнику короля и начальнику всей французской артиллерии. Пушкин: «Потом послан был в Париж, где несколько времени обучался в военном училище, вступил во французскую службу, во время испанской войны был в голову ранен в одном подземном сражении (сказано в рукописной его биографии) и возвратился в Париж, где долгое время жил в рассеянии большого света. Петр I неоднократно призывал его к себе, но Ганнибал не торопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему…» О французской жизни пушкинского прадеда давно идут ученые споры: вроде бы не было у Арапа средств для рассеянной светской жизни; он сам и его напарник регулярно жаловались в Петербург, что назначенные им суммы задерживаются: «…на плечах ни кафтана, ни рубашки, почитай, нет, мастера учат в долг. Просим по некоторому числу денег, чтобы нам мастерам дать, но наше прошение всегда напрасно…» Выходит, Пушкин, несколько обманутый дедушкой и немецкой биографией, преувеличивает, завышает светскую, общественную роль своего прадеда в Париже? Но, с другой стороны, как верно замечает современная исследовательница Н. К. Телетова, «жалобные письма — простая дань эпохе, клянчить было тогда в обычае». К тому же, не получая вовремя русских денег, Абрам Петрович получал французские за свою временную службу юному королю Людовику XV… Поэтому не станем торопиться с выводом — «Пушкин прав — Пушкин ошибся»; скажем осторожнее: Пушкину так представлялось дело; Петр I, как видно, действительно любил своего Арапа, выдвигал его, поощрял… Сыновья, внуки, правнуки А. П. Ганнибала, разумеется, гордились, что их предок был столь близок к великому царю; они были, конечно, склонны и преувеличивать эту близость, иногда, впрочем, делая это невольно… Оставляя смышленого ученика во Франции — центре европейской культуры, — царь действительно многого от него ждет, как и от других стажеров. В российском просвещении XVIII столетия рук и голов очень и очень не хватает! И Петр велит издавать книги огромными тиражами: пусть из 10–12 тысяч экземпляров 90 % сгниет на складах (подсчеты известного советского книговеда С. Луппова). Ничего! Все же 200–300 раскуплены, прочтены, есть толк! Пусть двенадцать выписанных из Германии профессоров не могут пока найти квалифицированных слушателей (нужно ведь знать немецкий, латынь, да еще разбираться в предмете!). Ничего! Чтобы гости не «простаивали» — для них специально приглашают из той же Германии еще 8 студентов. Что за начало новой российской науки — 12 немцев читают 8 немцам? Но разве арап, совершенствующийся в науках во Франции, менее причудлив? И уже через несколько лет к студентам-немцам присоединятся несколько молодых русских ученых — зазвучат имена Ломоносова, Крашенинникова… И разве славный прадед не оставил кое-что в наследство гениальному правнуку? Однако прежде чем проводить Ганнибала (то есть в ту пору еще Абрама Петрова) из Франции, попробуем к нему приглядеться. Знал ли Пушкин своего прадеда в лицо? Между строками его черновика мелькает время от времени «арапский профиль» то ли самого поэта, то ли воображаемого предка… В повести «Арап Петра Великого» Корсаков пугает Ганнибала: «…с твоим ли… сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?» Там же Ибрагим беседует с царем: «— Если бы и имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? Моя наружность… — Твоя наружность! Какой вздор! Чем ты не молодец?» Много лет считали Ганнибалом важного смуглого генерала в парадной форме — этот портрет попал в десятки книг, учебников, обзоров… Однако несколько лет назад Г. А. Леец заметил, что у Арапа не те ордена: например, Ганнибал никогда вообще не получал очень высокого ордена Георгия 2-й степени (эта награда вообще была введена уже тогда, когда престарелый генерал давно находился в отставке). Оказалось, что «Арап с лентой» — это довольно известный военачальник конца XVIII в. генерал Иван Иванович Меллер-Закомельский, человек происхождения немецкого, посмуглевший во время войн с турками в южных степях и на берегу Черного моря… Вскоре после опровержения первого портрета явился на свет второй: изображение молодого, красивого негра в подчеркнуто восточном наряде, с медалью, на которой профиль Петра Великого… Казалось бы, загадка решена: вот он — «Negre du tzar», царский негр; но нет! Н. К. Телетова опровергает… На «втором портрете» она замечает корабли и некоторые другие знаки, обозначающие морскую службу изображаемого; наш же Абрам Петров был человек инженерный, сухопутный, моря (как сейчас увидим) вообще побаивался… Телетова установила имя нового героя: Питер Елаев, по прозвищу Секи. Один из нескольких «Отелло», которых Петр Великий охотно нанимал в Европе для своего будущего флота… Однако после отставки второго портрета тут же явился третий… На этот раз, кажется, неоспоримый! Его заметил научный сотрудник Пушкинского заповедника на Псковщине Б. М. Козмин; о нем написал специальное исследование тот, чьей памяти посвящена наша работа, — Владислав Михайлович Глинка (статья должна появиться в одном из ближайших томов издания «Памятники культуры. Новые открытия»)[54]. Как это часто бывает, искали повсюду, а он, Ганнибал, был на виду! Французскому художнику Пьеру Мартену-младшему было заказано изображение нескольких главных битв Петра Великого. Мастер добросовестно выполнил заказ, и его большие картины «Битва при Лесной», «Полтава» уже третье столетие хранятся в Зимнем дворце, Эрмитаже. Тысячи раз возле них ходили замечательные специалисты, просто не догадывавшиеся присмотреться к «действующим лицам»: меж тем на холсте легко угадываются не только царь Петр, Меншиков и десятки других, точно «скопированных» исторических лиц: рядом с Петром — высокий юноша-негр или мулат. Это он; правда, во время битвы при Лесной и при Полтаве Ибрагиму-Абраму было 12–13 лет, а на картинах — молодой человек лет 20… Но эта ошибка — как раз и довод в пользу подлинности. Ведь художник-француз портретировал Ганнибала во Франции, лет через 8–9 после Лесной и Полтавы! На картинах Мартена тот самый Абрам Петров, который учился у лучших инженеров Европы, собирал прекрасную библиотеку, который надолго, почти на четверть тогдашней своей жизни, задержался во Франции, пока не наступил час возвратиться в Россию… Абрам Петрович просил только об одном: ехать домой не морем, а по суше; умолял кабинет-секретаря «доложить императорскому величеству, что я не морской человечек; вы сами, мой государь, извольте ведать, как я был на море храбр, а ноне пуще отвык. Моя смерть будет, ежели не покажут надо мною милосердие божеское… Ежли императорское величество ничего не пожалует, чем бы нам доехать в Питербурх сухим путем, то рад и готов пешком итти». И еще раз: «Я бы с тем поехал, ежели недостанет, то бы милостыну стал бы просить дорогой, а морем не поеду, воля его величества». Крестник Петра, действительно отличившийся за 8 лет до того в Гангутской битве, возможно, попал однажды в бурю; или вдруг подступили детские воспоминания: море, корабль и плывущая за ним сестра? Вскоре после наступления нового, 1723 г. русский посол в Париже князь Василий Лукич Долгорукий отправляется в путь — посуху, через Германию, Польшу. В посольской свите — «отставной капитан французской армии Абрам Петров».
28 января 1723 года
Пушкин: «Петр I неоднократно призывал его к себе, но Ганнибал не торопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему, что он неволить его не намерен, что представляет его доброй воле возвратиться в Россию или остаться во Франции, но что, во всяком случае, он никогда не оставит прежнего своего питомца. Тронутый, Ганнибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал к нему навстречу и благословил образом Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но которого я не мог уж отыскать. Государь пожаловал Ганнибала в бомбардирскую роту Преображенского полка капитан-лейтенантом. Известно, что сам Петр был ее капитаном. Это было в 1722 году». Сцена встречи и благословения царем своего любимца нам известна не столько по историко-биографической записи Пушкина, сколько по другому ее описанию, выполненному все тем же правнуком. «Оставалось двадцать восемь верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого росту, в зеленом кафтане, с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. „Ба! Ибрагим? — закричал он, вставая с лавки. — Здорово, крестник!“ Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приблизился, обнял его и поцеловал в голову. „Я был предуведомлен о твоем приезде, — сказал Петр, — и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня“. Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. „Вели же, — продолжал государь, — твою повозку везти за нами; а сам садись со мною и поедем ко мне“. Подали государеву коляску. Он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Через полтора часа они приехали в Петербург». Эта встреча Петра и Ганнибала из повести «Арап Петра Великого» попала потом в другие рассказы, романы, была запечатлена известным художником. Историки, правда, уточнили, что дело было не в 1722 г., а 27 января 1723 г.: именно в этот день царь после семилетнего почти перерыва встретился со своим учеником, денщиком, секретарем, наперсником… Все, казалось бы, ясно… Но два очень серьезных специалиста этой эпохи недавно, совершенно независимо друг от друга, пришли вот к какому выводу насчет той встречи: Георг Леец: «В действительности ничего этого не было. И не могло быть по той причине, что Петр I находился с 18 декабря 1722 г. по 23 февраля 1723 г. в Москве. В Москву и прибыл из Франции 27 января 1723 г. князь В. Л. Долгорукий вместе с Абрамом». Н. К. Телетова уточняет: «Было это 27 января 1723 г., когда посольство Василия Лукича Долгорукого, в свите которого возвращался Абрам Петрович, прибыло в первопрестольную из Франции». В «Походном журнале» за 27 января 1723 г. записано: «Сегодня явился его величеству поутру тайный советник князь Василий Долгорукий, который был министром в Париже и оттуда приехал по указу… Сегодня была превеликая метель и мокрая». Так, метелью превеликой, встречала Абрама его вторая родина. Ни о каких выездах навстречу царя и царицы речь на деле не шла. Если даже к важному вельможе, послу во Франции, Петр не счет нужным выехать, то что уж толковать про скромного «арапа»; к тому же царь в эти дни был сильно не в духе: готовились к новым казням, а не к дружеским объятиям… Итак, не было, не могло быть. «Как жаль!» — готовы мы воскликнуть вместе с читателем или вспомнить пушкинское —
Встречал — не встречал…
Итак, Петр не встречал. Незадолго перед тем, вернувшись в Москву из персидского похода, обнаружил дома множество неустройств… Император устал — жить ему оставалось ровно два года — и, будто чувствуя, как мало удастся совершить, особенно гневен на тех, кто мешает. Петр немало знал, например, про колоссальные хищения второго человека в государстве Меншикова и еще многих, многих. И вот — в назидание сподвижникам, как раз в те дни, когда посольство Долгорукова подъезжало к старой столице, была учинена публичная расправа над одним из славнейших «птенцов гнезда Петрова». Барон Петр Шафиров, опытнейший дипломат, в течение многих лет ведавший внешнеполитическими делами, товарищ, заместитель, только что был обвинен в больших злоупотреблениях, интригах. Комиссия из десяти сенаторов лишает его чинов, титула, имения и приговаривает к смерти. Голова уже положена на плаху, палач поднял топор — но не опустил: царь прощает ссылкою «под крепким караулом». Москва присмирела и ожидает новых опал; Василий Лукич Долгорукий и приехавший с ним в одно время (из Берлина) другой русский дипломат Головкин ожидают, когда царь их примет и выслушает. Царь принял, много толковал с дипломатами, конечно, перемолвился с Абрамом Петровым — оттаял… Выходило, что есть еще верные слуги; доклады из Парижа и Берлина оказались лучше, чем ожидал требовательный, придирчивый, нервный император. И раз так — этот случай тоже надо сделать назидательным, нравоучительным… Через месяц без малого, 24 февраля 1723 г., Петр выезжает из Москвы в Петербург. Если нужно ему было, несся лихо и мог покрыть расстояние меж двух столиц за рекордный срок — двое суток! Но на этот раз царь не торопился: устал; к тому же по дороге кое-что осмотрел, кое-куда заехал — и достиг Невы на 8-й день пути, 3 марта 1723 года. А вслед за Петром из Москвы двинулись в путь дипломаты: Долгорукий со свитой, Головкин с людьми; 27-летний Абрам Петров меж ними — персона не главная, но и не последняя… Ехали не торопясь, но и не медля — чтобы прибыть точно в назначенный день. А в назначенный день — свидетельствуют документы — Петр выехал к ним навстречу «за несколько верст от города, в богатой карете, в сопровождении отряда гвардии; им был оказан особый почет». Таким образом был разыгран спектакль — для жителей, для гвардии, для придворных, для высших сановников… Петр как будто «не видел» послов в Москве — и теперь торжественно, впервые принимает их недалеко от своей новой столицы: умеет казнить — умеет награждать. Итак, царская милость; и, конечно, часть ее относилась к Абраму Петрову. Царь, выходящий навстречу, обнимает, благословляет всех — и своего крестника — образом Петра и Павла… Вскоре после того Арапа жалуют чином, но не капитан-лейтенантом, а инженер-поручиком бамбардирской роты Преображенского полка: Пушкин, вслед за немецкой биографией завысил чин. Итак, что же выходит? Пушкин: «Ба! Ибрагим? — закричал он, вставая с лавки. — Здорово, крестник!» Позднейшие историки: «Ничего этого не было… Ни о каких выездах навстречу… речь на деле не шла». Но все-таки — было, было… Просто «невстреча» в Москве 27 января и встреча у Петербурга в марте слились в памяти в одно целое: может быть, уже в сознании самого Абрама Петровича, а уж у детей его, у автора немецкой биографии — и подавно… Но не слишком ли много внимания частному эпизоду (не встречал — встречал)? Подумаешь, какая важность! Что же в конце концов следует из всего этого? Во-первых, то, что к преданиям, легендам нужно относиться бережно: не верить буквально, но и не отвергать с насмешкою. Разумеется, в наши «письменные века» предания не ту роль играют, что у диких племен, где они заменяют историю, литературу и другие отрасли культуры. В нашу эпоху, повторяем, дело иное, но не совсем иное. Я сам видел почтенного специалиста-историка, который, показывая на старинный портрет, объяснял: «Это мой прапрадед, но, по правде говоря, это не он» (ордена опять же не те!). Итак, во-первых, ценность легенды, семейного рассказа… Во-вторых, признаемся: приятно убедиться, что Пушкин не ошибся! Признаемся по секрету, что, если бы не было встречи Петра и Ганнибала, — Пушкин все равно был бы прав, ибо все доказал художественно. Но притом сам Александр Сергеевич ведь считал, что Петр на самом деле выезжал навстречу своему Арапу (и, если бы иначе думал, не стал бы о том писать!), а нам, повторяем, все-таки приятно, что художественно-историческое совпало с историко-документальным…
Еще 15 лет
Умер Петр Великий, два года поцарствовала его жена Екатерина I, еще 3 года — юный внук, Петр II; с 1730-го правит двухметровая, восьмипудовая племянница Петра Анна Иоанновна, которая вместе со своим фаворитом Бироном нагоняет страху казнями, пытками, ссылками и зверскими увеселениями, вроде знаменитого «ледяного дома» (он даст название известному роману Ивана Лажечникова). Один из историков вот как опишет 1730-е годы: «Страшное „слово и дело“ раздавалось повсюду, увлекая в застенки сотни жертв мрачной подозрительности Бирона или личной вражды его шпионов, рассеянных по городам и селам, таившихся чуть ли не в каждом семействе. Казни были так обыкновенны, что уже не возбуждали ничьего внимания, и часто заплечные мастера клали кого-нибудь на колесо или отрубали чью-нибудь голову в присутствии двух-трех нищих старушонок да нескольких зевак-мальчишек». Лихие вихри качали великую страну, забирали тысячи жизней, возводили и низвергали веселых фаворитов, свирепо обрушивались и на пушкинского прадеда… Однако предоставим слово самому поэту, продолжим чтение его последних записок: «После смерти Петра Великого судьба (Ганнибала) переменилась. Меншиков, опасаясь его влияния на императора Петра II, нашел способ удалить его от двора. Ганнибал был переименован в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить Китайскую стену. Ганнибал пробыл там несколько времени, соскучился и самовольно возвратился в Петербург, узнав о падении Меншикова и надеясь на покровительство князей Долгоруких, с которыми он был связан». Опять кое-что взято из немецкой биографии, кое-что из рассказов… Всего несколько слов о сибирском житье Абрама Петрова (впрочем, именно с 1730-х годов он твердо именуетсебя Ганнибалом). Одна-две фразы — но за ними три года жизни в тех краях… Ганнибал, опытный инженер, занят в Сибири серьезными делами, мы точно знаем, какие укрепления он там возводил по последнему слову европейской науки и техники. Пушкин иронизирует — «измерить Китайскую стену»; в немецкой биографии, разумеется, иначе: там говорится о «китайской границе»; Пушкин, однако, знает, о чем пишет: «Китайская стена» находится в Китае, а не близ Иркутска, однако правнук нарочно пишет нелепость, подчеркивая таким образом, что прадеду важных поручений не давали, что все это был повод — выслать его из столицы… К сожалению, поэт так и не познакомился с необыкновенным по выразительности документом, отчаянным прошением прадеда, отправленным 29 июня 1727 г. А. Д. Меншикову из Казани (по пути в Сибирь): «Не погуби меня до конца имене своего ради! И кого давить такому превысокому лицу — такого гада и самую последнюю креатуру на земли, которого червя и трава может сего света лишить: нищ, сир, беззаступен, иностранец, наг, бос, алчен, жажден; помилуй, заступник и отец и защититель сиротам и вдовицам…». Письмо осталось без ответа, но вскоре уж Меншикова везут в Сибирь, Арап же возвращается. О 1730-х годах всего семь фраз, но зато пушкинских! «Судьба Долгоруких известна. Миних спас Ганнибала, отправя его тайно в ревельскую деревню, где и жил он около десяти лет в поминутном беспокойстве. До самой кончины своей он не мог без трепета слышать звон колокольчика… Он написал было свои записки на французском языке, но в припадке панического страха, коему был подвержен, велел их при себе сжечь вместе с другими драгоценными бумагами. В семейственной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с ней развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре, а дочь ее Поликсену оставил при себе, дал ей тщательное воспитание, богатое приданое, но никогда не пускал ее себе на глаза. Вторая жена его, Христина-Регина фон Шеберх, вышла за него в бытность его в Ревеле обер-комендантом и родила ему множество черных детей обоего пола». Итак, Ганнибал чуть не лишился головы — вслед за бывшим послом Василием Долгоруким (в свите которого некогда возвращался из Франции) и с другими противниками Анны Иоанновны. Влиятельный полководец Миних чудом спас… Вместе с политическими неприятностями — семейные, и наш герой в печали, отставке: в своей деревне вспоминает славные петровские годы и ожидает… Мы теперь точно знаем, что деревушка (вернее, хутор, мыза) называлась Карьякула, находилась в 30 километрах юго-западнее Ревеля (нынешнего Таллинна): пять крестьянских хозяйств и не намного больше помещичье… Знаем также, что с первой женой отставной майор Ганнибал расправился куда страшнее, чем это представлялось поэту: согласно материалам бракоразводного дела, обнаруженным много лет спустя, муж «бил несчастную смертельными побоями необычно», обвинял жену (и кажется, не без оснований) в попытке его отравить, держал ее много лет на грани голодной смерти «под караулом»; война супругов, продолжавшаяся много лет, завершилась разводом и отправкой Евдокии Андреевны из Петербурга в Староладожский (не Тихвинский) монастырь:
Колокольчик
Мемуары Ганнибала по-французски и другие «ценные бумаги» — сколько б мы отдали, чтоб прочесть их: одно дело немецкая биография, составленная родственником через несколько лет после кончины самого рассказчика, совсем другое дело — его собственноручные записки, наверное весьма откровенные, если было чего «панически бояться»; кстати, французский язык, столь распространенный среди дворян конца XVIII и начала XIX столетия, в петровские времена считался еще отнюдь не главным и уступал в России немецкому, голландскому; пожалуй, начиная с 1740-х годов, когда новая императрица Елизавета Петровна сильно ослабила немецкое и усилила французское влияние при дворе, — пожалуй, только тогда французский начинает брать верх… Так что, сочиняя по-французски при Анне Иоанновне, Арап Петра Великого все же был в большей безопасности, чем если бы писал по-русски, по-немецки… Но вот что любопытно: в немецкой биографии ни слова о сожженных записках, о страхе, — и это понятно: там ведь о покойном Абраме Петровиче говорится только хорошее, возвышенное… Но как же Пушкин дознался о паническом сожжении записок? Наверное, все у того же Петра Абрамовича, который, вручая внучатому племяннику немецкую биографию, мог вздохнуть о французской… Сказать-то сказал в 1824-м или 25-м, но Пушкин с особенным чувством эту подробность запомнил и 10 лет спустя внес ее в свою Автобиографию. Насчет «особенного чувства» мы не фантазируем, но уверенно настаиваем: дело в том, что на несколько страниц раньше та же самая пушкинская Автобиография начинается вот с каких строк: «…в 1821 году начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 г., при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь свои записки. Они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв». «Я принужден был сжечь свои записки…» «Ганнибал велел их при себе сжечь». В предке и потомке история повторяется почти буквально, так же как и многие другие обстоятельства! Например, поэт запишет в начале 1830-х годов о дедах: «Гонимы, гоним и я». Подобные соревнования, — может быть, ради них и разговор о предках ведется:
Не было колокольчика
Владислав Михайлович Глинка (1903–1983) — один из самых интересных людей, которых я встречал. Он был писателем, автором прекрасных сочинений о людях конца XVIII — начала XIX в. («Повесть о Сергее Непейцыне», «Повесть об унтере Иванове» и другие)… Кроме того, что они написаны умно, благородно, художественно, — кроме этого, их отличает щедрость точного знания. Если речь идет, например, об эполетах или о ступеньках Зимнего дворца, о жалованье инвалида, состоящего при шлагбауме, или деталях конской сбруи 1810-х годов, — все точно, все так и было, и ничуть не иначе. Удивляться этому не следует, ибо писатель В. М. Глинка — это и крупный ученый В. М. Глинка, работавший во многих музеях, являвшийся главным хранителем отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа и великолепно знавший прошлое… Приносят ему, например, предполагаемый портрет молодого декабриста-гвардейца — Глинка с нежностью глянет на юношу прадедовских времен и вздохнет: — Да, как приятно, декабрист-гвардеец; правда, шитья на воротнике нет, значит, не гвардеец, но ничего… Какой славный улан (уж не тот ли, кто обвенчался с Ольгой Лариной, — «улан умел ее пленить»); хороший мальчик, уланский корнет, одна звездочка на эполете — звездочка, правда, была введена только в 1827 году, то есть через 2 года после восстания декабристов, — значит, этот молодец не был офицером в момент восстания. Конечно, бывало, что кое-кто из осужденных возвращал себе солдатскою службою на Кавказе офицерские чины, — но эдак годам к 35–40, а ваш мальчик лет 20… да и прическа лермонтовская, такого зачеса в 1820–1830-х еще не носили… Ах, жаль, пуговицы на портрете неразборчивы, а то бы мы определили и полк и год. Так что не получается декабрист никак — а вообще славный мальчик… Говорят, будто Владислав Михайлович осердился на одного автора, упомянувшего в своем вообще талантливом романе, что Лермонтов «расстегнул доломан на два костылька», в то время как («кто ж не знает!») «костыльки» — особые застежки на гусарском жилете-доломане — были введены в 1846 г., через пять лет после гибели Лермонтова: «Мы с женой целый вечер смеялись». Вот такому удивительному человеку автор этих строк поведал свои сомнения и рассуждения насчет старшего Ганнибала, его записок и колокольчика. — Не слышу колокольчика, — сказал Владислав Михайлович. — То есть где не слышите? — В XVIII в. не слышу и не вижу: на рисунках и картинах той поры не помню колокольчиков под дугою, да и в литературе, по-моему, раньше Пушкина и его современника Федора Глинки никто колокольчик, «дар Валдая», не воспевал… Не помнил Владислав Михайлович в XVIII столетии колокольчика и предложил справиться точнее у лучшего специалиста по всем колоколам и колокольчикам Юрия Васильевича Пухначева. Отыскиваю Юрия Васильевича, он очень любезен и тут же присоединяется к Глинке: не слышит, не видит колокольчика в Ганнибаловы времена: «Часто на колокольчике стоит год изготовления… Самый старый из всех известных — 1802-й, в начале XIX столетия…» Оказалось, что по разным воспоминаниям и косвенным данным время появления ямщицкого колокольчика под дугою относится к 1770–1780-м годам, при Екатерине II. Выходит, Ганнибал если и мог услышать пугавший его звон, то лишь в самые поздние годы, когда был очень стар, находился в высшем генеральском чине и жил при совсем не страшном для него правлении «матушки Екатерины II». Итак, во-первых, прадед не так уж боялся, совсем не скрывался даже в 1730-х годах; а во-вторых, колокольчика не слыхивал… Что же истинного в пушкинской записи? Ну, разумеется, — что Ганнибал вообще-то побаивался… Ведь недавно из Сибири вернулся, знал, как одних волокут на плаху, других — в ссылку, что потом, в следующее царствование, иных прощенных года два не могли сыскать (а те не могли узнать, что прощены!). Так что общий тон тогдашней эпохи, возможность легкой гибели — все это и через предания нескольких поколений дошло к поэту, схвачено им верно. Но вот — колокольчик… Колокольчика боялся, конечно, сам Пушкин! Не зная точно, когда его ввели, — он невольно подставляет в биографию прадеда свои собственные переживания. В многочисленных пушкинских строках о колокольчике — слова насчет прадеда единственные, где этот звонкий спутник — вестник зла… А ведь под колокольчиком ехал Пушкин в южную ссылку, а оттуда — в псковскую… Колокольчик загремит у Михайловского и в ночь с 3-го на 4 сентября 1826 г.: фельдъегерь, без которого «у нас, грешных, ничего не делается», привезет свободу, с виду похожую на арест. А Пушкин, в ожидании жандармского колокольчика или «сообразив, что за ним приехал нарочный», сжигает записки. Колокольчик увез Пушкина в Москву, вернул в Михайловское, затем — в Петербург, Арзрум, Оренбург — и провожал в последнюю дорогу… Итак, Абраму Петровичу Ганнибалу нечаянно приписан пушкинский колокольчик. Поэт проговорился — и тем самым допустил нас в свой скрытый мир, сказал больше, чем хотел, о своем многолетнем напряженном ожидании… Пушкин, между прочим, сам знал высокую цену таких обмолвок и однажды написал другу Вяземскому: «Зачем жалеешь о потере записок Байрона? Черт с ними! слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии». Самое интересное для нас слово в этой цитате — невольно; исповедался невольно в своих стихах: это Пушкин о Байроне и, конечно же, — о себе самом… Невольно поместив колокольчик в XVIII столетие (знал бы, что ошибается, конечно, убрал бы!), Пушкин «исповедался» в своих записках. Итак, в начале 1740-х годов Абрам Петрович с женой, мальчиком и двумя девочками сидит в своей Карьякуле; живет деревенской жизнью, никого не трогает, но все равно побаивается тройки, которая может круто переменить его жизнь. Но в ночь на 25 ноября 1741 г. гренадерская рота Преображенского полка еще раз переменила власть в России. Рота — немного, около 200 человек; но огромные корпуса, армии разбросаны по стране, а гвардейская рота — «правильно расположена»: дворец не впервые взят штурмом теми, кто поближе к нему; остальная же империя — придет день — «получит грамотку» о новом правителе. На этот раз подготовка заговора была, кажется, довольно простой: внучатый племянник недавно умершей Анны Иоанновны, Иван Антонович, на 14-м месяце царствования и 16-м месяце жизни, еще был не очень государственным человеком; его мать Анна Леопольдовна, по обыкновению своему, проводила недели в пирах и забавах; наконец, отец императора принц Антон более всего следил за постройкой нового дворца и парка, где можно было бы по дорожкам разъезжать на шестерке лошадей… К тому же он только что присвоил себе сверхвысокий чин генералиссимуса (очевидно, как аванс за будущие военные заслуги) — и вопрос о соответствующей форме и параде был не из простых… Для того чтобы свергнуть этих простодушных правителей, понадобилось немного. Во-первых, претендентка царского рода: таковая давно имелась — 32-летняя Елизавета Петровна, дочь Петра Великого и Екатерины I, долго жила в страхе и небрежении. Другие, более весомые, претенденты оттирали ее от престола и притом — подозревали, следили… От тюрьмы и ссылки принцесса спаслась, может быть, вследствие веселого, легкомысленного нрава, а также изумительно малой образованности. До конца дней своих она так и не поверила, что Англия — это остров (действительно, что за государство на острове!); зато, по сведениям одного современника, во время коронации тетушки Анны Иоанновны[56] принцессу Елизавету разглядел некий гамбургский профессор, который «от красоты ее сошел с ума и вошел обратно в ум, только возвратившись в город Гамбург». Итак, Елизавету не считали за серьезную соперницу, и это ей немало помогло. Второе благоприятное обстоятельство: ревность русских дворян к «немецкой партии»; мечта скинуть вслед за Бироном всех чужеземных министров, сановников, губернаторов и захватить себе их места и доходы. В гвардейском Преображенском полку было немало молодых дворян, готовых мигом возвести на трон «дщерь Петрову», — нужен только сигнал, да еще нужны деньги… Третьим «элементом» заговора стал французский посол маркиз де Шетарди: ловкий, опытный интриган пересылал Елизавете записочки через верного придворного врача; француз не жалел злата, для того чтобы свое влияние на российский двор усилить, а немецкое — ослабить. В нужный день в Преображенские казармы доставляются винные бочки — бравые гвардейцы поднимают на руки любимую Елизавету, входят в спящий дворец Ивана Антоновича без всякого кровопролития…
«Молчите, пламенные звуки…»
Так представлял Ломоносов политику новой царицы, которая велит молчать «пламенным звукам», то есть войне (в конце правления Анны Иоанновны шла война с Турцией; Анна Леопольдовна воюет со Швецией).
Еще 40 лет
Из 1741-го — в 1781-й… В эту пору, на закате XVIII столетия, доживает свои дни Арап Петра Великого, генерал-аншеф в отставке Абрам Петрович Ганнибал. Ему 85 лет; пережил семь императоров и императриц. Десятилетиями он строил, строил… Строил кронштадтские дежи и сибирские крепости, тверские каналы и эстонские порты. При царице Елизавете Петровне он по этой части — главнейшая персона империи: с 1752-го — один из руководителей Инженерного корпуса; все фортификационные работы в Кронштадтской, Рижской, Перновской, Петропавловской и многих других крепостях производятся «по его рассуждению»; с 4 июля 1756 г. — генерал-инженер, то есть главный военный инженер страны; присвоение чина генерал-аншефа (1759 г.) связано именно с этой деятельностью. Но тут мы сталкиваемся с одним поражающим обстоятельством: Пушкину, самому внимательному из всех потомков, как раз Ганнибал-инженер как будто не очень интересен; он меньше всего хвалит Арапа именно за главные его заслуги в развитии русского просвещения. В Петре Великом поэт видит «академика, героя, мореплавателя, плотника», но царю больше пристало быть плотником, чем царскому Арапу? Инженерное дело. Генерал-инженер России… Пушкин недооценивает инженерную роль прадеда; даже меньше о ней толкует, чем автор немецкой биографии… Отчего же? Как же? Великая русская литература проникала во все сферы российской жизни, но по-разному, неравномерно… Некоторые герои, обычные, постоянные для литературы Англии, Америки, Франции, в России редки. «Расплывчаты»… Таковы, скажем, типы путешественника, промышленника, ученого, инженера… Разумеется, русская словесность их не обошла, — но просто в западном, капиталистическом мире подобных людей больше, их роль иная… Еще Горький отмечал относительный недостаток в русской дореволюционной литературе остросюжетной, «приключенческой», научно-художественной линии — в духе Джека Лондона, Жюля Верна, Марка Твена. Главные пути великой русской классики были иными. Это нельзя назвать недостатком, это — естественно! Пушкин, преодолевая «феодальную узость» эпохи, искал и отыскивал в родной истории дельных, ученых людей: интересовался Ломоносовым, Крашенинниковым (эти вопросы подробно разобраны в работе академика М. П. Алексеева «Пушкин и наука его времени»)…[57] Но даже первый гений не мог нарисовать тип, которого не видел или не знал. Вспомним, что в Лицее математикой можно было, строго говоря, вообще не заниматься; когда же будущий декабрист Сергей Муравьев-Апостол вдруг обнаружил математические способности, то в Париже его уговаривали серьезно заняться точными науками, но отговорили в Москве и Петербурге: человеку с такой звучной, знатной фамилией «не пристало» заниматься прикладными, низкими проблемами! Поэтому единственный инженер в пушкинских сочинениях — это «странный» Германн в «Пиковой даме». Вообще инженер, человек, работающий своими руками, — это ведь разночинец. В светском обществе XVIII — начала XIX в. подобные занятия представляются несколько стыдными, плебейскими. Время Писарева, когда молодежь пойдет в народ, начнет «дело делать», еще далеко… Выходит, Абрам Петрович не совсем в «том веке» родился. Инженер Ганнибал, гордившийся своей должностью с «легкой руки» Петра Великого, — позже на долгие десятилетия отступает перед фантомами чина, сословия, богатства… Он сам, Абрам Петрович Ганнибал, в борьбе за место под российским солнцем все больше выставляет на первое место свой «древний род», генеральский чин… А потомки, даже гениальнейший из них, отчасти дают себя убедить; два поколения, разделявшие оригинального прадеда и гениального правнука, сильно замаскировали «не очень благородные» инженерно-фортификационные склонности старшего Ганнибала… Нелегко было инженеру, даже генерал-инженеру, на Руси. К тому же кроме построения каналов, домов, крепостей Ганнибал, как видно, особенно хорошо умел делать еще одно дело: ссориться с начальством. Вступив в конфликт с влиятельным обер-комендантом Ревеля графом Левендалем, Арап негодовал, что губернатор «на меня кричал весьма так, яко на своего холопа», а обер-комендант, в ответ на дельные замечания Ганнибала, что пушки не в порядке и свалены, — «при многих штаб- и обер-офицерах на меня кричал не обычно, что по моему характеру весьма то было обидно»; фаворит очень высокого начальства, некий Голмер, также вмешивается в инженерные и артиллерийские дела, в которых не сведущ, а, получив приказ от Ганнибала, «с криком необычно и противно, показывая мне уничижительные гримасы, и рукою на меня и головою помахивая, грозил, и, оборотясь спиною, — при чем были все здешнего гарнизона штаб- и обер-офицеры, что мне было весьма обидно…». Наконец, утомленный сложными интригами, генерал Ганнибал восклицает (в прошении И. А. Черкасову, кабинет-секретарю императрицы Елизаветы): «Я бы желал, чтоб все так были, как я: радетелен и верен по крайней мере моей возможности (токмо кроме моей черноты). Ах, батюшка, не прогневайся, что я так молвил, — истинно от печали и от горести сердца, или меня бросить, как негодного урода, и забвению предать, или начатое милосердие со мною совершить». Еще раз воскликнем: как жаль, что Пушкин не узнал этих строк, открытых уже после него, — уж непременно бы процитировал или использовал в сочинениях! Пренебрежение двора, светского общества к «черной работе», попытки фаворитов и выскочек говорить с инженером свысока; а с другой стороны — отчаянная борьба «представителя технической мысли» за свои права, в частности нежелание заседать, охота дело делать (он ухитрился за полтора года не подписать 2755 протоколов и 189 «журналов»), — все это объясняет внезапную, преждевременную отставку полного сил Ганнибала в июне 1762 г., при Петре III. С тех пор огорченный генерал-инженер живет в своих имениях близ Петербурга, где
Эпилог
Мы прошли по течению длинной, как век, Ганнибаловой биографии. Многое еще таинственно, еще требует разысканий и размышлений… Напоследок только еще два наблюдения. Во-первых, о людях XVIII–XIX вв.: Пушкин невольно любуется колоритными, грубыми, порою страшными предками. Там, где, казалось бы, вот вот прозвучит осуждение, правнучатый поэт-историк как будто улыбается: «Дед мой, Осип Абрамович (настоящее имя его было Януарий, но прабабушка моя не согласилась звать его этим именем, трудным для ее немецкого произношения: Шорн шорт, говорила она, делат мне шорни репят и дает им шертовск имя) — дед мой служил во флоте и женился на Марье Алексеевне Пушкиной, дочери тамбовского воеводы, родного брата деду отца моего (который доводится внучатым братом моей матери). И сей брак был несчастлив… Африканский характер моего деда, пылкие страсти, соединенные с ужасным легкомыслием, вовлекли его в удивительные заблуждения». «Удивительные заблуждения…» Поэт судит исторически, а кроме того, наблюдает яркость, талантливость, оригинальность предков, заметную даже сквозь сеть диких, зверских поступков. Тут позволим себе некоторое отступление: в интересной книге Г. С. Кнабе «Корнелий Тацит» убедительно доказывается, что великий римский историк на старости лет оставил работу, так как… «не было противников»: звери, убийцы, негодяи — Битерий, Калигула, Нерон — были притом неравнодушны, по-своему ярки, талантливы и вызывали к жизни не менее ярких (но, разумеется, с «другим знаком»!) противников. Но вот прошли десятилетия; «яркие мерзавцы» в силу определенных исторических причин исчезли, вымерли. Им на смену пришли «третьи люди», не сторонники, не противники — третьи! Пришли люди, равнодушные и к Нерону, и к Тациту, — совсем с другими идеалами (роскоши, бездумного веселья и т. п.). И незачем стало писать… Пушкин, его эпоха, время ближних предков — там были разные люди: благородные и низкие, властители и гонимые. У них — масса недостатков, слабостей, но нет одного — равнодушия! Они энергичны, ярки, неутомимы — и от одного этого на многое способны. Тут важная особенность русской истории XVIII — начала XIX в. Она многое объясняет в загадке появления на свет самого Пушкина и примерно в одно время с ним — массы талантливых, замечательных людей… «Лишних», усталых людей еще нет; еще не скоро явится «толпа угрюмая и скоро позабытая…» Это «энергия обоих полюсов» помогает нам понять и глубокий смысл пушкинского интереса к прадедам, дедам — к их «африканским характерам, удивительным заблуждениям»… На этом можно было бы и остановиться, но напоследок все-таки еще раз коснемся одного обстоятельства, уже слегка затронутого выше. Незадолго до начала дуэльной истории Пушкин размышляет о роковых судьбах своего рода. Вслед за фразой «В семейственной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин» поэт ведь фактически повторил то же самое о дедах: Лев Александрович Пушкин, уморивший одну жену, тиранивший другую, — не признававший свержения Петра III, столь же несчастен, как Осип Абрамович Ганнибал… Отец, мать, дядя — до них в последней пушкинской автобиографии речь не доходит; однако мы знаем — и там кипели страсти, слегка замаскированные «французским воспитанием». Откуда эта преемственность семейных несчастий, буйства, ревности? Если для южной, африканской ветви есть «климатическое» объяснение, то чем же раскалена северная, пушкинская? Наследственность, голос крови и прочее — это Пушкин, конечно, имел в виду, но сверх того — «упрямства дух нам всем подгадил». Упрямство Пушкиных и Ганнибалов — понятие скорее социальное, чем генетическое: желание независимости, отказ быть в шутах у царей и даже у самого господа бога… Кто измерит, сколько домашних страстей созрело и прорвалось оттого, что очередной Пушкин или Ганнибал был вынужден молчать, покоряться, страшиться или — молча упрямиться перед теми, с кем «не забалуешь»: перед Петром, Екатериной, Николаем… И вот — две линии пылкости сходятся в одном человеке. Начиная в последний раз свои Записки, Александр Сергеевич Пушкин, «в родню свою неукротим», кажется, чувствует, предсказывает, предвидит. Предвидит, что ему не удержаться, не промолчать, что камер-юнкеру и мужу Натальи Николаевны не ужиться и не выжить. Может быть, поэтому, страшась «дурных примет», он откладывает последние Записки: только начал автобиографию, а уж докончил ее не чернилами, но кровью, в январе 1837 г.! Вот какие тени, мысли и образы вызывает, может вызвать отдаленный звон «Ганнибалова колокольчика»…
Пути в незнаемое. М., 1985. Сб. 18.

Брауншвейгское семейство
 Пушкинская «История Пугачевского бунта» поступила в продажу около 28 декабря 1834 г. Вскоре поэт передал Николаю I «Замечания о бунте» — 19 секретных дополнений к напечатанной книге. Они касались важных подробностей народной войны 1773–1775 гг: Пушкин воспользовался случаем и откровенно высказал царю свои общие суждения о причинах восстания, о тяжком положении крестьян, о необходимости существенных реформ. Однако исследователями давно было замечено, что часть «Замечаний о бунте» относится не к «бунту», а к другим событиям и лицам. Так, в одном случае Пушкин заводит разговор о генерале Нащокине и быстро переводит на воспоминания его сына Павла Воиновича Нащокина (одного из самых близких друзей поэта). В других «Замечаниях» речь идет о Павле I.
Выходит, Пушкин вместе с важными рассуждениями о Пугачеве как бы предлагает «заявку» на другие планы, другие сюжеты, и, если бы царь заинтересовался, то это открыло бы поэту новые секретные архивы, положило бы начало новым историко-литературным трудам.
Царь не заинтересовался, а Пушкину недолго оставалось жить…
Некоторые «Замечания о бунте» позволяют, однако, угадать его обширные замыслы, его незавершенные идеи[59]. Пойдя за пушкинской строкой, словом, намеком, мы вдруг замечаем в прошедшем то, что прежде оставалось в тени, догадываемся, чем привлекли поэта-историка те или другие лица, события…
Пушкинская «История Пугачевского бунта» поступила в продажу около 28 декабря 1834 г. Вскоре поэт передал Николаю I «Замечания о бунте» — 19 секретных дополнений к напечатанной книге. Они касались важных подробностей народной войны 1773–1775 гг: Пушкин воспользовался случаем и откровенно высказал царю свои общие суждения о причинах восстания, о тяжком положении крестьян, о необходимости существенных реформ. Однако исследователями давно было замечено, что часть «Замечаний о бунте» относится не к «бунту», а к другим событиям и лицам. Так, в одном случае Пушкин заводит разговор о генерале Нащокине и быстро переводит на воспоминания его сына Павла Воиновича Нащокина (одного из самых близких друзей поэта). В других «Замечаниях» речь идет о Павле I.
Выходит, Пушкин вместе с важными рассуждениями о Пугачеве как бы предлагает «заявку» на другие планы, другие сюжеты, и, если бы царь заинтересовался, то это открыло бы поэту новые секретные архивы, положило бы начало новым историко-литературным трудам.
Царь не заинтересовался, а Пушкину недолго оставалось жить…
Некоторые «Замечания о бунте» позволяют, однако, угадать его обширные замыслы, его незавершенные идеи[59]. Пойдя за пушкинской строкой, словом, намеком, мы вдруг замечаем в прошедшем то, что прежде оставалось в тени, догадываемся, чем привлекли поэта-историка те или другие лица, события…
Восьмое замечание
«8. Императрица уважала Бибикова и уверена была в его усердии, но никогда его не любила. В начале ее царствования был он послан в Холмогоры, где содержалось семейство несчастного Иоанна Антоновича, для тайных переговоров. Бибиков возвратился влюбленный без памяти в принцессу Екатерину (что весьма не понравилось государыне…)» Мы обрываем после третьей фразы текст восьмого пушкинского «Замечания о бунте»: дальше следуют строки о более поздних делах… В приведенном же фрагменте речь идет о событиях, начавшихся в ночь на 25 ноября 1741 г., когда гвардейцы ворвались во дворец и провозгласили новую российскую императрицу Елисавету Петровну. Переворот обошелся без сопротивления и крови: четыре члена императорского семейства были арестованы и прежде всего полуторагодовалый император Иоанн Антонович (Иван VI по счету от Ивана Калиты, или Иван III по царскому счету — от Ивана Грозного. На монетах 1740–1741 гг. чеканилось имя «Иоанн III»). Император мог столько же понять в происходящем, как и его младшая четырехмесячная сестра Екатерина (она, впрочем, пострадала больше других: солдаты уронили девочку и, вероятно, оттого она стала глохнуть). Были взяты под стражу и родители этих малолетних правнучатых племянников Петра Великого: принцесса-правительница Анна Леопольдовна, реально царствовавшая более года, и ее супруг, принц, генералиссимус (это звание он получил за 14 дней до переворота) Антон-Ульрих Брауншвейгский. Обычный переворот, «один из многих», радостно встреченный гвардией и как бы символизировавший крушение немецкой партии в пользу отечественного окружения «дщери Петровой». О Брауншвейгском семействе сначала было объявлено, что «они отсылаются в их отечество», однако пленников до декабря 1742 г. держали в Риге, затем в Динамюнде. Слухи и реальные попытки освобождения узников, «обратного переворота», увеличили политические опасения Елисаветы Петровны. Вместо отсылки в Германию принцев переводят в куда более глухой и дальний край — Холмогоры, в 70 верстах от Белого моря, выход к которому крепко заперт Архангельском. К тому моменту, когда Пушкин написал строки о «семействе несчастного Иоанна Антоновича», приближалось столетие того переворота, но сюжет по-прежнему оставался как бы не существующим. Дворцовые перевороты, борьба за власть между разными группировками были такой же запретной для всякого обсуждения темой, как и правдивое описание народной жизни, крестьянского движения; так же как и история освободительных идей, революционного движения в стране. «Известная персона», документы «с известным титулом» — так принято было изъясняться о свергнутом малолетнем императоре. Дело Мировича, офицера, казненного в 1764 г. за попытку освободить Иоанна Антоновича, было (вместе с приговором Пугачеву) впервые добыто из-под спуда в 1826 г., когда власть искала прецедентов для осуждения декабристов. При всем огромном социально-политическом различии революционных событий 1825-го и дворцового переворота 1741 г. интерес декабристов к «принцам-узникам», кажется, усиливается в заключении и в Сибири, когда стали ближе, понятнее страдания разных «товарищей по несчастью»: в тюрьме вспоминает об Иоанне Антоновиче В. К. Кюхельбекер (стихи «Тень Рылеева»), с другой стороны, Лунин и Никита Муравьев упомянули Ивана VI, перечисляя перевороты, которые «не приносят у нас никакой пользы». Сколько-нибудь значительных обращений Пушкина к тем событиям в стихах и прозе как будто нет, и эпизод в конце концов довольно незначителен на фон е петровской ломки или пугачевского пламени… Однако великий поэт способен ведь сделать любой частный исторический факт художественно огромным. К тому же, если история — непрерывная цепь событий, единый процесс (а Пушкин последние годы жизни постоянно думает об этом) — тогда не существует малого события вне связи с «большой историей» И тут-то мы заметим, что даже «на периферии» пушкинских интересов сходится немало важных идей и образов. Еще в 1822 г., в потаенном историческом сочинении о XVIII веке, поэт изложил в двух абзацах политическую историю между Петром I и Екатериной II: о «безграмотной Екатерине I», «кровавом злодее Бироне», «сладострастной Елисавете», «гордых замыслах Долгоруких». Одна из причин такой краткости — в недостатке материала: юному Пушкину приходилось писать понаслышке, по легенде, смутным иностранным известиям. 9 лет спустя, в 1831 г., Пушкин сообщает Бенкендорфу о своем «давнишнем желании» — «написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III»… Верховная власть, конечно, не торопилась допустить поэта-историка к столь близким временам. Однако, «прорвавшись» вслед за своим Пугачевым в 1770-е годы, поэт пробует расширить плацдарм и предлагает Николаю I факты-заявки о временах до и после Пугачева, о жестокой борьбе за власть потомков Петра. Попутно, не дожидаясь милостей сверху, Пушкин и сам по крохам собирает потаенную историю и беспрерывно размышляет над нею, стремясь к объективному, многостороннему, подлинно историческому подходу. В последние годы жизни поэт осторожнее примеряет эпитеты даже к тому, кого он прежде, по традиции, называл «кровавым злодеем». В черновике статьи «О ничтожестве литературы русской» он написал сперва по-старому — «кровавая власть Бирона», потом заменил: «последние заговоры старшего боярства, пресеченные мощною рукою Бирона». В конце концов имя временщика было выделено из текста, но сам пушкинский поиск знаменателен… Это еще не история — только предыстория занимающего нас брауншвейгского сюжета; но уже определяется общий тон, смысл всех событий 1740–1741 гг. Когда И. И. Лажечников напечатал свой «Ледяной дом», Пушкин упрекнул его за несоблюдение должной исторической объективности, в частности за чрезмерную идеализацию Артемия Волынского и очернение его противника Бирона: на последнего (по мнению поэта) «свалили весь ужас царствования Анны (Иоанновны), которое было в духе его времени и нравах народа». В этих определениях очень характерное для Пушкина неприятие односторонних, морализующих оценок. Любопытно, что Лажечников так и не смог понять пушкинской позиции (предвосхитившей размышления будущих историков); автор «Ледяного дома» отверг доводы, как ему казалось, «в защиту Бнрона», и увидел здесь «непостижимую обмолвку» великого поэта. Полемика с Лажечниковым (несколько лет назад глубоко изученная Н. Н. Петрушиной) стимулировала интерес Пушкина к событиям 1740-х годов и документам тех лет. С той эпохой вдобавок были связаны и важные обстоятельства в биографии любимого прадеда Абрама Ганнибала, а также деда с отцовской стороны Льва Александровича Пушкина. Выходит, 1740–1760-е — это как бы «домашние годы» поэта, и потому столь естественно сближение времен в пушкинской дневниковой записи (17 марта 1834 г.): «Государь, ныне царствующий, первый у нас имел и право и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве; его предшественники принуждены были терпеть и прощать». Пушкин здесь сопоставляет казнь декабристов с тем, чтоАлександр I не карал убийц своего отца (ибо сам замешан), а Екатерина II и подавно не карала убийц Петра III, а также — Ивана VI (более чем замешана!). Издалека, как будто не очень интересуясь, глядит Пушкин на 1740-е и 1760-е годы, но в его библиотеке за неимением других, более существенных трудов — трагедия на английском языке «Судьба Ивана», вышедшая в Лондоне в 1832 году, а в «Table-Talk» внесена примечательная запись, сделанная Пушкиным за Натальей Кирилловной Загряжской: «Когда родился Иван Антонович, то императрица Анна Иоанновна послала к Эйлеру приказание составить гороскоп новорожденного. Эйлер сначала отказывался, но принужден был повиноваться. Он занялся гороскопом вместе с другим академиком — и, как добросовестные немцы, они составили его по всем правилам астрологии, хоть и не верили ей. Заключение, выведенное ими, ужаснуло обоих математиков — и они послали императрице другой гороскоп, в котором предсказывали новорожденному всякие благополучия. Эйлер сохранил, однако ж, первый и показывал его графу К. Разумовскому, когда судьба несчастного Ивана VI свершилась». Пушкин отдал этот любопытный рассказ-легенду в печать, явно желая напомнить публике о потаённом политическом эпизоде, однако при публикации в 1836 г. в «Современнике» цензура сократила несколько «опасных слов», и только спустя двадцать три года Е. И. Якушкин сумел опубликовать отрывок полностью. Таков был живой контекст исторических занятий Пушкина, где интерес поэта к «известным персонам» нашел свое место и даже был представлен царю в «Замечаниях о бунте». Итак, поэт хотел знать потаённую истории 1741-го и следующих лет, а кое-что сумел узнать. Однако главных ответов не получил, секретные архивы не были для него открыты.
После Пушкина
Пройдут еще десятилетия, прежде чем будут опубликованы документы и исследования о политическом перевороте 1741 г. Эту тему по недостатку информации и сравнительной удаленности от современных дел не рассекретит даже Вольная печать Герцена. Только с конца 1860-х годов публикуется серия работ, обходящих, впрочем, некоторые острые детали старинной борьбы за власть. Осенью 1917 года началась, но оборвалась после первой статьи публикация капитального труда, полностью основанного на секретном деле Тайной канцелярии о холмогорских узниках, — «Брауншвейгское семейство графа М. А. Корфа» с пометой, что «печатается с соизволения государя императора по рукописи, хранящейся в собственной е. и. в. библиотеке»[60]. Работа была представлена в журнале «Старина и новизна» как принадлежащая М. А. Корфу. Уже в наше время были, однако, обнародованы сведения об авторстве В. В. Стасова, а также новые извлечения из текста рукописи. Об этом сообщал, между прочим, и журнал «Наука и жизнь» в августовской книжке 1968 г. К сожалению, интереснейший памятник — наиболее исчерпывающая история «Брауншвейгского семейства» — до сих пор полностью не издан, а происхождение его недостаточно освещено. Меж тем сохранилась неопубликованная переписка по поводу этой рукописи. Известный критик, искусствовед Владимир Васильевич Стасов, более полувека служивший в императорской публичной библиотеке, долгое время возглавлял в ней Отделение искусств. Его непосредственный начальник, директор библиотеки М. А. Корф (бывший лицейский товарищ Пушкина) в 1840–1870-х годах начал разработку ряда историко-политических сюжетов специально для занятий и развлечений императорской фамилии. С конца 1863 г., как видно из переписки Стасова и Корфа, последний постоянно требует новых материалов, «каких-нибудь эпизодов из Брауншвейгской работы». Так, 18 ноября 1863 г. Корф извещает подчиненного, что в субботу идет с докладом к Александру II и справляется, «не поспеет ли к тому времени хотя какой-нибудь отдельный эпизод из этой печальной драмы, который мог бы привлечь к себе любопытство государя?». Подобные обращения, вместе с обсуждением деталей брауншвейгской темы имеются еще в ряде писем Корфа за 1863–1864 гг. Ясно, что именно в это время Стасов, пользуясь разнообразными секретными документами, создает обширную работу (Корф торопился поднести царю готовые главы к праздникам, рождеству, пасхе). Служебная переписка, а также сохранившаяся в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина полная черновая рукопись В. В. Стасова как нельзя лучше представляют те чрезвычайные запреты, которые, очевидно, мечтал преодолеть Пушкин, на них прямо намекал в «Замечаниях о бунте». Очевидно, Стасов через 25–30 лет после гибели Пушкина читал как раз те бумаги, которые поэт-историк хотел получить. Благодаря этому сочинению мы можем с должной осторожностью представить, реконструировать несбывшийся пушкинский план: от трех фраз о «семействе несчастного Иоанна Антоновича» — к реальным фактам.
Бибиков
События 1740–1760-х годов… Пушкинский вопрос относится к 1830-м годам; стасовский ответ — к 1860-м. Сегодня, в 1980-х годах, эта «перекличка эпох» открывает нам новые грани в каждой из них. Итак, Холмогоры под Архангельском, 1762 год. Генерал-майору Александру Ильичу Бибикову в то время было 33 года, но он уже имел немалый жизненный опыт: толковый инженер, артиллерист, деятельный участник Семилетней войны, где отличился при Цорндорфе и особенно прославился при Кольберге. Заслуженные награды были, однако, задержаны из-за нерасположения сильного при дворе генерал-фельдцейхмейстера Петра Шувалова, а также — из «чувства ревности» со стороны П. А. Румянцева. С восшествием на престол Екатерины II дела Бибикова поправляются. При коронации он получает орден св. Анны и задание чрезвычайной государственной важности — то самое, о котором пишет Пушкин. Поэт прочитал об этой поездке несколько любопытных страниц в книге «Записки о жизни и службе Александра Ильича Бибикова, составленные сыном его сенатором Александром Александровичем Бибиковым» (М., 1817). Экземпляр, принадлежавший Пушкину, сохранил множество помет, следов внимательного изучения. К 1762 г. Брауншвейгская семья находилась в заточении уже 21 год (в том числе 17 — в Холмогорах). В тюрьме Анна Леопольдовна родила еще троих детей: дочь Елисавету (1743), сыновей Петра (1745) и Алексея (1746). Во время последних родов принцесса умерла, бывший же император Иоанн Антонович был на шестнадцатом году жизни, в 1756 г. отделен от семьи и переведен в Шлиссельбург. Таким образом, перед приездом Бибикова в Холмогорах под надзором специального коменданта и команды находился принц Антон Брауншвейгский с четырьмя детьми от 16 до 21 года. В течение двадцати лет елисаветинского царства переписка по поводу «известных персон» (изученная Стасовым и другими исследователями) сравнительно невелика. Дети Антона-Ульриха и Анны Леопольдовны вырастают, не зная окружающего мира, за оградой своей тюрьмы: летом гуляют по высоко огороженному саду, а зимой (согласно рапорту коменданта) «за великими снегами пройти никому нельзя да и нужды нет». Все слуги, нанятые для принцев, навсегда заперты в доме и никогда не выйдут за ограду «под опасением жесточайшего истязания». Автор здесь и далее цитирует архивную рукопись В. В. Стасова. Документы там приводятся полнее, чем в ряде опубликованных статей (рукопись хранится в Отделе рукописей Публичной библиотеки). Заключенным принцам выдается «приличное довольствие» — по шесть тысяч рублей в год, шелковые и шерстяные ткани, венгерское вино, гданская водка, за недостатком которой комендант порою доставляет Антону-Ульриху «поддельную водку из простого вина». Принцы с 1746 г., по словам Стасова, попадают в руки пьяного, вороватого, беспутного и жестокого капитана Вындомского… (Назвав это имя, мы можем предположить еще один канал, по которому рассказы, слухи и предания тех лет могли просочиться к Пушкину: сыном М. А. Вындомского был просвещенный литератор, ученик Новикова, знакомец Радищева Александр Максимович Вындомский; он сам не успел побеседовать с Пушкиным (умер в 1813 г.), но дочь этого литератора и внучка холмогорского коменданта Прасковья Александровна Вындомская, по первому мужу Осипова, по второму Вульф) — тригорская соседка и добрый друг поэта). Однако вернемся в 1740–1750-е годы. Царица Елисавета Петровна и ее окружение больше всего беспокоились насчет возможных заговоров в пользу «семейства», а также любых слухов о принцах. Когда Анна Леопольдовна умирает, то из Петербурга требуют, чтобы принц Антон сделал собственноручное описание этой смерти: таким образом, в руках правительства оказался политический документ, который можно предъявить Европе в случае любого самозванства. Любопытно, что Антону предписывается в том случае не сообщать о рождении сына Алексея, отнявшего жизнь у матери: лишние сведения о новых претендентах на престол царице не нужны. Так было и когда Иоанна VI отделили от родственников и перевезли в Шлиссельбург: это никак не отразилось на документации об «известных персонах», как будто принц оставался в Холмогорах. Так старались обмануть возможных заговорщиков… Малейшее подозрение насчет офицеров охраны сразу ведет к замене: молодой подпоручик Писарев, в пьяном виде грозившийся сделать Вындомскому «рот на затылок», тут же переведен в Тобольск… В октябре 1761 г. принц Антон просит у императрицы, чтобы его детей учили читать и писать, ибо «дети растут и ничего не знают о боге и слове божьем». Ответа не последовало; из дальнейшей переписки видно, что отец не умел или не желал систематически обучать пятерых (потом — четырех) детей, и они не знали иностранных языков, а говорили только по-русски, с северным выговором. Итак, имевшая на престол не меньше прав, чем брауншвейгские родственники, дочь Петра все же опасается заточенных принцев и принцесс. Ситуация еще более обостряется в 1762 г. Воцарение Петра III, а затем Екатерины II рождает надежды на освобождение после 20-летней изоляции. Антон-Ульрих пишет Екатерине II, называя себя «пылью и прахом», и снова ходатайствует, чтобы дети могли «чему-нибудь учиться». Екатерина II написала ответ. Неясно, знал ли Пушкин об этом удивляющем образце хитрой, просвещенно-гуманной лжи. Текст послания впервые был приведен в рукописи В. В. Стасова по черновому отпуску: «Вашей светлости письмо, мне поданное на сих днях (писала царица Антону), напомянуло ту жалость, которую я всегда о вас и вашей фамилии имела. Я знаю, что бог нас наипаче определил страдание человеческое не токмо облегчить, но и благополучно способствовать, к чему я особливо (не позвалившися перед всем светом) природною мою склонность имею. Но избавление ваше соединено еще с некоторыми трудностями, которые вашему благоразумию понятны быть могут. Дайте мне время рассмотреть оные, а между тем я буду стараться облегчить ваше заключение моим об вас попечением и помогать детям вашим, оставшимся на свете, в познании закона божия, от которого им и настоящее их бедствие сноснее будет. Не отчаивайтесь о моей к вам милости, с которой я пребываю». В руках царицы в это время уже был ответ на недавний секретный запрос — «знают ли молодые (принцы), кто они таковы, и каким образом о себе рассуждают?». Надежда, что четверо взрослых детей не знают, «кто они», была, конечно, рассеяна отчетом коменданта: поскольку «живут означенные персоны в одних покоях и нет меж ними сеней, только двери, то молодым не знать им о себе, кто они таковы, невозможно, и (все) по обычаю называют их принцами и принцессами». В этих-то политических обстоятельствах Бибикову и приказано ехать в Холмогоры. Нельзя попутно не отметить расчетливой хитрости Екатерины II, которая главный надзор за Брауншвейгским семейством поручила Никите Панину, воспитателю наследника Павла, и близкому к ним А. И. Бибикову. Не очень доверяя этим людям как сторонникам ее «нелюбезного сына», царица хорошо понимала, что, поскольку панинская партия делает ставку на Павла, тем более усердно они будут пресекать любую интригу в пользу других, «брауншвейгских» претендентов. Цель тайных переговоров Бибикова была представлена в секретной инструкции из девяти пунктов, подписанной Екатериной II 19 ноября 1762 г. Этот текст был напечатан в книге Бибикова-сына: редкое, интересное исключение среди обычного сокрытия от печати такого рода политических документов. Смысл инструкции (и поясняющего рассказа А. А. Бибикова), что Александру Ильичу велено отправиться в Холмогоры и, пробыв там, сколько нужно, осмотреть «содержание (принцев), все нынешнее состояние, то есть: дом, пищу и чем они время провождают, и ежели придумаете к их лучшему житью и безнужному в чем-либо содержанию, то нам объявить возвратясь имеете». Однако главная задача Бибикова заключалась в том, чтобы уговорить принца Антона-Ульриха принять освобождение и уехать одному, «а детей его для тех же государственных резонов, которые он, по благоразумию своему, понимать сам может, до тех пор освободить не можем, пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в котором они к благополучию империи нашей новое свое положение теперь приняли». В переводе с гладкого языка инструкции это означало, что захватившая престол Екатерина II опасается тех, кто, несомненно, имеет на него больше прав: прямых потомков Ивана V, правнучатых племянников и племянниц Петра Великого (и имена их фамильные — Иван, Петр, Алексей, Екатерина, Елисавета!). Принц Антон не опасен — он имеет не больше прав, чем сама Екатерина II; он не потомок законных царей, а только супруг. Екатерина наставляла Бибикова «особливо» примечать «детей нравы и понятия». Царица, впрочем, серьезно не надеялась, что отец бросит детей, и Бибиков-сын справедливо замечает: «Главнейшая цель сделанного Александру Ильичу препоручения состояла в том, чтоб, вошед в доверенность принца и детей его, узнал способности, мнения каждого, о чем при начале еще не утвержденного ее правления, нужно было иметь сведения. Откровенность, веселый нрав и ловкое обращение уполномоченного доставили ему в сем совершенный успех. Но все усилия склонить принца Антона разлучиться с детьми были напрасны, а потому Александр Ильич старался по крайней мере смягчить, даже некоторым образом усладить его состояние. Хотя все сие и действительно предписано в данной ему от человеколюбивой государыни инструкции, но особенная ревность его в исполнении сей статьи была такова, что отправился в обратный путь благословляем и осыпан живейшими знаками уважения и самой приязни от всех принцев и принцесс». Бибиков пробыл в Холмогорах несколько недель. Сын его сообщает, что, «приехав в столицу, Александр Ильич изъявил к состоянию их искреннее участие: он подал императрице донесение о их добрых свойствах, а особливо о разуме и дарованиях принцессы Екатерины, достоинства коей описал так, что государыня холодностию приема дала почувствовать Александру Ильичу, что сие его к ним усердие было, по мнению ее, излишнее и ей неприятное. Холодность сию изъявила она столько, что он испросил позволение употребить неблагоприятствующее для него время на исправление домашних его обстоятельств, и уехал с семьею своею в небольшую свою вотчину в Рязанской губернии». Любопытнейший текст, основанный, очевидно, на семейных рассказах. Пушкин же, передавая царю эти факты, дополняет и усиливает: «Бибиков возвратился, влюбленный без памяти в принцессу Екатерину». Откуда взята последняя подробность? В рукописи В. В. Стасова, а позже в биографии А. И. Бибикова, написанной для «Русского биографического словаря» М. Полиевктовым, повторяется версия «Записок о жизни и службе…», что генерал «дал чересчур восторженный отзыв о старшей дочери принца Екатерине». И в «Истории Пугачева» (главы III–V), и в «Замечаниях о бунте» рассыпано еще немало рассказов и заметок о генерале Бибикове. Большая их часть явно заимствована из книги сына-сенатора. Таковы выдержки, приводимые Пушкиным из писем А. И. Бибикова жене, Д. И. Фонвизину и другим корреспондентам. Таков, например, рассказ о грустной шутке Бибикова насчет своей службы:
1760-е годы
После отъезда Бибикова положение «известных персон», в сущности, ухудшается. В предыдущие двадцать лет не было никаких перспектив на улучшение, теперь же Екатерина II подала узникам большие надежды. Меж тем секретность их содержания даже увеличивается. На всякий случай пишутся инструкции, как хоронить «любого умершего из семьи»: пастора не присылать, отпевать ночью, «на молитвах и возгласах в церкви никак их не поминать, как просто именем, не называя принцами». Когда понадобилось в Холмогорах переделать печи в доме-тюрьме, Петербург строго предписывал, «чтоб печники известных персон не видали».
1764 год: попытка офицера Мировича освободить из Шлиссельбургской крепости Ивана Антоновича. Дело кончается гибелью на 25-м году жизни бывшего императора (а ведь попал в заключение полуторагодовалым). Мирович казнен. В Холмогорах же, вероятно, очень долго и не знали о гибели сына и брата! После этой истории (возможно, спровоцированной Екатериной II) шансы холмогорских принцев на освобождение сильно уменьшаются; время от времени архангельские власти получают из столицы предупреждения и даже приметы «шпионов», направляющихся в Холмогоры. В мире происходят разнообразные события: французское Просвещение — Руссо, Вольтер, Дидро; американская революция; открытия Бугенвиля, Кука в Тихом океане… Однако принц Антон и его дети не имеют права всего этого знать. Меняются коменданты, охрана пьянствует, ворует, архангельский губернатор Головцын докладывает, что «каменные покои тесны и нечисты».
1767 год: ревизия губернатора, явно жалеющего узников. Принцесса Елисавета высказалась при нем «с живостью и страстью» и, «заплакав на их несчастную, продолжаемую и поныне судьбину, не переставая проливать слезы, произносила жалобу, упоминая в разговорах и то, будто бы они, кроме их произведения на свет, никакой над собой винности не знают, и могла бы она и с сестрою своею за великое счастье почитать, если бы они удостоены были в высочайшую вашего императорского величества службу хотя взяты быть в камер-юнгферы (придворный чин. — Ред.)? Головцын „их утешал, и они повеселели“». Позже мягкосердечный губернатор изыщет оригинальный способ воздействия на Екатерину, Никиту Панина и других советников: в форме доноса, передавая разговоры, якобы подслушанные его агентами от принцев, он сообщает разные их лестные высказывания в адрес царицы. Головцын верно рассчитал, что донос, секретная информация будут прочтены наверху быстрее всего, но никаких облегчений не последовало.
25 мая 1768 год: принц Антон обращается к Екатерине II. Он просится с детьми за границу и клянется «именем бога, пресвятой троицей и святым евангелием в сохранении верности вашему величеству до конца жизни»; при этом вспоминает милостивое письмо Екатерины в 1762 г., «и в особенности уверения в вашей милости генерала Бибикова, чем мы все эти годы утешали и подкрепляли себя»; 15 декабря того же года Антон-Ульрих заклинает царицу «кровавыми ранами и милосердием Христа» через два месяца еще одно письмо — никакого ответа не последовало. Вряд ли Бибиков узнал шесть лет спустя, почему вдруг снова возникло его имя в секретной переписке. Вряд ли добрался до этих сведений и Пушкин, хотя ситуация была ему хорошо понятна: Бибиков от имени императрицы обещал, обнадеживал, сам искренне сочувствовал узникам. Но заточение продолжается. Конец 1767–1768 год: в секретной переписке, в доносах обсуждаются дела, совершенно необычные для такого рода бумаг: «принцесса Елисавета, превосходящая всех красотой и умом», влюбилась в одного из сержантов холмогорской команды. Ее предмет — Иван Трифонов, 27 лет, из дворян, крив на один глаз, рыж, «нрава веселого, склонный танцевать, играя на скрипке, и всех забавлять». В донесениях много печальных, лирических подробностей: сержант подарил принцессе собачку, а «она ее целует»; Трифонов «ходит наверх в черных или белых шелковых чулках и ведет себя, точно будто принадлежит к верху»; наконец, принцесса «кидает в сержанта калеными орехами, после чего они друг друга драли за уши, били друг друга скрученным платком». Не сообщая сперва обо всем этом в Петербург, комендант и гебернатор все-таки удаляют Трифонова из внутреннего караула, после чего «младшая дочь известной персоны была точно помешанная, а при том необыкновенно задумчивая. Глаза у ней совсем остановились во лбу, щеки совсем ввалились, при том она почернела в лице, на голове у ней был черный платок, и из-под него висели волосы, совершенно распущенные по щекам»; после того сам принц напрасно молит коменданта, чтобы сержанта Трифонова пускали наверх — «для скрипки и поиграть в марьяж», а сам сержант падает в ноги коменданту, майору Мячкову, умоляя: «Не погубите меня!» И вот последняя попытка Елисаветы: из окошка в «отхожем месте», оказывается, можно было видеть окно сержанта, однако уловка разгадана и меры приняты… Больше принцессе никогда не увидеть сержанта Трифонова: он вскоре образумится, станет офицером, там же, в Холмогорах, и женится. А принцесса тяжело заболевает: восемь месяцев «жестокой рвоты», «истерии». У ее отца все усиливается цинга. Лекарь лечит первобытно — в основном пусканием крови.
1770-е
1770-е годы: новый «самозванный призрак» сотрясает империю — Пугачев. Страхи в Зимнем дворце усиливаются, и уж Никита Панин предостерегает: как бы не нагрянул в Архангельск «азартный проходимец» Мориц Беневский, который недавно взбунтовал Камчатку и ушел в океан на захваченном судне с русско-польским вольным экипажем. «Во время заарестования его в Петербурге, — пишет Панин, — я видел его таким человеком, которому жить или умереть все едино, — то из сего не без основания и подозревать можно, что не может ли он забраться и к порту Архангельскому, где ежели не силою отнять известных арестантов». Опасения насчет Беневского оказались напрасными — его сферой действия стал не Архангельск, а Мадагаскар. Меж тем «Петр III — Пугачев» весомо напомнил о слабых правах Екатерины II на российский трон… Посреди кампании против Пугачева умирает А. И. Бибиков. Пушкин отлично знал, что параллельно с народной войной продолжается бесконечное холмогорское заточение. Однако, кроме чисто временной ассоциации (позволившей вспомнить о принцах в «Замечаниях о бунте»), иных сведений не было. А холмогорский мирок все продолжал беспокоить хозяев Зимнего дворца. В связи с бракосочетанием наследника Павла в конце 1773 г. принцесса Елисавета от имени больного отца, братьев и сестер обращается к графу Н. И. Панину: «Осмеливаемся утруждать ваше превосходительство, нашего надежнейшего попечителя, о испрошении нам, в заключении рожденным, хоша для сей толь великой радости у ее императорского величества малыя свободы». «Малыя свободы», однако, не последовали: царица нашла, что прогулки за пределами тюрьмы могут вызвать «неприличное в жителях тамошних любопытство». Панин же 3 декабря 1773 г. выговаривал губернатору Головцыну, что письмо принцессы писано слишком уже хорошим слогом и умно, в то время как «я по сей день всегда того мнения был, что они все безграмотны и никакого о том понятия не имеют, чтоб сии дети свободу, а паче способности имели куда-либо писать своею рукою письма». Панин опасался, чтобы принцы не писали таким слогом и «в другие места»; запрашивал, откуда такое умение, и получил поразительный ответ от Антона-Ульриха, достойный того, чтоб его знал Пушкин. Оказывается, все четверо детей учились русской грамоте по нескольким церковным книгам и молитвам, а кроме того, «по указам, челобитным и ордерам»: канцелярско-полицейские документы, относящиеся к аресту и заключению Брауншвейгской фамилии, оказывается, могут быть источником грамотности и хорошего слога! Никита Панин, один из культурнейших людей века, завершает свой розыск полуироническим выводом: «Что дети известные обучилися сами собою грамоте, тому уже быть так, когда прежде оное не предусмотрено». Не разучивать же их обратно!
4 мая 1776 г.: на 35-м году заключения умирает принц Антон, похороненный «во 2-м часу ночи со всякими предосторожностями». Перед смертью он просит «за бедных сирот его» и горячо благодарит своих главных тюремщиков — царицу и Панина. Екатерина II не выражает даже формального соболезнования (как это сделала Елисавета Петровна, узнав о смерти Анны Леопольдовны).
Начало 1777 г.: Головцын доносит, что принцесса Елисавета «сошла с ума… и в безумии своем много говорит пустого и несбыточного, а временами много и плачет, а иногда лежит, закрыв голову одеялом в глубоком молчании, несколько часов кряду». Потом молодая женщина (ей уже 34 года) приходит в себя… Еще проходят месяцы и годы. Появляются на свет внуки Екатерины II: в декабре 1777-го — будущий царь Александр I, в 1779-м — его брат Константин. Династия упрочена, у Петра Великого появились законные праправнуки, и опасения насчет «брауншвейгских претендентов» сильно уменьшаются…
На свободу
Почти сорок лет миновало, и вот в Холмогоры прислан генерал-губернатор А. П. Мельгунов. Как некогда, 18 лет назад Бибиков, этот новый посланец опять проверяет, сколь опасны принцы и сколь велика сокрытая в них «государственная угроза». «Елисавета, — находим мы в докладе генерал-губернатора, — 36 лет, ростом и лицом схожа на мать… кажется, что обхождением, словоохотливостию и разумом далеко превосходит и братьев своих, и сестру, и она, по примечанию моему, над всеми ими начальствует: ей повинуются братья, исполняя все то, что бы она ни приказала, например, велит подать стул — подают, и прочее тому подобное». О старшей, Екатерине, писано, что она «38 лет, похожая на отца, весьма косноязычна, братья и сестра объясняются с ней по минам…». Другие принцы — «Петр 35 лет, горбат, крив; Алексей 34 года, белокур, молчалив, братья же оба не имеют ни малейшей природной остроты, а больше видна в них робость, простота, застенчивость, молчаливость и приемы, одним малым ребятам приличные». Мельгунов нарочно притворился больным, чтоб лучше узнать этих людей, обедал с ними, участвовал в карточной игре (трессет) — «весьма для меня скучной, но для них веселой и обыкновенной». Беседуя в основном с принцессой Елисаветой («выговор ее, так как и братьев, ответствует наречию того места, где они родились и выросли, то есть холмогорскому»), посланец царицы слышит, что прежде, когда был жив отец, они хотели, «чтоб дана им была вольность»; позже — «чтоб позволено было им проезжаться», а теперь — «рассудите сами, — говорила она мне, — можем ли мы иного чего пожелать, кроме сего уединения? Мы здесь родились, привыкли и застарели, так для нас большой свет не только не нужен, но и тягостен для того, что мы не знаем, как с людьми обходиться, а научиться уже поздно». Принцесса просила только о некоторых домашних и хозяйственных послаблениях: «Из Петербурга присылают нам корсеты, чепчики и токи, но мы их не употребляем, для того, что ни мы, ни девки наши не знаем, как их надевать и носить: так сделайте милость, — примолвила она мне, — пришлите такого человека, который мог бы нас в них наряжать». Еще и еще раз Мельгунов (точно так, как прежде Бибиков) уговаривает царицу, что нечего бояться этих «персон»; под его диктовку принцы свою любовь повергают к ее стопам… Миссия Мельгунова оказывается более счастливой, чем путешествие Бибикова. 18 марта 1780 г. Екатерина II пишет вдовствующей королеве Дании и Норвегии Юлии-Марии, что «время пришло» освободить ее родных племянников, о которых родная сестра Антона-Ульриха все эти годы, конечно, опасалась спрашивать у могучей «северной Семирамиды». Екатерина II просит поместить двух сыновей и двух дочерей Антона и Анны Леопольдовны в каком-нибудь внутреннем городе Норвегии (только подальше от моря!). Королева отвечает, что ее глубоко трогает «доброта и великодушие, оказываемое вашим величеством несчастным детям покойного моего брата герцога Антона-Ульриха», и находит здесь «отпечаток великой и высокой души». Но притом Екатерине II робко сообщается, что в Норвегии, к сожалению, не существует городов, далеких от моря, поэтому принцев лучше разместить во внутреннем датском городке Горсенсе. Императрица не возражает. Тут наступает последний акт драмы. Мельгунов приезжает в Холмогоры, приглашает двух принцев и двух принцесс на корабль. Они никогда в жизни не выходили за пределы собственного сада и очень боятся, ожидая ловушки. Мельгунов для их успокоения помещает на фрегат собственную жену, за что после получит строгий выговор от царицы: нельзя посвящать в тайну лишних лиц. В белую ночь с 26 на 27 июня специальное судно отправляется из Холмогор, минует Архангельск. Принцы каждую минуту ждут некоего подвоха. В 2 часа пополуночи с 29 на 30 июня 1780 г. из Новодвинской крепости выходит корабль «Полярная звезда» под купеческим флагом. Тайна столь велика, что даже добрый губернатор Головцын не ведает, куда везут его бывших подопечных. Со всех свидетелей взята подписка. «И я, — заключает Мельгунов, — провожал их глазами до тех пор, пока судно самое от зрения скрылось». В Петербурге сильно волновались, долго не получая известий насчет прибытия судна «Полярная звезда» на место (противные ветры замедлили путь). Наконец приходит долгожданное известие из Копенгагена. Петр, Алексей, Екатерина, Елисавета поселяются в Горсенсе, окруженные заранее назначенным штатом. Получают от императрицы по 8 тыс. рублей в год и богатые подарки. Тетка, датская королева, решила, однако, не встречаться с племянниками, боясь огорчить «петербургскую сестру». Русских путешественников к принцам и принцессам не допускают, за ними все время следят: датский городок глухой, четверо прибывших не знают языка. Вскоре русский посол в Копенгагене доложит своей императрице, что все та же неутомимая Елисавета жалуется (в письме к тетке) что «не пользуется свободой, потому что не может выходить со двора, сколько того желает, не делает то, что хочет». Королева Юлия-Мария отвечала, что «свобода не состоит в этом и что она сама часто находится в подобном же положении». 23 ноября 1780 г. королева-тетушка извещает Екатерину II, что принцы «пожалели о своих холмогорских лошадках и лугах и нашли, что они менее свободны и более стеснены в нынешнем положении». «Вот как сильны привычки на этом свете, — отвечала Екатерина II 2 декабря 1780 г. на письмо датской королевы, — сожалеют иной раз даже и о Холмогорах». 20 октября 1782 г. новый приступ душевной болезни уносит 39-летнюю Елисавету, самую живую из четырех, «героиню» бибиковского отчета, скорее всего ту, в которую влюбился без памяти «пушкинский генерал»… Траура не было. Через пять лет скончался «младший принц» Алексей Антонович. О двух оставшихся почти позабыли в грохоте войн и революций. Принц Петр Антонович умер в 1798 г., за год до рождения Пушкина. Осталась одна принцесса Екатерина, больная, глухая… Уж нет на свете Екатерины II, убили Павла I; и тут, в 1802 году, 62-летняя Екатерина Антоновна пишет страшное письмо своему духовнику — трагический аккорд, завершающий всю эпопею: «Преподобнейший духовный отец Феофан! Што мне было в тысячу раз лючше было жить в Холмогорах, нежели в Горсенсе. Што (меня) придворные датские не любят и часто оттого плакала… и я теперь горькие слезы проливаю, проклиная себя, что я давно не умерла». Так жили они на родине — в тюрьме; а потом, на свободе, плакали по той тюрьме. Екатерина Антоновна умерла в апреле 1807 года; незадолго до смерти она на память нарисовала свое холмогорское жилище и сохранила до конца неведомо как доставшийся и спрятанный сувенир в виде серебряного рубля с изображением «императора Иоанна» — ее брата. Мы привели, пользуясь трудом В. В. Стасова, страшные подробности, конечно, неизвестные Пушкину во всем объеме. Считаем, однако, не случайным, что, «если за Пушкиным пойти», — то есть последовать за его мыслью, поиском, намеком, — тогда обязательно открываются новые факты, материалы, образы. Впрочем, кто знает, если бы царь заинтересовался «Замечаниями о бунте», если бы Пушкин еще пожил — не нашел ли бы он путей к будущим «стасовским» бумагам? Однако и в трех «холмогорских фразах» сильно проявился художественный взгляд, историческое чутье, уловлено трагическое сцепление политического и личного. В размышлениях о тайнах XVIII в. углублялись пушкинские идеи, гениально «освоенные» еще в «Борисе Годунове». Поэт как бы приоткрыл двери страшной секретнейшей сорокалетней тюрьмы, где томились дети — возможные соперники не кровавого, своевольного деспота, но просвещенной императрицы в просвещенное время… Перед Пушкиным постоянно разворачивалась неумолимая логика государственной необходимости и вечное противоборство с нею личного, художественного, нравственного начала; того, о чем другой замечательный писатель напишет сто лет спустя: «Вот ты декламируешь передо мною о страданиях детей и ловишь меня на зевке. Но ведь речь твоя не ведет ни к чему. Ты говоришь — „при таком-то наводнении утонуло десять детей“, — но я ничего не смыслю в арифметике и не заплачу в два раза горше, если число пострадавших окажется в два раза больше. И к тому же с тех пор, как существует царство, умирали сотни тысяч детей, и это не мешало тебе быть счастливым и наслаждаться жизнью. Но я могу плакать над одним ребенком, если ты сможешь провести меня к нему по единственной настоящей тропе, и как через один цветок мне откроются цветы, так и через этого ребенка я найду путь ко всем детям и заплачу не только над страданиями всех детей, но и над муками всех людей» (Сент-Экзюпери). Так возникают в пушкинских мыслях и творчестве, едва проявившись, те исторические трагедии, что начались в 1740–1741 гг. Так завершается исторический эпизод из осьмнадцатого, пушкинского столетия.
Наука и жизнь. 1981. № 9(под названием «Осьмнадцатый, пушкинский»).

Мемуары Екатерины II
 В середине сентября 1858 г. в Лондоне вышел и примерно через неделю проник в Россию сдвоенный 23–24-й номер герценовского «Колокола». На последней странице газеты было напечатано объявление: «Спешим известить наших читателей, что Н. Трюбнер издает в октябре месяце на французском языке: „Memoires de l’imperatrice Catherine II, ecrits par elle — meme (1744–1758)“[61]. Записки эти, давно известные в России по слухам и хранившиеся под спудом, печатаются в первый раз. Мы взяли меры, чтобы они тотчас были переведены на русский язык. Нужно ли говорить о важности, о необычайном интересе „Записок“ той женщины, которая больше тридцати лет держала в своей руке судьбы России и занимала собою весь мир, от Фридриха II и энциклопедистов до крымских ханов и кочующих киргизов. В „Записках“ описана молодость ее, первые годы замужества…»[62]
Уже через два месяца, 15 ноября 1858 г., 28-й номер «Колокола» известил читателей о том, что «Записки» вышли на языке подлинника — французском. Затем последовали русское, немецкое, шведское, датское, второе французское, второе немецкое издания. Секретные мемуары императрицы сделались всеобщим достоянием ровно через 100 лет после тех событий, которые в них описываются!
Обнародование «Записок» Екатерины II произвело потрясающее впечатление на российские власти. Оно казалось им более страшным, нежели вскрытие самых отвратительных злоупотреблений чиновников, описание самых ужасающих издевательств над крестьянами: ведь в данном случае говорилось не просто о плохих чиновниках и помещиках — «заряд» был направлен прямо в верховную власть. Прочитав мемуарыимператрицы, выдающийся французский историк Ж. Мишле писал А. И. Герцену: «Это с вашей стороны — настоящая заслуга и большое мужество. Династии помнят такие вещи больше, чем о какой-либо политической оппозиции»[63].
Царственные особы, случалось, вели дневники, а иногда писали воспоминания, большей частью — малосодержательные и порою представляющие интерес лишь как доказательство ограниченности их авторов (Людовик XVI, Николай II). Впрочем, сохранять откровенные записи представители правящих династий опасались: Мария Федоровна, жена Павла I, завещала своему сыну, Николаю I, сжечь несколько тетрадей с ее заметками. Были уничтожены и дневники императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I. Кроме дневников, существуют также записи монархов, предназначавшиеся в назидание потомству. Этот род воспоминаний (первый русский образец — «Поучение Владимира Мономаха») всегда содержит интересные сведения, но недостатком его как исторического источника можно считать чрезмерную «заданность» темы в ущерб истине. Таковы «История моего времени» прусского короля Фридриха II и мемуары Наполеона, написанные на острове Святой Елены.
«Записки» Екатерины II в некотором отношении выгодно отличаются от перечисленных выше типов автобиографических документов. Главное отличие — незавершенность, незаконченность, неотделанность этих воспоминаний. На них не успел еще лечь слой лака, усиливающего «блеск» и скрадывающего «неровности». Позднейшим исследователям будет нелегко разобраться в нескольких черновых и переписанных набело тетрадях, отдельных листах и лоскутках бумаги, составляющих личный архив Екатерины II. Лишь постепенно А. Н. Пыпин и Я. Л. Барсков, возглавившие в начале XX в. академическое издание сочинений императрицы, нашли известную систему в этих рукописях. Выяснилось, что Екатерина II писала воспоминания более полувека — по существу, от прибытия своего в Россию (1744) до самой смерти (1796). Первый опыт автобиографии юной великой княгини отличался, по-видимому, характерным для XVIII в. стремлением к самопознанию, самовыражению. Сама Екатерина писала позже: «Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств характера и личного поведения. Чтобы делать это более осязательным, я построю следующий силлогизм: качество и характер будут большой посылкой; поведение — меньшей; счастье или несчастье — заключением. Вот два разительных примера: Екатерина II и Петр III»[64]. Стремление к самопознанию автора воспоминаний надо учитывать, анализируя их историю, хотя, разумеется, были более серьезные причины, управлявшие пером мемуаристки…
Если первые отрывки воспоминаний были уничтожены великой княгиней из страха (сохранился только один ранний набросок), то запискам императрицы уже ничто не угрожало. Наиболее интенсивно Екатерина занималась своими мемуарами около 1771 г., а затем уже в последние несколько лет жизни. Узнав, что книготорговец Дидо упомянул об ее записках, Екатерина II 21 июня 1790 г. написала Гриму: «Я не знаю, что слышал Дидо о моих мемуарах, но в чем я уверена, — что они еще не написаны, и если это грех, — я должна извиниться»[65]. Исследователями выявлено семь редакций воспоминаний императрицы — иногда дополняющих, порой противоречащих друг другу. Самой полной редакцией оказалась четвертая (по нумерации А. Н. Пыпина и Я. Л. Барскова). Именно эта редакция, составлявшаяся в 1790-х годах[66], и попала в свое время в руки А. И. Герцена. Екатерина II не успела окончательно отредактировать свои воспоминания, не успела смягчить «опасные места». Это обстоятельство, а также живой ум и несомненное литературное мастерство автора привели к созданию интересного источника по истории XVIII в. «Записки», несомненно, самая ценная часть обширного литературного наследства Екатерины II. Вызванная особенностью жанра необычная искренность воспоминаний отнюдь не противоречила нескрываемому желанию императрицы оправдаться перед потомством. Одна из редакций воспоминаний посвящена интимному другу Екатерины баронессе Брюс[67], другая — князю Черкасову. Наконец, наиболее полная редакция хранилась в пакете с надписью: «Его императорскому высочеству великому князю Павлу Петровичу, моему любезнейшему сыну»[68].
Итак, «Записки» Екатерины II не были исповедью философа «наедине с собою и только для себя». В предисловии к герценовскому изданию «Записок» анонимный автор[69] справедливо отмечал: «Цель их (записок) очевидна; это — потребность […] оправдаться в глазах сына и потомства, которое должно оценить и побуждения и искренность этих признаний. Но невозможность полного оправдания как будто выражается в том самом, что мемуары не доведены до конца, ни даже до главной катастрофы» (подразумевается свержение Петра III).
Екатерине было в чем оправдываться, что обосновывать, от чего защищаться. Объявляя о своих «законных правах» на престол, она хорошо понимала их относительность (неслучайно сначала Екатерина собиралась вступить на престол как регентша малолетнего Павла, но затем отказалась от этого намерения). Было всесилие обладательницы громадной империи — и страх перед новыми переворотами. Была победа над Пугачевым — и призрак Петра III, воскрешенный самозванцем. Была ненависть к французской революции 1789 г., свергнувшей «законного монарха», — и собственная «дворцовая революция» 1762 г., свергнувшая другого «законного монарха»[70]. Как известно, политика Екатерины II в главном вопросе русской жизни — крестьянском — была достаточно определенной: незыблемое и все расширяющееся крепостническое угнетение миллионов людей. Однако политика «просвещенного абсолютизма» была известной маскировкой непривлекательной реальности, завесой лжи. На эту особенность екатерининского царствования обратил внимание А. С. Пушкин: «Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первый лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь…»[71]. Объяснить, оправдать, растворить темную тайную историю в блеске явной, соединить самовластие с просвещением — для всего этого Екатерина предпринимала многое: говорила, писала и печатала. Для этого создавались и «Записки».
Комментаторы академического собрания сочинений Екатерины II справедливо отмечали, что она пользовалась во время работы адрес-календарями, старыми газетами и, вероятно, несохранившимися дневниковыми записями. Кроме того, многочисленные преднамеренные искажения истины, встречающиеся в «Записках», позволяют делать важные исторические наблюдения[72].
Перед читателем «Записок» открывается механизм русского самодержавия XVIII в., бесконечная цепь мелких придворных сплетен, каждая из которых может стать важным событием в жизни русских верхов того времени: обыкновенного кота назвали Иваном Ивановичем — в результате возникает дело об оскорблении фаворита Елизаветы Ивана Ивановича Шувалова; фрейлины шепчутся о государственных делах возле задремавшей императрицы и делают вид, что верят ее дремоте, а Елизавета делает вид, что дремлет, — и в итоге этого перекрестного двоедушия фрейлины, получая деньги от заинтересованных лиц, устраивают свадьбы, карьеры, чины.
Придворная жизнь, какой ее вспоминает Екатерина, подобна причудливой фантасмагории, где здравое и безумное смешивается в разных сочетаниях, легко переходя одно в другое: «Однажды, когда я вошла в покои его императорского высочества, я была поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить, и всей обстановки казни среди кабинета, который он велел себе устроить при помощи перегородки. Я спросила, что это значило; он мне сказал тогда, что эта крыса совершила уголовное преступление и подлежит строжайшей казни по военным законам: она перелезла через вал картонной крепости, которая была у него на столе в этом кабинете, и съела двух часовых на карауле, на одном из бастионов, сделанных из крахмала, он велел судить преступника по законам военного времени; великий князь добавил, что его легавая собака поймала крысу, и что тотчас же она была повешена, как я ее вижу, и что она останется, выставленная напоказ публике в течение трех дней для назидания. Я не могла удержаться, чтобы не расхохотаться над этим сумасбродством, но это очень ему не понравилось: он придавал всему этому большую важность. Я удалилась и прикрылась моим женским незнанием военных законов, однако он не переставал дуться на меня за мой хохот. Можно было, по крайней мере, сказать в защиту крысы, что ее повесили, не спросив и не выслушав ее оправданий. Во время пребывания двора в Москве случилось, что один камер-лакей сошел с ума и даже стал буйным. Императрица приказала своему первому лейб-медику Бургаву иметь уход за этим человеком; его поместили в комнату вблизи покоев Бургава, который жил при дворе. Случилось как-то, что в этом году несколько человек лишились рассудка; по мере того, как императрица об этом узнавала, она брала их ко двору, помещая возле Бургава, так что образовалась маленькая придворная больница умалишенных. Я припоминаю, что главными из них были: майор гвардии Семеновского полка по фамилии Чаадаев, подполковник Лейтрум, майор Чеглоков, один монах Воскресенского монастыря, срезавший себе бритвой причинные места, и некоторые другие. Сумасшествие Чаадаева заключалось в том, что он считал господом богом шаха Надира, иначе Тамас-Кули-хана, узурпатора Персии и ее тирана. После того, как врачи не смогли излечить Чаадаева от этой мании, его поручили попам; эти последние убедили императрицу, чтобы она велела изгнать из него беса. Она сама присутствовала при этом обряде, но Чаадаев остался таким же безумным, каким, казалось, он был. Нашлись, однако, люди, которые сомневались в его сумасшествии, потому что он здраво судил обо всем, кроме шаха Надира. Его прежние друзья приходили даже с ним советоваться о своих делах, и он давал им очень здравые советы; те, кто не считал его сумасшедшим, приводили как причину этой притворной мании одно грязное дело, от которого он отделался только этой хитростью: с начала царствования императрицы он был назначен в податную ревизию, его обвинили во взятках, и он подлежал суду. Из боязни суда он и забрал себе эту фантазию, которая его и выручила»[73].
Сообщения о балах, сплетнях, грязных интригах перемежаются с новостями о Семилетней войне. Здесь и официальная ложь, и правда, которую говорят на ухо, и невероятное искажение событий: «В августе месяце (1758 г.) мы узнали в Ораниенбауме, что 14-го было дано сражение при Цорндорфе, одно из самых кровопролитных за этот век, потому что каждая из сторон насчитывала более двадцати тысяч человек убитыми и пропавшими. Наша потеря в офицерах была значительна и превосходила 1200. Нам объявили об этом сражении как о выигранном, но на ухо говорили друг другу, что с обеих сторон потери были равные, что в течение трех дней ни одна из армий не смела приписать себе выигрыш сражения, что, наконец, на третий день прусский король велел служить молебствие в своем лагере, а генерал Фермор (русский командующий) — на поле сражения. Горе императрицы и уныние всего города было велико, когда узнали все подробности этого кровавого дня, где многие потеряли своих близких, друзей и знакомых; долго слышны были сожаления об этом дне, много генералов было убито, ранено и взято в плен. Наконец, было признано, что генерал Фермор вел дела совсем не по-военному и без всякого искусства. Войско его ненавидело и не имело к нему никакого доверия. Двор его отозвал и назначил генерала графа Петра Салтыкова…»
Вот лучшее из возможных переложений «Записок» императрицы, сделанное А. И. Герценом в его предисловии к французскому изданию[74]. «При чтении этих страниц предугадываешь ее, видишь, как она превращается в то, чем стала впоследствии. Шаловливая четырнадцатилетняя девочка, причесанная на манер „Моисея“, светловолосая, резвая, невеста малолетнего идиота — великого князя, — она уже охвачена тоской по Зимнему дворцу, жаждой власти. Однажды, когда она сидела вместе с великим князем на подоконнике и шутила с ним, она вдруг видит, как входит граф Лесток, который говорит ей: „Укладывайте ваши вещи — вы возвращаетесь в Германию“. Молодой идиот, казалось, не слишком-то огорчился возможностью разлуки. „И для меня это было довольно-таки безразлично, — говорит маленькая немка, — но далеко не безразличной была для меня русская корона“, — прибавляет великая княгиня. Вот вам и будущая Екатерина 1762 года! Мечтать о короне в атмосфере императорского двора, впрочем, было вполне естественно не только для невесты наследника престола, но и для каждого. Конюх Бирон, певчий Разумовский, князь Долгорукий, плебей Ментиков, олигарх Волынский — все стремились урвать себе лоскут императорской мантии. Русская корона — после Петра I — была res nullius[75] […]. Ее положение в Петербурге было ужасно. С одной стороны, ее мать, сварливая немка, ворчливая, алчная, мелочная, педантичная, награждавшая ее пощечинами и отбиравшая у нее новые платья, чтобы присвоить их себе; с другой — императрица Елизавета, бой-баба, крикливая, грубая, всегда под хмельком, ревнивая, завистливая, заставлявшая следить за каждым шагом молодой великой княгини, передавать каждое ее слово, исполненная подозрений, — и все это после того, как дала ей в мужья самого нелепого олуха своего времени. Узница в своем дворце, Екатерина ничего не смеет делать без разрешения. Если она оплакивает смерть своего отца, императрица посылает ей сказать, что довольно плакать, что „ее отец не был королем, чтоб оплакивать его более недели“. Если она проявляет дружеское чувство к какой-нибудь фрейлине, приставленной к ней, она может быть уверена, что фрейлину эту отстранят. Если она привязывается к какому-нибудь преданному слуге, — все основания думать, что того выгонят […]. Это еще не все. Постепенно оскорбив, осквернив все нежные чувства молодой женщины, их начинают систематически развращать […].
Самое важное в этой публикации для российского императорского дома — доказательство того, что не только дом этот не принадлежит к фамилии Романовых, но даже и к фамилии Гольштейн-Готторпских. Признание Екатерины в этом смысле выражено совершенно отчетливо — отцом императора Павла был Сергей Салтыков […]. При чтении „Записок“ поражаешься тому, как постоянно забывалось одно — Россия и народ, — о них даже не упоминали. Вот черта, характерная для эпохи […]. Зимний дворец с его административной и военной машиной представлял собой особый мир […]. Подобно кораблю, держащемуся на поверхности, он вступал в прямые сношения с обитателями океана, лишь поедая их. То было государство для государства. Устроенное на немецкий манер, оно навязало себя народу, как завоеватель. В этой чудовищной казарме, в этой необъятной канцелярии царило напряженное оцепенение, как в военном лагере. Одни отдавали и передавали приказы, другие молча повиновались. В одном лишь месте человеческие страсти то и дело вырывались наружу, трепетные, бурные, и этим местом в Зимнем дворце был семейный очаг — не нации, а государства. За тройною цепью часовых, в этих тяжеловесно украшенных гостиных кипела лихорадочная жизнь, со своими интригами и борьбой, со своими драмами и трагедиями. Именно там ткались судьбы России, во мраке алькова, среди оргий — по ту сторону от доносчиков и полиции…»
Мемуары Екатерины II позволяют сделать ряд наблюдений о государственных переворотах в России. Кроме пяти «больших переворотов» 1725–1801 гг., целью которых была перемена императора, в XVIII в. происходило множество переворотов более мелких: смены и аресты министров, свержение фаворитов. Катаклизмы, аресты, заговоры стали естественной формой сколько-нибудь значительных перемен в государстве. Екатерина еще до восшествия на престол наблюдает эти порядки и не скрывает в «Записках» свое отрицательное к ним отношение. Вот как описывается типичный «алый переворот» — арест графа Лестока, имевшего большое влияние на государственные дела: «Когда состоялся брак графа Лестока с девицей Менгден, фрейлиной императрицы, ее императорское величество и весь двор присутствовали на свадьбе, и государыня оказала молодым честь посетить их. Можно было сказать, что они пользуются величайшим фавором, но месяц или два спустя счастье им изменило. Однажды вечером, во время карточной игры в покоях императрицы, я увидела там графа Лестока; я подошла к нему, чтобы поговорить; он мне сказал вполголоса: „Не подходите ко мне, я в подозрении“. Я думала, что он шутит, и спросила, что это значит, он возразил: „Повторяю вам очень серьезно — не подходите ко мне, потому что я человек заподозренный, которого надо избегать“. Я видела, что он изменился в лице и был очень красный; я думала, что он пьян, и повернулась в другую сторону. Это происходило в пятницу. В воскресенье утром, причесывая меня, Тимофей Евреинов сказал мне: „Знаете ли вы, что сегодня ночью граф Лесток и его жена арестованы и отвезены в крепость как государственные преступники?“ Никто не знал, из-за чего…»[76]
Локальным государственным переворотом было и дело канцлера А. П. Бестужева-Рюмина (1758), которому посвящена вся заключительная часть основной редакции «Записок». «Давно уже передавали друг другу на ухо, что кредит великого канцлера графа Бестужева пошатывался и что его враги брали верх. Он потерял своего друга, генерала Апраксина. Граф Разумовский-старший долго его поддерживал, но с преобладанием Шуваловых он ни во что почти не вмешивался […]. Шуваловых и Михаила Воронцова возбуждали в их ненависти к великому канцлеру послы — австрийский, граф Эстергази, и французский, маркиз де Лопиталь. Этот последний считал графа Бестужева более склонным в союзу с Англией, нежели с Францией. Австрийский посол замышлял против Бестужева, потому что Бестужев не хотел, чтобы Россия, придерживаясь союзного договора с Венским двором, действовала в качестве первой воюющей стороны против прусского короля. Граф Бестужев думал как патриот, и им нелегко было вертеть, тогда как Михаил Воронцов и Иван Шувалов были в такой степени в руках у обоих послов, что за две недели до того, как впал в немилость великий канцлер Бестужев, французский посол де Лопиталь отправился к вице-канцлеру Воронцову с депешей в руке и сказал: „Граф, вот депеша моего двора, которую я получил и в которой сказано, что если через две недели великий канцлер не будет вами отставлен от должности, то я должен буду обратиться к нему и вести дела только с ним“. Тогда вице-канцлер разгорелся, отправился к Ивану Шувалову, и императрице представили, что слава ее страдает от влияния графа Бестужева. Императрица приказала собрать в тот же вечер конференцию и призвать туда великого канцлера. Последний велел сказать, что он болен; тогда назвали эту болезнь неповиновением и послали сказать, чтоб он пришел без промедления. Он пришел, и его арестовали в полном собрании конференции, сложили с него все должности, лишили всех чинов и орденов, между тем как ни единая душа не могла обстоятельно изложить, за какие преступления и злодеяния лишали всего первое лицо в империи. Его отправили под домашний арест. Так как это было подготовлено, то вызвали отряд гвардейских гренадеров. Эти последние, идя вдоль Мойки, где у графов Александра и Петра Шуваловых были свои дома, говорили: „Слава богу, мы арестуем этих проклятых Шуваловых, которые только и делают, что выдумывают монополии“. Увидев, однако, что дело идет о графе Бестужеве, солдаты высказали неудовольствие по этому поводу, говоря: „Это не он, это другие давят народ“»[77].
Вместе с Бестужевым были арестованы ювелир Екатерины Бернарди, а также Ададуров, прежде обучавший ее русскому языку, и Елагин, друг Понятовского (близкого в то время к Екатерине). Великой княгине пришлось пережить немало неприятных дней. «Во время бала, — вспоминает она, — я подошла к маршалу свадьбы князю Никите Трубецкому и, под предлогом рассматривания лент его маршальского жезла, сказала ему вполголоса: „Что же это за чудеса? Нашли вы больше преступлений, чем преступников, или у вас больше преступников, нежели преступлений?“ На это он мне сказал: „Мы сделали то, что нам велели, но что касается преступлений, то их еще ищут. До сих пор ничего найти не удалось“. По окончании разговора с ним я пошла поговорить с фельдмаршалом Бутурлиным, который мне сказал: „Бестужев арестован, но в настоящее время мы ищем причину, почему это сделано“. Так говорили оба главных следователя, назначенных императрицей, чтобы с графом Александром Шуваловым производить допрос арестованных»[78]. Граф Бестужев, сидевший под домашним арестом, сумел передать Екатерине записку, где сообщал, что «успел все бросить в огонь».
Далее в «Записках» рассказывается, что именно граф Бестужев успел сжечь. Несмотря на все попытки мемуаристки сообщить «полуправду» вместо истины, становится совершенно ясным, что существовал заговор, в котором были замешаны Бестужев и Екатерина[79]. «Болезненное состояние и частые конвульсии императрицы Елизаветы заставляли всех обращать внимание на будущее: граф Бестужев и по своему положению и по своим умственным способностям не был, конечно, одним из тех, кто об этом подумал последний. Он знал антипатию, которую внушили великому князю против него; он был весьма сведущ относительно слабых способностей этого принца, рожденного наследником стольких корон. Естественно, этот государственный муж, как и всякий другой, возымел желание удержаться на своем месте. Уже несколько лет он видел, что я освобождаюсь от тех предубеждений, которые мне против него внушали; к тому же он смотрел на меня лично, как на единственного, может быть, человека, на котором можно было в то время основать надежды общества в ту минуту, когда императрицы не станет. Это и подобные размышления заставили его составить план, по которому после смерти императрицы великий князь будет объявлен императором по праву, но в то же время я буду объявлена его соучастницей в управлении, при этом все должностные лица останутся, а ему, Бестужеву, дадут звание подполковника в четырех гвардейских полках и председательство в коллегиях иностранных дел, военной и адмиралтейской. Отсюда видно, что его претензии были чрезмерны. Проект этого манифеста он мне прислал написанный рукою Пуговишникова, через графа Понятовского, с которым я условилась ответить ему устно, что я благодарю канцлера за его добрые насчет меня намерения, но что я смотрю на эту вещь, как на трудно исполнимую. Он заставил написать и переписать свой проект несколько раз, изменял его, пополнял, сокращал; казалось, он был им очень занят. По правде говоря, я смотрела на его проект как на пустую болтовню и на удочку, которую этот старик мне закидывал, чтобы приобресть себе все более и более мою привязанность, но на эту удочку я не клюнула, потому что я считала ее вредной для государства, которое терзалось бы от всякой домашней ссоры между мною и не любившим меня моим супругом. Но я не хотела противоречить старику с характером упрямым и цельным, когда он вобьет себе что-нибудь в голову. Этот-то свой проект он и успел сжечь, о чем он меня предупредил, чтобы успокоить тех, которые о нем знали».
Вскоре переписка, которую вел канцлер, находясь под стражей, открылась, Екатерина ждала для себя самых плохих последствий и жгла бумаги. Против Бестужева срочно составлялось обвинение «в оскорблении величества», но неповоротливая государственная машина не сумела провести дело с должной гибкостью и быстротой: «Первое, что господа следователи сделали, это предписали через коллегию иностранных дел послам, посланникам и русским чиновникам при иностранных делах прислать копии депеш, которые им писал граф Бестужев с тех пор, как он был во главе дел. Это было сделано для того, чтобы найти преступления в его депешах. Говорили, что он писал только то, что хотел, и вещи, противоречащие приказаниям и воле императрицы. Но так как ее императорское величество ничего не писала и не подписывала, то трудно было поступать против ее приказаний; что же касается устных повелений, то ее императорское величество совсем не была в состоянии давать их великому канцлеру, который годами не имел случая ее видеть, устные же повеления через третье лицо, строго говоря, могли быть плохо поняты. Из всех этих предписаний в конце концов ничего не вышло, кроме приказа, о котором я упоминала, потому что, я думаю, никто из чиновников не дал себе труда просмотреть свой архив за двадцать лет и переписать его, чтобы выискать преступления того, инструкциям и указаниям коего эти самые чиновники следовали, и таким образом могли оказаться замешанными, при всем их усердии, в том самом, что помогли бы открыть. Кроме того, одна пересылка таких архивов должна была ввести казну в значительные расходы, а по прибытии бумаг в Петербург было бы чем истощать терпение многим лицам в течение многих лет (в поисках того, чего в бумагах, может быть, вовсе и не было). Отправленный приказ никогда не был исполнен. Само дело надоело, и его кончили через год манифестом, который начали сочинять на следующий день после того, как великий канцлер был арестован».
Заключающая мемуары сцена допроса Екатерины Елизаветой особенно примечательна. Подобные ситуации почти не фиксировались в секретных протоколах, а между тем — по логике самовластия — именно так и делались «главные дела»: с глазу на глаз, в интимных беседах высочайших особ. Вспоминая много лет спустя, Екатерина, разумеется, излагает события «с пристрастием», облагораживая свою роль и унижая Петра III (всячески проводится мысль, что после Елизаветы только Екатерина была способна управлять Россией). Однако главные черты происходившего обрисованы, по-видимому, верно: Екатерина, стремившаяся искусственным покаянием разжалобить императрицу; Елизавета, легко переходившая от сентиментальных слез к грозным напоминаниям о пытках; словесная дуэль Екатерины и Петра, ширма в комнате, за которой прячется фаворит… Вся сцена любопытна для понимания истории верхов, развития российского абсолютизма, «где нет вторых: только первый и все остальные…».
Вот рассказ самой Екатерины: «Около половины второго ночи граф Александр Шувалов вошел в мою комнату и сказал, что императрица требует меня к себе. Я встала и пошла за ним. Мы прошли через передние, где никого не было. Подходя к двери в галерею, я увидела, что великий князь прошел в противоположную дверь, направляясь, как и я, к ее императорскому величеству […]. Наконец, дойдя до покоев ее величества, где застала великого князя, я бросилась перед императрицей на колени и стала со слезами и очень настойчиво просить ее отослать меня к моим родным. Императрица захотела поднять меня, но я оставалась у ее ног. Она показалась мне более печальной, чем гневной, и сказала мне со слезами на глазах: „Как вы хотите, чтобы я вас отослала? Не забудьте, что у вас есть дети“. Я ей ответила: „Мои дети в ваших руках, и лучше этого ничего для них не может быть; я надеюсь, что вы их не покинете“. Тогда она мне возразила: „Но как объяснить обществу причину этой отсылки?“ Я ответила: „Ваше императорское величество скажите, если найдете нужным, о причинах, по которым я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя“. Императрица сказала: „Чем же вы будете жить у ваших родных?“ Я ответила: „Тем, чем жила прежде, до того, как вы удостоили взять меня“. Она мне на это возразила: „Ваша мать находится в бегах, она была вынуждена покинуть свою родину и уехать в Париж“. На это я сказала: „Я это знаю, ее считают слишком преданной интересам России, и король прусский стал ее преследовать“. Императрица вторично велела мне встать, что я и сделала, и немного отошла от меня в задумчивости. Комната, в которой мы находились, была длинная и имела три окна, между которыми стояли два стола с золотыми туалетными принадлежностями императрицы, в комнате были только она, великий князь, Александр Шувалов и я; против окна стояли широкие ширмы, перед которыми поставили канапе. Я заподозрила сразу, что за этими ширмами находится, наверное, Иван Шувалов, а может быть, также и граф Петр Шувалов, его двоюродный брат. Впоследствии я узнала, что отчасти отгадала верно и что Иван Шувалов там находился. Я стала около туалетного стола, ближайшего к двери, через которую я вошла, и заметила, что в золотом тазу на туалете лежали сложенные письма. Императрица снова подошла ко мне и сказала: „Бог мне свидетель, как я плакала, когда при вашем приезде в Россию вы были больны, при смерти, и, если бы я вас не любила, я вас не удержала бы здесь“. Эти слова означали, по-моему, извинение за то, что я сказала о ее немилости ко мне. Я на это ответила, благодаря ее императорское величество за все милости и доброту, которые она мне выказала и тогда и теперь, и говоря, что воспоминание о них никогда не изгладится из моей памяти и что я всегда буду смотреть как на величайшее несчастье на то, что подверглась ее немилости. Тогда она подошла ко мне еще ближе и сказала: „Вы чрезвычайно горды. Вспомните, что в Летнем дворце я подошла к вам однажды и спросила вас, не болит ли у вас шея, потому что увидела, что вы мне едва кланяетесь и из гордости поклонились мне только кивком головы“. Я ей ответила: „Боже мой, ваше императорское величество, как вы можете думать, что я хотела выказать гордость перед вами? Клянусь вам, мне никогда в голову не приходило, что этот вопрос, сделанный вами четыре года назад, мог относиться к чему-либо подобному“. На это императрица сказала: „Вы воображаете, что никого нет умнее вас“. Я ей ответила: „Если бы я имела эту уверенность, ничто больше не могло бы меня в этом разуверить, как мое настоящее положение и даже этот самый разговор, потому что вижу, что я по глупости до сих пор не поняла, что вам угодно было мне сказать четыре года тому назад“. Великий князь, между тем как императрица разговаривала со мной, шептался с графом Александром Шуваловым. Она это заметила и пошла к ним; они оба стояли почти посредине комнаты. Я не слишком хорошо слышала, что говорилось между ними, — они не очень громко говорили, комната была большая, — но под конец я услышала, как великий князь сказал, возвышая голос: „Она ужасно злая и очень упрямая“. Тогда я увидала, что дело идет обо мне, и, обращаясь к великому князю, сказала ему: „Если вы обо мне говорите, то я очень рада сказать вам в присутствии ее императорского величества, что действительно я зла на тех, кто вам советует поступать со мною несправедливо, и что я стала упрямой с тех пор, как я вижу, что мои убеждения ни к чему другому не ведут, как к вашей ненависти“. Он стал говорить императрице: „Ваше величество, Вы видите сами, какая она злая, по тому, что она говорит“. Но на императрицу, которая была гораздо умнее великого князя, мои слова произвели совсем другое впечатление. Я видела ясно, что, по мере того как разговор подвигался, ее настроение постепенно смягчалось, помимо ее воли и решений. Она обратилась, однако, к великому князю и сказала: „О, вы не знаете всего, что она мне сказала о ваших советчиках и против Брокдорфа“ […]. Это должно было показаться великому князю форменной изменой с моей стороны; он не знал ни слова о моем разговоре с императрицей в Летнем дворце и увидел, что его Брокдорф, который стал ему так мил и дорог, обвинен в глазах императрицы, да еще мною: это означило больше, чем когда-либо, нас поссорить, может быть, сделать непримиримыми врагами, лишить меня навсегда доверия великого князя. Я почти остолбенела, услышав, как императрица рассказывает в моем присутствии то, что я ей сказала и думала сказать для блага ее племянника, и как она обращает это в смертоносное оружие против меня. Великий князь, очень удивленный этим сообщением, сказал: „А, вот анекдот, которого я не знал. Он хорош и доказывает ее злость“. Я думала про себя: „Бог знает, чью злость он доказывает“. От Брокдорфа императрица неожиданно перешла к отношениям между (министром) Штамбке и графом Бестужевым, которые были открыты, и сказала мне: „Сами посудите, как можно извинить Штамбке за то, что он имеет сношения с государственным узником“. Так как в этом деле мое имя не появлялось, я промолчала, принимая эти слова как ко мне не относящиеся. Здесь императрица подошла ко мне и сказала: „Вы вмешиваетесь во многие вещи, которые вас не касаются. Я не посмела бы делать того же во времена императрицы Анны. Как, например, вы посмели посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?“ Я ей ответила: „Я? Никогда мне и в голову не приходило посылать ему приказания“. „Как, — сказала она, — вы можете отрицать, что писали? Ваши письма тут, в этом тазу (она показала мне их пальцем). Вам запрещено писать“.
Тогда я ей сказала: „Правда, что я нарушила запрет и прошу в этом прощения, но так как мои письма тут, то эти три письма могут доказать вашему императорскому величеству, что я никогда не посылала ему приказаний, но что в одном из писем я сообщила, что говорят об его поведении“. Здесь она меня прервала: „А почему вы это ему писали?“ Я ответила: „Просто потому, что я принимала участие в фельдмаршале, которого очень любила; я просила его следовать вашим приказаниям; остальные два письма содержат только поздравления с рождением сына и пожелания на Новый год“. На это императрица мне сказала: „Бестужев говорит, что было много других“. Я ответила: „Если Бестужев это говорит, то он лжет“. „Ну, так если он лжет на вас, — сказала она, — я велю его пытать“. Она думала этим напугать меня; я ей ответила, что в ее полной власти делать то, что она находит нужным, но что я все-таки написала Апраксину только эти три письма. Она замолчала и, казалось, соображала.
Я привожу самые разные черты этого разговора, которые остались у меня в памяти, но я не могу вспомнить всего, что говорилось в течение полутора часов, пока он продолжался. Императрица ходила взад и вперед по комнате, то обращаясь ко мне, то к своему племяннику, а еще чаще к графу Александру Шувалову […]. Я уже сказала, что замечала в ее императорском величестве меньше гнева, чем озабоченности. Что же касается великого князя, то он проявил во время этого разговора много неприязни, желчи, раздражения против меня; он старался, как только мог, раздражить императрицу против меня; но так как он принялся за это глупо и проявил больше горячности, нежели справедливости, то он не достиг своей цели: ум и проницательность императрицы стали на мою сторону. Она слушала с особенным вниманием и некоторого рода невольным одобрением мои твердые и умеренные ответы на выходившие из границ речи моего супруга, по которым было видно ясно, что он стремится очистить мое место, дабы поставить на него, если это возможно, свою любовницу (Елизавету Воронцову). Это было не по вкусу императрице; попасть под власть Воронцовых вряд ли входило и в расчеты господ Шуваловых. Однако эти соображения превышали мыслительные способности его императорского высочества, который верил всегда всему, чего желал, отстраняя всякую мысль, противную той, что над ним господствовала. И он так постарался, что императрица подошла ко мне и сказала вполголоса: „Мне надо будет многое вам еще сказать, но я не могу говорить, потому что я не хочу вас ссорить еще больше“; глазами и головой она показала мне, что это было из-за присутствия остальных. Видя этот знак душевного доброжелательства, который мне посылался в столь критическом положении, я была сердечно тронута и сказала очень тихо: „И я также не могу говорить, хотя мне чрезвычайно хочется открыть вам свое сердце и душу“. Я увидела, что эти слова произвели на нее сильное и благоприятное впечатление. У нее показались слезы на глазах, и, чтобы скрыть, до какой степени она взволнована, она нас отпустила, говоря, что очень поздно, и действительно было около трех часов утра»[80]. Решающее «сражение» Екатерина выиграла.
В «Записках» Екатерины, особенно в разделах, посвященных большим и малым переворотам, фактически выдвигается программа нового типа взаимоотношений между самодержавным государством и тем классом, на который это государство опиралось. Начиная с Екатерины II большие и малые перевороты практически прекращаются. Отношения самодержавия с дворянством приобретают более «цивилизованные формы». Можно констатировать, что с 1762 г. (исключая пятилетнее царствование Павла I) в России прекратились аресты министров и других крупных сановников и резко смягчились карательные меры против дворянства (что не мешало, разумеется, осуществлению жестоких расправ с дворянскими революционерами). Гражданское положение дворянства со времени правления Екатерины II улучшается по сравнению с первой половиной XVII в. Все льготы, доставшиеся дворянству, были, конечно, оплачены народом. Около миллиона государственных крестьян, розданных помещикам, значительное увеличение оброка и барщины за вторую половину XVIII столетия, каторжные работы за жалобу на помещика, расправа с участниками многочисленных крестьянских восстаний (из которых крестьянская война под руководством Пугачева была лишь самой значительной) — таковы наиболее заметные признаки непрерывного крепостнического наступления на крестьян, сопровождавшего «дворянские вольности». Однако без нескольких десятилетий екатерининского и александровского «просвещенного абсолютизма» не могла бы появиться в русском дворянстве значительная группа людей, достаточно свободных и независимых, чтобы прийти к мысли о необходимости борьбы с этим самым абсолютизмом.
Екатерина II еще доживала в беспамятстве последние часы, а Павел уже «принимал дела». Существует легенда, впрочем, весьма правдоподобная, будто великий князь Александр вместе с Ростопчиным и Александром Куракиным обнаружили и тут же в страхе уничтожили завещание императрицы, передававшее престол внуку, Александру, минуя сына, Павла. Между секретными бумагами императрицы были и ее незаконченные мемуары с посвящением: «Сыну моему Павлу Петровичу…» Вместе с мемуарами Павел обнаружил и письмо Алексея Орлова, извещавшее Екатерину II о «нечаянном» убийстве Петра III. Это открытие вызвало у Павла I радость, ибо оно свидетельствовало, что мать не отдавала по крайней мере прямого приказа об убийстве отца.
С этого времени в истории «Записок» Екатерины начался второй период — от смерти автора до завоевания их русской печатью. С 1796 по 1858 г. «Записки» Екатерины — секретный государственный документ, который власть имущие держат в глубокой тайне. Однако даже последовательными усилиями Павла I, Александра I, Николая I и Александра II эту тайну сохранить не удалось. Основная версия истории мемуаров после смерти Екатерины II изложена в уже упоминавшемся анонимном предисловии к герценовскому изданию. «Тетрадь резко обрывается около конца 1759. Говорят, что были отрывочные заметки, которые могли служить материалами для продолжения. Есть люди, которые говорят, что Павел бросил их в огонь: относительно этого нет уверенности. Павел держал в большом секрете рукопись своей матери и доверил ее лишь другу своего детства, князю Александру Куракину. Последний снял с нее копию. Спустя двадцать лет после смерти Павла Александр Тургенев и кн. Михаил Воронцов получили копии с экземпляра Куракина. Император Николай, прослышав об этом, приказал секретной полиции забрать все копии. Между прочим, была одна копия, писанная в Одессе рукой знаменитого поэта Пушкина. Действительно, „Записки“ Екатерины II больше не появлялись в обращении. Император Николай приказал графу Д. Блудову принести себе оригинал, прочел его, запечатал его большой государственной печатью и приказал хранить его в императорских архивах среди самых секретных документов […]. Во время Крымской войны архивы были привезены в Москву. В марте 1855 г. нынешний император приказал принести себе рукопись для прочтения. С этих пор одна или две копии вновь появились в обращении в Москве и в Петербурге»[81].
До сих пор еще не ясны все тайные пути, какими распространялись списки мемуаров Екатерины II. Без сомнения, приведенные выше строки написаны осведомленным человеком. Когда много лет спустя, в 1900 г., в присутствии президента Академии наук вел. кн. Константина Константиновича был распечатан пакет секретных бумаг Екатерины II, ученые, возглавлявшие академическое издание сочинений императрицы, обнаружили на бумагах заглавия и пометы, сделанные рукой Д. Н. Блудова. Из этого следует, что член литературного кружка «Арзамас», автор «Донесения тайной следственной комиссии» по делу декабристов, сановник Николая I действительно приводил в порядок засекреченные мемуары. Тетрадь воспоминаний в красном сафьяновом переплете с надписью «au prince Alexandre de Kourakin» подтверждает еще одно указание «анонима». Сохранилось также свидетельство императрицы Марии Федоровны о получении в 1824 г. копии записок от брата Александра Куракина князя Алексея Куракина[82].
Николай I, не любивший свою бабку и считавший, что она «позорит род», стремился конфисковать все списки. Характерно, что наследник Николая прочел мемуары прабабки лишь тогда, когда стал императором Александром II: до этого Николай запрещал своим родственникам знакомиться с «позорным» документом (великая княгиня Елена Павловна получила копию мемуаров от А. С. Пушкина, который 8 января 1835 г. записал: «Великая княгиня взяла у меня „Записки“ Екатерины II и сходит от них с ума»). Однако вопреки всем запретам списки распространялись.
История знакомства А. С. Пушкина с «Записками» Екатерины II давно интересует исследователей. Долгое время считали, что поэт прочитал «Записки» еще в Одессе, однако в 1949 г. при разборе рукописей, входивших в состав библиотеки Зимнего дворца, была обнаружена копия мемуаров — двапереплетенных тома, — сделанная на бумаге с водяным знаком «1830». Первые несколько строк были списаны рукою Натальи Николаевны Пушкиной, затем следовал писарский текст. На форзаце обоих томов рукою А. С. Пушкина помечено: «А. Пушкин». По-видимому, пушкинская копия была сделана не в Одессе, а в Москве или Петербурге, в 1831–1832 гг., с экземпляра, принадлежавшего А. И. Тургеневу[83]. В 1837 г. Николай I, увидев в списке бумаг погибшего А. С. Пушкина «Мемуары Екатерины II», наложил резолюцию: «Ко мне». Так пушкинская копия попала в библиотеку Зимнего дворца (на обоих томах копии поставлено: № 1 и № 2 — рукой начальника штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельта).
Таким образом, в 30–50-х годах XIX в. русское общество уже слыхало о мемуарах императрицы, но почти никто не читал их. А. И. Герцен писал: «Константин Арсеньев […] говорил мне в 1840 г., что им получено было разрешение прочесть множество секретных бумаг о событиях, происходивших в период от смерти Петра I и до царствования Александра I. Среди этих документов ему разрешили прочесть „Записки“ Екатерины II (он преподавал тогда новую историю великому князю, будущему наследнику престола)»[84]. Стремление передовой русской общественности раскрыть государственные тайны, темные факты и обстоятельства, которых власти стыдились и пытались скрыть, было весьма характерно для русского освободительного движения. Публикуя записки И. В. Лопухина, А. И. Герцен писал: «Всякое правдивое сказание, всякое живое слово, всякое свидетельство, относящиеся к нашей истории за последние сто лет, чрезвычайно важно. Время это едва теперь начинает быть известным. Времена татарского ига и московских царей нам несравненно знакомее царствований Екатерины, Павла. История императоров — канцелярская тайна, она была сведена на дифирамб побед и риторику подобострастия»[85].
В этой борьбе казенной тайны и гласности Вольная русская типография одержала ряд решительных побед над самодержавием: кроме громадного количества материалов о современных злоупотреблениях и государственных тайнах, было издано значительное количество воспоминаний и документов о декабристах, петрашевцах, об убийстве Павла I, о временах Екатерины II и Александра I. Благодаря герценовским изданиям были обнародованы запретные материалы, вышедшие из-под пера таких различных (и одинаково преследуемых) исторических деятелей, как А. Н. Радищев и М. М. Щербатов, И. Д. Якушкин и М. С. Лунин, И. В. Лопухин и В. Н. Каразин, Е. Р. Дашкова и Н. С. Мордвинов. Среди этих открытий вольной печати видное место принадлежит мемуарам Екатерины II. А. И. Герцен сохранил тайну приобретения и обнародования «семейного» документа самодержавия; прошло много времени, прежде чем удалось узнать об этом некоторые подробности.
Впервые об истории публикации «Записок» написала в 1894 г. Н. А. Тучкова-Огарева: «В 1858 г. […] приехал к Александру Ивановичу один русский N. N. Он был небольшого роста и слегка прихрамывал. Герцен много с ним беседовал. Кажется, он был уже известен своими литературными трудами […]. После его первого посещения Герцен сказал Огареву и мне: „Я очень рад приезду N. N., он нам привез клад, только про это ни слова, пока он жив. Смотри, Огарев, — продолжал Герцен, подавая ему тетрадь, — это записки императрицы Екатерины II, писанные ею по-французски; вот и тогдашняя орфография — это верная копия“. Когда записки императрицы были напечатаны, N. N. был уже в Германии и никто не узнал об его поездке в Лондон […]. Из Германии он писал Герцену, что желал бы перевести записки эти на русский язык. Герцен с радостью выслал ему один экземпляр, а через месяц перевод был напечатан Чернецким; не помню, кто перевел упомянутые записки на немецкий язык и на английский; только знаю, что записки Екатерины II явились сразу на четырех языках и произвели своим неожиданным появлением неслыханное впечатление по всей Европе. Издания быстро разошлись. Многие утверждали, что Герцен сам написал эти записки; другие недоумевали, как они попали в руки Герцена. Русские стремились только узнать, кто привез их из России, но это была тайна, которую, кроме N. N., знали только три человека, обучившиеся молчанию при Николае»[86].
«Три человека, наученные молчанию при Николае», — возможно, Герцен, Огарев и сама Тучкова-Огарева. О том, кто такой N. N., в конце XIX — начале XX в. начинали догадываться. Публикуя сообщение Н. А. Тучковой-Огаревой, что корреспондента А. И. Герцена «уже нет на свете», А. Н. Пыпин и Я. Л. Барсков сделали примечание: «Автор „Воспоминаний“ ошибается»[87]. «Подозрения» специалистов пали на известного историка, издателя «Русского архива» П. И. Бартенева (1829–1912). Действительно, когда публиковались воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой и академическое издание «Записок» Екатерины II, П. И. Бартенев был еще жив. Позже мнение о П. И. Бартеневе как корреспонденте А. И. Герцена выдвигал М. П. Алексеев[88] (подчеркивалось, что П. И. Бартенев был как раз маленького роста и прихрамывал). В 1951 г. Л. Б. Светлов обратил внимание на подробный рассказ в дневнике Бартенева о вскрытии секретного архивного сейфа, производившемся Ф. Ф. Гильфердингом в 1855 г. по поручению Александра II. Гильфердинг как раз разыскивал для нового царя «Записки» Екатерины II, а Бартенев, служивший в Архиве иностранных дел, очевидно, помогал Гильфердингу в розысках и имел возможность снять копию[89]. К этому следует добавить, что Бартенев был близок с семьей Гильфердингов и мог получить соответствующее разрешение от самого Ф. Ф. Гильфердинга, главного архивариуса империи.
Новые архивные изыскания позволяют уточнить и в то же время «запутать» изложенную гипотезу. Без сомнения, поездка П. И. Бартенева и первые известия о публикации «Записок» Герценом совпадают во времени: сначала П. И. Бартенев прибыл в Лондон в августе 1858 г. (и соответственно в сентябре, в № 23–24 «Колокола», появилось первое сообщение о полученных «Записках»). Затем, судя по переписке П. И. Бартенева, он отправился в Германию, Бельгию, Францию (это совпадает с сообщением Н. А. Тучковой-Огаревой). В начале ноября 1858 г. Бартенев на короткое время снова появился в Лондоне и отправился на родину, захватив письмо А. И. Герцена И. С. Аксакову от 8 ноября 1858 г.[90] П. И. Бартенев всю жизнь занимался историей Екатерины II, его даже называли в шутку «последним фаворитом императрицы». В его печатных сочинениях то и дело проскальзывают намеки на хорошо известные ему «Записки». В 1868 г., например, П. И. Бартенев писал: «Покойный граф Д. И. Блудов передавал нам, что ему при разборе архивов Зимнего дворца случилось читать неизданную собственноручную тетрадь Екатерины II на французском языке […], содержавшую в себе подробные ее рассказы о рождении, детстве и вообще о жизни ее до приезда в Россию»[91]. Правда, с годами П. И. Бартенев стал человеком весьма умеренных, консервативно-монархических взглядов. Вероятно, воспоминания о «грехах молодости» не слишком радовали историка, что хорошо видно из следующего эпизода: 19 октября 1905 г. М. К. Лемке запрашивал П. И. Бартенева: «Из рассказа покойного Пыпина мне известно, что „Записки“ Екатерины II к Герцену привезены были вами. Если это верно, то не позволите сказать об этом в печати?»[92]. 22 октября 1905 г. П. И. Бартенев отвечал: «Прошу вас не оглашать в печати, будто я привез Герцену „Записки“ Екатерины II. Это может мне повредить у некоторых лиц. К тому же оно вполне неверно. Покойный А. Н. Пыпин (как и князь А. Б. Лобанов) были введены в заблуждение записками Огаревой […]. Я занимался много записками Екатерины, с которыми меня познакомил Т. Н. Грановский по списку, полученному им от Раевских. В марте 1856 г. они ходили уже по рукам […]. И немудрено, что Огарева меня смешала, увидев меня у Герцена в одно время с другим лицом, тоже ходившим на костылях»[93].
Ссылки П. И. Бартенева на Грановского и Раевских, конечно, заслуживают внимания, но любопытно, что П. И. Бартенев не отрицает самого факта встречи с А. И. Герценом. Вряд ли, однако, А. Н. Пыпин судил о роли П. И. Бартенева со слов Н. А. Тучковой-Огаревой: как раз в 1858 г. и позже А. Н. Пыпин сам посещал А. И. Герцена и мог кое-что знать «из первых рук». Говоря о другом «хромом посетителе» Герцена, П. И. Бартенев, возможно, намекает на Н. А. Орлова, русского дипломата, действительно посещавшего А. И. Герцена и передававшего ему в 1857–1858 гг. различные материалы[94]. Переписка Лемке и Бартенева пока не может изменить мнения о причастности последнего к пересылке в Лондон мемуаров императрицы, хотя многие детали все же не ясны и требуют уточнений[95].
После 1859 г. начался третий период истории «Записок» Екатерины II. Мемуары, изданные А. И. Герценом, неоднократно перепечатывались на Западе (только «Русская библиотека» Э. Каспровича в 70–80-х годах пять раз переиздала текст воспоминаний на русском языке).
«Записки» постепенно становились историографическим фактом: их использовали Сент-Бев, Мишле, Рамбо и другие западные историки. Но, несмотря на это, в России они находились под запретом. Так, в 1869 г. цензор возражал против одного места в статье П. К. Щебальского: «„Записки“ Екатерины II, изданные за границей Герценом, имели то особенное неудобство, что в них сама Екатерина сознавала и подтверждала, что Павел I обязан своим рождением не Петру III. Это показание выпущено в помещаемой теперь статье Щебальского […]. Щебальский, однако, подтверждает подлинность записок. Для тех, кто читал герценовские издания записок, признание их подлинными будет доказательством незаконности рождения Павла, и следовательно, и всей династии […]. Этот документ получил, к сожалению, через Н. Тургенева (?) и Герцена большую огласку в России»[96]. И все же ссылки на мемуары Екатерины II и отдельные цитаты из них просачивались как в издания П. И. Бартенева, так и в труды С. М. Соловьева, А. Г. Брикнера, особенно В. А. Бильбасова. Насколько боялись власти откровений Екатерины, свидетельствуют те препоны, которые они чинили серьезному исследованию В. А. Бильбасова. 19 декабря 1891 г. Главное управление по делам печати запретило две части его книги «История Екатерины II» «по оскорбительности для памяти царствующих особ империи последней половины XVIII века». Работа В. А. Бильбасова по своему характеру не подлежала предварительной цензуре, но по особому распоряжению министра внутренних дел И. Н. Дурново для нее было сделано исключение, и готовую книгу (3 тыс. экземпляров) задержали в типографии[97]. Праправнук Екатерины Александр III пожелал лично ознакомиться с мемуарами, после чего наложил на них «дополнительный запрет».
Узнав о содержании второго тома «Истории Екатерины II» В. А. Бильбасова, Александр III решил, как рассказывает Е. М. Феоктистов, «отобрать у него через полицию эти материалы, по крайней мере те из них, которые он заимствовал в Государственном архиве». «Недоставало бы только этого!» — восклицает Феоктистов. Однако даже И. Н. Дурново восстал против подобной меры[98]. Лишь после революции 1905 г., ослабившей цензурный террор, появилась возможность перепечатать в России текст «Записок» Екатерины, изданный А. И. Герценом. Вслед за первыми изданиями последовало много других. В 1907 г. вышел последний, XII том академического издания сочинений Екатерины II. В нем впервые были опубликованы все основные редакции и отдельные библиографические отрывки, составившие вместе «Автобиографические записки императрицы Екатерины II». Однако редактор этого издания А. Н. Пыпин скончался в 1904 г., так и не успев завершить большую комментаторскую работу над «Записками». Я. Л. Барсков сообщал в предисловии к XII тому: «Покойный редактор академического издания сочинений императрицы Екатерины II не оставил указаний на взаимное отношение разных редакций „Автобиографических записок“, а в устных беседах с ним этот вопрос оставался открытым. Предполагалось значительно расширить вторую половину XII тома ссылками на источники, имеющие ближайшее отношение к „Запискам“: широко воспользоваться перепиской императрицы, дать в особом дополнительном томе facsimile важнейших автографов и таким путем выяснить не только порядок, в каком шла работа по составлению „мемуаров“, но также их историко-литературный и психологический интерес. Смерть А. Н. Пыпина воспрепятствовала осуществлению этого плана. Под его редакцией при участии Е. А. Ляцкого напечатан лишь текст „Записок“»[99].
Любопытно, что даже в научном, академическом издании, где помещался текст «Записок» на французском языке, было сделано несколько купюр (впрочем, восстановленных при переводе академического издания на русский язык в суворинском издании 1907 г.).
Так завершилась тайная история мемуаров Екатерины II — история более чем вековой борьбы, участниками которой были Пушкин, Герцен, Карамзин, А. Тургенев, Пыпин и другие писатели, историки, общественные деятели.
В середине сентября 1858 г. в Лондоне вышел и примерно через неделю проник в Россию сдвоенный 23–24-й номер герценовского «Колокола». На последней странице газеты было напечатано объявление: «Спешим известить наших читателей, что Н. Трюбнер издает в октябре месяце на французском языке: „Memoires de l’imperatrice Catherine II, ecrits par elle — meme (1744–1758)“[61]. Записки эти, давно известные в России по слухам и хранившиеся под спудом, печатаются в первый раз. Мы взяли меры, чтобы они тотчас были переведены на русский язык. Нужно ли говорить о важности, о необычайном интересе „Записок“ той женщины, которая больше тридцати лет держала в своей руке судьбы России и занимала собою весь мир, от Фридриха II и энциклопедистов до крымских ханов и кочующих киргизов. В „Записках“ описана молодость ее, первые годы замужества…»[62]
Уже через два месяца, 15 ноября 1858 г., 28-й номер «Колокола» известил читателей о том, что «Записки» вышли на языке подлинника — французском. Затем последовали русское, немецкое, шведское, датское, второе французское, второе немецкое издания. Секретные мемуары императрицы сделались всеобщим достоянием ровно через 100 лет после тех событий, которые в них описываются!
Обнародование «Записок» Екатерины II произвело потрясающее впечатление на российские власти. Оно казалось им более страшным, нежели вскрытие самых отвратительных злоупотреблений чиновников, описание самых ужасающих издевательств над крестьянами: ведь в данном случае говорилось не просто о плохих чиновниках и помещиках — «заряд» был направлен прямо в верховную власть. Прочитав мемуарыимператрицы, выдающийся французский историк Ж. Мишле писал А. И. Герцену: «Это с вашей стороны — настоящая заслуга и большое мужество. Династии помнят такие вещи больше, чем о какой-либо политической оппозиции»[63].
Царственные особы, случалось, вели дневники, а иногда писали воспоминания, большей частью — малосодержательные и порою представляющие интерес лишь как доказательство ограниченности их авторов (Людовик XVI, Николай II). Впрочем, сохранять откровенные записи представители правящих династий опасались: Мария Федоровна, жена Павла I, завещала своему сыну, Николаю I, сжечь несколько тетрадей с ее заметками. Были уничтожены и дневники императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I. Кроме дневников, существуют также записи монархов, предназначавшиеся в назидание потомству. Этот род воспоминаний (первый русский образец — «Поучение Владимира Мономаха») всегда содержит интересные сведения, но недостатком его как исторического источника можно считать чрезмерную «заданность» темы в ущерб истине. Таковы «История моего времени» прусского короля Фридриха II и мемуары Наполеона, написанные на острове Святой Елены.
«Записки» Екатерины II в некотором отношении выгодно отличаются от перечисленных выше типов автобиографических документов. Главное отличие — незавершенность, незаконченность, неотделанность этих воспоминаний. На них не успел еще лечь слой лака, усиливающего «блеск» и скрадывающего «неровности». Позднейшим исследователям будет нелегко разобраться в нескольких черновых и переписанных набело тетрадях, отдельных листах и лоскутках бумаги, составляющих личный архив Екатерины II. Лишь постепенно А. Н. Пыпин и Я. Л. Барсков, возглавившие в начале XX в. академическое издание сочинений императрицы, нашли известную систему в этих рукописях. Выяснилось, что Екатерина II писала воспоминания более полувека — по существу, от прибытия своего в Россию (1744) до самой смерти (1796). Первый опыт автобиографии юной великой княгини отличался, по-видимому, характерным для XVIII в. стремлением к самопознанию, самовыражению. Сама Екатерина писала позже: «Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств характера и личного поведения. Чтобы делать это более осязательным, я построю следующий силлогизм: качество и характер будут большой посылкой; поведение — меньшей; счастье или несчастье — заключением. Вот два разительных примера: Екатерина II и Петр III»[64]. Стремление к самопознанию автора воспоминаний надо учитывать, анализируя их историю, хотя, разумеется, были более серьезные причины, управлявшие пером мемуаристки…
Если первые отрывки воспоминаний были уничтожены великой княгиней из страха (сохранился только один ранний набросок), то запискам императрицы уже ничто не угрожало. Наиболее интенсивно Екатерина занималась своими мемуарами около 1771 г., а затем уже в последние несколько лет жизни. Узнав, что книготорговец Дидо упомянул об ее записках, Екатерина II 21 июня 1790 г. написала Гриму: «Я не знаю, что слышал Дидо о моих мемуарах, но в чем я уверена, — что они еще не написаны, и если это грех, — я должна извиниться»[65]. Исследователями выявлено семь редакций воспоминаний императрицы — иногда дополняющих, порой противоречащих друг другу. Самой полной редакцией оказалась четвертая (по нумерации А. Н. Пыпина и Я. Л. Барскова). Именно эта редакция, составлявшаяся в 1790-х годах[66], и попала в свое время в руки А. И. Герцена. Екатерина II не успела окончательно отредактировать свои воспоминания, не успела смягчить «опасные места». Это обстоятельство, а также живой ум и несомненное литературное мастерство автора привели к созданию интересного источника по истории XVIII в. «Записки», несомненно, самая ценная часть обширного литературного наследства Екатерины II. Вызванная особенностью жанра необычная искренность воспоминаний отнюдь не противоречила нескрываемому желанию императрицы оправдаться перед потомством. Одна из редакций воспоминаний посвящена интимному другу Екатерины баронессе Брюс[67], другая — князю Черкасову. Наконец, наиболее полная редакция хранилась в пакете с надписью: «Его императорскому высочеству великому князю Павлу Петровичу, моему любезнейшему сыну»[68].
Итак, «Записки» Екатерины II не были исповедью философа «наедине с собою и только для себя». В предисловии к герценовскому изданию «Записок» анонимный автор[69] справедливо отмечал: «Цель их (записок) очевидна; это — потребность […] оправдаться в глазах сына и потомства, которое должно оценить и побуждения и искренность этих признаний. Но невозможность полного оправдания как будто выражается в том самом, что мемуары не доведены до конца, ни даже до главной катастрофы» (подразумевается свержение Петра III).
Екатерине было в чем оправдываться, что обосновывать, от чего защищаться. Объявляя о своих «законных правах» на престол, она хорошо понимала их относительность (неслучайно сначала Екатерина собиралась вступить на престол как регентша малолетнего Павла, но затем отказалась от этого намерения). Было всесилие обладательницы громадной империи — и страх перед новыми переворотами. Была победа над Пугачевым — и призрак Петра III, воскрешенный самозванцем. Была ненависть к французской революции 1789 г., свергнувшей «законного монарха», — и собственная «дворцовая революция» 1762 г., свергнувшая другого «законного монарха»[70]. Как известно, политика Екатерины II в главном вопросе русской жизни — крестьянском — была достаточно определенной: незыблемое и все расширяющееся крепостническое угнетение миллионов людей. Однако политика «просвещенного абсолютизма» была известной маскировкой непривлекательной реальности, завесой лжи. На эту особенность екатерининского царствования обратил внимание А. С. Пушкин: «Екатерина уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первый лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь…»[71]. Объяснить, оправдать, растворить темную тайную историю в блеске явной, соединить самовластие с просвещением — для всего этого Екатерина предпринимала многое: говорила, писала и печатала. Для этого создавались и «Записки».
Комментаторы академического собрания сочинений Екатерины II справедливо отмечали, что она пользовалась во время работы адрес-календарями, старыми газетами и, вероятно, несохранившимися дневниковыми записями. Кроме того, многочисленные преднамеренные искажения истины, встречающиеся в «Записках», позволяют делать важные исторические наблюдения[72].
Перед читателем «Записок» открывается механизм русского самодержавия XVIII в., бесконечная цепь мелких придворных сплетен, каждая из которых может стать важным событием в жизни русских верхов того времени: обыкновенного кота назвали Иваном Ивановичем — в результате возникает дело об оскорблении фаворита Елизаветы Ивана Ивановича Шувалова; фрейлины шепчутся о государственных делах возле задремавшей императрицы и делают вид, что верят ее дремоте, а Елизавета делает вид, что дремлет, — и в итоге этого перекрестного двоедушия фрейлины, получая деньги от заинтересованных лиц, устраивают свадьбы, карьеры, чины.
Придворная жизнь, какой ее вспоминает Екатерина, подобна причудливой фантасмагории, где здравое и безумное смешивается в разных сочетаниях, легко переходя одно в другое: «Однажды, когда я вошла в покои его императорского высочества, я была поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить, и всей обстановки казни среди кабинета, который он велел себе устроить при помощи перегородки. Я спросила, что это значило; он мне сказал тогда, что эта крыса совершила уголовное преступление и подлежит строжайшей казни по военным законам: она перелезла через вал картонной крепости, которая была у него на столе в этом кабинете, и съела двух часовых на карауле, на одном из бастионов, сделанных из крахмала, он велел судить преступника по законам военного времени; великий князь добавил, что его легавая собака поймала крысу, и что тотчас же она была повешена, как я ее вижу, и что она останется, выставленная напоказ публике в течение трех дней для назидания. Я не могла удержаться, чтобы не расхохотаться над этим сумасбродством, но это очень ему не понравилось: он придавал всему этому большую важность. Я удалилась и прикрылась моим женским незнанием военных законов, однако он не переставал дуться на меня за мой хохот. Можно было, по крайней мере, сказать в защиту крысы, что ее повесили, не спросив и не выслушав ее оправданий. Во время пребывания двора в Москве случилось, что один камер-лакей сошел с ума и даже стал буйным. Императрица приказала своему первому лейб-медику Бургаву иметь уход за этим человеком; его поместили в комнату вблизи покоев Бургава, который жил при дворе. Случилось как-то, что в этом году несколько человек лишились рассудка; по мере того, как императрица об этом узнавала, она брала их ко двору, помещая возле Бургава, так что образовалась маленькая придворная больница умалишенных. Я припоминаю, что главными из них были: майор гвардии Семеновского полка по фамилии Чаадаев, подполковник Лейтрум, майор Чеглоков, один монах Воскресенского монастыря, срезавший себе бритвой причинные места, и некоторые другие. Сумасшествие Чаадаева заключалось в том, что он считал господом богом шаха Надира, иначе Тамас-Кули-хана, узурпатора Персии и ее тирана. После того, как врачи не смогли излечить Чаадаева от этой мании, его поручили попам; эти последние убедили императрицу, чтобы она велела изгнать из него беса. Она сама присутствовала при этом обряде, но Чаадаев остался таким же безумным, каким, казалось, он был. Нашлись, однако, люди, которые сомневались в его сумасшествии, потому что он здраво судил обо всем, кроме шаха Надира. Его прежние друзья приходили даже с ним советоваться о своих делах, и он давал им очень здравые советы; те, кто не считал его сумасшедшим, приводили как причину этой притворной мании одно грязное дело, от которого он отделался только этой хитростью: с начала царствования императрицы он был назначен в податную ревизию, его обвинили во взятках, и он подлежал суду. Из боязни суда он и забрал себе эту фантазию, которая его и выручила»[73].
Сообщения о балах, сплетнях, грязных интригах перемежаются с новостями о Семилетней войне. Здесь и официальная ложь, и правда, которую говорят на ухо, и невероятное искажение событий: «В августе месяце (1758 г.) мы узнали в Ораниенбауме, что 14-го было дано сражение при Цорндорфе, одно из самых кровопролитных за этот век, потому что каждая из сторон насчитывала более двадцати тысяч человек убитыми и пропавшими. Наша потеря в офицерах была значительна и превосходила 1200. Нам объявили об этом сражении как о выигранном, но на ухо говорили друг другу, что с обеих сторон потери были равные, что в течение трех дней ни одна из армий не смела приписать себе выигрыш сражения, что, наконец, на третий день прусский король велел служить молебствие в своем лагере, а генерал Фермор (русский командующий) — на поле сражения. Горе императрицы и уныние всего города было велико, когда узнали все подробности этого кровавого дня, где многие потеряли своих близких, друзей и знакомых; долго слышны были сожаления об этом дне, много генералов было убито, ранено и взято в плен. Наконец, было признано, что генерал Фермор вел дела совсем не по-военному и без всякого искусства. Войско его ненавидело и не имело к нему никакого доверия. Двор его отозвал и назначил генерала графа Петра Салтыкова…»
Вот лучшее из возможных переложений «Записок» императрицы, сделанное А. И. Герценом в его предисловии к французскому изданию[74]. «При чтении этих страниц предугадываешь ее, видишь, как она превращается в то, чем стала впоследствии. Шаловливая четырнадцатилетняя девочка, причесанная на манер „Моисея“, светловолосая, резвая, невеста малолетнего идиота — великого князя, — она уже охвачена тоской по Зимнему дворцу, жаждой власти. Однажды, когда она сидела вместе с великим князем на подоконнике и шутила с ним, она вдруг видит, как входит граф Лесток, который говорит ей: „Укладывайте ваши вещи — вы возвращаетесь в Германию“. Молодой идиот, казалось, не слишком-то огорчился возможностью разлуки. „И для меня это было довольно-таки безразлично, — говорит маленькая немка, — но далеко не безразличной была для меня русская корона“, — прибавляет великая княгиня. Вот вам и будущая Екатерина 1762 года! Мечтать о короне в атмосфере императорского двора, впрочем, было вполне естественно не только для невесты наследника престола, но и для каждого. Конюх Бирон, певчий Разумовский, князь Долгорукий, плебей Ментиков, олигарх Волынский — все стремились урвать себе лоскут императорской мантии. Русская корона — после Петра I — была res nullius[75] […]. Ее положение в Петербурге было ужасно. С одной стороны, ее мать, сварливая немка, ворчливая, алчная, мелочная, педантичная, награждавшая ее пощечинами и отбиравшая у нее новые платья, чтобы присвоить их себе; с другой — императрица Елизавета, бой-баба, крикливая, грубая, всегда под хмельком, ревнивая, завистливая, заставлявшая следить за каждым шагом молодой великой княгини, передавать каждое ее слово, исполненная подозрений, — и все это после того, как дала ей в мужья самого нелепого олуха своего времени. Узница в своем дворце, Екатерина ничего не смеет делать без разрешения. Если она оплакивает смерть своего отца, императрица посылает ей сказать, что довольно плакать, что „ее отец не был королем, чтоб оплакивать его более недели“. Если она проявляет дружеское чувство к какой-нибудь фрейлине, приставленной к ней, она может быть уверена, что фрейлину эту отстранят. Если она привязывается к какому-нибудь преданному слуге, — все основания думать, что того выгонят […]. Это еще не все. Постепенно оскорбив, осквернив все нежные чувства молодой женщины, их начинают систематически развращать […].
Самое важное в этой публикации для российского императорского дома — доказательство того, что не только дом этот не принадлежит к фамилии Романовых, но даже и к фамилии Гольштейн-Готторпских. Признание Екатерины в этом смысле выражено совершенно отчетливо — отцом императора Павла был Сергей Салтыков […]. При чтении „Записок“ поражаешься тому, как постоянно забывалось одно — Россия и народ, — о них даже не упоминали. Вот черта, характерная для эпохи […]. Зимний дворец с его административной и военной машиной представлял собой особый мир […]. Подобно кораблю, держащемуся на поверхности, он вступал в прямые сношения с обитателями океана, лишь поедая их. То было государство для государства. Устроенное на немецкий манер, оно навязало себя народу, как завоеватель. В этой чудовищной казарме, в этой необъятной канцелярии царило напряженное оцепенение, как в военном лагере. Одни отдавали и передавали приказы, другие молча повиновались. В одном лишь месте человеческие страсти то и дело вырывались наружу, трепетные, бурные, и этим местом в Зимнем дворце был семейный очаг — не нации, а государства. За тройною цепью часовых, в этих тяжеловесно украшенных гостиных кипела лихорадочная жизнь, со своими интригами и борьбой, со своими драмами и трагедиями. Именно там ткались судьбы России, во мраке алькова, среди оргий — по ту сторону от доносчиков и полиции…»
Мемуары Екатерины II позволяют сделать ряд наблюдений о государственных переворотах в России. Кроме пяти «больших переворотов» 1725–1801 гг., целью которых была перемена императора, в XVIII в. происходило множество переворотов более мелких: смены и аресты министров, свержение фаворитов. Катаклизмы, аресты, заговоры стали естественной формой сколько-нибудь значительных перемен в государстве. Екатерина еще до восшествия на престол наблюдает эти порядки и не скрывает в «Записках» свое отрицательное к ним отношение. Вот как описывается типичный «алый переворот» — арест графа Лестока, имевшего большое влияние на государственные дела: «Когда состоялся брак графа Лестока с девицей Менгден, фрейлиной императрицы, ее императорское величество и весь двор присутствовали на свадьбе, и государыня оказала молодым честь посетить их. Можно было сказать, что они пользуются величайшим фавором, но месяц или два спустя счастье им изменило. Однажды вечером, во время карточной игры в покоях императрицы, я увидела там графа Лестока; я подошла к нему, чтобы поговорить; он мне сказал вполголоса: „Не подходите ко мне, я в подозрении“. Я думала, что он шутит, и спросила, что это значит, он возразил: „Повторяю вам очень серьезно — не подходите ко мне, потому что я человек заподозренный, которого надо избегать“. Я видела, что он изменился в лице и был очень красный; я думала, что он пьян, и повернулась в другую сторону. Это происходило в пятницу. В воскресенье утром, причесывая меня, Тимофей Евреинов сказал мне: „Знаете ли вы, что сегодня ночью граф Лесток и его жена арестованы и отвезены в крепость как государственные преступники?“ Никто не знал, из-за чего…»[76]
Локальным государственным переворотом было и дело канцлера А. П. Бестужева-Рюмина (1758), которому посвящена вся заключительная часть основной редакции «Записок». «Давно уже передавали друг другу на ухо, что кредит великого канцлера графа Бестужева пошатывался и что его враги брали верх. Он потерял своего друга, генерала Апраксина. Граф Разумовский-старший долго его поддерживал, но с преобладанием Шуваловых он ни во что почти не вмешивался […]. Шуваловых и Михаила Воронцова возбуждали в их ненависти к великому канцлеру послы — австрийский, граф Эстергази, и французский, маркиз де Лопиталь. Этот последний считал графа Бестужева более склонным в союзу с Англией, нежели с Францией. Австрийский посол замышлял против Бестужева, потому что Бестужев не хотел, чтобы Россия, придерживаясь союзного договора с Венским двором, действовала в качестве первой воюющей стороны против прусского короля. Граф Бестужев думал как патриот, и им нелегко было вертеть, тогда как Михаил Воронцов и Иван Шувалов были в такой степени в руках у обоих послов, что за две недели до того, как впал в немилость великий канцлер Бестужев, французский посол де Лопиталь отправился к вице-канцлеру Воронцову с депешей в руке и сказал: „Граф, вот депеша моего двора, которую я получил и в которой сказано, что если через две недели великий канцлер не будет вами отставлен от должности, то я должен буду обратиться к нему и вести дела только с ним“. Тогда вице-канцлер разгорелся, отправился к Ивану Шувалову, и императрице представили, что слава ее страдает от влияния графа Бестужева. Императрица приказала собрать в тот же вечер конференцию и призвать туда великого канцлера. Последний велел сказать, что он болен; тогда назвали эту болезнь неповиновением и послали сказать, чтоб он пришел без промедления. Он пришел, и его арестовали в полном собрании конференции, сложили с него все должности, лишили всех чинов и орденов, между тем как ни единая душа не могла обстоятельно изложить, за какие преступления и злодеяния лишали всего первое лицо в империи. Его отправили под домашний арест. Так как это было подготовлено, то вызвали отряд гвардейских гренадеров. Эти последние, идя вдоль Мойки, где у графов Александра и Петра Шуваловых были свои дома, говорили: „Слава богу, мы арестуем этих проклятых Шуваловых, которые только и делают, что выдумывают монополии“. Увидев, однако, что дело идет о графе Бестужеве, солдаты высказали неудовольствие по этому поводу, говоря: „Это не он, это другие давят народ“»[77].
Вместе с Бестужевым были арестованы ювелир Екатерины Бернарди, а также Ададуров, прежде обучавший ее русскому языку, и Елагин, друг Понятовского (близкого в то время к Екатерине). Великой княгине пришлось пережить немало неприятных дней. «Во время бала, — вспоминает она, — я подошла к маршалу свадьбы князю Никите Трубецкому и, под предлогом рассматривания лент его маршальского жезла, сказала ему вполголоса: „Что же это за чудеса? Нашли вы больше преступлений, чем преступников, или у вас больше преступников, нежели преступлений?“ На это он мне сказал: „Мы сделали то, что нам велели, но что касается преступлений, то их еще ищут. До сих пор ничего найти не удалось“. По окончании разговора с ним я пошла поговорить с фельдмаршалом Бутурлиным, который мне сказал: „Бестужев арестован, но в настоящее время мы ищем причину, почему это сделано“. Так говорили оба главных следователя, назначенных императрицей, чтобы с графом Александром Шуваловым производить допрос арестованных»[78]. Граф Бестужев, сидевший под домашним арестом, сумел передать Екатерине записку, где сообщал, что «успел все бросить в огонь».
Далее в «Записках» рассказывается, что именно граф Бестужев успел сжечь. Несмотря на все попытки мемуаристки сообщить «полуправду» вместо истины, становится совершенно ясным, что существовал заговор, в котором были замешаны Бестужев и Екатерина[79]. «Болезненное состояние и частые конвульсии императрицы Елизаветы заставляли всех обращать внимание на будущее: граф Бестужев и по своему положению и по своим умственным способностям не был, конечно, одним из тех, кто об этом подумал последний. Он знал антипатию, которую внушили великому князю против него; он был весьма сведущ относительно слабых способностей этого принца, рожденного наследником стольких корон. Естественно, этот государственный муж, как и всякий другой, возымел желание удержаться на своем месте. Уже несколько лет он видел, что я освобождаюсь от тех предубеждений, которые мне против него внушали; к тому же он смотрел на меня лично, как на единственного, может быть, человека, на котором можно было в то время основать надежды общества в ту минуту, когда императрицы не станет. Это и подобные размышления заставили его составить план, по которому после смерти императрицы великий князь будет объявлен императором по праву, но в то же время я буду объявлена его соучастницей в управлении, при этом все должностные лица останутся, а ему, Бестужеву, дадут звание подполковника в четырех гвардейских полках и председательство в коллегиях иностранных дел, военной и адмиралтейской. Отсюда видно, что его претензии были чрезмерны. Проект этого манифеста он мне прислал написанный рукою Пуговишникова, через графа Понятовского, с которым я условилась ответить ему устно, что я благодарю канцлера за его добрые насчет меня намерения, но что я смотрю на эту вещь, как на трудно исполнимую. Он заставил написать и переписать свой проект несколько раз, изменял его, пополнял, сокращал; казалось, он был им очень занят. По правде говоря, я смотрела на его проект как на пустую болтовню и на удочку, которую этот старик мне закидывал, чтобы приобресть себе все более и более мою привязанность, но на эту удочку я не клюнула, потому что я считала ее вредной для государства, которое терзалось бы от всякой домашней ссоры между мною и не любившим меня моим супругом. Но я не хотела противоречить старику с характером упрямым и цельным, когда он вобьет себе что-нибудь в голову. Этот-то свой проект он и успел сжечь, о чем он меня предупредил, чтобы успокоить тех, которые о нем знали».
Вскоре переписка, которую вел канцлер, находясь под стражей, открылась, Екатерина ждала для себя самых плохих последствий и жгла бумаги. Против Бестужева срочно составлялось обвинение «в оскорблении величества», но неповоротливая государственная машина не сумела провести дело с должной гибкостью и быстротой: «Первое, что господа следователи сделали, это предписали через коллегию иностранных дел послам, посланникам и русским чиновникам при иностранных делах прислать копии депеш, которые им писал граф Бестужев с тех пор, как он был во главе дел. Это было сделано для того, чтобы найти преступления в его депешах. Говорили, что он писал только то, что хотел, и вещи, противоречащие приказаниям и воле императрицы. Но так как ее императорское величество ничего не писала и не подписывала, то трудно было поступать против ее приказаний; что же касается устных повелений, то ее императорское величество совсем не была в состоянии давать их великому канцлеру, который годами не имел случая ее видеть, устные же повеления через третье лицо, строго говоря, могли быть плохо поняты. Из всех этих предписаний в конце концов ничего не вышло, кроме приказа, о котором я упоминала, потому что, я думаю, никто из чиновников не дал себе труда просмотреть свой архив за двадцать лет и переписать его, чтобы выискать преступления того, инструкциям и указаниям коего эти самые чиновники следовали, и таким образом могли оказаться замешанными, при всем их усердии, в том самом, что помогли бы открыть. Кроме того, одна пересылка таких архивов должна была ввести казну в значительные расходы, а по прибытии бумаг в Петербург было бы чем истощать терпение многим лицам в течение многих лет (в поисках того, чего в бумагах, может быть, вовсе и не было). Отправленный приказ никогда не был исполнен. Само дело надоело, и его кончили через год манифестом, который начали сочинять на следующий день после того, как великий канцлер был арестован».
Заключающая мемуары сцена допроса Екатерины Елизаветой особенно примечательна. Подобные ситуации почти не фиксировались в секретных протоколах, а между тем — по логике самовластия — именно так и делались «главные дела»: с глазу на глаз, в интимных беседах высочайших особ. Вспоминая много лет спустя, Екатерина, разумеется, излагает события «с пристрастием», облагораживая свою роль и унижая Петра III (всячески проводится мысль, что после Елизаветы только Екатерина была способна управлять Россией). Однако главные черты происходившего обрисованы, по-видимому, верно: Екатерина, стремившаяся искусственным покаянием разжалобить императрицу; Елизавета, легко переходившая от сентиментальных слез к грозным напоминаниям о пытках; словесная дуэль Екатерины и Петра, ширма в комнате, за которой прячется фаворит… Вся сцена любопытна для понимания истории верхов, развития российского абсолютизма, «где нет вторых: только первый и все остальные…».
Вот рассказ самой Екатерины: «Около половины второго ночи граф Александр Шувалов вошел в мою комнату и сказал, что императрица требует меня к себе. Я встала и пошла за ним. Мы прошли через передние, где никого не было. Подходя к двери в галерею, я увидела, что великий князь прошел в противоположную дверь, направляясь, как и я, к ее императорскому величеству […]. Наконец, дойдя до покоев ее величества, где застала великого князя, я бросилась перед императрицей на колени и стала со слезами и очень настойчиво просить ее отослать меня к моим родным. Императрица захотела поднять меня, но я оставалась у ее ног. Она показалась мне более печальной, чем гневной, и сказала мне со слезами на глазах: „Как вы хотите, чтобы я вас отослала? Не забудьте, что у вас есть дети“. Я ей ответила: „Мои дети в ваших руках, и лучше этого ничего для них не может быть; я надеюсь, что вы их не покинете“. Тогда она мне возразила: „Но как объяснить обществу причину этой отсылки?“ Я ответила: „Ваше императорское величество скажите, если найдете нужным, о причинах, по которым я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя“. Императрица сказала: „Чем же вы будете жить у ваших родных?“ Я ответила: „Тем, чем жила прежде, до того, как вы удостоили взять меня“. Она мне на это возразила: „Ваша мать находится в бегах, она была вынуждена покинуть свою родину и уехать в Париж“. На это я сказала: „Я это знаю, ее считают слишком преданной интересам России, и король прусский стал ее преследовать“. Императрица вторично велела мне встать, что я и сделала, и немного отошла от меня в задумчивости. Комната, в которой мы находились, была длинная и имела три окна, между которыми стояли два стола с золотыми туалетными принадлежностями императрицы, в комнате были только она, великий князь, Александр Шувалов и я; против окна стояли широкие ширмы, перед которыми поставили канапе. Я заподозрила сразу, что за этими ширмами находится, наверное, Иван Шувалов, а может быть, также и граф Петр Шувалов, его двоюродный брат. Впоследствии я узнала, что отчасти отгадала верно и что Иван Шувалов там находился. Я стала около туалетного стола, ближайшего к двери, через которую я вошла, и заметила, что в золотом тазу на туалете лежали сложенные письма. Императрица снова подошла ко мне и сказала: „Бог мне свидетель, как я плакала, когда при вашем приезде в Россию вы были больны, при смерти, и, если бы я вас не любила, я вас не удержала бы здесь“. Эти слова означали, по-моему, извинение за то, что я сказала о ее немилости ко мне. Я на это ответила, благодаря ее императорское величество за все милости и доброту, которые она мне выказала и тогда и теперь, и говоря, что воспоминание о них никогда не изгладится из моей памяти и что я всегда буду смотреть как на величайшее несчастье на то, что подверглась ее немилости. Тогда она подошла ко мне еще ближе и сказала: „Вы чрезвычайно горды. Вспомните, что в Летнем дворце я подошла к вам однажды и спросила вас, не болит ли у вас шея, потому что увидела, что вы мне едва кланяетесь и из гордости поклонились мне только кивком головы“. Я ей ответила: „Боже мой, ваше императорское величество, как вы можете думать, что я хотела выказать гордость перед вами? Клянусь вам, мне никогда в голову не приходило, что этот вопрос, сделанный вами четыре года назад, мог относиться к чему-либо подобному“. На это императрица сказала: „Вы воображаете, что никого нет умнее вас“. Я ей ответила: „Если бы я имела эту уверенность, ничто больше не могло бы меня в этом разуверить, как мое настоящее положение и даже этот самый разговор, потому что вижу, что я по глупости до сих пор не поняла, что вам угодно было мне сказать четыре года тому назад“. Великий князь, между тем как императрица разговаривала со мной, шептался с графом Александром Шуваловым. Она это заметила и пошла к ним; они оба стояли почти посредине комнаты. Я не слишком хорошо слышала, что говорилось между ними, — они не очень громко говорили, комната была большая, — но под конец я услышала, как великий князь сказал, возвышая голос: „Она ужасно злая и очень упрямая“. Тогда я увидала, что дело идет обо мне, и, обращаясь к великому князю, сказала ему: „Если вы обо мне говорите, то я очень рада сказать вам в присутствии ее императорского величества, что действительно я зла на тех, кто вам советует поступать со мною несправедливо, и что я стала упрямой с тех пор, как я вижу, что мои убеждения ни к чему другому не ведут, как к вашей ненависти“. Он стал говорить императрице: „Ваше величество, Вы видите сами, какая она злая, по тому, что она говорит“. Но на императрицу, которая была гораздо умнее великого князя, мои слова произвели совсем другое впечатление. Я видела ясно, что, по мере того как разговор подвигался, ее настроение постепенно смягчалось, помимо ее воли и решений. Она обратилась, однако, к великому князю и сказала: „О, вы не знаете всего, что она мне сказала о ваших советчиках и против Брокдорфа“ […]. Это должно было показаться великому князю форменной изменой с моей стороны; он не знал ни слова о моем разговоре с императрицей в Летнем дворце и увидел, что его Брокдорф, который стал ему так мил и дорог, обвинен в глазах императрицы, да еще мною: это означило больше, чем когда-либо, нас поссорить, может быть, сделать непримиримыми врагами, лишить меня навсегда доверия великого князя. Я почти остолбенела, услышав, как императрица рассказывает в моем присутствии то, что я ей сказала и думала сказать для блага ее племянника, и как она обращает это в смертоносное оружие против меня. Великий князь, очень удивленный этим сообщением, сказал: „А, вот анекдот, которого я не знал. Он хорош и доказывает ее злость“. Я думала про себя: „Бог знает, чью злость он доказывает“. От Брокдорфа императрица неожиданно перешла к отношениям между (министром) Штамбке и графом Бестужевым, которые были открыты, и сказала мне: „Сами посудите, как можно извинить Штамбке за то, что он имеет сношения с государственным узником“. Так как в этом деле мое имя не появлялось, я промолчала, принимая эти слова как ко мне не относящиеся. Здесь императрица подошла ко мне и сказала: „Вы вмешиваетесь во многие вещи, которые вас не касаются. Я не посмела бы делать того же во времена императрицы Анны. Как, например, вы посмели посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?“ Я ей ответила: „Я? Никогда мне и в голову не приходило посылать ему приказания“. „Как, — сказала она, — вы можете отрицать, что писали? Ваши письма тут, в этом тазу (она показала мне их пальцем). Вам запрещено писать“.
Тогда я ей сказала: „Правда, что я нарушила запрет и прошу в этом прощения, но так как мои письма тут, то эти три письма могут доказать вашему императорскому величеству, что я никогда не посылала ему приказаний, но что в одном из писем я сообщила, что говорят об его поведении“. Здесь она меня прервала: „А почему вы это ему писали?“ Я ответила: „Просто потому, что я принимала участие в фельдмаршале, которого очень любила; я просила его следовать вашим приказаниям; остальные два письма содержат только поздравления с рождением сына и пожелания на Новый год“. На это императрица мне сказала: „Бестужев говорит, что было много других“. Я ответила: „Если Бестужев это говорит, то он лжет“. „Ну, так если он лжет на вас, — сказала она, — я велю его пытать“. Она думала этим напугать меня; я ей ответила, что в ее полной власти делать то, что она находит нужным, но что я все-таки написала Апраксину только эти три письма. Она замолчала и, казалось, соображала.
Я привожу самые разные черты этого разговора, которые остались у меня в памяти, но я не могу вспомнить всего, что говорилось в течение полутора часов, пока он продолжался. Императрица ходила взад и вперед по комнате, то обращаясь ко мне, то к своему племяннику, а еще чаще к графу Александру Шувалову […]. Я уже сказала, что замечала в ее императорском величестве меньше гнева, чем озабоченности. Что же касается великого князя, то он проявил во время этого разговора много неприязни, желчи, раздражения против меня; он старался, как только мог, раздражить императрицу против меня; но так как он принялся за это глупо и проявил больше горячности, нежели справедливости, то он не достиг своей цели: ум и проницательность императрицы стали на мою сторону. Она слушала с особенным вниманием и некоторого рода невольным одобрением мои твердые и умеренные ответы на выходившие из границ речи моего супруга, по которым было видно ясно, что он стремится очистить мое место, дабы поставить на него, если это возможно, свою любовницу (Елизавету Воронцову). Это было не по вкусу императрице; попасть под власть Воронцовых вряд ли входило и в расчеты господ Шуваловых. Однако эти соображения превышали мыслительные способности его императорского высочества, который верил всегда всему, чего желал, отстраняя всякую мысль, противную той, что над ним господствовала. И он так постарался, что императрица подошла ко мне и сказала вполголоса: „Мне надо будет многое вам еще сказать, но я не могу говорить, потому что я не хочу вас ссорить еще больше“; глазами и головой она показала мне, что это было из-за присутствия остальных. Видя этот знак душевного доброжелательства, который мне посылался в столь критическом положении, я была сердечно тронута и сказала очень тихо: „И я также не могу говорить, хотя мне чрезвычайно хочется открыть вам свое сердце и душу“. Я увидела, что эти слова произвели на нее сильное и благоприятное впечатление. У нее показались слезы на глазах, и, чтобы скрыть, до какой степени она взволнована, она нас отпустила, говоря, что очень поздно, и действительно было около трех часов утра»[80]. Решающее «сражение» Екатерина выиграла.
В «Записках» Екатерины, особенно в разделах, посвященных большим и малым переворотам, фактически выдвигается программа нового типа взаимоотношений между самодержавным государством и тем классом, на который это государство опиралось. Начиная с Екатерины II большие и малые перевороты практически прекращаются. Отношения самодержавия с дворянством приобретают более «цивилизованные формы». Можно констатировать, что с 1762 г. (исключая пятилетнее царствование Павла I) в России прекратились аресты министров и других крупных сановников и резко смягчились карательные меры против дворянства (что не мешало, разумеется, осуществлению жестоких расправ с дворянскими революционерами). Гражданское положение дворянства со времени правления Екатерины II улучшается по сравнению с первой половиной XVII в. Все льготы, доставшиеся дворянству, были, конечно, оплачены народом. Около миллиона государственных крестьян, розданных помещикам, значительное увеличение оброка и барщины за вторую половину XVIII столетия, каторжные работы за жалобу на помещика, расправа с участниками многочисленных крестьянских восстаний (из которых крестьянская война под руководством Пугачева была лишь самой значительной) — таковы наиболее заметные признаки непрерывного крепостнического наступления на крестьян, сопровождавшего «дворянские вольности». Однако без нескольких десятилетий екатерининского и александровского «просвещенного абсолютизма» не могла бы появиться в русском дворянстве значительная группа людей, достаточно свободных и независимых, чтобы прийти к мысли о необходимости борьбы с этим самым абсолютизмом.
Екатерина II еще доживала в беспамятстве последние часы, а Павел уже «принимал дела». Существует легенда, впрочем, весьма правдоподобная, будто великий князь Александр вместе с Ростопчиным и Александром Куракиным обнаружили и тут же в страхе уничтожили завещание императрицы, передававшее престол внуку, Александру, минуя сына, Павла. Между секретными бумагами императрицы были и ее незаконченные мемуары с посвящением: «Сыну моему Павлу Петровичу…» Вместе с мемуарами Павел обнаружил и письмо Алексея Орлова, извещавшее Екатерину II о «нечаянном» убийстве Петра III. Это открытие вызвало у Павла I радость, ибо оно свидетельствовало, что мать не отдавала по крайней мере прямого приказа об убийстве отца.
С этого времени в истории «Записок» Екатерины начался второй период — от смерти автора до завоевания их русской печатью. С 1796 по 1858 г. «Записки» Екатерины — секретный государственный документ, который власть имущие держат в глубокой тайне. Однако даже последовательными усилиями Павла I, Александра I, Николая I и Александра II эту тайну сохранить не удалось. Основная версия истории мемуаров после смерти Екатерины II изложена в уже упоминавшемся анонимном предисловии к герценовскому изданию. «Тетрадь резко обрывается около конца 1759. Говорят, что были отрывочные заметки, которые могли служить материалами для продолжения. Есть люди, которые говорят, что Павел бросил их в огонь: относительно этого нет уверенности. Павел держал в большом секрете рукопись своей матери и доверил ее лишь другу своего детства, князю Александру Куракину. Последний снял с нее копию. Спустя двадцать лет после смерти Павла Александр Тургенев и кн. Михаил Воронцов получили копии с экземпляра Куракина. Император Николай, прослышав об этом, приказал секретной полиции забрать все копии. Между прочим, была одна копия, писанная в Одессе рукой знаменитого поэта Пушкина. Действительно, „Записки“ Екатерины II больше не появлялись в обращении. Император Николай приказал графу Д. Блудову принести себе оригинал, прочел его, запечатал его большой государственной печатью и приказал хранить его в императорских архивах среди самых секретных документов […]. Во время Крымской войны архивы были привезены в Москву. В марте 1855 г. нынешний император приказал принести себе рукопись для прочтения. С этих пор одна или две копии вновь появились в обращении в Москве и в Петербурге»[81].
До сих пор еще не ясны все тайные пути, какими распространялись списки мемуаров Екатерины II. Без сомнения, приведенные выше строки написаны осведомленным человеком. Когда много лет спустя, в 1900 г., в присутствии президента Академии наук вел. кн. Константина Константиновича был распечатан пакет секретных бумаг Екатерины II, ученые, возглавлявшие академическое издание сочинений императрицы, обнаружили на бумагах заглавия и пометы, сделанные рукой Д. Н. Блудова. Из этого следует, что член литературного кружка «Арзамас», автор «Донесения тайной следственной комиссии» по делу декабристов, сановник Николая I действительно приводил в порядок засекреченные мемуары. Тетрадь воспоминаний в красном сафьяновом переплете с надписью «au prince Alexandre de Kourakin» подтверждает еще одно указание «анонима». Сохранилось также свидетельство императрицы Марии Федоровны о получении в 1824 г. копии записок от брата Александра Куракина князя Алексея Куракина[82].
Николай I, не любивший свою бабку и считавший, что она «позорит род», стремился конфисковать все списки. Характерно, что наследник Николая прочел мемуары прабабки лишь тогда, когда стал императором Александром II: до этого Николай запрещал своим родственникам знакомиться с «позорным» документом (великая княгиня Елена Павловна получила копию мемуаров от А. С. Пушкина, который 8 января 1835 г. записал: «Великая княгиня взяла у меня „Записки“ Екатерины II и сходит от них с ума»). Однако вопреки всем запретам списки распространялись.
История знакомства А. С. Пушкина с «Записками» Екатерины II давно интересует исследователей. Долгое время считали, что поэт прочитал «Записки» еще в Одессе, однако в 1949 г. при разборе рукописей, входивших в состав библиотеки Зимнего дворца, была обнаружена копия мемуаров — двапереплетенных тома, — сделанная на бумаге с водяным знаком «1830». Первые несколько строк были списаны рукою Натальи Николаевны Пушкиной, затем следовал писарский текст. На форзаце обоих томов рукою А. С. Пушкина помечено: «А. Пушкин». По-видимому, пушкинская копия была сделана не в Одессе, а в Москве или Петербурге, в 1831–1832 гг., с экземпляра, принадлежавшего А. И. Тургеневу[83]. В 1837 г. Николай I, увидев в списке бумаг погибшего А. С. Пушкина «Мемуары Екатерины II», наложил резолюцию: «Ко мне». Так пушкинская копия попала в библиотеку Зимнего дворца (на обоих томах копии поставлено: № 1 и № 2 — рукой начальника штаба корпуса жандармов Л. В. Дубельта).
Таким образом, в 30–50-х годах XIX в. русское общество уже слыхало о мемуарах императрицы, но почти никто не читал их. А. И. Герцен писал: «Константин Арсеньев […] говорил мне в 1840 г., что им получено было разрешение прочесть множество секретных бумаг о событиях, происходивших в период от смерти Петра I и до царствования Александра I. Среди этих документов ему разрешили прочесть „Записки“ Екатерины II (он преподавал тогда новую историю великому князю, будущему наследнику престола)»[84]. Стремление передовой русской общественности раскрыть государственные тайны, темные факты и обстоятельства, которых власти стыдились и пытались скрыть, было весьма характерно для русского освободительного движения. Публикуя записки И. В. Лопухина, А. И. Герцен писал: «Всякое правдивое сказание, всякое живое слово, всякое свидетельство, относящиеся к нашей истории за последние сто лет, чрезвычайно важно. Время это едва теперь начинает быть известным. Времена татарского ига и московских царей нам несравненно знакомее царствований Екатерины, Павла. История императоров — канцелярская тайна, она была сведена на дифирамб побед и риторику подобострастия»[85].
В этой борьбе казенной тайны и гласности Вольная русская типография одержала ряд решительных побед над самодержавием: кроме громадного количества материалов о современных злоупотреблениях и государственных тайнах, было издано значительное количество воспоминаний и документов о декабристах, петрашевцах, об убийстве Павла I, о временах Екатерины II и Александра I. Благодаря герценовским изданиям были обнародованы запретные материалы, вышедшие из-под пера таких различных (и одинаково преследуемых) исторических деятелей, как А. Н. Радищев и М. М. Щербатов, И. Д. Якушкин и М. С. Лунин, И. В. Лопухин и В. Н. Каразин, Е. Р. Дашкова и Н. С. Мордвинов. Среди этих открытий вольной печати видное место принадлежит мемуарам Екатерины II. А. И. Герцен сохранил тайну приобретения и обнародования «семейного» документа самодержавия; прошло много времени, прежде чем удалось узнать об этом некоторые подробности.
Впервые об истории публикации «Записок» написала в 1894 г. Н. А. Тучкова-Огарева: «В 1858 г. […] приехал к Александру Ивановичу один русский N. N. Он был небольшого роста и слегка прихрамывал. Герцен много с ним беседовал. Кажется, он был уже известен своими литературными трудами […]. После его первого посещения Герцен сказал Огареву и мне: „Я очень рад приезду N. N., он нам привез клад, только про это ни слова, пока он жив. Смотри, Огарев, — продолжал Герцен, подавая ему тетрадь, — это записки императрицы Екатерины II, писанные ею по-французски; вот и тогдашняя орфография — это верная копия“. Когда записки императрицы были напечатаны, N. N. был уже в Германии и никто не узнал об его поездке в Лондон […]. Из Германии он писал Герцену, что желал бы перевести записки эти на русский язык. Герцен с радостью выслал ему один экземпляр, а через месяц перевод был напечатан Чернецким; не помню, кто перевел упомянутые записки на немецкий язык и на английский; только знаю, что записки Екатерины II явились сразу на четырех языках и произвели своим неожиданным появлением неслыханное впечатление по всей Европе. Издания быстро разошлись. Многие утверждали, что Герцен сам написал эти записки; другие недоумевали, как они попали в руки Герцена. Русские стремились только узнать, кто привез их из России, но это была тайна, которую, кроме N. N., знали только три человека, обучившиеся молчанию при Николае»[86].
«Три человека, наученные молчанию при Николае», — возможно, Герцен, Огарев и сама Тучкова-Огарева. О том, кто такой N. N., в конце XIX — начале XX в. начинали догадываться. Публикуя сообщение Н. А. Тучковой-Огаревой, что корреспондента А. И. Герцена «уже нет на свете», А. Н. Пыпин и Я. Л. Барсков сделали примечание: «Автор „Воспоминаний“ ошибается»[87]. «Подозрения» специалистов пали на известного историка, издателя «Русского архива» П. И. Бартенева (1829–1912). Действительно, когда публиковались воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой и академическое издание «Записок» Екатерины II, П. И. Бартенев был еще жив. Позже мнение о П. И. Бартеневе как корреспонденте А. И. Герцена выдвигал М. П. Алексеев[88] (подчеркивалось, что П. И. Бартенев был как раз маленького роста и прихрамывал). В 1951 г. Л. Б. Светлов обратил внимание на подробный рассказ в дневнике Бартенева о вскрытии секретного архивного сейфа, производившемся Ф. Ф. Гильфердингом в 1855 г. по поручению Александра II. Гильфердинг как раз разыскивал для нового царя «Записки» Екатерины II, а Бартенев, служивший в Архиве иностранных дел, очевидно, помогал Гильфердингу в розысках и имел возможность снять копию[89]. К этому следует добавить, что Бартенев был близок с семьей Гильфердингов и мог получить соответствующее разрешение от самого Ф. Ф. Гильфердинга, главного архивариуса империи.
Новые архивные изыскания позволяют уточнить и в то же время «запутать» изложенную гипотезу. Без сомнения, поездка П. И. Бартенева и первые известия о публикации «Записок» Герценом совпадают во времени: сначала П. И. Бартенев прибыл в Лондон в августе 1858 г. (и соответственно в сентябре, в № 23–24 «Колокола», появилось первое сообщение о полученных «Записках»). Затем, судя по переписке П. И. Бартенева, он отправился в Германию, Бельгию, Францию (это совпадает с сообщением Н. А. Тучковой-Огаревой). В начале ноября 1858 г. Бартенев на короткое время снова появился в Лондоне и отправился на родину, захватив письмо А. И. Герцена И. С. Аксакову от 8 ноября 1858 г.[90] П. И. Бартенев всю жизнь занимался историей Екатерины II, его даже называли в шутку «последним фаворитом императрицы». В его печатных сочинениях то и дело проскальзывают намеки на хорошо известные ему «Записки». В 1868 г., например, П. И. Бартенев писал: «Покойный граф Д. И. Блудов передавал нам, что ему при разборе архивов Зимнего дворца случилось читать неизданную собственноручную тетрадь Екатерины II на французском языке […], содержавшую в себе подробные ее рассказы о рождении, детстве и вообще о жизни ее до приезда в Россию»[91]. Правда, с годами П. И. Бартенев стал человеком весьма умеренных, консервативно-монархических взглядов. Вероятно, воспоминания о «грехах молодости» не слишком радовали историка, что хорошо видно из следующего эпизода: 19 октября 1905 г. М. К. Лемке запрашивал П. И. Бартенева: «Из рассказа покойного Пыпина мне известно, что „Записки“ Екатерины II к Герцену привезены были вами. Если это верно, то не позволите сказать об этом в печати?»[92]. 22 октября 1905 г. П. И. Бартенев отвечал: «Прошу вас не оглашать в печати, будто я привез Герцену „Записки“ Екатерины II. Это может мне повредить у некоторых лиц. К тому же оно вполне неверно. Покойный А. Н. Пыпин (как и князь А. Б. Лобанов) были введены в заблуждение записками Огаревой […]. Я занимался много записками Екатерины, с которыми меня познакомил Т. Н. Грановский по списку, полученному им от Раевских. В марте 1856 г. они ходили уже по рукам […]. И немудрено, что Огарева меня смешала, увидев меня у Герцена в одно время с другим лицом, тоже ходившим на костылях»[93].
Ссылки П. И. Бартенева на Грановского и Раевских, конечно, заслуживают внимания, но любопытно, что П. И. Бартенев не отрицает самого факта встречи с А. И. Герценом. Вряд ли, однако, А. Н. Пыпин судил о роли П. И. Бартенева со слов Н. А. Тучковой-Огаревой: как раз в 1858 г. и позже А. Н. Пыпин сам посещал А. И. Герцена и мог кое-что знать «из первых рук». Говоря о другом «хромом посетителе» Герцена, П. И. Бартенев, возможно, намекает на Н. А. Орлова, русского дипломата, действительно посещавшего А. И. Герцена и передававшего ему в 1857–1858 гг. различные материалы[94]. Переписка Лемке и Бартенева пока не может изменить мнения о причастности последнего к пересылке в Лондон мемуаров императрицы, хотя многие детали все же не ясны и требуют уточнений[95].
После 1859 г. начался третий период истории «Записок» Екатерины II. Мемуары, изданные А. И. Герценом, неоднократно перепечатывались на Западе (только «Русская библиотека» Э. Каспровича в 70–80-х годах пять раз переиздала текст воспоминаний на русском языке).
«Записки» постепенно становились историографическим фактом: их использовали Сент-Бев, Мишле, Рамбо и другие западные историки. Но, несмотря на это, в России они находились под запретом. Так, в 1869 г. цензор возражал против одного места в статье П. К. Щебальского: «„Записки“ Екатерины II, изданные за границей Герценом, имели то особенное неудобство, что в них сама Екатерина сознавала и подтверждала, что Павел I обязан своим рождением не Петру III. Это показание выпущено в помещаемой теперь статье Щебальского […]. Щебальский, однако, подтверждает подлинность записок. Для тех, кто читал герценовские издания записок, признание их подлинными будет доказательством незаконности рождения Павла, и следовательно, и всей династии […]. Этот документ получил, к сожалению, через Н. Тургенева (?) и Герцена большую огласку в России»[96]. И все же ссылки на мемуары Екатерины II и отдельные цитаты из них просачивались как в издания П. И. Бартенева, так и в труды С. М. Соловьева, А. Г. Брикнера, особенно В. А. Бильбасова. Насколько боялись власти откровений Екатерины, свидетельствуют те препоны, которые они чинили серьезному исследованию В. А. Бильбасова. 19 декабря 1891 г. Главное управление по делам печати запретило две части его книги «История Екатерины II» «по оскорбительности для памяти царствующих особ империи последней половины XVIII века». Работа В. А. Бильбасова по своему характеру не подлежала предварительной цензуре, но по особому распоряжению министра внутренних дел И. Н. Дурново для нее было сделано исключение, и готовую книгу (3 тыс. экземпляров) задержали в типографии[97]. Праправнук Екатерины Александр III пожелал лично ознакомиться с мемуарами, после чего наложил на них «дополнительный запрет».
Узнав о содержании второго тома «Истории Екатерины II» В. А. Бильбасова, Александр III решил, как рассказывает Е. М. Феоктистов, «отобрать у него через полицию эти материалы, по крайней мере те из них, которые он заимствовал в Государственном архиве». «Недоставало бы только этого!» — восклицает Феоктистов. Однако даже И. Н. Дурново восстал против подобной меры[98]. Лишь после революции 1905 г., ослабившей цензурный террор, появилась возможность перепечатать в России текст «Записок» Екатерины, изданный А. И. Герценом. Вслед за первыми изданиями последовало много других. В 1907 г. вышел последний, XII том академического издания сочинений Екатерины II. В нем впервые были опубликованы все основные редакции и отдельные библиографические отрывки, составившие вместе «Автобиографические записки императрицы Екатерины II». Однако редактор этого издания А. Н. Пыпин скончался в 1904 г., так и не успев завершить большую комментаторскую работу над «Записками». Я. Л. Барсков сообщал в предисловии к XII тому: «Покойный редактор академического издания сочинений императрицы Екатерины II не оставил указаний на взаимное отношение разных редакций „Автобиографических записок“, а в устных беседах с ним этот вопрос оставался открытым. Предполагалось значительно расширить вторую половину XII тома ссылками на источники, имеющие ближайшее отношение к „Запискам“: широко воспользоваться перепиской императрицы, дать в особом дополнительном томе facsimile важнейших автографов и таким путем выяснить не только порядок, в каком шла работа по составлению „мемуаров“, но также их историко-литературный и психологический интерес. Смерть А. Н. Пыпина воспрепятствовала осуществлению этого плана. Под его редакцией при участии Е. А. Ляцкого напечатан лишь текст „Записок“»[99].
Любопытно, что даже в научном, академическом издании, где помещался текст «Записок» на французском языке, было сделано несколько купюр (впрочем, восстановленных при переводе академического издания на русский язык в суворинском издании 1907 г.).
Так завершилась тайная история мемуаров Екатерины II — история более чем вековой борьбы, участниками которой были Пушкин, Герцен, Карамзин, А. Тургенев, Пыпин и другие писатели, историки, общественные деятели.
Вопросы истории. 1968. № 1(под названием «Мемуары Екатерины II, одна из раскрытых тайн самодержавия»).

17 сентября 1773 года
«…С каким-то диким вдохновением…»Пушкин
«Мужицкий бунт — начало русской прозы…»
 Прекрасный стих Давида Самойлова соединяет миры, казалось бы, несоединимые, неслыханно удаленные; помогает лучше разглядеть фантастически обыденное пересечение культур, судеб, событий; то, что и есть История!
17 сентября 1773 г. Петербург готовился к многодневному празднику: ожидали бесплатную раздачу вина и снеди, позже потребуется специальная брошюра для перечня всего, что составляло церемонию бракосочетания наследника престола Павла Петровича (будущего Павла I) с гессенской принцессой Вильгельминой, переименованной в Наталью Алексеевну. Екатерина II жалует по этому случаю чины, деньги, ордена, тысячи крепостных душ, чтобы запечатлеть в памяти подданных событие.
Однако воспоминания — коварная сфера, «мозг не знает стыда». Вместо того чтобы сохранить хотя бы главные контуры торжественного происшествия, историческая помять современников вдруг соединяет его совсем с другим — страшным, нежелательным, с тем, что официально приказано было «предать вечному забвению».
В мемуарах поэта и государственного деятеля Гаврилы Романовича Державина, написанных около 1812 г., рисуется картина, напоминающая появление тени отца Гамлета… На свадебном пиру, где Екатерина II поздравляет нелюбимого сына, вдруг появляется, «садится за стол» оживший отец Петр III, свергнутый, задавленный, похороненный 11 лет назад…
Рассказ Державина не совсем точен, страшное известие достигло Петербурга несколько позже, 14 октября, но дело не в буквальной точности. Важно, что именно такой представлялась современникам роковая связь событий.
Прекрасный стих Давида Самойлова соединяет миры, казалось бы, несоединимые, неслыханно удаленные; помогает лучше разглядеть фантастически обыденное пересечение культур, судеб, событий; то, что и есть История!
17 сентября 1773 г. Петербург готовился к многодневному празднику: ожидали бесплатную раздачу вина и снеди, позже потребуется специальная брошюра для перечня всего, что составляло церемонию бракосочетания наследника престола Павла Петровича (будущего Павла I) с гессенской принцессой Вильгельминой, переименованной в Наталью Алексеевну. Екатерина II жалует по этому случаю чины, деньги, ордена, тысячи крепостных душ, чтобы запечатлеть в памяти подданных событие.
Однако воспоминания — коварная сфера, «мозг не знает стыда». Вместо того чтобы сохранить хотя бы главные контуры торжественного происшествия, историческая помять современников вдруг соединяет его совсем с другим — страшным, нежелательным, с тем, что официально приказано было «предать вечному забвению».
В мемуарах поэта и государственного деятеля Гаврилы Романовича Державина, написанных около 1812 г., рисуется картина, напоминающая появление тени отца Гамлета… На свадебном пиру, где Екатерина II поздравляет нелюбимого сына, вдруг появляется, «садится за стол» оживший отец Петр III, свергнутый, задавленный, похороненный 11 лет назад…
Рассказ Державина не совсем точен, страшное известие достигло Петербурга несколько позже, 14 октября, но дело не в буквальной точности. Важно, что именно такой представлялась современникам роковая связь событий.
Тридцать три года
17 сентября 1773 г. за две тысячи верст от столицы, по Уральским горам, степям, дорогам, крепостям разлетелись листки с неслыханными словами: «Самодержавного амператора, нашего великого государя Петра Федаравича всероссийского и прочая, и прочая, и прочая. Во имянном моем указе изображено яицкому войску: Как вы, други мои, прежным царям служили до капли своей до крови, дяди и оцы ваши, так и вы послужити за свое отечество мне, великому государю амператору Петру Федаравичу. Когда вы устроити за свое отечество, и ни истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей ваших. Будити мною, великим государем, жалованы: казаки и калмыки и татары. И которые мне, государю амператорскому величеству Петру Федаравичу винныя были, и я, государь Петр Федаравич, во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рякою с вершын и до устья и землею, и травами, и денижным жалованьем, и свиньцом, и порахам, и хлебным правиянтам. Я, велики государь амператор, жалую вас, Петр Федаравич». Эти строки 60 лет спустя прочтет великий ценитель, Александр Сергеевич Пушкин: «Первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более подействовало, что объявления, или публикации, Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов».
Как решился?
Снова перечитаем биографические сведения, с трудом и понемногу добытые в течение полутора веков из секретных допросов, донесений, приговоров екатерининского царствования. В 14 лет Пугачев теряет отца, делается самостоятельным казаком со своим участком земли; в 17 лет женится на казачьей дочери Софье Недюжевой, затем — призван и около трех лет участвует во многих сражениях Семилетней войны, где взят полковником в ординарцы «за отличную проворность»… Рано тогда выходили в люди: и казак, и дворянин в 14–17 лет уже обычно отвечали за себя, хозяйствовали, воевали, заводили семью… Между прочим, многое помогает нам понять в Пугачеве его земляк Григорий Мелехов: хозяйство, женитьба, военная служба в тех же летах, к тому же оба смуглы, сообразительны; посланные «воевать немца» — увидят, поймут, запомнят много больше, чем однополчане и одностаничники… Пугачев цел и невредим возвращается с Семилетней войны — ему нет и двадцати. Потом пожил дома полтора года, дождался рождения сына, снова призван, на этот раз усмирять беглых раскольников; опять домой, затем — против турок, оставя в Зимовейской уже троих детей… В турецкой кампании — два года, участвует в осаде Бендер под верховным началом того самого генерала Панина, который несколько лет спустя будет командовать подавлением пугачевцев, а у пленного их вождя в ярости выдерет клок бороды, между прочим, в походе выдавая себя за крестника Петра Великого, и казаки посмеивались… Вернулся из турок, и все у Пугача вроде бы благополучно, «как у людей»: выжил, получил чин хорунжего. Царская служба, однако, надоела — захотелось воли, да еще тут «весьма заболел» — «гнили грудь и ноги», чуть не помер. Если б одолела болезнь Пугачева, как знать, нашелся бы в ту же пору равный ему «зажигальщик»? А если б сразу не объявился, — хотя бы несколькими годами позже, — неизвестно, что произошло бы за этот срок; возможно, многие пласты истории легли бы не так, в ином виде, и восстание тогда задержалось бы или совсем не началось. Вот сколь важной была для судеб империи хворость малозаметного казака. Тем более что с этого как бы «все и началось»! 1771 год. Пугачев отправляется в Черкасск, просит у начальства отставки, но не получает. Между тем удачно лечится, узнает, что казачьи вольности поприжаты, что «ротмистры и полковники совсем уже не так с казаками поступают». Впервые приходит мысль — бежать. Скрылся один раз, недалеко — «шатался на Дону, по степям, две недели»; узнал, что из-за него арестовали мать, — поехал выручать, самого арестовали — второй раз бежал, «лежал в камышах и болотах», а затем вернулся домой. «В доме же его не сыскивали, потому что не могли старшины думать, чтоб, наделав столько побегов, осмелился жить в доме же своем» (из допроса Пугачева). Повадка, удаль, талант уже видны хорошо — Пугачев же еще всей цены себе не знает… 1772 год. Предчувствуя, что все же скоро арестуют, прощается с семьей и бежит третий раз, на Терек. Там «старики согласно просили его, Пугачева, чтобы он взял на себя ходатайство за них»; ему собирают 20 рублей, вручают письма и отправляют в Петербург просить об увеличении провианта и жалованья. Как быстро, выйдя из тех мест, где его размах не очень ценят (может быть, потому, что знали и мальчонкой, и юнцом), как быстро он выходит в лидеры! Еще понятно, если бы знал грамоту, но нет, ему дают письма, которые он и прочесть не умеет… Чем же брал? Как видно, умом, быстротою и, конечно, разговором: Пушкин заметил, что Пугачев частенько говорил загадками, притчами. Уже плененный и скованный, вот как отвечает на вопросы: «Кто ты таков?» — спросил он (Панин. — Н. Э.) у самозванца. «Емельян Иванов Пугачев», — отвечал тот. «Как же смел ты, вор, называться государем?» — продолжал Панин. «Я не ворон, — возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно), — я вороненок, а ворон-то еще летает». Сцена очень характерная: из слова «вор» Пугачев иронически извлекает «ворона», складывает загадку-притчу, одновременно понятную и таинственную, сильно действующую на психологию простого казака, крестьянина, заводского рабочего. Пушкин точно знал, что притча о вороне «поразила народ, столпившийся около двора…» Талант, повторим мы, и это свойство Пугача через толщу лет, сквозь туман предания и забвения, первым тонко почувствует Поэт… Осаждая крепость, где комендантом был отец будущего баснописца Крылова, Пугачев в случае успеха, конечно, мог бы расправиться с семьей этого офицера, и не было бы басен Крылова, а пугачевские отряды, заходившие в пушкинское Болдино, конечно, могли бы истребить и любого Пушкина… Но притом — разве Пугачев в «Капитанской дочке» не вызывает симпатии, сочувствия? (Марина Цветаева находила, что «как Пугачевым „Капитанской дочки“ нельзя не зачароваться — так от Пугачева пугачевского бунта нельзя не отвратиться».) Пушкин в начале 1830-х годов обратился к пугачевским делам прежде всего, чтобы понять дух и стремление простого народа, чтобы увидеть «крестьянский бунт», но к тому же поэта, очевидно, притягивали лихость, безумная отвага, талантливость Пугачева, в чем-то родственные пушкинскому духу и дару… Мы, однако, далековато вышли из наших 1770-х… Февраль 1772-го. Власти перехватывают Пугачева в начале пути с Терека в Петербург, и царица Екатерина лишилась шанса принять казацкое прошение от своего (в скором времени) «беглого супруга», «амператора Петра Федаравича»… Второй арест — и тут же четвертый побег: Пугачев сговорился с караульным солдатом — слово знал… Он является в родную станицу, близкие доносят; и вот уже следует третий арест, а там и пятый побег: опять Пугачев сагитировал казачков! Затем до конца 1772 г. странствия: под Белгород, по Украине, в Польшу, снова на Дон, через Волгу — на Урал. В раскольничьих скитах Пугачев представляется старообрядцем, страдающим за веру; возвращаясь из Польши, удачно прикидывается впервые пришедшим в Россию; старого казака убеждает, что «он заграничной торговой человек и жил двенадцать лет в Царьграде и там построил русский монастырь, и много русских выкупал из-под турецкого ига и на Русь отпускал. На границе у меня много оставлено товару запечатанного». Тип российского скитальца, которым столь интересовались лучшие писатели, скитальца-интеллигента или бродяги-мужика… Пушкин позже писал о российской истории, полной «кипучего брожения и пылкой бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов». В Пугачеве сильно представлен беспокойный, бродяжий, пылкий дух и сверх того — артистический дар, склонность к игре, авантюре. Пугачев играл великую, отчаянную, трагическую игру, где ставка была простая — жизнь…
Перед 1773-м
Приближается год, где в сентябре начинался наш рассказ. Пугачев по-прежнему еще и знать не знает о главной своей роли, которую начнет играть очень и очень скоро. Не ведает, но, возможно, уже предчувствует: в Заволжье и на Урале многое узнает о восстаниях крестьян и яицких казаков, о тени Петра III, являющейся то в одном, то в другом самозванном образе. Все это (мы можем только гадать о деталях) как-то молниеносно сходится в уже отчаянного, свободного казака. И тут опять нельзя удержаться от комментария. Свобода! То, о чем мечтали миллионы крепостных… Казаки, однако, имеют ее несравненно больше, чем мужики, которые могут лишь вздыхать о донских или яицких вольностях и постоянно реализуют мечту уходом, побегом на край империи, в казаки. Но взглянем на карты главных крестьянских движений, народных войн XVII–XVIII столетий. Восстание Болотникова начинается на юго-западной окраине, среди казаков и беглых; Разин и Булавин — на Дону; Пугачев сам с Дона, но поднимет недовольных на Яике, Урале — юго-восточной казачьей окраине. Таким образом, главные народные войны зажигаются не в самых задавленных, угнетенных краях, таких, скажем, как Черноземный центр, Среднее Поволжье, нет, они возникают в зонах относительно свободных, и уж потом с казачьих мест пожар переносится в мужицкие, закрепощенные губернии. Оказывается, для того, чтобы восстать, чтобы начать, уже нужна известная свобода, которой не хватает помещичьему рабу… Итак, на пороге 1773 г. Емельян Пугачев — на Южном Урале, где хочет возглавить уход яицких казаков за Кубань, в турецкую сторону… Задним числом, два века спустя, иногда представляется, будто какая-то таинственная, неведомая сила поправляла казака, готового «сбиться с пути», и посылала его туда, где он сотворит нечто самое важное, страшное и фантастическое… За Кубань не ушел. Близ рождества 1772 г. следует четвертый арест (опять донес один из своих!), на этот раз дело пахнет кнутом и Сибирью. Однако арестанта снова выручает блестящий артистизм, мастерское умение овладевать душами. В Казани (тюрьма и цепи) Пугачев успевает внушить уважение и любовь другим арестантам, влиятельным старообрядцам, купцам, наконец, солдатам. К тому же сам слух об арестованной «важной персоне» создавал атмосферу тайны и возможных будущих откровений. Любопытно, что это ощущают тысячи жителей Казани и округи, но совершенно не замечает казанский губернатор Брандт; он не понимает, сколь эффектно может выглядеть в глазах затаившихся подданных некий арестант. Губернатор уверен, что идеи Пугачева (увести уральских казаков и прочее) — «больше презрения, нежели уважения достойны». И вот шестой побег — опять узник и охранник вместе: 29 мая 1773 г., за четыре месяца до петербургской свадьбы. Летом 1773 г. Пугачев исчезает — появляется Петр III. Отчего же выбран именно этот, слабый, по-видимому, ничтожный царь, не просидевший на троне и полугода? А вот именно потому, что Петр III не успел «примелькаться», остался как бы абстрактной алгебраической величиной, которой можно при желании дать любое конкретное значение. За последние годы в работах К. В. Чистова, Р. В. Овчинникова, Н. Н. Покровского, Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского и ряде других народное «царистское» сознание было тщательно изучено[100]. Царь, по исторически сложившимся народным понятиям, «всегда прав и благ», если же он не прав и не благ, значит, ненастоящий, подмененный, самозваный; настоящему же, значит, самое время появиться в гуще народа — в виде царевича Дмитрия, Петра III, царя Константина. Петр III, всем известно, дал вольность дворянству в 1762 г., потом его свергли, говорят, будто убили: разве не понятно, что свергли за то, что после вольности дворянской приготовил вольность крестьянскую, — но министры и неверная жена все скрыли, «хорошего царя», конечно, не хотели — и тот скрылся, а вот теперь объявился на Урале! Правда, еще за год до того один беглый гренадер сказал Пугачеву, что он «точно, как Петр Третий», а Пугачев воскликнул: «Врешь, дурак!», но «в тот час подрало на нем, Емельке, кожу»… Предчувствие главного дела, «дикое вдохновение»…
Сентябрь
В ночь на 17 сентября в ста верстах от яицкого городка Пугачев входит в казачий круг из шестидесяти человек и говорит: «Я точно государь… Я знаю, что вы все обижены и лишают вас всей вашей привилегии и всю вашу вольность истребляют, а напротив того, бог вручает мне царство по-прежнему, то я намерен вашу вольность восстановить и дать вам благоденствие». Тут же, в подкрепление этих слов, грамотный казак Почиталин громко читает тот «именной указ», который был приведен в начале нашего повествования. «Теперь, детушки, — объявляет царь, — поезжайте по домам и разошлите от себя по форпостам и объявите, што вы давеча слышали, как читали, да и что я здесь… а завтра рано, севши на кони, приезжайте все сюда ко мне». «Слышим, батюшка, и все исполним и пошлем как к казакам, так и к калмыкам», — отвечали казаки. Вот каково было 17 сентября 1773 г. на Южном Урале. Вот как выглядело начало дела согласно позднейшим записям следователей. И как все просто: «Я точно государь…» — «Слышим, батюшка, и все исполним». А на самом деле какое напряжение между двумя половинами фразы: сказал — поверили! Что же, сразу, не сомневаясь, увидели в Пугачеве Петра III? И после не усомнились? Вопрос не простой: если б не поверили, разве пошли бы на смерть? Но неужели смышленым казакам не видно было за версту, что это — свой брат, такой же, как они, пусть умнее, речистее, быстрее?.. И разве мог Пугачев долго скрывать от всех приближенных, например, свою неграмотность? Царям, правда, не положено самим читать и писать — для того и слуги, но все же нужно уметь хоть подписаться под указом. Пугачев, мы знаем, несколько раз чертил «тарабарские грамотки» своей рукой: первые пришедшие в голову черточки и загогулины. (Имя же «Петр» или «Питер» за него вставлял Шванвич: тот самый, что сделается Швабриным в «Капитанской дочке»…) Для большинства его окружавших вроде бы достаточно, тем более что крестьянский император объявлял, что это он «пишет по-немецки», но пугачевская «военная коллегия» созданная при государе, его министры — Зарубин, Почиталин, Шигаев, Хлопуша, Белобородов, Перфильев, Творогов, — будто уж они так и верили, что служат Петру III? Разве не знали, что по городам и весям царские гонцы объявили: государевым именем называет себя «вор и разбойник Емелька Пугачев»? В сложных случаях всегда полезно посоветоваться с Пушкиным. В «Капитанской дочке» мы не находим никаких «маскарадных сцен», где Пугачев боится разоблачения или размышляет о способах маскировки. Да и ближние казаки, «генералы», хоть и кланяются, величают великим государем, вроде бы совсем не мучаются сомнениями, самозванец над ними или нет. Принимают, каков есть! Впрочем, в «Истории Пугачева» Пушкин рассказывает о двух удачных приемах, которыми Пугачев многих убедил. Во-первых, показал «царские знаки». Память о болезни и «гнилости» двухлетней давности… Пугачев хорошо знал наивную народную веру, будто царя можно отличить по каким-то особым следам на теле (в форме креста или иначе). Вторая же сентябрьская история такова: «Утром Пугачев показался перед крепостию. Он ехал впереди своего войска. „Берегись, государь, — сказал ему старый казак, — неравно из пушки убьют“. „Старый ты человек, — отвечал самозванец, — разве пушки льются на царей?“» Через шестьдесят лет после всего этого отыскивал точные даты, живые черточки и подробности о крестьянском Петре III первый его историк. Странствуя по оренбургским степям, он еще застал восьмидесяти-, девяностолетних свидетелей, содрогался от страшных, кровавых дел, слышал давно умолкнувшие удалые речи: «Разве пушки льются на царей?» У Пугачева был в запасе еще добрый десяток подобных же, часто интуитивных, актерских ходов, иносказательных разговоров. Прибавим к тому и обаяние самой удачи: начал с десятками сподвижников, и вот — сдаются крепости, отступают генералы — явные признаки присутствия царской персоны! Все это особенно действовало на тех, кто был подальше от самой ставки самозванца, на рядовых повстанцев. «Они верили, хотели верить», — запишет Пушкин. Вот важнейшие слова: хотели верить! За 168 лет до того Лжедмитрий, въехавший в Москву, был при всем честном народе узнан царицей — матерью убиенного отрока. Притом самозванец вовсе не боялся встречи: еле живая, почти слепая седьмая жена Ивана Грозного хотела чуда; ее, конечно, подготовили, соответствующим образом настроили — вот она и узнала в Грише Отрепьеве своего мальчика, которого считала погибшим целых 14 лет (кстати, Пугачев в «Капитанской дочке» вспоминает про удачливого предшественника — «Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою»). Итак, верили, хотели верить… Большинство повстанцев мечтало о царе-освободителе еще задолго до того, как узнали о Пугачеве; они всегда хотели земли и свободы, всегда была почва, и удачливый пахарь мог многое на ней посеять. Однако снова поинтересуемся теми, кто догадывался или даже точно знал, что Пугачев — простой казак. Во-первых, они уже связаны кровью и должны других уговаривать и себя убеждать, что здесь Петр Федорович. Психология самоубеждения очень любопытна: даже некоторые проныры и скептики из пугачевского окружения тоже хотели верить и, вступив в игру, далее уже не играли, но жили и умирали всерьез. Как известно, министры Пугачева принимали титулы «графа Чернышева» и «графа Воронцова»: это отнюдь не означало, будто они себя считают Воронцовым или Чернышевым — фамилия сливается с титулом, произносится и пишется как бы в одно слово: «Графчернышев», «Графворонцов». Однако постоянно повторяя фамилию-должность, сам носитель ее, как и окружающие, все больше верит, что слово само по себе несет некоторую силу, магию… Пусть Пугачев не царь, но мы должны верить, а поверив, назвав его царем, уже присягнули и одним звуком царского титула передали ему нечто таинственное. А он сам, понимая, что не очень-то верят, ведет себя так, будто они верят безоговорочно, и сам себя этим еще сильнее заряжает, убеждает, а его убеждение к ним, «генералам», возвращается! К тому же старшие видят магическое влияние государева слова на десятки тысяч людей, и после этого уж самый упорный привыкнет, самому себе шепнет: «А кто ж его знает? Конечно, не царь, но все же не простой человек; может быть, царский дух в мужика воплотился?» Пушкин: «Расскажи мне, — говорил я Д. Пьянову, — как Пугачев был у тебя посаженым отцом?» — «Он для тебя Пугачев, — отвечал мне сердито старик, — а для меня он был великий государь Петр Федорович». Калмыцкую сказку об орле и вороне Пугачев рассказывает Гриневу «с каким-то диким вдохновением». «Дикое вдохновение» — лучше не скажешь о пугачевском даре! Благодаря ему уж сам «Петр III» наверняка порою не мог отличить свой реальный образ от им же выдуманного, создавал так сказать вторую действительность — точно так, как бывает в искусстве…
Две свадьбы
С 17 сентября 1773 г. — кровавый пир. Летучие листки, написанные под диктовку самозванца или по разумению его канцеляристов, разносятся по горам и степям русскою и татарскою речью. «Великий государь и над цари царь и достойный император Петр Федорович, разсудя своим мнением ко всем моим верноподданным послать сей мой имянной указ и прочая, и прочая, и прочая. Да будет вам известно всем, что действительно я сам великий. И веря о том без сумнения, знайте, мне подданные во всяких сторонах и находящиеся вздешних местах: мухаметанцы и калмыки, сколько вас есть, и протчия все! Будучи в готовности, имеете выезжать ко мне встречю и образ моего светлого лица смотрите, не чиня к тому никакой противности, и пожалуйте, преступя свои присяги, чините ко мне склонность… И как ваши предки, отцы и деды, служили деду моему блаженному богатырю государю Петру Алексеевичу, и как вы от него жалованы, так и я ныне и впредь вас жаловать буду. И пожаловал вас землею, водою, солью, верою и молитвою, пажитью и денежным жалованьем, за что должны вы служить мне до последней погибели. И буду вас за то против сего моего увещевательного указа отец и жалователь, и не будет от меня лжи: многа будет милости, в чем я дал мою пред богом заповедь. И буде кто против меня будет противник и невероятен, таковым не будет от меня милости: голова будет рублена и пажить ограблена. Для чего сей мой указ со учреждением и написал». Буквально в те самые дни, когда на петербургских пирах провозглашалась здравица великому князю Павлу Петровичу и великой княгине Наталье Алексеевне, за них, «за детей своих» пил и Пугачев, рассылая по округе бумаги не только от собственного имени, Петра III, но и от наследника. В настоящее время известно около шестисот документов ставки Пугачева, недавно изданных отдельным томом[101]. Теперь же вот над чем задумаемся. Огромное восстание было, в сущности, недолгим, его темпы не очень характерны для того медленного века. За полгода до взрыва сам Пугачев еще не видел в себе Петра III. 17 сентября 1773 г. у него семьдесят человек, 18-го к вечеру — уже двести сторонников, на другой день — четыреста. 5 октября он начинает осаду Оренбурга с двумя с половиной тысячами. Зима с 1773-го на 1774-й: разгром нескольких правительственных армий; Пугачев во главе десяти, потом — до двадцати пяти тысяч. 22 марта 1774 г. — первое поражение под Татищевой; в Петербурге торжествуют — конец самозванцу! Весна — начало лета 1774-го: «Петр III» снова в силе, на уральских заводах. Июль 1774 г. — разгром Казани. Июль — август: переход на правый берег Волги, устрашающий рейд от Казани до Царицына, через главные закрепощенные области. Сентябрь 1774-го: спасаясь от наседающих правительственных войск, поредевшие отряды Пугачева возвращаются туда, откуда начали, — на Южный Урал. Сообщники решают выдать Пугачева. Он кричит: «Кого вы вяжете? Ведь если я вам ничего не сделаю, то сын мой, Павел Петрович, ни одного человека из вас живым не оставит». При этих словах изменники испугались, замешкались: они вроде бы хорошо понимают, что настоящий Павел Петрович не будет мстить за Пугачева; понимают, но все-таки допускают: а вдруг мужик царское слово знает!.. Потом все же схватили своего царя: пятый и уж последний арест в жизни. А всего, от того дня, как громко объявил казакам: «Я точно государь!» — от 17 сентября 1773 г., до того дня, как «соратники» сдали его властям, до 15 сентября 1774 г., прошло 363 дня. Пока шли победы, вера в крестьянского императора укреплялась, с поражениями — слабела, но, как известно, совсем никогда не выветрилась. Правительственные объявления сообщали, что пойман «злодей Пугачев», и крестьяне, радостно крестясь, переговаривались, что, слава богу, какого-то Пугача поймали, а государь Петр Федорович где-то на воле («ворон, не вороненок»). Прежде чем мы простимся с рассуждением о вере или неверии народа в своего Петра III, припомним, что Пугачев именно на нисходящей ветви движения допустил большую ошибку, сразу ослабившую доверие к нему очень многих: поскольку царственная супруга Екатерина II — изменница и «желала убить мужа», с нею «Петр III» уж не считал себя связанным (в его лагере обсуждался вопрос, не казнить ли ее, но «супруг» снисходителен и согласен на заточение в монастыре). И вот, высмотрев прекрасную казачку Устинью Кузнецову, император устраивает пышную, по всем царским правилам свадьбу. Через пять месяцев после женитьбы сына Павла женится «во второй раз» отец-Петр. Родители невесты не очень-то обрадовались, но испугались перечить. Однако провозглашение императрицы Устиньи Петровны в глазахнарода оказалось нецарским поступком — тут Пугачев изменил своей роли. Во-первых, царь Петр Федорович все же не разведен с женой — императрицей Екатериной: слишком торопится и нарушает церковный закон, обычай. А, во-вторых, кто же не знает, что царям не пристало жениться на простых девицах; и напрасно Пугачев думает, будто народу лестно, что на престол посажена неграмотная казачка. Царь, несомненно, больше выиграл бы в глазах мужиков, если бы взял за себя графиню или княгиню… А тут еще во время штурма Казани в руки Пугачева попала его настоящая, первая жена, Софья Недюжева, с тремя его детьми. Пугачев, впрочем, здесь сыграл уверенно и восклицал в казачьем кругу: «Вот какое злодейство! Сказывают мне, что это жена моя, однако же это неправда. Она подлинно жена, да друга моего, Емельяна Пугачева, который замучен за меня в тюрьме под розыском. Однако ж я, помня мужа ее, Пугачева, к себе одолжение, не оставлю и возьму с собою». С тех пор до конца возил он жену с тремя детьми за собою — и они заплакали, видя, как хватали и вязали их мужа, отца (не желавшего признавать себя мужем и отцом), и все они, один за другим, окончили дни свои в заточении (последняя дочь Пугачева умерла как раз тогда, когда Пушкин отыскивал следы ее отца, — и об этом сообщил поэту сам царь Николай I). Вместе ж с законной первой семьей Пугачева (в одной камере!) зачахла в крепости и «императрица Устинья», которую прежде держал в наложницах один из царских генералов, Павел Потемкин. Уж коли мы взялись перечислять трагические личные обстоятельства, следует сказать, что и пышная столичная свадьба в сентябре 1773 г. также не принесла счастья сыну Петра III: царевна через три года погибнет в родах; Екатерина II убедит сына в неверности невестки… Меж двух несчастных свадеб — народная война, тот пир, где «кровавого вина не достало». Все быстро, стремительно. Все вдруг, как лавина, началось — стоило умному удальцу сказать нужные слова. И так же вдруг все гибнет, оканчивается. Пугачев схвачен, его в клетке везут в Москву. И так же вдруг может начаться снова…
Два полюса
Недавно художница Татьяна Назаренко выставила интересную, прекрасно выполненную картину: Пугачева, запертого в клетке, везут равнодушные, на одно лицо, солдатики, а во главе их — спокойный Суворов. Некоторым зрителям, рецензентам ситуация не понравилась: как же так, восклицали они, славный герой Суворов везет в клетке вождя крестьянской войны Емельяна Пугачева! Увы, наше недовольство не может переменить задним числом того, что сбылось: скажем, заставить Суворова перейти в мужицкую армию. Да, действительно, сорокачетырехлетний генерал Суворов, срочно отозванный с турецкого театра войны, хоть и не был главнокомандующим против Пугачева, но участвовал в последнем этапе правительственных операций; да, солдаты, служивые — они пока не рассуждают: велено поймать «злодея» — ловят, не думая, не желая помнить, что он сулил им всем волю. И в отношении Суворова мы обязаны рассуждать исторически, а не «опрокидывать» чувства XX века в позапрошлое столетие. Прогрессивность, народность полководца не в том, что он вдруг освободит Пугача, но в том, что эти вот его солдатики все же у него легче живут, лучше едят, чем у других генералов; Суворов им больше доверяет, не смотрит на них как на механизм, как на крепостных и оттого с ними всегда побеждает. Прогрессивная линия дворянской культуры и народное сопротивление — им очень непросто пересечься, слиться. Через шестнадцать лет страданиями народа будет «уязвлена» душа Радищева, позже — декабристы, Пушкин… Нет, великий поэт не принимал «бунта бессмысленного и беспощадного», но пытался понять, глубоко чувствовал, что у мужицкого бунта своя правда, мечтал о сближении, соединении двух столь разнородных начал, может быть, в дальнем будущем.
Невозможная возможность
Пугачева везут в Москву — судить, казнить. Он не малодушничает, но и не геройствует: подробно отвечает на вопросы, признается во всех делах — «умел грешить, умей ответ держать». Отчего же забыл прежнюю роль, не отстаивал своего царского достоинства? Да оттого, во-первых, что был умным, талантливым и не хотел быть смешным. Во-вторых, прежде была война, была вера в него крестьян, желание верить… Зачем же теперь играть без нужды, только для себя, при недоброжелательном зрителе? Поэтому, «низложив» Петра III в самом себе, он снова стал беглым хорунжим Емельяном Пугачевым и ведет себя сообразно: например, просит прощения у Петра Панина, когда тот начинает его избивать, но, с другой стороны, и на цепи острословит так, что московские дворяне «между обедом и вечером заезжали на него поглядеть, подхватить какое-нибудь от него слово, которое спешили потом развозить по городу», — в той же записи сообщается об уродливом, безносом сибирском дворянине, который ругал прикованного Пугачева: «Пугачев, на него посмотрев, сказал: „Правда, много перевешал я вашей братии, но такой гнусной образины, признаюсь, не видывал“». По стране идут казни, расправы. Много позже в учебниках, научных исследованиях будет не раз повторено, что крестьянские восстания не могли победить, ибо во главе их не было пролетариата или буржуазии — классов, способных в разных исторических обстоятельствах возглавить крестьянское сопротивление. Восстание не могло победить, было обречено. Все так… Но разве не было в мире народных мятежей, восстаний рабов и крепостных, которые побеждали сами, одни? Да, были такие. Восставшие против Рима сицилийские рабы в 136 г. до н. э. создали свое царство. Великая крестьянская война 1630–1640-х годов в Китае привела к полному поражению императорских войск: вождь повстанцев Ли Цзычэн вступил в столицу, то есть добился того, что было бы равносильно в России занятию Петербурга или Москвы Пугачевым. Есть еще примеры в разных частях мира подобных успехов угнетенного большинства. Но что же дальше? Удержаться не могли: относительное равенство сражающихся сменялось быстрым расслоением среди победителей. Сицилийские рабы избрали себе царя, раба, который завел двор, собственных слуг и рабов. Смуты между разными группами освободившихся, разочарование во многих плодах успеха — все это привело к расколу, распаду, и через несколько лет после начала восстания Рим вернул Сицилию, раздавил царство Евна. Китайские же крестьяне-победители быстро выделили новых феодалов, отчего ослабло единство и подняли голову прежние хозяева, гражданская война разгорелась сызнова, но тогда в страну вторглись маньчжуры и подавили всех… Если бы Пугачев не застрял у Оренбурга и вдруг смело двинулся бы к Москве, где его ждали, мало ли как мог повернуться великий бунт? Но все равно бы не удержались. Уже в ходе восстания крестьянские министры, как известно, враждовали, случались кровавые расправы со своими. Недолго бы продержалась крестьянская вольница, даже если бы скинула с престола Романовых… Лились бы потоки крови, возможно, были бы перебиты многие замечательные люди; а также потенциальные предки других замечательных людей…
(Стихи Ю. Ряшенцева)
Знание — сила. 1984. № 1.

Лже…
 Семнадцатый век принес в российскую историю самозванцев: Лжедмитрий I, Лжедмитрий II… После «лжедмитриевской» волны, в следующие 250 лет, наблюдаются еще два особенно мощных «прилива» самозванчества. Во-первых, множество «Петров III». Пушкин писал о пяти самозванцах, принимавших это имя. В капитальной работе К. В. Сивкова, вышедшей около 30 лет назад, выявлено более двадцати случаев[102]. На сегодняшний день известно почти сорок лже-Петров III. Почти все они выступали против Екатерины II, отобравшей в 1762 г. престол у своего супруга Петра III.
Однако даже после кончины императрицы, уже в царствование Павла (восстановившего почитание своего отца, прах которого торжественно перенесли из Александро-Невской лавры в Петропавловскую крепость), все же объявился в Быкове, близ Москвы, некий Семен Анисимов Петраков, назвавшийся «Петром III». Правда, он потребовал клятвы с посвященных: никому не открывать его тайны «до коронации нового государя», но дело все же открылось. Павел I 17 февраля 1797 г. отправил своего лжеродителя Петракова «за обольщение простого народа» в Динамюндскую крепость, «в работы навсегда».
Последним из лже-Петров был, очевидно, основатель скопческой ереси Кондрат Селиванов, который проживал в Петербурге в 1802 г. и «не отказывался, хоть и не настаивал» на отождествлении себя с Петром III, дедом царствовавшего тогда Александра I.
Третье и последнее оживление самозванчества происходит после 1825 г., когда в нескольких местах является крестьянам лже-Константин. Если прибавить к этому нескольких самозванцев, именовавших себя в разное время то Алексеем (сыном Петра I), то Петром II, то Павлом I, получится, что общее число лжецарей с 1600 по 1850 г. приближается к сотне.
В других странах в разные эпохи тоже действовали самозванцы: вспомним лже-Нерона в Древнем Риме; после исчезновения в 1578 г. на поле брани португальского короля Себастьяна явилось несколько лже-Себастьянов и т. д.
Однако российские лжецари имеют по меньшей мере два отличительных признака. Во-первых, их, пожалуй, больше, чем во всех других краях, вместе взятых. Во-вторых (и в этом, по-видимому, главное объяснение такого «обилия»), основной тип российского самозванца — это человек из народа, выступающий в интересах «низов», от их имени… Иногда самозванец сотрясает всю империю, весь господствующий уклад: таков «главный Петр III» — Емельян Пугачев; порою за лжецарем идут крестьяне всего нескольких уездов, чаще же смельчака хватают и нещадно карают, прежде чем он успевает привлечь заметное число сторонников. Однако, независимо от успеха или провала удалого молодца, он, как правило, представляет, так сказать, «нижнее» самозванчество, народное.
Советские исследователи К. В. Чистов, Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, Н. Н. Покровский, А. А. Клибанов и другие в последнее время сделали немало важных и точных наблюдений над этим феноменом. Если раньше мы, пожалуй, преувеличивали свое знание народного мира, крестьянской психологии XVII–XIX вв., то сейчас начинаем лучше понимать, сколько в этой проблеме еще загадок, неясностей; как много еще надо обдумывать, исследовать…
Отнюдь не стремясь скороговоркой пересказать все сложные ученые теории насчет российского самозванчества, затронем всего три темы.
Во-первых, выясним обстоятельства времени российского самозванчества: почему его не было до известной поры и не стало после определенного рубежа? Тут ответ, в общем, не труден. До XVI в., пока еще не укрепилась российская монархия, естественно, не могла существовать и сама идея законного или «подменного» царя. С середины же XIX в. развитие культуры, подъем освободительного движения, улучшение путей сообщения ослабляют (хотя и не ликвидируют совсем) мистический ореол царской власти в народном сознании.
Вторая наша тема — общие причины расцвета самозванчества в России. Дело здесь прежде всего в тяжелейшем положении закрепощенного народа, а также в особой исторической роли царской власти.
Пожалуй, ни один, даже самый популярный король средневековой Англии или Франции не играл в народном сознании той роли, какую играли на Руси Александр Невский, Дмитрий Донской, а также Иван Грозный (позже почти слившийся в памяти народной со своим дедом Иваном Великим).
В течение нескольких веков, когда происходило объединение раздробленной Руси и ее освобождение от чужестранного ига, монарх (сначала великий князь, потом царь) возглавлял общенародное дело и становился не только вождем феодальным, но и героем национальным. Идея высшей царской справедливости постоянно, а не только при взрывах крестьянских войн, присутствовала в российском народном сознании. Как только несправедливость реальной власти вступала в конфликт с этой идеей, вопрос решался, в общем, однозначно: царь «все равно прав». Если же от царя исходит явная, очевидная неправота, значит, его истинное слово искажено министрами, дворянами или же сам этот монарх неправильный, самозваный: его нужно срочно заменить настоящим. И как не явиться самозванцу, особенно если имеется для того удобный случай (например, народные слухи, будто царевича Дмитрия хотели извести, но произошло «чудесное спасение»).
На Западе было иначе: весомость католицизма, несколько иная роль королевской власти в народных представлениях — все это вело к тому, что не самозванчество (как на Руси), но ересь становится идеологической формой многих народных движений.
В России же относительно слабую церковь во многом подменяла сильная верховная власть, царь как бы «заменял» бога. Сразу заметим, что и в русской истории известны различные ереси, а с XVII в. существовало такое сильное религиозное движение, как старообрядчество. Однако подобные формы протеста все же не достигли той всеохватывающей силы, как это было во время народных движений в Германии, Франции, Италии… Протест, борьба, восстание российских крестьян и посадских чаще, ярче облекаются в царистские оболочки. Только «справедливый, народный царь» угоден богу — или (то же самое, но с обратным знаком) неправильный царь равен дьяволу, антихристу…
Многие формулы и действия Петра I, как тонко замечает современный исследователь Б. А. Успенский, рождали в народном сознании представление, будто «Петр как бы публично заявлял о себе, что он антихрист». Например, упразднение патриаршества воспринимается как объявление царем самого себя патриархом, произнесение царского имени без отчества — «Петр Первый» (вместо прежних «Алексей Михайлович», «Федор Алексеевич»), несомненно, должно казаться претензией на святость, ибо первые и называемые без отчества — это духовные лица, и т. п.
Так, разумеется, в самом общем виде, обстоит дело с причинами удивляющего обилия самозванцев в российской истории.
Наконец, третья, совсем неисследованная проблема, на которой остановимся более подробно.
Кроме самозванчества «нижнего», о котором мы сейчас толкуем, возникает и, так сказать, самозванчество «верхнее». Появляется оно не в крестьянской среде, а наверху, в дворянской, правительственной сфере.
Самовластие, резко усилившееся после Петра I, откровенно порабощавшее, но притом употреблявшее просвещенные термины о духе времени, народном благе, настоящих законах, — эта ситуация порождала своих самозванцев. Несоответствие названия реальности, игра в «фантомы» — вот основа для верхнего самозванчества.
Споры о том, где мог Пушкин найти знаменитый сюжет о мертвых душах, подаренный Гоголю, кажется, надо решительно прекратить. Сюжет был всеобщим. Раскольничий документ о «Петре-антихристе» (конец XVIII — начало XIX в.), между прочим, сетует, что неправедный властитель «начал без меры возвышатися, учинил описание народное, исчислил вся мужеска пола и женска, старых и младенцев, живых и мертвых и, облагая их данями великими, не токмо живых, но и с мертвых дани востребовал».
В самом деле — что такое «мертвые души»? Это же невольные самозванцы: их нет на свете, но им велено быть в бумагах и не один год — до ревизии; на них помещик и государство разыгрывают явившиеся отсюда «самозваные суммы»: Чичиков (он же «Бонапарт», «Капитан Копейкин» — так сказать, самозванец в квадрате) куда менее удивителен, исключителен, чем многие полагают.
А кто же Ревизор, как не самозванец (Пушкин и Гоголь, как видим, большие знатоки этой истинно русской проблематики)? Хлестаков и не хотел, но ситуация буквально заставляет его самозванствовать.
Берем выше: князь Нарышкин в Забайкалье в 1770-х годах, действуя «по-царски», без всякого права раздает чины, объявляет рекрутские наборы и самозванствует, покуда его не заманят в Иркутск и не свяжут.
Еще выше — самозваная царевна (не из народа — из просвещенных), «дочь Елисаветы», княжна Тараканова. Впрочем, кто объяснит, чем она хуже своей противницы Екатерины II? Ведь в XVIII столетии самозванчество на троне едва ли не формула. Французский посол Беранже докладывал своему правительству в 1762 г. (эти строки впервые на русский язык перевел Герцен в своей Вольной печати): «Что за зрелище для народа, когда он спокойно обдумает, с одной стороны, как внук Петра I (Петр III) был свергнут с престола и потом убит, с другой — как правнук царя Ивана (Иван VI) увядает в оковах, в то время как Ангалтская принцесса (Екатерина II) овладевает наследственной их короной, начиная цареубийством свое собственное царствование!»
Мне довелось недавно увидеть в Центральном архиве древних актов (ЦГАДА) документы из секретной папки Екатерины II — бумаги, давно напечатанные и потому мало кем изучаемые теперь в подлиннике. А напрасно! Две записки Петра III, где он молит победительницу-супругу о пощаде: круглый детский старательный почерк — возможно, писалось на каком-нибудь ропшинском барабане и подписано унизительным «votre humble valet» — преданный вам лакей — вместо обычной формулы «serviteur» (слуга). Здесь же третий документ — веселая, развязная записка пьяным, качающимся почерком Алексея Орлова, адресованная «матушке нашей Всероссийской», о том, что «урод наш очень занемог» и как бы «сегодня не умер».
Кажется, уже «урода» Петра III и придушили (впрочем, мы точно знаем: была в той папке и четвертая записочка, позже уничтоженная, где прямо сообщалось об убийстве свергнутого царя), меж тем в сохранившейся записке насчет «болезни» Петра III выдрана подпись Орлова, и это сделано, конечно, екатерининской рукой: оборонить любимца, запутать след тому, кто когда-нибудь попытается доискаться до истины.
Итак, сплошное самозванчество: Орлов — и нет имени Орлова, а «урод» жив и не жив, и кто царь — и чьи права? К этому добавим, что едва ли не о каждом императоре, умершем естественной смертью, говорили, что его (или ее) извели. «Особенно замечательно, — заметил Н. А. Добролюбов, — как сильно принялось это мнение в народе, который, как известно, верует в большинстве, что русский царь и не может умереть естественно, что никто из них своей смертью не умер».
Притом почти каждому монарху приписывали не того родителя (например, Екатерине II — Ивана Бецкого), и таким образом умершие цари «самозванно» оживали, а живых «самозванно» усыновляли, удочеряли или убивали, а царь, считавший самозванцами крестьянских «Петров-III», сам был в их глазах правителем «самозваным-незваным». В общем, так все запутывалось, что в правительственных декларациях однажды Пугачева нарекли «лжесамозванцем», что, как легко догадаться, было уж чуть ли не крамольным признанием казака царем…
Откровеннейшие документы, относящиеся к гибели своего отца — то самое «досье» насчет Петра III (о котором говорилось выше), — сын Петра III, Павел Петрович, увидит лишь 42-летним, когда взойдет на трон. По сведениям Пушкина (этим сведениям должно верить, так как поэт имел ряд высокопоставленных, очень осведомленных собеседников), «не только в простом народе, но и в высшем сословии существовало мнение, что будто государь (Петр III) жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: „Жив ли мой отец?“»
Настолько все неверно, зыбко, что даже наследник престола все же допускает, что отец его жив! И спрашивает о том не случайного человека, но Андрея Гудовича (1741–1820). Близкий к Петру III, он выдержал за это длительную опалу при Екатерине, но в 1796 г. был вызван и обласкан Павлом.
Самозванцы, подмененные, двоящиеся… «Верхнее» самозванчество часто и причудливо сталкивается с «нижним», народным и эти пересечения чрезвычайно интересны. Ведь и дворцовые перевороты, частые сомнительные смены самодержцев в XVIII в. были одним из источников пугачевского и иных «самозваных взрывов».
Позже, в декабре 1825 г., родится совершенно особый, революционный вариант «верхнего» самозванчества: лозунг декабристов «Ура, Константин!» Недавно советский историк М. А. Рахматуллин интересно и тонко проанализировал, как рождалась «константиновская легенда» в народе под влиянием восстания декабристов[103]. Известие о схватке царя с дворянами сначала вызвало в ряде губерний радость и ожидание воли от победившего монарха; когда же выяснилось, что Николай I велит беспрекословно повиноваться помещикам, — по деревням пошел слух о «самозваном» Николае и настоящем царе Константине, которого не допустили к власти, ибо он хотел непременно освободить крестьян.
И вот уже создана реальная почва для лже-Константина…
Одно из самых причудливых пересечений двух видов самозванчества случилось еще на полвека раньше декабристского выступления и связано с историей великого пугачевского восстания.
Семнадцатый век принес в российскую историю самозванцев: Лжедмитрий I, Лжедмитрий II… После «лжедмитриевской» волны, в следующие 250 лет, наблюдаются еще два особенно мощных «прилива» самозванчества. Во-первых, множество «Петров III». Пушкин писал о пяти самозванцах, принимавших это имя. В капитальной работе К. В. Сивкова, вышедшей около 30 лет назад, выявлено более двадцати случаев[102]. На сегодняшний день известно почти сорок лже-Петров III. Почти все они выступали против Екатерины II, отобравшей в 1762 г. престол у своего супруга Петра III.
Однако даже после кончины императрицы, уже в царствование Павла (восстановившего почитание своего отца, прах которого торжественно перенесли из Александро-Невской лавры в Петропавловскую крепость), все же объявился в Быкове, близ Москвы, некий Семен Анисимов Петраков, назвавшийся «Петром III». Правда, он потребовал клятвы с посвященных: никому не открывать его тайны «до коронации нового государя», но дело все же открылось. Павел I 17 февраля 1797 г. отправил своего лжеродителя Петракова «за обольщение простого народа» в Динамюндскую крепость, «в работы навсегда».
Последним из лже-Петров был, очевидно, основатель скопческой ереси Кондрат Селиванов, который проживал в Петербурге в 1802 г. и «не отказывался, хоть и не настаивал» на отождествлении себя с Петром III, дедом царствовавшего тогда Александра I.
Третье и последнее оживление самозванчества происходит после 1825 г., когда в нескольких местах является крестьянам лже-Константин. Если прибавить к этому нескольких самозванцев, именовавших себя в разное время то Алексеем (сыном Петра I), то Петром II, то Павлом I, получится, что общее число лжецарей с 1600 по 1850 г. приближается к сотне.
В других странах в разные эпохи тоже действовали самозванцы: вспомним лже-Нерона в Древнем Риме; после исчезновения в 1578 г. на поле брани португальского короля Себастьяна явилось несколько лже-Себастьянов и т. д.
Однако российские лжецари имеют по меньшей мере два отличительных признака. Во-первых, их, пожалуй, больше, чем во всех других краях, вместе взятых. Во-вторых (и в этом, по-видимому, главное объяснение такого «обилия»), основной тип российского самозванца — это человек из народа, выступающий в интересах «низов», от их имени… Иногда самозванец сотрясает всю империю, весь господствующий уклад: таков «главный Петр III» — Емельян Пугачев; порою за лжецарем идут крестьяне всего нескольких уездов, чаще же смельчака хватают и нещадно карают, прежде чем он успевает привлечь заметное число сторонников. Однако, независимо от успеха или провала удалого молодца, он, как правило, представляет, так сказать, «нижнее» самозванчество, народное.
Советские исследователи К. В. Чистов, Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, Н. Н. Покровский, А. А. Клибанов и другие в последнее время сделали немало важных и точных наблюдений над этим феноменом. Если раньше мы, пожалуй, преувеличивали свое знание народного мира, крестьянской психологии XVII–XIX вв., то сейчас начинаем лучше понимать, сколько в этой проблеме еще загадок, неясностей; как много еще надо обдумывать, исследовать…
Отнюдь не стремясь скороговоркой пересказать все сложные ученые теории насчет российского самозванчества, затронем всего три темы.
Во-первых, выясним обстоятельства времени российского самозванчества: почему его не было до известной поры и не стало после определенного рубежа? Тут ответ, в общем, не труден. До XVI в., пока еще не укрепилась российская монархия, естественно, не могла существовать и сама идея законного или «подменного» царя. С середины же XIX в. развитие культуры, подъем освободительного движения, улучшение путей сообщения ослабляют (хотя и не ликвидируют совсем) мистический ореол царской власти в народном сознании.
Вторая наша тема — общие причины расцвета самозванчества в России. Дело здесь прежде всего в тяжелейшем положении закрепощенного народа, а также в особой исторической роли царской власти.
Пожалуй, ни один, даже самый популярный король средневековой Англии или Франции не играл в народном сознании той роли, какую играли на Руси Александр Невский, Дмитрий Донской, а также Иван Грозный (позже почти слившийся в памяти народной со своим дедом Иваном Великим).
В течение нескольких веков, когда происходило объединение раздробленной Руси и ее освобождение от чужестранного ига, монарх (сначала великий князь, потом царь) возглавлял общенародное дело и становился не только вождем феодальным, но и героем национальным. Идея высшей царской справедливости постоянно, а не только при взрывах крестьянских войн, присутствовала в российском народном сознании. Как только несправедливость реальной власти вступала в конфликт с этой идеей, вопрос решался, в общем, однозначно: царь «все равно прав». Если же от царя исходит явная, очевидная неправота, значит, его истинное слово искажено министрами, дворянами или же сам этот монарх неправильный, самозваный: его нужно срочно заменить настоящим. И как не явиться самозванцу, особенно если имеется для того удобный случай (например, народные слухи, будто царевича Дмитрия хотели извести, но произошло «чудесное спасение»).
На Западе было иначе: весомость католицизма, несколько иная роль королевской власти в народных представлениях — все это вело к тому, что не самозванчество (как на Руси), но ересь становится идеологической формой многих народных движений.
В России же относительно слабую церковь во многом подменяла сильная верховная власть, царь как бы «заменял» бога. Сразу заметим, что и в русской истории известны различные ереси, а с XVII в. существовало такое сильное религиозное движение, как старообрядчество. Однако подобные формы протеста все же не достигли той всеохватывающей силы, как это было во время народных движений в Германии, Франции, Италии… Протест, борьба, восстание российских крестьян и посадских чаще, ярче облекаются в царистские оболочки. Только «справедливый, народный царь» угоден богу — или (то же самое, но с обратным знаком) неправильный царь равен дьяволу, антихристу…
Многие формулы и действия Петра I, как тонко замечает современный исследователь Б. А. Успенский, рождали в народном сознании представление, будто «Петр как бы публично заявлял о себе, что он антихрист». Например, упразднение патриаршества воспринимается как объявление царем самого себя патриархом, произнесение царского имени без отчества — «Петр Первый» (вместо прежних «Алексей Михайлович», «Федор Алексеевич»), несомненно, должно казаться претензией на святость, ибо первые и называемые без отчества — это духовные лица, и т. п.
Так, разумеется, в самом общем виде, обстоит дело с причинами удивляющего обилия самозванцев в российской истории.
Наконец, третья, совсем неисследованная проблема, на которой остановимся более подробно.
Кроме самозванчества «нижнего», о котором мы сейчас толкуем, возникает и, так сказать, самозванчество «верхнее». Появляется оно не в крестьянской среде, а наверху, в дворянской, правительственной сфере.
Самовластие, резко усилившееся после Петра I, откровенно порабощавшее, но притом употреблявшее просвещенные термины о духе времени, народном благе, настоящих законах, — эта ситуация порождала своих самозванцев. Несоответствие названия реальности, игра в «фантомы» — вот основа для верхнего самозванчества.
Споры о том, где мог Пушкин найти знаменитый сюжет о мертвых душах, подаренный Гоголю, кажется, надо решительно прекратить. Сюжет был всеобщим. Раскольничий документ о «Петре-антихристе» (конец XVIII — начало XIX в.), между прочим, сетует, что неправедный властитель «начал без меры возвышатися, учинил описание народное, исчислил вся мужеска пола и женска, старых и младенцев, живых и мертвых и, облагая их данями великими, не токмо живых, но и с мертвых дани востребовал».
В самом деле — что такое «мертвые души»? Это же невольные самозванцы: их нет на свете, но им велено быть в бумагах и не один год — до ревизии; на них помещик и государство разыгрывают явившиеся отсюда «самозваные суммы»: Чичиков (он же «Бонапарт», «Капитан Копейкин» — так сказать, самозванец в квадрате) куда менее удивителен, исключителен, чем многие полагают.
А кто же Ревизор, как не самозванец (Пушкин и Гоголь, как видим, большие знатоки этой истинно русской проблематики)? Хлестаков и не хотел, но ситуация буквально заставляет его самозванствовать.
Берем выше: князь Нарышкин в Забайкалье в 1770-х годах, действуя «по-царски», без всякого права раздает чины, объявляет рекрутские наборы и самозванствует, покуда его не заманят в Иркутск и не свяжут.
Еще выше — самозваная царевна (не из народа — из просвещенных), «дочь Елисаветы», княжна Тараканова. Впрочем, кто объяснит, чем она хуже своей противницы Екатерины II? Ведь в XVIII столетии самозванчество на троне едва ли не формула. Французский посол Беранже докладывал своему правительству в 1762 г. (эти строки впервые на русский язык перевел Герцен в своей Вольной печати): «Что за зрелище для народа, когда он спокойно обдумает, с одной стороны, как внук Петра I (Петр III) был свергнут с престола и потом убит, с другой — как правнук царя Ивана (Иван VI) увядает в оковах, в то время как Ангалтская принцесса (Екатерина II) овладевает наследственной их короной, начиная цареубийством свое собственное царствование!»
Мне довелось недавно увидеть в Центральном архиве древних актов (ЦГАДА) документы из секретной папки Екатерины II — бумаги, давно напечатанные и потому мало кем изучаемые теперь в подлиннике. А напрасно! Две записки Петра III, где он молит победительницу-супругу о пощаде: круглый детский старательный почерк — возможно, писалось на каком-нибудь ропшинском барабане и подписано унизительным «votre humble valet» — преданный вам лакей — вместо обычной формулы «serviteur» (слуга). Здесь же третий документ — веселая, развязная записка пьяным, качающимся почерком Алексея Орлова, адресованная «матушке нашей Всероссийской», о том, что «урод наш очень занемог» и как бы «сегодня не умер».
Кажется, уже «урода» Петра III и придушили (впрочем, мы точно знаем: была в той папке и четвертая записочка, позже уничтоженная, где прямо сообщалось об убийстве свергнутого царя), меж тем в сохранившейся записке насчет «болезни» Петра III выдрана подпись Орлова, и это сделано, конечно, екатерининской рукой: оборонить любимца, запутать след тому, кто когда-нибудь попытается доискаться до истины.
Итак, сплошное самозванчество: Орлов — и нет имени Орлова, а «урод» жив и не жив, и кто царь — и чьи права? К этому добавим, что едва ли не о каждом императоре, умершем естественной смертью, говорили, что его (или ее) извели. «Особенно замечательно, — заметил Н. А. Добролюбов, — как сильно принялось это мнение в народе, который, как известно, верует в большинстве, что русский царь и не может умереть естественно, что никто из них своей смертью не умер».
Притом почти каждому монарху приписывали не того родителя (например, Екатерине II — Ивана Бецкого), и таким образом умершие цари «самозванно» оживали, а живых «самозванно» усыновляли, удочеряли или убивали, а царь, считавший самозванцами крестьянских «Петров-III», сам был в их глазах правителем «самозваным-незваным». В общем, так все запутывалось, что в правительственных декларациях однажды Пугачева нарекли «лжесамозванцем», что, как легко догадаться, было уж чуть ли не крамольным признанием казака царем…
Откровеннейшие документы, относящиеся к гибели своего отца — то самое «досье» насчет Петра III (о котором говорилось выше), — сын Петра III, Павел Петрович, увидит лишь 42-летним, когда взойдет на трон. По сведениям Пушкина (этим сведениям должно верить, так как поэт имел ряд высокопоставленных, очень осведомленных собеседников), «не только в простом народе, но и в высшем сословии существовало мнение, что будто государь (Петр III) жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: „Жив ли мой отец?“»
Настолько все неверно, зыбко, что даже наследник престола все же допускает, что отец его жив! И спрашивает о том не случайного человека, но Андрея Гудовича (1741–1820). Близкий к Петру III, он выдержал за это длительную опалу при Екатерине, но в 1796 г. был вызван и обласкан Павлом.
Самозванцы, подмененные, двоящиеся… «Верхнее» самозванчество часто и причудливо сталкивается с «нижним», народным и эти пересечения чрезвычайно интересны. Ведь и дворцовые перевороты, частые сомнительные смены самодержцев в XVIII в. были одним из источников пугачевского и иных «самозваных взрывов».
Позже, в декабре 1825 г., родится совершенно особый, революционный вариант «верхнего» самозванчества: лозунг декабристов «Ура, Константин!» Недавно советский историк М. А. Рахматуллин интересно и тонко проанализировал, как рождалась «константиновская легенда» в народе под влиянием восстания декабристов[103]. Известие о схватке царя с дворянами сначала вызвало в ряде губерний радость и ожидание воли от победившего монарха; когда же выяснилось, что Николай I велит беспрекословно повиноваться помещикам, — по деревням пошел слух о «самозваном» Николае и настоящем царе Константине, которого не допустили к власти, ибо он хотел непременно освободить крестьян.
И вот уже создана реальная почва для лже-Константина…
Одно из самых причудливых пересечений двух видов самозванчества случилось еще на полвека раньше декабристского выступления и связано с историей великого пугачевского восстания.
Емельян Пугачев и Павел Первый
В 1772 г. противники екатерининского правления надеялись, что императрица отдаст престол достигшему 18-летия наследнику Павлу: ведь нормальные права молодого великого князя, правнука Петра I, были, конечно, намного выше, чем у его матушки. Надежды на перемену правления, однако, не оправдались. Екатерина крепко держала власть в своих руках и никому не собиралась ее передавать. Обиженный наследник угрюмо замыкается в своих покоях, ясно понимая, что за ним отовсюду следят матушкины агенты. Зато вырывается на волю «тень» Павла — так сказать, фантом лже-Павла: вспыхивает знаменитый камчатский бунт во главе с М. Бениовским, и мятежники, сражаясь с властями Екатерины, смело действуют от имени наследника Павла (который обо всем этом узнает лишь несколько месяцев спустя). Многие, например Г. Р. Державин, сочли весьма знаменательным появление первых известий о «Петре III» — Пугачеве той же осенью 1773-го, когда игралась свадьба наследника Павла Петровича и немецкой принцессы, переименованной в Наталью Алексеевну. Вроде бы «тень отца Гамлета» явилась сыну, напоминая о мщении. Затем — 1773–1775 годы — гигантское пугачевское восстание. Однако если Пугачев — Петр III, то его «сын и наследник» — естественно, Павел I. Этот элемент агитации используется повстанцами не раз. Емельян Пугачев на пиршествах, как известно, подняв чару, постоянно провозглашал, глядя на портрет великого князя: «Здравствуй, наследник и государь Павел Петрович!» — и частенько сквозь слезы приговаривал: «Ох, жаль мне Павла Петровича, как бы окаянные злодеи его не извели». В другой раз самозванец говорит: «Сам я царствовать уже не желаю, а восстановлю на царствие государя цесаревича». Сподвижник Пугачева Перфильев повсюду объявлял, что послан из Петербурга «от Павла Петровича с тем, чтобы вы шли и служили его величеству». В пугачевской агитации важное место занимала повсеместная присяга «Павлу Петровичу и Наталье Алексеевне», а также известия о том, будто Орлов «хочет похитить» наследника, а великий князь «с 72 000 донских казаков приближается». И уж оренбургский крестьянин Котельников рассказывает, как генерал Бибиков, увидя в Оренбурге «точную персону» Павла Петровича, его супругу и графа Чернышева, «весьма устрашился, принял из пуговицы крепкое зелье и умер». Наконец, когда сподвижники решили выдать своего вождя властям, Пугачев (как записал А. С. Пушкин) «угрожал им местью великого князя». Согласно показаниям Ивана Федулова, одного из предавших своего вождя, Пугачев кричал: «„Кого вы вяжете? Ведь если я вам ничего не сделаю, то сын мой Павел Петрович ни одного человека (из вас) живого не оставит!“ И так его связать поопасались». (Этот факт взят из подготовленной к печати работы Р. В. Овчинникова с любезного разрешения автора)[104]. Как же реальный принц, сам Павел Петрович отнесся к своей самозваной тени? Смешно, конечно, предполагать, будто Павел допускал свое родство с Пугачевым, хотя и не был уверен, что его отец действительно погиб. О характере, о целях народного восстания он имел, в общем, ясное понятие. Одним из главных подавителей народной войны был Петр Панин, человек, близкий к наследнику. Парадоксальность тогдашней российской политической жизни проявилась, между прочим, в том, что Панин свою дворянскую оппозицию Екатерине облекал едва ли не в столь же резкие выражения, как Пугачев свою крестьянскую ненависть. Царица же в начале восстания велела московскому главнокомандующему М. Н. Волконскому «приглядывать за Паниным»: она явно опасалась, что тот использует события в своих целях (как прежде подозревала панинское подстрекательство в Чумном бунте 1771 г.! Выходило, что Панин — и косвенно Павел — должен был, подавляя восстание Пугачева, доказывать тем свою благонадежность!). Петр Панин, мы знаем, очень старался, рвал бороду у захваченного Пугачева; и тем не менее в уральском селе Захаровском Камышновской округи рассказывали уже в 1780-х годах, будто старообрядцам покровительствует наследник, а также «господин генерал Петр Панин его высочеству отец крестный». Однако мы не можем не считаться с последствиями «пребывания Павла» в лагере Пугачева. Прежде всего в усилении популярности имени наследника в народе. Распространение образа Лже-Петра III рождало, естественно, определенные фантастические надежды на его сына. Крайне любопытно, что, перечисляя прегрешения Павла, знаменитый Л. Л. Беннигсен (генерал, один из лидеров дворцового заговора против Павла I), между прочим, сообщал в 1801 году: «Павел подозревал даже Екатерину II в злом умысле на свою особу. Он платил шпионам, с целью знать, что говорили и думали о нем и чтобы проникнуть в намерения своей матери относительно себя. Трудно поверить следующему факту, который, однако, действительно имел место. Однажды он пожаловался на боль в горле. Екатерина II сказала ему на это: „Я пришлю вам своего медика, который хорошо меня лечил“. Павел, боявшийся отравы, не мог скрыть своего смущения, услышав имя медика своей матери. Императрица, заметив это, успокоила сына, заверив его, что лекарство — самое безвредное и что он сам решит, принимать его или нет. Когда императрица проживала в Царском Селе в течение летнего сезона, Павел обыкновенно жил в Гатчине, где у него находился большой отряд войска. Он окружил себя стражей и пикетами, патрули постоянно охраняли дорогу в Царское Село, особенно ночью, чтобы воспрепятствовать какому-либо неожиданному предприятию. Он даже заранее определял маршрут, по которому он удалился бы с войсками своими в случае необходимости: дороги по этому маршруту, по его приказанию, заранее были изучены доверенными офицерами. Маршрут этот вел в землю уральских казаков, откуда появился известный бунтовщик Пугачев. В 1772 и 1773 гг. он сумел составить себе значительную партию, сначала среди самих казаков, уверив их, что он был Петр III, убежавший из тюрьмы, где его держали, ложно объявив о его смерти. Павел очень рассчитывал на добрый прием и преданность этих казаков. Его матери известны были его безрассудные поступки. Но она только смеялась над ним и придавала им так мало внимания, что держала в Царском Селе для охраны дворца и порядка в городе лишь небольшой гарнизон, не превышавший двадцати человек казаков». Часто встречающейся версии о безразличии Екатерины к гатчинским «потешным полкам» Павла противоречит важная запись, сделанная Пушкиным со слов потомков А. И. Бибикова или других достаточно осведомленных лиц: «Бибикова подозревали благоприятствующим той партии, которая будто бы желала возвести на престол государя великого князя. Сим призраком беспрестанно смущали государыню, и тем отравляли сношения между матерью и сыном, которого раздражали и ожесточали ежедневные, мелочные досады и подлая дерзость временщиков. Бибиков не раз бывал посредником между императрицей и великим князем. Вот один из тысячи примеров: великой князь, разговаривая однажды о военных движениях, подозвал полковника Бибикова (брата Александра Ильича) и спросил, во сколько времени полк его в случае тревоги может поспеть в Гатчину? На другой день Александр Ильич узнает, что о вопросе великого князя донесено, и что у брата его отымают полк. Александр Ильич, расспросив брата, бросился к императрице и объяснил ей, что слова великого князя были не что иное, как военное суждение, а не заговор. Государыня успокоилась, но сказала: „Скажи своему брату, что в случае тревоги полк его должен идти в Петербург, а не в Гатчину“». Еще интереснее (и свободнее), чем в 1801 г., Беннигсен развивал свою версию много лет спустя перед племянником фон Веделем. Повторив, что Павел собирался бежать к Пугачеву, мемуарист добавляет: «Он для этой цели производил рекогносцировку путей сообщения. Он намеревался выдать себя за Петра III, а себя объявить умершим». Строки о «бегстве на Урал», даже если это полная легенда, весьма примечательны как достаточно распространенная версия (Беннигсен в 1773 г. только поступил офицером на русскую службу и, по всей видимости, узнал приведенные подробности много позже). Заметим, что в этом рассказе довольно правдиво представлена причудливая логика самозванчества, когда сын решается назваться отцом, чтобы добиться успеха (иначе он, по той же логике, должен подчиниться «Петру III — Пугачеву»). Переплетение «верхнего» и «нижнего» самозванчества тут весьма отчетливо. Затронутая тема интересна и не изучена. Так или иначе, но царь Павел, боясь и ненавидя крестьянский бунт, хотел найти в народе сочувствие к единственному законному претенденту на российский престол; особенно в годы, когда окончательно рассеялись его надежды, будто мать уступит трон, в годы различных заговорщических замыслов, лелеемых друзьями наследника. «Ну, я не знаю еще, насколько народ желает меня, — с большой осторожностью говорил Павел прусскому посланнику Келлеру в начале 1787 г. — Многие ловят рыбу в мутной воде и пользуются беспорядками в нынешней администрации, принципы которой, как многим без сомнения известно, совершенно расходятся с моими». Как видно, Павел связывает свою популярность в народе с разногласиями, разделяющими его и Екатерину II. «Павел — кумир своего народа», — докладывает в 1775 г. австрийский посол Любковиц. Видя, как во время посещения Москвы царским двором народ радуется наследнику, влиятельный придворный Андрей Разумовский шепчет Павлу: «Ах! Если бы Вы только захотели» (то есть стоит кинуть клич, и легко можно скинуть Екатерину и завладеть троном). Павел не остановил этих речей. Вскоре после этого, в 1782 г., появляется солдат Николай Шляпников, а в 1784-м — сын пономаря Григорий Зайцев, и каждый — в образе великого князя Павла Петровича. «Легенда о Павле-избавителе» имела широкое распространение на Урале и в Сибири. Слухи о новых «Петрах III», как и о новых «Павлах», вероятно, доходили к сыну Петра III постоянно. Так или иначе, но стихия «верхнего» и «нижнего» самозванчества не унималась, не затихала вокруг него годами и десятилетиями. Детей Павла, одного за другим, отрывают от родителей, как бы противопоставляя их, законных, ему, незаконному, так сказать, самозваному. В этой обстановке он узнает от девятнадцатилетнего Александра Павловича (будущего Александра I) о плане Екатерины II передать престол внуку, минуя сына. Александр же, не принимая этой идеи, в письмах дважды, нарочито, называет отца «величеством»: это как бы двойное самозванчество, ибо Павел высочество, и в то самое время, как бабушка уверена в согласии Александра на трон, тот себя тайно низлагает. После 1789 г. Екатерина преследует просветителя Новикова, архитектора Баженова и других деятелей, между прочим, за тайные масонские связи с Павлом. Любопытно, что тогда же к наследнику попадает недавно изученный советскими учеными документ под названием «Благовесть», составленный демократически настроенным мелким шляхтичем Еленским: в этом сочинении Павла призывают короноваться волею народа и выполнить дело освобождения. Серьезное, впрочем, соседствует с фарсом. В Петров день 1796 г. во многих местах Украины, на ярмарке Елисаветграда, в Новороссийской и Вознесенской губерниях, разнесся ложный слух о восшествии Павла Петровича (и не было ли случайностью совпадение этого события с тем сроком, который еще за несколько лет до того назначал автор «Благовести» для народного избрания Павла на царство: 1 сентября 1796 г.). Ярмарочные слухи окончились тем, что несколько человек были отданы под суд и… отпущены через полгода, а в официальной бумаге записали: «От кого именно начало возымел сей слух, не доискано, а, видно, глас народа — глас божий», — ибо Павел, пока разрешалось дело, и в самом деле взошел на трон и стал императором. Молва угадывала, истина была сомнительной, законность — зыбкой, самозванчество — справедливым. «Ах, монсеньер, какой момент для Вас», — восклицает в ночь с 6 на 7 ноября 1796 г. Федор Ростопчин. На это Павел отвечал, пожав крепко руку: «Подождите, мой друг, подождите…» Новому царю казалось, что отныне покончено с «самозванчеством» матери и фаворитов и что его имя, как и «призрак отца», явившийся во время народных бурь, — все это гарантирует народное сочувствие. Законному императору очень скоро, однако, открылось, что эти надежды — утопия, еще один «фантом», а стихия переворотов и самозванчества по-прежнему бушует над огромной империей.
Наука и жизнь. 1980. № 1.

Где секретная конституция Фонвизина — Панина?
 «Нет ли у Вас писем, собственноручных бумаг, напечатанных сочинений Ф. Визина? Не помните ли анекдотов о нем, острых слов его?» — спрашивал людей, знавших писателя, его первый биограф П. А. Вяземский. Что же было на самом деле в «собственноручных бумагах, ненапечатанных сочинениях, анекдотах, острых словах»?
Вопросы эти, задававшиеся в 1820–1830-х годах, актуальны и сегодня. Тут уж работает парадоксальная «формула», знакомая всем искателям старины: чем литератор известнее, тем таинственнее; чем больше людей им занимаются, мечтают найти что-нибудь, находят — тем больше расширяется сфера неведомого… Пушкин сказал, что Денису Фонвизину не избежать бы судьбы Радищева, Новикова, «если б не чрезвычайная его известность». Любопытно уяснить, что было известно Пушкину о том Фонвизине, которого боялась Екатерина II? Возможно, поэт знал больше, чем мы.
В связи с этой загадкой несколько лет назад была сделана замечательная находка. Ленинградские исследователи В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсон в коллекции Петербургского цензурного комитета (Центральный государственный исторический архив в Ленинграде) обнаружили переплетенную тетрадь в 122 листа — рукопись книги Вяземского о Фонвизине, на полях которой сохранились десятки интереснейших заметок Пушкина[105].
Новые же «чисто фон визинские» тайны добыть еще труднее: они старее… Одна из них, может быть, самая безнадежная, и оттого особенно привлекательная, скоро «отпразднует» 200-летие, если вести счет от некоей официальной церемонии. Главным героем ее был Никита Панин, один из влиятельнейших вельмож и политических деятелей того времени. Но, вникая в глубинную суть событий, мы имеем право предположить немалую роль в этом событии молодого и не слишком знатного секретаря того вельможи — Дениса Ивановича Фонвизина.
«Нет ли у Вас писем, собственноручных бумаг, напечатанных сочинений Ф. Визина? Не помните ли анекдотов о нем, острых слов его?» — спрашивал людей, знавших писателя, его первый биограф П. А. Вяземский. Что же было на самом деле в «собственноручных бумагах, ненапечатанных сочинениях, анекдотах, острых словах»?
Вопросы эти, задававшиеся в 1820–1830-х годах, актуальны и сегодня. Тут уж работает парадоксальная «формула», знакомая всем искателям старины: чем литератор известнее, тем таинственнее; чем больше людей им занимаются, мечтают найти что-нибудь, находят — тем больше расширяется сфера неведомого… Пушкин сказал, что Денису Фонвизину не избежать бы судьбы Радищева, Новикова, «если б не чрезвычайная его известность». Любопытно уяснить, что было известно Пушкину о том Фонвизине, которого боялась Екатерина II? Возможно, поэт знал больше, чем мы.
В связи с этой загадкой несколько лет назад была сделана замечательная находка. Ленинградские исследователи В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсон в коллекции Петербургского цензурного комитета (Центральный государственный исторический архив в Ленинграде) обнаружили переплетенную тетрадь в 122 листа — рукопись книги Вяземского о Фонвизине, на полях которой сохранились десятки интереснейших заметок Пушкина[105].
Новые же «чисто фон визинские» тайны добыть еще труднее: они старее… Одна из них, может быть, самая безнадежная, и оттого особенно привлекательная, скоро «отпразднует» 200-летие, если вести счет от некоей официальной церемонии. Главным героем ее был Никита Панин, один из влиятельнейших вельмож и политических деятелей того времени. Но, вникая в глубинную суть событий, мы имеем право предположить немалую роль в этом событии молодого и не слишком знатного секретаря того вельможи — Дениса Ивановича Фонвизина.
Награда — немилость
В сентябре 1773 г. по случаю бракосочетания девятнадцатилетнего великого князя Павла Петровича (будущего Павла I) императрица Екатерина II жалует графу Никите Ивановичу Панину, воспитателю наследника (также покровителю Дениса Фонвизина), «звание первого класса в ранге фельдмаршала, с жалованьем и столовыми деньгами; 4512 душ в Смоленской губернии; 3900 душ в Псковской губернии; сто тысяч рублей на заведение дома; серебряный сервиз в 50 тысяч рублей; 25 тысяч рублей ежегодной пенсии сверх получаемых им 5 тысяч рублей; ежегодное жалованье по 14 тысяч рублей; любой дом в Петербурге; провизии и вина на целый год; экипаж и ливреи придворные». Трудно представить, что эти подарки, что эти фантастические ценности — форма немилости, желание откупиться, намек на то, чтобы одариваемый не вмешивался не в свои дела.
Покойный Петр III ненавидел и не без основания боялся Панина, но за три месяца до своей гибели пожаловал ему действительного тайного советника, а еще через месяц — высший орден, святого Андрея Первозванного: чем больше Панина не любят, тем больше награждают… Через несколько недель после возведения Екатерины II на престол он поднесет ей давно продуманный проект, где довольно живыми красками изображены «временщики, куртизаны и ласкатели», сделавшие из государства «гнездо своим прихотям», где «каждый по произволу и по кредиту интриг хватал и присваивал себе государственные дела» и где «лихоимство, хищение, роскошь, мотовство, распутство в имениях и в сердцах». Исправить положение, по мнению воспитателя наследника, можно ограничением самодержавия, контролем за императорской властью со стороны особого органа — Императорского совета из 6–8 человек, а также Сената. К концу августа 1762 г., казалось, вот-вот могла бы осуществиться реформа государственного управления: сохранилась рукопись манифеста, где возвращенный из опалы канцлер А. П. Бестужев именуется «первым членом вновь учреждаемого при дворе Императорского совета». Однако 31 августа в печатном тексте манифеста этих строк уже нет. При дворе многие увидели в панинском Совете-Сенате ограничение самовластья в пользу немногих аристократов и нашли это невыгодным. О сложной придворной борьбе за каждую букву первой панинской «конституции» говорит то обстоятельство, что манифест об Императорском совете был подписан царицей лишь через 4 месяца — в декабре 1762 г. Но затем подпись была надорвана, то есть на вступила в силу. Проект Панина похоронен. Лишь через 64 года, 14 ноября 1826 г., недавно осудивший декабристов Николай I обнаружил тот документ среди секретных бумаг, прочитал и велел припрятать. В руки историков проект попал только через полвека. Никита Панин не утратил влияния после неудачи с манифестом и в течение почти 20 лет, независимо от формально занимаемых должностей, в сущности, был тем, кого позже называли министром иностранных дел. Он ждал своего часа и, двенадцать лет воспитывая наследника, немало преуспел во влиянии на Павла. Дожидаясь своего, Панин маскируется: при дворе он ленивый, сладострастный и остроумный обжора, который, по словам Екатерины II, «когда-нибудь умрет оттого, что поторопится». Но на самом деле Панин не теряет времени и ищет верных единомышленников. В 1769 г. он берет на службу и приближает к себе двадцатичетырехлетнего Дениса Фонвизина, уже прославившегося комедией «Бригадир». Шестьдесят лет спустя в сибирской ссылке декабрист Михаил Александрович Фонвизин, племянник писателя, генерал, герой 1812 года, записал свои интереснейшие воспоминания. Между прочим, он ссылался на рассказы своего отца — родного брата автора «Недоросля»: «Мой покойный отец рассказывал мне, что в 1773 году или в 1774 году, когда цесаревич Павел достиг совершеннолетия и женился на дармштадтской принцессе, названной Натальей Алексеевной, граф Н. И. Панин, брат его, фельдмаршал П. И. Панин, княгиня Е. Р. Дашкова, князь Н. В. Репнин, кто-то из архиереев, чуть ли не митрополит Гавриил, и многие из тогдашних вельмож и гвардейских офицеров вступили в заговор с целью свергнуть с престола царствующую без права Екатерину II и вместо нее возвести совершеннолетнего ее сына. Павел Петрович знал об этом, согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своею подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие… При графеПанине были доверенными секретарями Д. И. Фонвизин, редактор конституционного акта, и Бакунин (Петр Васильевич), оба участника в заговоре. Бакунин из честолюбивых, своекорыстных видов решился быть предателем. Он открыл любовнику императрицы Г. Орлову все обстоятельства заговора и всех участников — стало быть, это сделалось известным и Екатерине. Она позвала к себе сына и гневно упрекала ему его участие в замыслах против нее. Павел испугался, принес матери повинную и список всех заговорщиков. Она сидела у камина и, взяв список, не взглянув на него, бросила бумагу в камин и сказала: „Я не хочу знать, кто эти несчастные“. Она знала всех по доносу изменника Бакунина. Единственною жертвою заговора была великая княгиня: полагали, что ее отравили или извели другим образом… Из заговорщиков никто не погиб. Екатерина никого из них не преследовала. Граф Панин был удален от Павла с благоволительным рескриптом, с пожалованием ему за воспитание цесаревича 5 тысяч душ и остался канцлером… Над прочими заговорщиками учрежден тайный надзор»… Вот при каких обстоятельствах, согласно М. А. Фонвизину, Никита Панин получил тысячи душ, сотни тысяч рублей, «любой дом» и прочее.
Пропавший заговор
Некоторые исследователи отрицали существование такого заговора в 1773–1774 гг. и справедливо находили в этом рассказе несколько ошибок. Однако профессор-литературовед Г. П. Макогоненко пришел к выводу, что сообщение М. А. Фонвизина о заговоре со всеми поправками в деталях «…имеет огромную ценность. Оно зафиксировало реальный исторический факт участия Д. И. Фонвизина в заговоре против Екатерины…». Имеются серьезные доводы в пользу того, что заговор действительно был. В 1783–1784 гг. Денис Фонвизин сочинил посмертную похвалу своему покровителю — «Жизнь графа Панина», где, между прочим, находились следующие строки (конечно, не попавшие в печать и читанные современниками в рукописях): «Из девяти тысяч душ, ему пожалованных, подарил он четыре тысячи троим из своих подчиненных, сотрудившихся ему в отправлении дел политических. Один из сих облагодетельствованных им лиц умер при жизни графа Никиты Ивановича, имевшего в нем человека, привязанного к особе его истинным усердием и благодарностью. Другой был неотлучно при своем благодетеле до последней минуты его жизни, сохраняя к нему непоколебимую преданность и верность, удостоен был всегда полной во всем его доверенности. Третий заплатил ему за все благодеяния всею чернотою души, какая может возмутить душу людей честных. Снедаем будучи самолюбием, алчущим возвышения, вредил он положению своего благотворителя столько, сколько находил то нужным для выгоды своего положения. Всеобщее душевное к нему презрение есть достойное возмездие столь гнусной неблагодарности». О ком идет речь? Кто были эти трое? Первым из них был секретарь Панина Я. Я. Убри, вторым — сам Д. И. Фонвизин, а третьим, конечно, П. В. Бакунин (1731–1786), именно тот, кто, согласно Михаилу Фонвизину, выдал царице панинский заговор 1773 г. Денис Фонвизин, как видим, прямо намекает на подобный эпизод. Другое смутное сведение о заговоре связано с авантюрой голштинского дипломата на русской службе Сальдерна: Сальдерн предложил Павлу помощь в свержении Екатерины II, но Павел будто бы отказался; позже наследник признался во всем матери, чем выдал и Н. И. Панина, уже год осведомленного о том плане, но ничего не сообщавшего императрице. Очевидно, тогда же Панин и Фонвизин начали работу над каким-то новым документом, который лег бы в основу конституции, ограничивающей власть будущего монарха. Фонвизин-племянник пишет о дяде: «редактор конституционного акта». «Друг свободы», — назовет его Пушкин. «Рассказывают, — заметит Вяземский, — что (Д. И. Фонвизин) по заказу графа Панина написал одно политическое сочинение для прочтения наследнику. Оно дошло до сведения императрицы, которая осталась им недовольна и сказала однажды, шутя, в кругу приближенных своих: „Худо мне жить приходится: уже и господин Фонвизин учит меня царствовать…“» Снова обратимся к цитированным запискам Фонвизина-декабриста: хотя он родился в 1788 г., после описываемых событий, но запомнил рассказы старшей родни; впрочем, некоторых тонкостей уж не мог знать или помнить и, вероятно, невольно соединил воедино разные проекты своего дяди и Н. Панина (это совмещение и было одним из научных доводов против рассказа декабриста о заговоре 1770-х годов)… Но вообще-то Михаил Фонвизин обладал замечательной памятью. Вспоминая в Сибири о том, что говорилось и делалось в дни его ранней юности, почти полвека назад, он очень точно называет имена и факты, его сведения выдерживают проверку по другим источникам, и поэтому рассказ о конституции 1770-х годов заслуживает более пристального внимания: «Граф Никита Иванович Панин предлагал основать политическую свободу сначала для одного дворянства, в учреждении Верховного Совета, которого часть несменяемых членов назначались бы из избранных дворянством из своего сословия лиц. Синод также бы входил в состав общего собрания Сената. Под ним (то есть под Верховным сенатом) в иерархической постепенности были бы дворянские собрания, губернские или областные и уездные, которым предоставлялось право совещаться в общественных интересах и местных нуждах, представлять об них Сенату и предлагать ему новые законы. Выбор как сенаторов, так и всех чиновников местных администраций производился бы в этих же собраниях. Сенат был бы облечен полною законодательною властью, а императорам оставалась бы власть исполнительная, с правом утверждать обсужденные и принятые Сенатом законы и обнародовать их. В конституции упоминалось и о необходимости постепенного освобождения крепостных крестьян и дворовых людей. Проект был написан Д. И. Фонвизиным под руководством графа Панина. Введение или предисловие к этому акту, сколько припомню, начиналось так: „Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, а добрые государи чувствуют… За этим следовала политическая картина России и исчисление всех зол, которые она терпит от самодержавия“». К счастью, предисловие Дениса Фонвизина — «Рассуждение о непременных государственных законах» — сохранилось. Это одно из замечательнейших сочинений писателя, давно включенное в его собрание сочинений. Первые строки по памяти племянник-декабрист приводит почти без ошибок. Его интерес к таким темам понятен! Именно поэтому нужно внимательно присмотреться и к воспоминаниям Михаила Фонвизина о самой несохранившейся конституции. Сопоставим с рассказом М. Фонвизина первый сохранившийся панинский проект 1762 г. — и сразу увидим большие отличия, поймем, что декабрист говорит совсем о другом документе. Нескольких важных сюжетов, разбираемых М. Фонвизиным, у Панина просто нет — о том, что часть членов Верховного совета назначается от короны, а часть избирается дворянством; дворянский Сенат, играющий роль парламента, а под ним губернские и уездные дворянские собрания, имеющие право «совещаться в общественных интересах и местных нуждах»; наконец, главное — о постепенном освобождении крестьян и дворовых. Мы не знаем, как и в течение какого срока это мыслилось сделать. Но все же, если верить Фонвизину-декабристу, именно тогда в тайных проектах 1770-х годов были произнесены слова — «освобождение крестьян». Мечты XVIII столетия, и какие! Многое бы отдали ученые, чтобы отыскать фон визинскую конституцию. Мы знаем, что Иван Пущин перед самым арестом сумел передать друзьям портфель, где рядом с лицейскими стихами Пушкина лежала декабристская конституция, сочиненная Никитой Муравьевым (через 31 год Пущин вернется из Сибири и получит свой портфель обратно). Но мы также помним о множестве ненайденных секретных памятников освободительного движения, таких, например, как вторая часть декабристской «Зеленой книги», где излагались конечные, сокровенные цели заговорщиков. Нам грустно, что из полусотни пушкинских эпиграмм мы читали, может быть, половину, что жительница Томска А. М. Лучшева, почитая память Г. С. Батенькова, завещала положить себе в гроб сохранившиеся в ее доме записки этого декабриста; и мы только мечтаем об архиве «Колокола», большая часть которого, возможно, хранится где-то в Западной Европе… Пока что конституция XVIII в. — среди разыскиваемых документов. Никита Панин не дожил до столь ожидаемого воцарения своего воспитанника. Бумаги таких персон, как Панин, после смерти обычно просматривал специальный секретный чиновник. Однако именно Денис Фонвизин успел припрятать наиболее важные, опасные документы, и они не достались Екатерине. Автор «Недоросля» сохранил по меньшей мере два списка своего «Рассуждения»: один у себя, а другой (вместе с несколькими документами) у верных друзей, в семье петербургского губернского прокурора Пузыревского. До воцарения Павла оставалось всего 4 года, когда не стало и Дениса Фонвизина. Он успел распорядиться насчет бумаг, и о дальнейшей их судьбе снова рассказывают воспоминания Фонвизина-декабриста: «Список с конституционного акта хранился у родного брата его редактора, Павла Ивановича Фонвизина. Когда в первую французскую революцию известный масон и содержатель типографии Новиков и московские масонские ложи были подозреваемы в революционных замыслах, генерал-губернатор, князь Прозоровский, преследуя масонов, считал сообщниками или единомышленниками их всех, служивших в то время в Московском университете, а П. И. Фонвизин был тогда его директором. Пред самым прибытием полиции для взятия его бумаг ему удалось истребить конституционный акт, который брат его ему вверил. Но третий брат, Александр Иванович, случившийся в то время у него, успел спасти Введение». Вот как погибла конституция Фонвизина — Панина, но было спасено замечательное Введение к ней… Правда, несколько странно, что копия с конституционного акта не нашлась пока в громадном архиве Паниных, в то время как экземпляр Введения, несомненно, был передан Д. Фонвизиным наследникам графа Никиты Ивановича. Судя по рассказу декабриста, видно, что сама конституция была еще опаснее Введения (недаром истребление бумаг началось с нее). Возможно, Д. Фонвизин считал свой архив более надежным убежищем для такого документа; не исключено также, что работа над ним продолжалась… Но, может быть, конституция все же побывала в архиве Паниных? Конституция и Введение («Рассуждение») к ней как бы принадлежали двум эпохам. Во-первых, своему времени, последней четверти XVIII столетия, во-вторых, «следующим поколениям и векам». Конечно, «Завещание Панина», как иногда не совсем справедливо называют «Рассуждение» Дениса Фонвизина, было нацелено на аристократическое, олигархическое ограничение самовластия. Советские историки совершенно справедливо считают главными героями освободительных сражений XVIII–XIX вв. Радищева, декабристов и их последователей — тех, кто старался улучшить жизнь большинства, вольные же аристократы стремились к другому. Но все-таки в замыслах Панина — Фонвизина немало антисамодержавного смысла, порою столь острого, смелого, что средства перехлестывали цель. Обличения деспота, тирана, фаворитов выглядели куда более внушительно, чем аристократические «формулы». Много лет спустя Герцен будет размышлять о временах отцов и дедов, конца XVIII в.: «Жаловаться, протестовать — невозможно! Радищев попробовал было… Он осмелился поднять голос в защиту несчастных крепостных. Екатерина II сослала его в Сибирь, сказав, что он опаснее Пугачева. Высмеивать было менее опасно: крик ярости притаился за личиной смеха, и вот из поколения в поколение стал раздаваться зловещий и исступленный смех, который силился разорвать всякую связь с этим странным обществом, с этой нелепой средой; боясь, как бы их не смешали с этой средой, насмешники указывали на нее пальцем». Первым настоящим насмешником Герцен назвал Фонвизина: «Этот первый смех… далеко отозвался и разбудил фалангу насмешников, и их-то смеху сквозь слезы литература обязана своими крупнейшими успехами и в значительной мере своим влиянием в России». Так были названы разные пути, связывавшие настоящее с прошлым. Среди них один путь — от Радищева; другой — от Фонвизина.
1796–1801
Внезапная смерть Екатерины II 6 ноября 1796 г., и стремительное прибытие Павла из Гатчины в Петербург вызвали важные перемены в судьбе нескольких секретных исторических документов. Новый царь, а также новый наследник Александр вкупе с важными государственными персонами — Безбородко и Ростопчиным — произвели розыск в потаенных бумагах Екатерины. Обнаружились откровенные незавершенные мемуары императрицы, и Павел, прежде чем навсегда запретить их, дал почитать на кратчайший срок другу юности князю Алексею Куракину. Тот, не стесняясь, быстро снял копию, и она тихо, тайно пошла по России — к Карамзину, Александру Тургеневу, Пушкину, а через 60 лет — в Вольную печать Герцена. Вторым важнейшим документом в «сейфе» императрицы было признание Алексея Орлова в том, что он вместе с приятелями убил в 1762 г. арестованного Петра III. Прочитав записку, Павел вскоре бросил ее в камин, но через 63 года она, как приложение к русскому изданию мемуаров Екатерины, была напечатана все той же Вольной типографией Герцена. Происхождение этого «ожившего пепла» объясняется известной запиской Ф. В. Ростопчина: «Я имея его (письмо Орлова) с четверть часа в руках: почерк известный мне графа Орлова; бумаги лист серый и нечистый, а слог означает положение души сего злодея». Ростопчин, разумеется, намекает здесь на то, что за «четверть часа» он снял копию и сохранил ее для потомства. Вдова губернского прокурора Пузыревского поднесла Павлу I пакет конспиративных сочинений Фонвизина — Паниных вместе с «загробным» письмом к будущему императору. (Но самой конституции у Пузыревской, очевидно, не было.) Подробности эпизода нам неизвестны, но после этого Пузыревская получила пенсию, Никите Панину велено было соорудить памятник. «Рассуждения» Фонвизина и сопровождавшие его документы были присоединены к секретным бумагам Павла, где лишь спустя 35 лет их обнаружили и представили Николаю I. От того царя рукопись поступила в Государственный архив с резолюцией: «Хранить, не распечатывая без собственноручного высочайшего повеления». Спустя еще 70 лет именно этот писарский экземпляр «Рассуждения» был открыт и опубликован историком Б. С. Шумигорским… Но это уже XX век, в то время как наше повествование еще не вышло из XVIII… Родственники Фонвизина, видно, не торопились представиться Павлу и в течение всего его царствования сохраняли у себя подлинную рукопись введения к конституции. Павел I, положительный герой Фонвизина и Панина, быстро сделался отрицательным персонажем, как будто взяв за образец худшего деспота, описанного «для устрашения», в том же фон визинском «Рассуждении о непременных государственных законах».
«Наши мечты, мечты декабристов…»
В Бронницах, подмосковном городке за полсотни километров от столицы, на главной площади у старого собора, сохранилось несколько могильных памятников. На одном из них имя «генерал-майора Михаила Александровича Фонвизина», умершего в имении Марьино, Бронницкого уезда, 30 апреля 1854 г. Надгробная надпись делалась с вызовом и, конечно, по заказу вдовы декабриста Натальи Дмитриевны: умерший был лишен чинов, звания, дворянства, наград за 1812-й и никак не мог именоваться генерал-майором, особенно пока еще царствовал Николай I. Однако энергичная владелица Марьина, как видно, сумела добиться своего… Рядом, за тою же оградой, памятник Ивану Александровичу Фонвизину. Брат декабриста и сам декабрист отделался двухмесячным заключением и двадцатилетним полицейским надзором; наконец, третий, за церковной оградой, Иван Иванович Пущин, «первый друг, бесценный» Пушкина, дождавшийся амнистии и закончивший дни здесь же, в Марьинском имении своей жены Натальи Дмитриевны, вдовы своего старого друга Михаила Фонвизина. «Среди их преступлений» было оживление старинных бумаг XVIII века, которым приказано было умереть, молчать. В то время как один список «завещания» Фонвизина — Панина покоился в царских бумагах, другой из семьи Фонвизиных вышел наружу и сослужил службу членам тайных обществ. Советские ученые К. В. Пигарев и В. Г. Базанов обнаружили три копии, несколько измененные и приближенные из времен «Недоросля» и «Путешествия из Петербурга в Москву» — ко временам пушкинско-рылеевским. На одной из таких копий редактор оставил подпись: Вьеварум, то есть написанная справа налево одна из лучших декабристских фамилий — это «конспирировал» Никита Муравьев, автор потаенной конституции декабристов. К несчастью, как свидетельствуют современники, «подлинник конституционного „Рассуждения“ Дениса Фонвизина украл один букинист… и продал его П. П. Бекетову, который издал в начале 1830-х годов сочинения Д. И. Фонвизина». Так эта рукопись и не нашлась с тех пор… Сидя на каторге и в ссылке, Михаил Фонвизин пишет уже не раз цитированные мемуары[106]. Отдавая дань уважения свободомыслию 1760–1820 гг., он, конечно, не забыл дядюшку Дениса Ивановича, чьи сочинения задевали к тому времени уже четвертого императора. Получив разрешение вернуться в Москву, Михаил Фонвизин не рискнул взять рукопись с собою, ожидая обысков и проверок, но позаботился о ее судьбе. Было припрятано несколько списков, а первый подарен оставшемуся в Ялуторовске И. И. Пущину. А затем пришли 1850-е годы, оживление страны перед крестьянской реформой, герценовская печать в Лондоне. Именно из рук Пущина и его жены двинулись в путь записки Михаила Фонвизина, а от немногих счастливых обладателей — редкостное введение в конституцию — «Рассуждение» Дениса Фонвизина. В начале 1861 г. в Лондоне появилась на свет вторая книжка «Исторического сборника Вольной русской типографии». В небольшом томике, целиком посвященном секретной истории, «встретились» разнообразные деятели прошлого: среди 16 материалов там появилась впервые «Государственная уставная грамота» — тайная, так и не предложенная стране конституция Александра I, разные воспоминания об убийстве Павла I. И там же — славное «Рассуждение о непременных государственных законах» — «друга свободы» Дениса Фонвизина. Герцен, как видно из его предисловия к «Историческому сборнику», понимал, от кого пришли почти все запретные тексты. «Не знаю, — можем ли мы, должны ли мы благодарить особ, приславших нам эти материалы, то есть имеем ли мы право на это. Во всяком случае, они должны принять нашу благодарность, как от читателей, за большее и большее обличение канцелярской тайны Зимнего дворца». «Что это было за удивительное поколение, — запишет Герцен чуть позже, — из которого вышли Пестели, Якушкины, Фонвизины, Пущины…» Введение к утраченной конституции и скудные сведения о ней самой — все это не только отзвук того, «что быть могло, но стать не возмогло…» Это память об ожесточенной столетней борьбе: переворот 1762 г. и первые замыслы Никиты Ивановича Панина; заговор 1773–1774 гг., «Рассуждение» Дениса Фонвизина и секретная сожженная конституция; еще через десятилетия — сибирские мемуары М. А. Фонвизина; публикация «Рассуждения» Герценом.
Наука и жизнь. 1973. № 7.

Вослед Радищеву…
Иль невозвратен навек мир, дающий блаженство народам. Или погрязнет еще, ах, человечество глубже?А. И. Радищев
Пролог
 15 апреля 1858 г. в Лондоне вышел очередной, 13-й номер газеты «Колокол».
Читающая Россия нетерпеливо ждала этого восьмистраничного издания, которое являлось на свет с лета прошлого года: сначала раз в месяц, потом — через две недели…
Имя главного редактора и главного автора газеты, который чаще всего подписывался псевдонимом Искандер, знали уже все — Александр Герцен.
Несколько номеров назад на страницах «Колокола» открыто объявил свое имя и второй редактор — Николай Огарев.
Смысл, дух, направление «Колокола» легко обнаруживались в каждом выпуске. В «нашем», 13-м номере, как и во всех других, прямо под заглавием — знаменитый эпиграф, лозунг «Vivos voco!» («Зову живых!»); рядом лондонские адреса издательства, типографии, по которым можно присылать письма, корреспонденцию…
Два друга, два писателя в течение десяти лет будут собирать «Колокол», заряжать его своими статьями, заметками, стихами, обрабатывая сотни корреспонденций, тайно пришедших из России, выполняя работу, которая обычно под силу целому «редакционно-издательскому коллективу». При этом, однако, их поле сражения отнюдь не умещается на восьми, порою шестнадцати типографских страницах «Колокола», ставшего позже еженедельником.
В горячие годы общественного подъема, накануне освобождения крестьян, «текущий момент» кроме свободной газеты представляли также сборники «Голоса из России»: в этих небольших книжках печатались разнообразные письма и статьи, с которыми лондонские издатели были не совсем согласны или даже совсем не согласны, и все же, споря, печатали, приглашали еще присылать и снова спорили…
Всего этого Герцену и Огареву было, однако, мало. Они стремились вернуть свободу, дать слово и нескольким предшествующим поколениям: декабристам, Пушкину и его друзьям, деятелям XVIII в. — тем, кто не мог при жизни опубликовать важные труды или сумел, но заплатил за то эшафотом, каторгой, изгнанием… Прямым предшественником «Колокола» был альманах «Полярная звезда», где Герцен регулярно печатал главы из своих воспоминаний «Былое и думы»; рядом — стихи и статьи Огарева, запретные, впервые публикующиеся стихи Пушкина, Лермонтова, воспоминания и документы декабристов. «Полярная звезда», можно сказать, оживляла целую треть столетия, прошедшего со времени первой, декабристской, рылеевской «Полярной звезды»… Однако и до декабристов вспыхивала и подавлялась свободная мысль; люди первых лет XIX, последних десятилетий XVIII в. тоже ожидали «волшебного слова», которое снимет с них официальное заклятие.
В недалеком будущем кроме «Колокола», «Голосов…» и «Полярной звезды» Герцен и Огарев соберут, откомментируют, поднесут читателям еще одно издание — «Исторические сборники Вольной русской типографии».
Однако и этого всего двоим издателям недостаточно: ищут новые труды, изобретают новые издания — чтобы потайными, контрабандными путями отправлять листки жаждущим вольного слова российским студентам, гимназистам, семинаристам, военным и статским чиновникам, литераторам. Отправлять через Петербург, Одессу, китайскую границу — в замаскированных посылках, особых чемоданах; среди дров (на кавказской границе), в пустых гипсовых бюстах (на петербургской таможне)…
На последней странице 13-го «Колокола» — извещение об одном из ближайших изданий: «Печатается Князь М. М. Щербатов и А. Радищев (из екатерининского века). Издание Трюбнера с предисловием Искандера».
В объявлении всего несколько слов, но каждое заслуживает разбора.
15 апреля 1858 г. в Лондоне вышел очередной, 13-й номер газеты «Колокол».
Читающая Россия нетерпеливо ждала этого восьмистраничного издания, которое являлось на свет с лета прошлого года: сначала раз в месяц, потом — через две недели…
Имя главного редактора и главного автора газеты, который чаще всего подписывался псевдонимом Искандер, знали уже все — Александр Герцен.
Несколько номеров назад на страницах «Колокола» открыто объявил свое имя и второй редактор — Николай Огарев.
Смысл, дух, направление «Колокола» легко обнаруживались в каждом выпуске. В «нашем», 13-м номере, как и во всех других, прямо под заглавием — знаменитый эпиграф, лозунг «Vivos voco!» («Зову живых!»); рядом лондонские адреса издательства, типографии, по которым можно присылать письма, корреспонденцию…
Два друга, два писателя в течение десяти лет будут собирать «Колокол», заряжать его своими статьями, заметками, стихами, обрабатывая сотни корреспонденций, тайно пришедших из России, выполняя работу, которая обычно под силу целому «редакционно-издательскому коллективу». При этом, однако, их поле сражения отнюдь не умещается на восьми, порою шестнадцати типографских страницах «Колокола», ставшего позже еженедельником.
В горячие годы общественного подъема, накануне освобождения крестьян, «текущий момент» кроме свободной газеты представляли также сборники «Голоса из России»: в этих небольших книжках печатались разнообразные письма и статьи, с которыми лондонские издатели были не совсем согласны или даже совсем не согласны, и все же, споря, печатали, приглашали еще присылать и снова спорили…
Всего этого Герцену и Огареву было, однако, мало. Они стремились вернуть свободу, дать слово и нескольким предшествующим поколениям: декабристам, Пушкину и его друзьям, деятелям XVIII в. — тем, кто не мог при жизни опубликовать важные труды или сумел, но заплатил за то эшафотом, каторгой, изгнанием… Прямым предшественником «Колокола» был альманах «Полярная звезда», где Герцен регулярно печатал главы из своих воспоминаний «Былое и думы»; рядом — стихи и статьи Огарева, запретные, впервые публикующиеся стихи Пушкина, Лермонтова, воспоминания и документы декабристов. «Полярная звезда», можно сказать, оживляла целую треть столетия, прошедшего со времени первой, декабристской, рылеевской «Полярной звезды»… Однако и до декабристов вспыхивала и подавлялась свободная мысль; люди первых лет XIX, последних десятилетий XVIII в. тоже ожидали «волшебного слова», которое снимет с них официальное заклятие.
В недалеком будущем кроме «Колокола», «Голосов…» и «Полярной звезды» Герцен и Огарев соберут, откомментируют, поднесут читателям еще одно издание — «Исторические сборники Вольной русской типографии».
Однако и этого всего двоим издателям недостаточно: ищут новые труды, изобретают новые издания — чтобы потайными, контрабандными путями отправлять листки жаждущим вольного слова российским студентам, гимназистам, семинаристам, военным и статским чиновникам, литераторам. Отправлять через Петербург, Одессу, китайскую границу — в замаскированных посылках, особых чемоданах; среди дров (на кавказской границе), в пустых гипсовых бюстах (на петербургской таможне)…
На последней странице 13-го «Колокола» — извещение об одном из ближайших изданий: «Печатается Князь М. М. Щербатов и А. Радищев (из екатерининского века). Издание Трюбнера с предисловием Искандера».
В объявлении всего несколько слов, но каждое заслуживает разбора.
Печатается… Герцен и Огарев прекрасно знали эффект предварительной рекламы, принцип, хорошо известный опытным шахматистам, — «угроза сильнее выполнения». В «Колоколе» регулярно сообщалось, что, например, печатается и вскоре будет опубликовано подробное разоблачение уголовной деятельности такого-то министра; министр, бывало, ждет несколько недель, трепеща от страха, — что же узнали про него в Лондоне и не придется ли сразу после этой публикации отправляться к царю с просьбой об отставке? Герцен же нередко продлевал пытку и, спустя один-два номера, объяснял читателям, что материал о министре уже набран, но просто его никак не удается «втиснуть» меж другими крайне любопытными статьями и документами; но вот наступал день, когда министр вместе со всей читающей Россией открывал «Колокол» и находил: «Посторонитесь, господа, посторонитесь, его сиятельство изволит идти… дайте дорогу министру! И мы все статьи „Колокола“ подвинули… пожалуйста, Ваше сиятельство, на первое место». В другой раз так же появилось сообщение, что печатается и скоро выйдет издание мемуаров Екатерины II. Несколько месяцев объявление повторялось почти в каждом «Колоколе», вызывая в Петербурге страх, злобу и растерянность: секретные, скандальные записки императрицы давно лежали в государственном архиве за семью печатями; раз в несколько десятилетий, в присутствии важных чиновников, печати снимались, рукопись забирали исключительно для царского пользования, а затем запечатывали обратно. Но вот «государственные преступники» Герцен и Огарев обьявляют и повторяют, повторяют, что готовят вольное издание; и явно сдержат слово. Объявление в 13-м «Колоколе» было, конечно, не столь страшным для престола, как только что описанное, и все же свидетельствовало о большой, всепроникающей силе лондонских издателей.
Князь М. М. Щербатов… Известный историк, государственный деятель, занимавший министерские должности, скончался в 1790 г., Екатерина II тут же распорядилась, чтобы бумаги этого государственного человека (среди которых немало секретных) были осмотрены и доставлены во дворец. Приказ был исполнен; однако семья историка вовремя припрятала несколько рукописей, где князь без всякого стеснения, с предельной откровенностью отзывался и о положении в России, и о придворных нравах, и, наконец, о самой императрице, ее предшественниках на троне. Около 70 лет потаенные сочинения Щербатова пролежали «под спудом», в сундуке, перевезенном в его ярославское имение. Однако всему свой черед, и в 1855 г., то есть за три года до описываемых событий, историки получили от потомков князя несколько его смелых сочинений; кое-что удалось напечатать в тогдашних российских журналах, некоторые же статьи были столь остры, в них такое говорилось о Екатерине II, прабабушке царствующего императора Александра II, что даже сильно подобревшая цензура конца 50-х годов не решилась пропустить без потерь старинные тексты; особенно один из них под красноречивым названием «О повреждении нравов в России». Он будет напечатан на родине только в конце XIX в.[107], но Герцен и Огарев почти на полвека опережают российские запреты: князь М. М. Щербатов громко, на всю Россию и Европу объявлен автором Вольной русской печати. Рядом же другое имя —
А. Радищев… Михаил Михайлович Щербатов представлен будущим читателям с обоими инициалами, Александр Николаевич Радищев — только с одним. По всей видимости, Герцен и Огарев не знали полного имени-отчества этого писателя. Более того, они сочли нужным после двух имен сделать пояснение —
Из екатерининского века… Должно быть, многие читатели 1858 г. не догадаются — что за люди? из какой эпохи? Нам сегодня, столь хорошо знающим, кто такой Радищев и что он написал, подобное неведение кажется необъяснимым. Действительно, здесь таится загадка, может быть, не одна, и мы попытаемся найти ответ в ходе последующего рассказа; пока же — дочитаем объявление в «Колоколе».
Издание Трюбнера… Николай Трюбнер, немецкий издатель, поселившийся в Англии, самоотверженно верил в счастливую звезду Герцена и взял на себя выпуск его трудов еще в то время (начало 50-х годов), когда они не имели никакого успеха и совсем не расходились по России и Европе. Теперь «добродетель вознаграждена», и по мере роста, усиления общественного движения в России спрос на «Колокол» и другие вольные издания все сильнее; тиражи, по сегодняшним понятиям, небольшие — 1500–3000 экземпляров (впрочем, многие книги переиздаются); но, учитывая, что в ту пору число грамотных в России не превышало 5–6 %,— это цифра довольно значительная.
Искандер… Как видно, к середине апреля 1858 г., к моменту объявления о новом издании, Герцен уже все обдумал: и то, что столь разные люди «екатерининского века», как Щербатов и Радищев, будут соединены в одну книгу; и то, что эта книга откроется предисловием самого Принципала («главнейшего» — так в шутку называли Герцена немногочисленные его сотрудники). До наших дней сохранилось мало экземпляров этого уникального издания; до последнего времени их можно было получить только в отделах редких книг крупнейших библиотек страны. Недавно, однако, издательство «Наука» выпустило факсимильное воспроизведение книги «О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радищева», и теперь она стала, конечно, общедоступной… Общедоступной, но интересной ли? Мы, разумеется, отдадим должное Герцену за то, что он напечатал Радищева, но ведь «Путешествие из Петербурга в Москву» совсем не нужно читать по старому изданию 1858 г.: его проходят в школе, издают и переиздают постоянно. Что же есть такого в лондонском издании, что приблизило бы нас к первому русскому революционеру, помогло бы узнать о нем новое, существенное, чего бы мы не могли отыскать в любом современном воспроизведении Радищева? Участвуя в подготовке факсимильного издания (вышедшего в 1983 г.), автор этих строк попытался вслед за многими исследователями еще поразмышлять над судьбой Радищева и его труда; ему кажется, что, начав с Герцена, с «Колокола» 1858 г., можно выйти на интересную многообещающую «тропу» загадок и отгадок; попробуем же пройти по ней не торопясь…
С Екатерининских времен
Надо начинать с первой авторской мысли, еще далекой от книжного завершения, а затем — с первых строк, страниц. Историки, литераторы не могут решить вопроса, когда сформировался Радищев-мыслитель. Может быть, следует начинать с раннего детства Александра Радищева, появившегося на свет в Москве 20 августа 1749 г. и многие детские годы проведшего в саратовском имении? Самое крепостническое время: ровно через сто лет после окончательного оформления крепостного права и за 112 лет до его отмены. Самое крепостническое место: черноземный барщинный край, тысячи мужиков, принадлежащих богатейшим помещикам Радищевым. Как просто было бы построить удовлетворительную схему: помещичий мальчик, старший среди одиннадцати братьев и сестер, наблюдает крепостнические ужасы и восстает против них. Однако сотни подобных же мальчиков ни о чем похожем не помышляли. К тому же Радищевы были помещиками добрыми: весьма знаменательно, что во время восстания Пугачева крестьяне их не выдали, но спрятали между собою, нарочно измазав сажей и грязью. Тут, впрочем, есть над чем задуматься нынешним и будущим исследователям. У большинства декабристов, судя по воспоминаниям, были (за редчайшим исключением) добрые, честные родители — сравнительно мягкие помещики, чиновники. Оказывается, именно из таких семей, а отнюдь не из самых «зверинских» выходили будущие борцы против «своего» уклада; в детстве они не видели или почти не видели дурных образцов, и тем более сильным было негодование в юные и зрелые годы. География российского освободительного движения и культуры, к слову заметим, тоже весьма причудлива. В первые десятилетия после реформ Петра, казалось бы, трудно представить их слишком заметные результаты в провинции; но многие виднейшие деятели XVIII столетия — Державин, Карамзин, Дмитриев, Радищев — росли не в столицах, а на краю империи, в глухих имениях Поволжья, Заволжья. Как видим, известная таинственность сопровождает таких людей, как Радищев, с раннего детства… Может быть, предыстория «Путешествия из Петербурга в Москву» начинается с появления Радищева-мальчика во второй столице (освоение языков, знакомство с Монтескье, Руссо, Вольтером и многими другими авторами, в то время модными — позже «опасными»). Однако и здесь прямых «первопричин» не отыскать: Радищев вместе с другими образованными юношами вскоре оказывается при дворе, он паж Екатерины II, и у нас нет решительно никаких данных, будто царица и господствующая система вызывали у него в ту пору ненависть, противодействие. Скорее наоборот: по должности постоянно наблюдая императрицу, Радищев хорошо исполнял свое дело, верил в просвещенный прогресс. В первые годы нового царствования казалось, что «все к лучшему». Наконец, Лейпциг, куда Радищева вместе с другими знатными юношами посылают учиться. Посылают с той же целью, с какой полвека спустя будет учрежден Царскосельский лицей: получение необходимых знаний для последующей государственной службы. В 1771 г. 22-летний Радищев возвращается домой. Он заметен и замечен. Саратовское детство, московское отрочество, петербургская и лейпцигская юность — многое отсюда будет взято и перенесено в будущую главную книгу, но вряд ли автор «Путешествия из Петербурга в Москву» в начале 1770-х годов различает свою необыкновенную судьбу даже «сквозь магический кристалл»… Снова повторим, что многознание об этом человеке пока что не сильно помогает. В самом деле, вот несколько дат (личных и «общих»); и как отыскать между ними главную автобиографическую тайну? 1771 г. Радищев — протоколист в Сенате, где знакомится с множеством судебных дел по разным предметам. 1772 г. В журнале Н. И. Новикова «Живописец» печатается «Отрывок путешествия В*** И*** Т***»; часть исследователей издавна соглашается, а часть — оспаривает утверждение Павла Радищева, сына писателя, будто это первый печатный фрагмент будущего «Путешествия»[108]. 1773 г. Начало службы обер-аудитором (юридическим советником) Финляндской дивизии. В это время и позже он много переводит, пишет. 1773–1775 гг. Восстание Пугачева. 1774 г. Радищев вступает в привилегированный Английский клуб. 1775 г. Отставка в приличном чине секунд-майора. Женитьба на Анне Васильевне Рубановской. У них будет четверо детей. 1776–1783 гг. Война за независимость Соединенных Штатов. 1777 г. Радищев вступает в гражданскую службу на петербургской таможне в чине коллежского асессора. Награждение орденом. 1779–1780 гг. Сочинено «Сотворение мира», позже вошедшее в «Путешествие из Петербурга в Москву». 1780 г. Он — помощник управляющего санкт-петербургской таможней, в том же году сочинено «Слово о Ломоносове», будущая глава из «Путешествия». 1785–1786 гг. Сочинение острейших глав будущей книги: «Медное» (о продаже крепостных с публичного торга), «Торжок» (о цензуре) и др. 1789 г., 14 июля (н. ст.; по старому — 3 июля). Начало Великой французской революции. 22 июля (ст. ст.) Петербургский обер-полицмейстер Н. И. Рылеев разрешает публикацию «Путешествия из Петербурга в Москву». 1790 г., январь. В домашней типографии Радищева начинается набор книги. Автор вносит в текст новые изменения. Февраль. Радищев назначается директором санкт-петербургской таможни. Конец мая — начало июня. Тираж книги около 650 экземпляров отпечатан. На титульном листе нет имени автора, названия типографии и цензурного разрешения; в эпиграфе «чудище обло, озорно…», заимствованное из поэмы Тредиаковского «Тилемахида» и символизирующее ненавистное рабство, — еще «усилено» против оригинала: в поэме чудище было «тризевно», то есть имело три глотки, у Радищева же — «стозевно»… Легко заметить, что в нашей хронологической сводке сплетается несколько смысловых рядов. Во-первых, удачная карьера, что должно бы, «по здравому разумению», охладить вольнолюбивые порывы Радищева: возглавлять петербургскую таможню, крупнейшую в стране, — должность очень перспективная, которая через несколько лет может вывести ее обладателя на министерские посты (особенно если учесть покровительство и благожелательство высшего начальника Александра Романовича Воронцова). Другая линия — личная, семейная. Счастливый брак, затем — смерть жены; четверо малолетних детей; к тому же 41 год в ту пору считался возрастом куда более почтенным, чем теперь. В общем, семейный статус тоже, казалось бы, должен сдерживать горячий порыв. Наконец — восстания, революции: однако при Пугачеве молодой Радищев поступает в Английский клуб; свою книгу в целом собрал еще до начала Французской революции. Правда, в одном из переводов Радищев нападает на тиранов и пишет, что самодержавие — «наипротивнейшее человеческому естеству состояние»; смелые строки есть и в других сочинениях, но многие из них беспрепятственно выходили в печать, и за это автору «ничего не было»… В общем, давая известный простор воображению, можно из многих биографических фактов вывести начало, предысторию «Путешествия»; но в то же время каждый такой довод легко оспорить. И все равно остается главнейший, интереснейший вопрос: что заставило вполне преуспевающего, немолодого семейного человека «вдруг» обнародовать самоубийственную книгу, где выносится смертный приговор крепостничеству и самодержавию? Строго «научного» ответа нет.
1790-й…
Год первого издания «Путешествия из Петербурга в Москву». Середина июня. 26 экземпляров «Путешествия» поступают в книжную лавку петербургского купца Герасима Зотова. Сверх того автор рассылает несколько книг — А. Р. Воронцову, Г. Р. Державину и другим. Экземпляр, посланный А. М. Кутузову (друг Радищева, которому посвящена книга), до него не дошел. 25 июня. Экземпляр «Путешествия» на столе Екатерины II. Существовала версия, будто книгу принес Державин; недавно против этого возразил В. А. Западов, доказывая, что Радищеву «удружил» А. Д. Балашов, юный паж, занимавший при Екатерине прежнюю «радищевскую» должность (тот самый Балашов, который в начале XIX в. достиг высоких постов, был отправлен Александром I к Наполеону сразу после начала войны 1812 г. и стал одним из персонажей романа Толстого «Война и мир»). Екатерина II читает книгу внимательно, толково: отмечает безошибочно самые острые места, быстро определяет, что автор — «бунтовщик хуже Пугачева», и только не понимает, какими мотивами он руководствовался. Ситуация столь фантастическая, дикая для императрицы, что она видит два возможных объяснения радищевского поступка: огорчение по службе или стремление к легкой писательской славе (позже, на допросах, Радищев, по-видимому, предупрежденный Воронцовым, принял вторую версию, так что Екатерина II до конца дней, вероятно, находила здесь только «литературное честолюбие»). 29 июня. Арест купца Зотова, который называет Радищева. 30 июня. Арест самого Радищева. 13 июля. Приговор книге, которая объявлена «зловредной», и велено, «дабы она нигде в продаже и напечатании здесь не была под наказанием, преступлению сему соразмерным». 24 июля. Смертный приговор Радищеву. Полтора месяца он ожидает казни; 4 сентября в связи с заключением удачного мира со Швецией казнь заменена 10-летней ссылкой в Илимский острог. Не раз специалисты спорили, на что рассчитывал Радищев? Ответить нелегко, потому что для того нужно превратиться в людей конца XVIII столетия, проникнуться психологией самого автора и его читателей. Высказывались мнения, будто Радищев, хоть и в предельно острой форме, обращался к Екатерине II, «философу на троне»; что помнил сравнительную мягкость властей по отношению к смелым писателям прежних лет (например, Фонвизину), да не учел, что времена изменились и после 1789 г. власть куда более настороженна и агрессивна. Большинство ученых с этим не согласно, настаивает, что Радищев знал, на что шел. Разумеется, мы нисколько не хотим принизить удивительного самоубийственного подвига. Объективно книга Радищева оказалась первым революционным документом в России. Думаем, что значение ее ничуть не умаляется тем, что сам автор надеялся — вдруг «пронесет»! К тому же, как известно, друг и покровитель Радищева Александр Воронцов (одна из самых важных персон в империи) после приговора не изменил своего отношения к осужденному, как мог, помогал ему — то есть, по-видимому, находил свои резоны в поступках бывшего подчиненного. Странная судьба у книг: иногда они издаются миллионами, но притом их все равно «как бы и нету». Несколькими тысячами экземпляров измеряются тиражи лучших произведений русской литературы конца XIX столетия: 1200 экземпляров — таков тираж «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Повестей Белкина». Радищевская же книга, одна из самых знаменитых, — всего около 650; к тому же можно сказать, что из них 600 «не сдвинулось с места» и было истреблено автором в ожидании обыска и ареста. Всего 26 экземпляров на продажу и несколько — в подарок. В иных случаях, оказывается, достаточно для бессмертия! За эти три десятка книг автор отправляется далеко на восток и пишет по дороге одно из замечательнейших стихотворений:
1790–1802
Двенадцать лет жить им вместе, автору и книге. Автор в Сибири, за ним едет сестра умершей жены Елизавета Васильевна Рубановская. В Илимске — женятся: спутница предвосхищает будущий подвиг декабристок. В Сибири рождается еще трое детей. Затем — смерть Екатерины II; Павел I амнистирует Радищева. Известие приходит лютой сибирской зимой, но не было сил дожидаться еще хоть несколько месяцев. Радищевы пускаются в бесконечный, опасный путь домой; Елизавета Васильевна по дороге простужается и умирает. Придя в себя, отогревшись в имении Воронцова, сам автор «Путешествия» прибывает в назначенное ему новое место ссылки, село Немцово Калужской губернии. 1796–1801 — калужская ссылка. 1801–1802 — полная амнистия, возвращение в Петербург, государственная служба, самоубийство. Вот и все о человеке. Но вторая его биография — книга. Печатных экземпляров почти не остается. Кроме тех шестисот, что сжег сам Радищев, позже уничтожается еще шесть конфискованных книжек. Сейчас, два века спустя, известно лишь 13 типографских экземпляров «Путешествия», сохранившихся у нас в стране, а также две или три книги за границей. В то же время, согласно сообщению саксонского дипломата и писателя Георгия Гельбига, «конфискации книги (в 1790 г.) все-таки не помешали тому, чтоб она стала известна. В России появились списки с этой книги, и несколько экземпляров проникло даже за границу». В 1793 г. был сделан немецкий перевод шести глав«Путешествия». Книги печатные уменьшались в числе. Зато пошли списки. К 1935 г. было учтено 28 списков «Путешествия», к 1956 г. — 65, в начале 70-х годов — 80, в настоящее время — около ста. Столь большое количество копий — факт сам по себе примечательный, но в общем легко объяснимый. Куда более загадочным оказалось другое обстоятельство, впервые замеченное еще в начале XX в., но по-настоящему осознанное и изученное только в наши дни. Дело в том, что между разными списками обнаружились очень существенные различия, так что в настоящее время специалисты говорят о семи группах текстов (так называемые списки А, Б, В, Г, Д, Е и Ж). Откуда подобные различия? Каким образом в некоторые группы списков попали тексты, вообще отсутствующие в печатном издании «Путешествия»? Вкратце напомним об острых спорах, которые по этому поводу велись и ведутся[109]. Ленинградский исследователь Д. С. Бабкин предположил, что все это дело рук позднейших переписчиков, которые, подобно древним летописцам, добавляли к радищевскому тексту свой собственный или меняли его по своему разумению. Большинство оппонентов не согласилось с этой гипотезой; она не могла объяснить многих дополнений, различий, явно восходящих к самому Радищеву. С весьма эффектной, романтической теорией выступил ныне покойный писатель Георгий Петрович Шторм. Его книга «Потаенный Радищев» выдержала несколько изданий и вызвала большой интерес. Еще бы! Писатель доказывал, что Радищев, возвратившись из ссылки, продолжал работу над своей книгой, кое-что переменил, дополнил: возникали контуры огромной, потаенной работы Радищева над своим трудом перед самой кончиной. Некоторые биографические факты вроде бы не противоречили гипотезе Шторма. Во-первых, разные специалисты согласились с тем, что Радищев незадолго до смерти в самом деле думал снова приняться за свое «Путешествие», имел намерение его переиздать. Во-вторых, фраза противника Радищева П. В. Завадовского «Охота тебе пустословить по-прежнему!» — слова, согласно легенде, погубившие писателя, тоже как будто подтверждают, что автор «Путешествия» не переменился. Итак, гипотеза о Радищеве, совершенно не изменившемся за годы ссылки, об интенсивной работе его в конце жизни над «Путешествием» — вроде бы получается по Шторму… Нет, не получается! Эффектная версия, что разные списки «Путешествия» отражают позднейший этап работы Радищева над книгой, — эта версия разбилась прежде всего по причинам текстологическим. Подавляющее большинство специалистов, по сути, все исследователи, принявшие участие в обсуждении книги Г. П. Шторма, решительно и бесповоротно отвергли его гипотезу: концы с концами никак не сходились; различия между разными списками явно возникли до возвращения Радищева из сибирской ссылки… Наиболее обоснованной и плодотворной оказалась точка зрения ленинградца В. А. Западова, поддержанная другими исследователями, — что списки отражают разные этапы работы писателя над своим сочинением еще до его выхода в 1788–1790 гг. «Все увеличивающееся количество списков, сделанных с разных редакций, свидетельствует о том, что мужественный писатель-революционер, желая уберечь свой труд от уничтожения, своевременно принял меры для спасения имевшихся у него материалов — от самого раннего автографа начальной редакции до последних по времени… корректурных листов. И этот замысел писателя-борца — сохранить свой труд для потомства — вполне удался»[110]. За этими строгими научными формулами, если задуматься, открываются поразительные перспективы для поиска: Радищев, как видим, основательно готовился к аресту; все время работая над текстом, постоянно что-то в нем меняя, периодически снимал копии с той рукописи, которая существовала в данный момент. Вернее, обращался к помощи почти неведомых нам помощников, копиистов. По всей вероятности, был в ту пору один или несколько тайников за пределами радищевского дома, где хранились рукописи, корректурные листы. После приговора, вынесенного книге и автору, словно по таинственному сигналу, вышли из подземелья списки А, Б, В, Г, Д, Б и Ж. Властям не удалось напасть на след, тайники остались нераскрытыми; и очень вероятно, что и сегодня, почти 200 лет спустя, они ждут того, кто их отыщет… Таким образом, отпадает главный довод насчет переделки «Путешествия» в 1799–1802 гг.: списки родились лет на десять раньше. Есть и другой довод, небесспорный, но очень важный, который отвергает неизменность взглядов Радищева. Несколько лет назад историк-философ Е. Г. Плимак детально изучал сложные сомнения, колебания Радищева в последние годы жизни[111]. Смысл предлагаемой гипотезы был следующий: Радищев писал свой труд до и во время французской революции; однако к лету 1790 г., когда «Путешествие» было напечатано, многие сложные, противоречивые, кровавые обстоятельства Великой французской революции еще не обозначились. Внешне ситуация выглядела довольно просто: народ взял Бастилию, произвел еще несколько выступлений, почти не стоивших крови, — и вот результаты налицо: король Людовик XVI уступил, в стране приняты важные антифеодальные законы, открылось Учредительное собрание. Революция в таком виде казалась очень привлекательной даже умеренным наблюдателям; революция общенародная, сравнительно мирная… Уже в Сибири, в Илимском остроге, Радищев узнает об усилении борьбы революции с контрреволюцией, а также о раздорах внутри революционного стана. Придут известия о казни короля и королевы, о якобинской диктатуре, страшном революционном терроре, унесшем десятки тысяч людей; наконец, о взаимном истреблении лидерами якобинцев друг друга, о термидорианском перевороте, а еще через несколько лет — о появлении нового диктатора-деспота Наполеона. Радищев, без сомнения, иначе представлял себе желаемый ход революционных и послереволюционных событий во Франции. В Сибири и после возвращения он на многое начинает смотреть иначе; в его сочинениях появляются строки, прежде вряд ли возможные: «Из мучительства рождается вольность, из вольности рабство». О страшном древнеримском тиране Сулле Радищев скажет в стихах:
Самоубийство
Напомним, что Радищев в начале царствования Александра I был возвращен в столицу, принял участие в разработке новых законов; он был столь важной персоной, что при известии об его отравлении царь послал к нему лейб-медика. Отчего же самоубийство? Решительно отбрасываем версию о сумасшествии: сохранившиеся документы и воспоминания о последних месяцах Радищева свидетельствуют о разуме и энергии. Угроза Завадовского — «мало тебе… Сибири» — не может довести до самоубийства того, кто действительно крепко стоит за свое, кто ясно видит в Завадовском и ему подобных ненавистных противников. Нет, революционер не кончает жизнь самоубийством при ухудшении обстоятельств, усилении осады. Его может свалить с ног лишь конфликт внутренний. Жизнь предлагала Радищеву три пути. Один путь — стать, «как все», примкнуть к крепостникам; это ему отвратительно, невозможно. Другой путь — революция, «Путешествие из Петербурга в Москву». Как видно, Радищева туда тянет; время от времени он действительно берется «за старое». Но притом — сомнения, разочарования; оптимизм 1790 г. в немалой степени поубавился. Оставался третий путь: мирное просвещение, реформаторство. Новый царь Александр I, сравнительно либеральное начало XIX в. (по выражению Пушкина, «дней александровых прекрасное начало») — все это порождало иллюзии о больших возможностях такого пути, о пользе легальной государственной деятельности. И Радищев постарался двинуться третьей дорогой, но очень скоро убедился, что это не для него. Мы не будем настаивать, что он был абсолютно прав, а все другие не правы; в тот период активно действовали, в определенном смысле способствовали прогрессу такие люди, как Державин, Карамзин, старый начальник Радищева Александр Воронцов; позже — Сперанский. Иначе говоря, действительно существовали возможности мирной, легальной просветительской деятельности. Но не для Радищева. По его понятиям, это было нечестно, невозможно. Выходило, что все три дороги ему заказаны, как в сказке — «направо пойдешь… налево пойдешь… прямо пойдешь… голову потеряешь». В таком положении, при таких сомнениях любая мелочь, злое словцо, любые завадовские могут стать той последней каплей яда, которая создаст смертельную дозу. Наследием Радищева справедливо считается его революционная мысль, революционная книга. Заметим, однако, вслед за Е. Г. Плимаком, что и сомнения, метания, даже самоубийство Радищева — все это тоже завещано потомкам для обдумывания. Радищев погиб, книга жила. До второго ее издания оставалось более полувека.
1802–1858
Это период замалчивания «Путешествия», максимальной изоляции русской освободительной мысли от радищевского истока. Тем не менее существовал узкий круг лиц, старавшихся передать, сохранить радищевские мысли; к этому кругу, кроме сыновей Радищева, собиравших материалы к биографии отца, надо отнести таких мыслителей, как И. П. Пнин, И. М. Борн и других, откликнувшихся на трагическую смерть писателя. Маленькие фрагменты приговоренного «Путешествия» все же просачиваются в печать; продолжается интенсивное распространение списков. По данным В. А. Западова, из 79 обследованных им копий 17 изготовлены на бумаге 1790–1799 гг., 23 — на бумаге 1800–1810 гг., 24 — 1811–1824 гг. В то же время в 1820-х годах уже давала себя знать историческая дистанция, отделяющая эти годы от времени Радищева. В показаниях декабристов, где первыми уроками свободомыслия названы десятки сочинений русских и западных авторов, Радищев и его книга встречаются сравнительно редко. Вряд ли В. К. Кюхельбекер старался обмануть следствие, когда упомянул «Путешествие» Радищева, в котором «мало что понял»[112]. Характерен упрек Пушкина, сделанный в 1823 г. А. А. Бестужеву, который забыл упомянуть Радищева в своем обзоре прежней литературы: «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это умолчание непростительно». Пушкинские слова говорят о сложном противоборстве традиции и «забвения». Кюхельбекер и А. Бестужев не только старались обмануть власть, цензуру, но и в самом деле уже хуже понимали Радищева, чем их отцы. Во-первых, за треть века сильно переменился литературный язык; многие прежние речевые обороты теперь представлялись архаичными. Во-вторых (что более важно), при всем интересе и сочувствии к Радищеву декабристы во многом иначе, чем он, представляли средства коренного переустройства жизни, опасались народной стихии, радищевского пафоса всеобщего восстания. После подавления декабристов имя Радищева в течение десяти лет в печати почти не упоминается. Забвение его главного труда со временем усиливается. За 1825–1829 гг. известны всего три новых списка (из 79 изученных В. А. Западовым), в 1840-х годах — четыре. По словам Пушкина, «книга, некогда прошумевшая соблазном и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины… ныне типографическая редкость, случайно встречаемая на пыльной полке библиомана или в мешке брадатого разносчика»[113].
Диалог
Важнейшим событием посмертной биографии Радищева была продолжавшаяся за него борьба Александра Сергеевича Пушкина. Интересно и очень непросто понять, чем объясняются столь большие усилия поэта? Особой любовью к прозе и стихам Радищева? Нет, мы находим у Пушкина немало критических, даже иронических замечаний на этот счет: «…Радищев думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал. Вообще Радищев писал лучше стихами, нежели прозою. В ней не имел он образца, а Ломоносов, Херасков, Державин и Костров успели уже обработать наш стихотворный язык. Путешествие в Москву, причина его несчастия и славы, есть, как уже мы сказали, очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге»[114]. Невозможно также объяснить пушкинское внимание к Радищеву единством их взглядов: в последние годы жизни Пушкин не был столь революционно настроен, как автор приговоренного издания. Удивительное свойство у первого революционера: присматриваемся ли мы к юным его годам, отыскивая «первотолчок» к написанию главной книги; разгадываем ли логику последних работ и поступков, наблюдаем ли отношение к его наследию людей XIX в. — декабристов, Пушкина (позже возвратимся к спорам Герцена и его современников), никогда не удается получить простых, ясных решений. Радищев постоянно загадочен, противоречив; понятен же и прост только тем, кто не умеет или не желает честно задумываться… Итак, радищевские загадки Пушкина. В 1830-х годах поэт начинает как бы диалог с Радищевым и пишет оставшееся незавершенным «Путешествие из Москвы в Петербург (Мысли на дороге)». В 1836 г. Пушкин заканчивает и пробует напечатать только что цитированную статью «Александр Радищев». В том же году в черновике стихотворения «Памятник» появилась знаменательная строка — «Вослед Радищеву восславил я свободу». Главным источником пушкинских сведений был экземпляр первого издания «Путешествия», переплетенный в красный сафьян с золотыми тиснениями по краям и с золотым обрезом; на корешке надпись: «Путешествие в Москву» на оборотной стороне листа, после переплетной доски, рукой А. С. Пушкина: «Экземпляр, бывший в Тайной канцелярии, заплачено двести рублей», а на следующем чистом листе: «А. Пушкин». На полях книги отчеркнуты красным карандашом, а местами подчеркнуты все те строки, которые указывает Екатерина в своих замечаниях на книгу Радищева. Крупнейший знаток истории и литературы XVIII в. Я. Л. Барсков писал, что такого рода отметки и таким же красным карандашом часто встречаются в рукописях Екатерины; но сделаны ли они в данном случае ее рукой или тщательно скопированы, сказать с полной уверенностью нельзя. Возможно, этот экземпляр действительно фигурировал во время суда над Радищевым как главная улика: туда были перенесены замечания царицы, сделанные в ее «собственном» томе. Экземпляр «Путешествия» переходил, вероятно, из одного учреждения в другое, а по окончании дела вернулся в Тайную экспедицию. Усилия Пушкина, а также П. А. Вяземского напомнить в 1830-х годах о радищевском «Путешествии» оказались, однако, тщетными: предназначенная для третьего тома «Современника» статья «Александр Радищев» была запрещена. Работа эта — одна из самых спорных, загадочных в пушкинской публицистике. В ней как бы три элемента: во-первых, биографические сведения о герое, с большими трудностями извлеченные из немногих печатных, рукописных и устных источников (сложность добывания простейших фактов видна хотя бы по тому, что Пушкин не мог даже точно указать дату рождения Радищева); вторая тема статьи — определенная, довольно скупая похвала некоторым радищевским стихам, его благородным порывам. Куда более заметен третий, критический мотив статьи. Довольно подробно излагая некоторые разделы «Путешествия из Петербурга в Москву», Пушкин ясно понимает, что это «сатирическое воззвание к возмущению». Не принимая подобного воззрения, великий поэт пишет о Радищеве довольно резко: «Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему, — вот что мы видим в Радищеве». Статья Пушкина была, по сути, первым серьезным разговором о радищевской книге; началом большого, очень любопытного общественного спора об историческом месте и значении первого революционера и его трудов. Если бы Пушкину удалось опубликовать «Александра Радищева», произошло бы подлинное возвращение погибшего писателя, его книги. Однако именно этого не желали власти: министр народного просвещения С. С. Уваров нашел «излишним возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения». При подготовке посмертного издания сочинений Пушкина Уваров вторично запретил статью «Александр Радищев», которая «по многим заключающимся в ней местам к напечатанию допущена быть не может». Правда, в составе посмертного собрания Пушкина было опубликовано шесть глав из статьи «Мысли на дороге», куда поэт включил небольшие фрагменты из «Путешествия». Однако отдельные элементы радищевского текста не могли привлечь того общественного внимания, которое, несомненно, было бы возбуждено острой, талантливой, вызывающей статьей «Александр Радищев». Ее запрет откладывал большой спор о Радищеве более чем на двадцать лет, до «герценовских времен»; но и в конце 1850-х годов, как мы сейчас увидим, именно пушкинская статья станет «запалом» для большого дискуссионного взрыва; именно с нее начнутся очень интересные общественные суждения и о Радищеве, и о самом Пушкине.
От Пушкина до Герцена
Время все более удалялось от главнейшего для Радищева 1790 г. Повторим, что списки, много списков, а также отдельные печатные экземпляры «Путешествия» продолжали ходить по России. Недавние исследования советского историка В. Ю. Афиани[115] показали, однако, что существовало несколько сравнительно изолированных друг от друга читательских групп с определенным, часто не совпадающим кругом чтения. Одни книги и рукописи находились в распоряжении придворных, аристократических кругов; известна особая роль Пушкина, Вяземского и их друзей в освоении традиций XVIII в.; интерес к прошлому, особенно к литературе допетровского периода, а также к народному творчеству, отличал славянофильскую публицистику. Наконец, западники и революционные демократы — Белинский, Герцен, Огарев: вопрос об их взглядах на XVIII столетие довольно непрост. В трудах Белинского упоминаний о Радищеве и его сочинениях почти нет. Не встречается это имя и в сочинениях и письмах раннего Герцена. Покинув Россию в 1847 г., Герцен, как известно, пережил вскоре глубочайшую личную и духовную драму, приведшую, между прочим, к отказу от известной идеализации Запада, стремлению отыскать самобытные, русские пути для освобождения России. Эта перемена во взглядах (которая некоторыми друзьями-западниками была даже сочтена переходом на «славянофильские позиции») усилила интерес Искандера к предшественникам, традиции. Написанная за границей работа «О развитии революционных идей в России» (1850–1851) была, по сути, первой историей освободительного движения в стране: Герцен мобилизовал все свои обширные познания по части легальной и нелегальной русской словесности; одновременно статья была как бы и программой новых поисков, призывом (который будет позже повторен на страницах Вольной русской печати) присылать рукописи, биографические сведения, документы, хранящиеся под спудом, но пока невозможные для публикации в России. И тут пора коснуться любопытного, парадоксального обстоятельства. При чтении герценовского «О развитии революционных идей в России» легко заметить, что Радищев не назван на тех страницах, где ему обязательно «следовало быть»: отыскивая предшественников в XVIII столетии, Герцен отдает должное Новикову — «одной из тех великих личностей в истории, которые творят чудеса на сцене, по необходимости погруженной во тьму»; много внимания уделяет Д. И. Фонвизину («В произведениях этого писателя впервые выявилось демоническое начало сарказма и негодования, которому суждено было с тех пор пронизать всю русскую литературу»); вслед за тем Герцен бегло упоминает Дмитриева, Крылова, Карамзина и переходит к событиям XIX столетия. О Радищеве — ни слова. Проходит еще несколько лет, и Герцен получает сведения об аресте первого революционера, а также его книги в «Записках» Б. Р. Дашковой. Пересказывая воспоминания своей героини, Герцен писал: «Екатерина испугана брошюркой Радищева; она видит в ней „набат революции“. Радищев схвачен и сослан без суда в Сибирь»[116]. Из текста видно, что создатель Вольной печати неясно представляет события: довольно толстая книга Радищева названа «брошюркой», иронический тон насчет «набата революции» создает впечатление, будто царица ошибается и преувеличивает революционность «Путешествия». Когда же в 1858 г. Вольная типография получает наконец для публикации «Путешествие из Петербурга в Москву», удивленное восхищение издателей велико, и в герценовском введении ясно видны следы первого, непосредственного впечатления от знакомства с замечательной книгой. Таковы, например, строки — «юмор его (Радищева) совершенно свеж, совершенно истинен и необычайно жив. И что бы он ни писал, так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в „Думах“ Рылеева, и в собственном нашем сердце». Выходит, один из самых культурных, глубоких российских мыслителей дожил до 46 лет, не зная Радищева. Но если не знали Герцен, Огарев, то не знал и круг их близких друзей, «людей 1840-х годов», где «каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем»[117]. Значит, скорее всего, никогда не прочли радищевского «Путешествия» Белинский, Грановский; не знали до конца 1850-х годов И. С. Тургенев, К. Д. Кавелин, Е. Ф. Корш… Если же кто-нибудь из них в молодые годы знал, читал запрещенную книгу — тотчас мы сталкиваемся с еще более непонятным фактом: с недостатком интереса; с тем, что о такой книге не было рассказано друзьям. Объяснить подобное явление только цензурными, «полицейскими» затруднениями невозможно: молодые люди 1840-х годов жадно стремились добыть и обычно добывали то, что им нужно, минуя всякие запреты. (У одного из членов герценовского кружка, Кетчера, была, например, уникальная коллекция запретных стихов.) Кроме гонений и запретов на судьбу старинных трудов, очевидно, влияло также известное отчуждение, равнодушие российских мыслителей 1840–1850-х годов к прежним, как им казалось, изжитым принципам XVIII в. С одной стороны, довольно значительное число списков радищевского «Путешествия» ходило по стране; с другой — многие образованнейшие люди не читали, «не хотели читать», полагая до поры до времени, что XVIII век безнадежно устарел и ничего не сможет подарить мятущемуся XIX. Книга Радищева выйдет из небытия или полузабвения, когда возникнет сильная общественная потребность. Освободительный подъем 1850–1860-х годов возьмет из прошлого то, что «ждало своего часа»…
Радищев возвращается
Шестидесятники принимали «деда», Радищева, как своего, и первым признаком «семейной близости» стала, конечно, дискуссия. Продолжение спора, начатого Пушкиным. В 1855 г. первый пушкинист Павел Васильевич Анненков в шести томах опубликовал новое пушкинское собрание сочинений. Это издание сделалось очень заметным общественным, литературным событием; Анненков постарался ввести в него множество прежде никогда не публиковавшихся текстов — от впервые разобранных им строк «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя» до произведений, считавшихся крамольными. Некоторые тексты, в том числе статью о Радищеве, Анненкову поначалу провести через цензуру не удалось; однако прошло два года, обстановка в стране улучшалась, ослабевшая власть делала уступку за уступкой, открывались новые журналы и газеты, приближалось освобождение крестьян… В этих условиях Анненков собрал целый том, седьмой, дополнительный, куда внес десятки стихотворных и прозаических текстов Пушкина. 5 июля 1857 г. цензура разрешила новое издание, в том числе статью «Александр Радищев» с пушкинскими прибавлениями, относящимися к истории и тексту «Путешествия из Петербурга в Москву». Радищевская книга целиком все еще не дозволялась, но теперь, благодаря Пушкину и Анненкову, о ней начнут толковать серьезно. Прочитал VII анненковский том и Герцен; только теперь по-настоящему заинтересовался Радищевыми также пушкинской трактовкой. Главный импульс, вызванный у вольных издателей пушкинской статьей: скорее достать, опубликовать само радищевское «Путешествие»! Мы точно не знаем, был ли послан из Лондона соответствующий «заказ» в Россию или Россия «сама догадалась», однако через девять месяцев после разрешения пушкинского Радищева Герцен объявит, что вскоре напечатает, без всякого разрешения, Радищева подлинного… Кто же доставил в Лондон запретное сочинение? Точно сказать нелегко. В 1857–1858 гг. регулярно снабжал Вольную печать ценной информацией П. В. Анненков: к этому периоду как раз относится его длительная поездка за границу, в том числе в Англию. В то же самое время молодые литераторы и публицисты в России Б. И. Якушкин, А. Н. Афанасьев, В. И. Касаткин, П. А. Ефремов помещают интересные публикации о Пушкине, Радищеве, Щербатове на страницах левого журнала «Библиографические записки»; любопытно, что и здесь они пользуются помощью Пушкина: перепечатывая, а также впервые публикуя фрагменты из неоконченной пушкинской работы «Мысли на дороге», Евгений Якушкин (сын декабриста) в 1859 г. вкрапливает в публикацию отдельные тексты из «Путешествия». То, что эти журналисты не могли напечатать в России, — посылали в Лондон. Есть серьезные основания считать, что от них пришло щербатовское «О повреждении нравов…»; может быть, и Радищев заодно? Мы назвали два «корреспондентских центра», способных отправить Радищева Герцену. Но был в те годы еще один примечательный человек, который, пожалуй, мог бы связать 1790-й с 1858-м: активно сражается за обнародование литературного наследства и биографии Радищева его третий сын, 75-летний Павел Александрович (1783–1866). Его хорошо знали во многих московских редакциях, посмеивались над бедностью, считали безумным — особенно когда он начинал наизусть «петь» стихи своего отца, но уступали его напору, сыновней преданности[118]. У нас есть прямые и косвенные данные о том, как горячо этот человек воспринимал публикации Герцена (а может быть, способствовал их возникновению?). Завершая вступительную статью к радищевскому «Путешествию», Герцен сделал примечание: «Пора бы составить полную биографию А. Радищева — мы с радостью напечатаем ее». Павел Александрович откликнулся, и очень деятельно. В конце 1858 г., через полгода после герценовского обращения, он сумел напечатать краткую биографию А. Н. Радищева в журнале «Русский вестник», а затем переслал текст в Лондон. Герцен не стал публиковать биографию Радищева, вероятно потому, что она была уже напечатана; однако имя Радищева после 1858 г. неоднократно появляется в вольных изданиях. Столь сильно и страстно воспринимавший любое слово об отце, которого он потерял 19-летним, Павел Александрович Радищев мог один из списков «Путешествия» передать в ту типографию, которая впервые после 68-летнего перерыва готова была напечатать главный труд Александра Николаевича Радищева.
Опять лето 1858-го
Наш рассказ вернулся к своему началу. Июль 1858 г.; по книжным каналам Европы, потаенными путями по России начинает распространяться книга «Щербатов — Радищев». В ней 341 страница; тираж, по всей видимости, 1500 экземпляров. Идея объединить смелого консерватора Щербатова и героического революционера Радищева в одной книге принадлежит, по всей видимости, самому Герцену, «курировавшему» практически все исторические издания Вольной типографии. Сопоставление и парадоксальное соединение двух внешне противоположных течений русской мысли — характерная черта герценовского исторического мышления: «Князь Щербатов и А. Радищев представляют собой два крайних воззрения на Россию времен Екатерины. Печальные часовые у двух разных дверей, они, как Янус, глядят в противоположные стороны. Щербатов, отворачиваясь от распутного дворца сего времени, смотрит в ту дверь, в которую взошел Петр I, и за нею видит чинную, чванную Русь Московскую, скучный и полудикий быт наших предков кажется недовольному старику каким-то утраченным идеалом. А. Радищев смотрит вперед, на него пахнуло сильным веянием последних лет XVIII века… Радищев гораздо ближе к нам, чем князь Шербатов; разумеется, его идеалы были так же высоко на небе, как идеалы Щербатова — глубоко в могиле; но это наши мечты, мечты декабристов»[119]. Несколько нарушая рамки историзма, но стремясь приблизить к современности прежние идейные споры, Герцен видит в Радищеве своего прямого предтечу, а в Щербатове как бы «предславянофила». Пушкин и Герцен — каждый представлял XIX веку своего Радищева!
* * *
Теперь положим рядом оба издания «Путешествия» — радищевское и герценовское: 1790-й и 1858-й. Какое важнее? Ну разумется, радищевское, авторское: все миллионы экземпляров «Путешествия из Петербурга в Москву» печатаются в наши дни с соблюдением авторской воли. Герцен же, как говорилось раньше, получил не типографский экземпляр книги, а один из списков. И все же их очень интересно сравнить. Оказалось, что имеется несколько сот различий между двумя изданиями, а если считать мелкие разночтения типа «так — столь», «герой — ирой», «увидеть — узреть», то их число перевалит за тысячу. Большинство — по воле переписчиков, и это очень любопытно: они отчасти рассматривали уже радищевский текст как собственный, кое-что меняли, прибавляли, убавляли по своему разумению. Поверхностный взгляд сочтет подобное самоуправство слишком дерзким; но, если вдуматься, здесь особый признак внимания, близкого соучастия, стремления придать рукописи дополнительный, современный импульс. Радищев пишет: «г[осподин] комиссар»; переписчика мало занимает почтительность, и он убирает «господина». В другой раз Радищев, снисходя к щепетильным нравам своего века, сокращает сравнительно грубые выражения и пишет: «кан… бес…» В XIX в. подобная стеснительность не в ходу, и мы читаем у Герцена полностью: «каналья, бестия». Больше же всего разночтений относится к обновлению языка. Всего 68 лет, разделяющие два издания «Путешествия», были эпохой Карамзина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, когда литературный язык сильно переменился и многие обороты, привычные для эпохи Радищева, уж кажутся тяжелыми, устаревшими. Подавляющее большинство поправок упрощают старинные фразы, заменяют некоторые слова и выражения. Словосочетание «новый сей» заменяется на «сей новый», «обыкшему» — на «обыкновенный»; вместо «смех сердечной» — «сердечный смех»; вместо оборота «загрубевшие хотя от зноя и холода, но прелестные» теперь стало — «хотя от зноя и холода загрубевшие, но прелестные». И вот последние страницы обоих изданий: «…правила позорищного стихотворения», — пишет Радищев; современник Герцена переводит: «…правила драматического стихотворения». Радищев: «Беги, толпа завистливая, се потомство о нем судит, оно нелицемерно». У Герцена: «Скройся, толпа завистливая! Вот нелицемерный суд о нем потомства». Дух старинного языка, колорит XVIII в. при переписке блекнет, зато «Путешествие» оказывается как будто вчера написанным… Герцен же, с первых страниц своего предисловия, вступает в тот самый горячий, актуальный, сегодняшний спор, который начал Пушкин.И грянул спор…
Отдельные критические замечания Пушкина о Радищеве отчасти принимаются, но в основном оспариваются Искандером. Сопоставим следующие тексты: Пушкин: «Путешествие в Москву… очень посредственное произведение». Герцен: «Превосходная книга». О слоге Радищева: Пушкин: «Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвердить суждение наше множеством выписок. Но читателю стоит открыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине нами сказанного. В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидерота и Реналя; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале». Герцен: «Тогдашняя риторическая форма, филантропическая философия, которая преобладала в французской литературе до реставрации Бурбонов и поддельного романтизма — устарела для нас. Но юмор его совершенно свеж, совершенно истинен и необычайно жив». Пушкин: «Какую цель имел Радищев? чего именно желал он? На сии вопросы вряд ли мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно». Герцен: «И что бы он ни писал, так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в „Думах“ Рылеева, и в собственном нашем сердце». Как всегда, Герцен подчеркивает злободневность, современность публикуемых материалов. Строки о весне 90-х годов, когда «все ждали с бьющимся сердцем чего-то необычайного», когда «святое нетерпение тревожило умы и заставляло самых строгих мыслителей быть мечтателями», — все это было явной параллелью мечтаниям, иллюзиям 1860-х годов. «Разговор с Пушкиным» продолжается и во втором «Введении Искандера», непосредственно перед текстом радищевского «Путешествия». Большую часть герценовского предисловия занимают отрывки из пушкинской статьи, а также прибавления (из записок Храповицкого), которыми Пушкин сопроводил «Александра Радищева». Как и в первом введении, здесь подчеркивается радищевский «громкий протест против крепостного состояния»; последний проект Радищева, возвращенного из ссылки, это, по убеждению Герцена, «план освобождения крестьян». (На самом деле Радищев в последние месяцы своей жизни служил в Комиссии составления законов.) В период собственных максимальных иллюзий насчет возможных мирных преобразований в стране Герцен обходит, как бы не замечает народного бунта, возмущения, о котором ясно говорится в «Путешествии». Заметим, как в этой связи он цитирует пушкинскую статью о Радищеве. Пушкин: «Он написал свое „Путешествие из Петербурга в Москву“, сатирическое воззвание к возмущению, напечатал в домашней типографии и спокойно пустил его в продажу». Герцен: «Радищев спокойно пустил в продажу свое „Путешествие из Петербурга в Москву“, напечатав его тайно в своей типографии, — говорит Пушкин». Искандер полагает, что пушкинский «Александр Радищев» — это «статья, не делающая особенной чести поэту». И тут мы попадаем в самую гущу спора. Критический отзыв Герцена печатался одновременно с другими откликами на пушкинское сочинение (оно, повторим, как бы заменяло пока еще запрещенное в России «Путешествие»). П. В. Анненков, опубликовавший статью «Александр Радищев», был одним из немногих, кто находил, что эта работа поэта принадлежит «к тому зрелому, здравому и проницательному критическому такту, который отличал суждения Пушкина о людях и предметах незадолго до его кончины»[120]. С Анненковым, однако, не согласился даже довольно умеренный критик Александр Станкевич: «Из биографической статьи „О Радищеве“, являющейся впервые на свет, мы можем ознакомиться с мнениями Пушкина о человеке, в котором, с точки зрения исторических и общественных условий, он усматривал только пример для поучения. Поучительная сторона явления закрыла от него другую сторону, трагическую. Нельзя сказать, чтоб это послужило в пользу живости и ясности биографического очерка»[121]. Если уж люди, далекие от революционности, заступались за Радищева, что говорить о левых! Е. И. Якушкин находил, что «убеждения автора были очень нетверды… Иначе как объяснить себе, что Пушкин, говоря об одной картине из крепостного быта, мастерски начертанной Радищевым, увлекается ею до того, что соглашается с ним, не замечая даже, что впадает через это в противоречие со своими собственными словами, высказанными за несколько страниц»[122]. Историк, собиратель русских сказок А. Н. Афанасьев намеревался составить свод материалов, опровергающих позицию Пушкина, и писал другу 12 ноября 1858 г.: «О Радищеве я уже думал, но дело очень щекотливое в цензурном отношении. На первый раз пущу выписки из известной его книги по поводу статьи Пушкина о Радищеве. К прозе Пушкина приготовлены очень любопытные дополнения и исправления по его собственноручным рукописям. Тут надо бы коснуться и статьи о Радищеве и его книге. Разумеется, отзыв Пушкина не выдерживает критики»[123]. Еще левее Николай Добролюбов; в первой книге «Современника» за 1858 г. он отвечает Анненкову: «Относительно этой статьи мы не можем согласиться с мнением издателя, что она принадлежит к тому зрелому, здравому и проницательному критическому такту, который отличал суждения Пушкина о людях незадолго до его кончины. В этой статье мы видим взгляд весьма поверхностный и пристрастный». При этом Добролюбов отмечал противоречия пушкинской статьи, где «выражается, без ведома автора, уважение его к Радищеву в самом оправдании, решительно противоречащем строгому приговору, произнесенному относительно всей деятельности этого человека вообще… Вообще нужно заметить, что статья о Радищеве любопытна как факт, показывающий, до чего может дойти ум живой и светлый, когда он хочет непременно подвести себя под известные, заранее принятые определения. В частных суждениях, в фактах, представленных в отдельности, постоянно виден живой, умный взгляд Пушкина; но общая мысль, которую доказать он поставил себе задачей, ложна, неопределенна и постоянно вызывает его на сбивчивые и противоречащие фразы»[124]. В 1859 г. в статье «Русская сатира в век Екатерины» Добролюбов снова высоко отзывается о первом революционере: «Книга Радищева составляла едва ли не единственное исключение в ряду литературных явлений того времени, и именно потому, что она стояла совершенно одиноко, против нее и можно было употребить столь сильные меры. Впрочем, если бы этих мер и не было, все-таки „Путешествие из Петербурга в Москву“ осталось бы явлением исключительным и за автором его последовали бы, до конечных его результатов, разве весьма немногие» [125]. Наконец, Чернышевский в 10-м номере «Современника» за 1860 г. замечает о XVIII веке, что «Новиков, Радищев, еще, быть может, несколько человек одни только имели тогда то, что называется ныне убеждением или образом мыслей». Этими спорами 1858 г. начинается продолжающаяся до сего времени полемика о подлинном смысле пушкинской статьи «Александр Радищев». В конце XIX — начале XX в. П. Н. Сакулин, В. П. Семенников и другие исследователи в общем соглашались с Анненковым и развивали мысль, что Пушкин выражал свои истинные (пусть и недостаточно объективные) идеи о Радищеве: вот таким был Пушкин, так думал… В. Е. Якушкин, С. А. Венгеров, позже некоторые советские исследователи рассудили иначе. В той или иной степени они нашли в статье Пушкина иносказание: все дело в цензуре, стремлении поэта любой ценой «снять запрет» с Радищева, добиться права писать о нем. Самое любопытное, что в этих спорах отчасти все правы. Действительно, Пушкин писал что думал. И, действительно, хотел обойти цензуру. Так же как правы были Герцен, Чернышевский, Добролюбов и другие критики 1850–1860-х годов, защищавшие своего Радищева. Главный секрет этих споров (кажется, далеко не всегда учитываемый), что люди говорили не только, порою не столько о Радищиве, сколько о себе: получался любопытнейший сплав объективного и субъективного, где очень трудно понять, когда кончается действительный разбор радищевских мыслей и построений и начинается исповедь; более того — сами критики порою уж не различают, где «предок» и где они… Если бы статья Пушкина вышла тогда, когда она была написана, в 1836-м, — современники безусловно нашли бы в ней много такого, что стало уж незаметно в 1858-м. Они нашли бы, к примеру, сопоставление судеб — и здесь, может быть, главная отгадка, отчего Пушкин, вроде бы не слишком тяготеющий к Радищеву, делал одно усилие за другим, чтобы о нем написать, напечатать. Нам нелегко ответить, из каких, скорее всего устных, источников поэт отыскал факты, построенные в определенную биографическую систему: Радищев — крайний революционер; потом, под впечатлением кровавых событий 1793–1794 и последующих лет, меняет воззрение и гибнет (выше кратко излагалась сходная версия, развитая уже в наши дни Б. Г. Плимаком и опирающаяся на очень широкий круг материалов). Как бы то ни было, подобный взгляд на биографию Радищева был Пушкину очень важен, потому что это — взгляд на себя! Вообще трудно не заметить многих биографических параллелей. Радищев в юности учится в Лейпциге, где (согласно Пушкину) «надзиратель думал только о своих выгодах; духовник, монах добродушный, но необразованный, не имел никакого влияния на их ум и нравственность. Молодые люди проказничали и вольнодумствовали». Пушкин и его друзьяпримерно так же вспоминали и о Лицее, где «все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», где поэт веселился, «в закон себе вменяя страстей единый произвол». Позже — вольные, революционные мысли, о чем Пушкин пишет, прямо сравнивая век нынешний и век минувший: «Теперь было бы для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей, пылких и чувствительных, если бы мы, по несчастию, не знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями… Другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидерота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими». Пушкин, как видим, строг к «детским мыслям»; строг, потому что не забывает о цензуре и потому что пишет о себе. Фраза, мелькнувшая в статье о друге Радищева Федоре Ушакове, хорошо применима и к Пушкину: «Сходство умов и занятий сблизило с ним Радищева». Но пойдем дальше: Радищев пишет оду «Вольность» и свой главный труд. Пушкин тоже написал оду «Вольность» и другие бесцензурные труды. Радищева ссылают — Пушкина тоже… «Император Павел I, взошед на престол, вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему чины и дворянство, обошелся с ним милостиво и взял с него обещание не писать ничего противного духу правительства». Ну как не заметить параллель с возвращением Пушкина и его известной беседой с царем Николаем I! Далее в статье идут строки, где уж вообще невозможно разделить двух писателей: «Не станем укорять Радищева в слабости и непостоянстве характера. Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом иль с улыбкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Моложавые мысли, как и моложавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время Ужаса! мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра». Здесь, конечно, полускрытая пушкинская исповедь — об эволюции собственных взглядов, — для чего жизнь Радищева важнейший повод. И вот Радищев на свободе, на службе; ему хочется принести пользу, ибо имел «отвращение от многих злоупотреблений и некоторые благонамеренные виды». Ничего не выходит: от прежних идей Радищев как будто удалился — новые хозяева ему не очень доверяют, угрожают: «Эй, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?» Радищев оканчивает жизнь самоубийством: «Огорченный и испуганный, он возвратился домой, вспомнил о друге своей молодости, об лейпцигском студенте, подавшем ему некогда первую мысль о самоубийстве, и… отравился. Конец, им давно предвиденный и который он сам себе напророчил!» Эти строки, написанные Пушкиным за год до гибели, страшно читать. Ведь поэт, пусть во многом иначе, чем Радищев, тоже не пришелся ко двору; и, как Радищев, устал; и конец свой давно предвидел, и «сам себе напророчил», вспоминая погибших прежде друзей:
История литературы знает немало примеров, когда произведение, даже примечательное, опоздав к современникам на несколько и более лет, встречало непонимание, сопротивление читателей (иногда преодолеваемое временем, а порою — нет). Снова повторим, что если бы Герцен и Добролюбов познакомились с пушкинской статьей в детстве или юности, то «привыкли» бы к ней: возможно, все равно бы не согласились, но судили бы более исторично. Однако статья явилась как новая в другую эпоху, в период революционного подъема, когда звучали иные голоса, иные песни. И снова Герцен и его современники, толкуя о Радищеве, говорили о себе («это наши мечты, мечты декабристов»). Статья же Пушкина казалась «инородным телом», разговором из другой эпохи. Поэтому на нее так страстно набросились. Набросились, не замечая, что саму страстность подхода все равно невольно заимствовали от Пушкина; Пушкин же — от Радищева, от его неравнодушной, самосжигающейся книги. Как видим, спор, противоречия были завещаны второму, третьему, четвертому поколениям от самого первого; XIX веку — от XVIII. Мы говорим о радищевских спорах, где сошлось уже многое, практически все, о чем будут толковать и дискутировать следующие поколения, размышляющие о Радищеве. И о себе.
Эпилог
Побежали 1860-е годы. В статье «Новая фаза русской литературы» (1864) Герцен повторил и углубил мысль своей старой работы «О развитии революционных идей в России» насчет значения для русской литературы «фонвизинского смеха». Но уже появляется Радищев: «Как только сознание пробудилось, человек с отвращением увидел окружавшую его гнусную жизнь: никакой независимости, никакой безопасности, никакой органической связи с народом. Само существование было лишь своего рода казенной службой. Жаловаться, протестовать — невозможно! Радищев попробовал было. Он написал серьезную, печальную, исполненную скорби книгу. Он осмелился поднять голос в защиту несчастных крепостных. Екатерина II сослала его в Сибирь, сказав, что он опаснее Пугачева. Высмеивать было менее опасно»[127]. Через 10 лет после герценовской публикации, через 30 с лишним лет после пушкинской попытки заговорить о первом революционере в Петербурге, в типографии Головина было отпечатано издание «Радищев и его книга „Путешествие из Петербурга в Москву“», куда были включены сильно изуродованные фрагменты. Этот факт отмечен Герценом в письме к Огареву от 3(15) мая 1868 г. Публикация, несмотря на ее слабый общественный резонанс, занимала создателей Вольной печати как пример влияния, определенного отзвука их деятельности: в 9-м номере французского «Колокола» появляется статья Герцена «Наши великие покойники начинают возвращаться». Издание 1885 г. было поводом к формальному снятию (30 марта 1868 г.) прежнего абсолютного запрета на «Путешествие». Однако книге суждено было еще пережить немало гонений. В 1872 г. под редакцией П. А. Ефремова были напечатаны два тома сочинений Радищева, в том числе полный текст «Путешествия» с документальными приложениями. На издание, однако, тут же был наложен арест. В докладе цензора Смирнова отмечалось, что «книга, сохранив почти в целости свой первоначальный характер, и в настоящем виде содержит множество мест, непозволительных по ныне действующим цензурным постановлениям… Так как некоторые из принципов, порицаемых автором, еще и ныне составляют основу нашего государственного и социального быта, то я полагаю неудобным допустить эту книгу к обращению в публике в настоящем ее виде частью потому, что она может возбуждать к своему содержанию сочувствие в легкомысленных людях, частью — служить удобным прецедентом для горячих и неблагонамеренных публицистов, которые не затруднятся провозгласить Радищева мучеником за его гуманные утопии, жертвою произвола и попытаются подражать ему»[128]. Этот цензурный отзыв, как и другие документы, свидетельствовал об огромной политической актуальности книги Радищева и во второй половине XIX в. До революции 1905 г. было предпринято еще несколько попыток полностью или частично переиздать «Путешествие». В 1888 г. А. С. Суворин воспроизвел текст 1790 г. «из строки в строку, из буквы в букву, приблизительно с таким же шрифтом, со всеми опечатками подлинника, всего в количестве 100 экземпляров»; позднейшая попытка более массового (2900 экземпляров) издания была, однако, пресечена Главным управлением по делам печати: 26 июня 1903 г. тираж был арестован и уничтожен. Таким образом, лондонская публикация 1858 г. оставалась единственным сравнительно полным тиражным изданием книги (в 2,5 раза больше первоначального радищевского тиража, в 15 раз больше суворинского). Лишь в 1905 г. появилось первое научное и полное издание «Путешествия» под редакцией Н. П. Павлова-Сильванского и П. Е. Щеголева. После того, в 1906 г., вышло сразу пять изданий «Путешествия», в 1907 г. — три. С тех пор Радищев выходит и выходит: научные публикации, массовые, школьные; фотографические воспроизведения, сначала первого издания (это было сделано в 1935 г.), затем — факсимильное повторение «герценовского» (1983)… За два века, что радищевское «Путешествие» движется во времени, оно как бы приобрело, приобретает и еще приобретет «невидимые» приложения, дополнительные главы: то, что теперь уже почти неотделимо от первоначального содержания радищевского труда. Мы попытались приблизительно представить несколько таких дополнений, исторических «спутников» книги. Вышло примерно так: 1) размышления, сомнения самого Радищева после 1790 г.: возвращение или невозвращение к своему труду; самоубийство; 2) первая половина XIX в.: книгу переписывают, цитируют и в то же время забывают; 3) попытка Пушкина напомнить о Радищеве, связать его судьбу со своею «вослед Радищеву…»; 4) общественный подъем 1850-х годов; Анненков выпускает в свет статью Пушкина «Александр Радищев»; статья подвергается острой критике, под звуки которой «Радищев возвращается»; 5) 1858 г.: Герцен выпускает в свет второе издание радищевского «Путешествия», через 68 лет после первого… Затем, до наших и будущих дней, — новые разговоры, новые споры, порою очень острые, о Радищеве и о себе. Прислушиваясь к «далеким отголоскам», догадываемся, ловим: — «Что случится на моем веку?»
Факел. Историко-революционный альманах. 1989. М., 1989.

Дворцовый заговор 1797–1799 годов
 Известный дворцовый заговор 1800–1801 гг., завершившийся государственным переворотом и убийством Павла I, отвлек внимание многих исследователей от другого, более раннего этапа направленной против него конспирации. Этот эпизод интересен как предыстория событий 11 марта 1801 г., позволяющая понять также некоторые особенности политических воззрений не только будущего царя Александра I, но и его окружения. Ряд фактов о заговоре 1797–1799 гг. рассыпан по разным изданиям и прежде всего содержится в богатом материалами исследовании Н. К. Шильдера[129]. Однако он не дал упомянутым фактам четкого истолкования. Между тем даже простое их временное сопоставление открывает важные подробности. Возможно, Шильдер нарочно рассредоточил связанные друг с другом факты по разным главам своего труда или упорно не желал видеть того, что из подобного сопоставления получается. Речь же идет о серьезной конспирации вокруг наследника престола и во главе с ним.
В 1796 г. выявилось максимальное недовольство великого князя Александра Павловича правлением бабки, Екатерины II. 10 мая 1790 г. он писал В. П. Кочубею[130]: «В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду… При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившиеся в нем злоупотребления; это выше сил не только человека, одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже и гения, а я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно. Следуя этому правилу, я и принял то решение, о котором сказал Вам выше. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого неприглядного поприща (я не могу еще положительно назначить время сего отречения) поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастие в обществе друзей и в изучении природы» (с. 114).
Весной того же года Александр объявляет своему ближайшему другу кн. А. Чарторыйскому, «что нисколько не разделяет воззрений и правил Кабинета и Двора; что он далеко не одобряет политики и образа действий своей бабки; что он порицает ее основные начала… ненавидит деспотизм повсюду, во всех его проявлениях; что он любит свободу, на которую имеют одинаковое право все люди; что он с живым участием следил за Французскою революцией; что, осуждая ее ужасные крайности, он желает республике успехов и радуется им» (с. 116).
Осенью 1796 г., как известно, Екатерина II особенно активно добивается согласия внука на занятие им престола вместо Павла I. Александр же, открывшись отцу, максимально с ним сближается и явно надеется на его воцарение. Однако в послании-исповеди своему воспитателю Ф. С. де Лагарпу, написанном на исходе первого года павловского правления (27 сентября 1797 г.), Александр дает достаточно резкий обзор происшедшего: «Вам известны различные злоупотребления, царившие при покойной императрице; они лишь увеличивались по мере того, как ее здоровье и силы, нравственные и физические, стали слабеть. Наконец, в минувшем ноябре она окончила свое земное поприще. Я не буду распространяться о всеобщей скорби и сожалениях, вызванных ее кончиною и которые, к несчастию, усиливаются теперь ежедневно. Мой отец, по вступлении на престол, захотел преобразовать все решительно. Его первые шаги были блестящими, но последующие события не соответствовали им. Все сразу перевернуто вверх дном, и потому беспорядок, господствовавший в делах и без того в слишком сильной степени, лишь увеличился еще более» (с. 162).
Далее следует перечисление безрассудств Павла: армия, которая «теряет время исключительно на парадах»; отсутствие во всем «строго определенного плана». Сегодня приказывают то, что «через месяц будет уже отменено»; наследник довольно решительно осуждает «неограниченную власть, которая творит все шиворот навыворот», «строгость, лишенную малейшей справедливости, фаворитизм»: «Я сам, обязанный подчиняться всем мелочам военной службы, теряю все свое время на выполнение обязанностей унтер-офицера, решительно не имея никакой возможности отдаться своим научным занятиям, составлявшим мое любимое времяпрепровождение; я сделался теперь самым несчастным человеком» (там же).
Мы еще обратимся в этому документу, единственному в своем роде обвинительному акту Александра против отца. Позже, в 1801 г., практически не слышно голоса наследника; за него говорят заговорщики. Да и для укрепления версии о малой причастности или непричастности Александра к «11-му марта» его старые доводы против павловского управления не вспоминаются; они как бы «не существовали». Однако ничем не сдерживаемая откровенность в переписке с любимым учителем позволяет увидеть оппозицию наследника, весьма продуманную, целенаправленную и главное — очень раннюю.
Ноябрь 1796 — март 1797 г.: вокруг Александра образуется кружок «молодых друзей» (который с 1801 г. будет иметь важное правительственное значение). Близость с Чарторыйским, усилившаяся в последние месяцы екатерининского правления, дополняется «союзом четырех». Еще в Петербурге, вскоре после воцарения Павла, как вспоминает Чарторыйский, «я говорил с великим князем о моих двух друзьях (Новосильцове и Строганове); он уже отличил графа Павла Александровича Строганова; я ему сообщил, что их убеждения сходятся с его взглядами, что можно положиться на их преданность, скромность, что они желают его видеть неофициально, предложить ему свои услуги и выяснить себе, каким образом действовать сообразно его великодушным намерениям, когда настанет к тому время. Великий князь согласился посвятить их в свои тайны и приобщить к своим замыслам» (с. 170).
Трудно определить, чья инициатива была тут сильнее: Александра или Чарторыйского? Хотя последний в записках, составленных много лет спустя, принижает свою роль и даже пытается трактовать то, что тогда происходило, с некоторой иронией бывалого человека, вспоминающего «грехи молодости», тем не менее для 1796–1797 гг. эти потаенные разговоры были немалой крамолой. Инициатива была обоюдной, но кн. Адам, как видно, явился силой организующей. Каковы же были замыслы, к которым хотел приобщить своих друзей наследник? В цитированном выше письме Лагарпу они изложены так: «Вам уже давно известны мои мысли, клонившиеся к тому, чтобы покинуть свою родину. В настоящее время я не предвижу ни малейшей возможности к приведению их в исполнение, а затем и несчастное положение моего отечества заставляет меня придать своим мыслям иное направление. Мне думалось, что если когда-либо придет и мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания себя я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкою в руках каких-либо безумцев» (с. 163).
15 марта — 3 мая 1797 г.: коронационные торжества в Москве. Здесь на глазах Александра произошел «малый переворот» — смена при царе клана Куракиных кланом Лопухиных, обострение того фаворитизма, о котором говорилось в письме к Лагарпу. Не одобрял наследник и умаления прав своей матери, и массовой раздачи государственных крестьян при коронации, и откровенной демонстрации прав императора как главы церкви (когда 29 апреля Павел командовал парадом в далматике[131] и короне), и особенно ограничение Жалованной грамоты дворянства (13 апреля была подтверждена возможность телесных наказаний дворян вместе с лишением сословных прав). Тогда же, вероятно, под прямым впечатлением деклараций и действий Павла во время коронации, наследник просит Чарторыйского составить манифест на случай возможного вступления его самого на престол. Кн. Адам утверждает, будто он долго отказывался, но Александр настаивал.
Чарторыйский вспоминает: «Чтобы его успокоить, я наскоро составил, как умел, проект прокламации. То был ряд рассуждений, в коих я говорил о неудобствах образа правления, существовавшего дотоле в России, и о всех выгодах другого, который Александр намеревался ей даровать, о благодеяниях свободы и справедливости, которыми ей предстояло пользоваться по устранении стеснений, препятствовавших ее благоденствию, и, наконец, о решимости его, по совершении сего высокого подвига, сложить с себя власть, дабы тот, кто будет признан наиболее ее достойным, мог упрочить и усовершенствовать начатое им великое дело. Мне незачем объяснять, в какой степени все эти прекрасные рассуждения, эти фразы, которые я старался, по мере возможности, связать одну с другою, были малопригодны в применении к действительности. Александр был в восторге от моего труда, который воспроизводил занимавшую его тогда фантазию, ибо, желая составить счастие своего отечества, как сам он понимал его в то время, он вместе с тем хотел сохранить за собою свободу отделаться от власти и от положения, коих опасался и которые ему не нравились, дабы поселиться спокойно в тихом уединении, где бы он мог издалека и на досуге наслаждаться содеянным им добром. Александр с великим удовольствием положил бумагу в карман и горячо благодарил меня за мою работу. Это успокоило его относительно будущего. Ему казалось, что, заперев эту бумагу в свое бюро, он лучше будет подготовлен к событиям, которые могли быть нежданно вызваны судьбою: странное и почти невероятное следствие иллюзий, мечтаний, коими утешает себя юность даже при обстановке, в которой опыт преждевременно охлаждает душу! Я не знаю, что сталось с этой бумагою» (с. 166–167).
Верность рассказа Чарторыйского подтверждается почти текстуальным совпадением его с письмом Александра Лагарпу от 27 сентября 1797 г.[132] Говоря о «даровании стране свободы», Александр замечает: «Это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законной властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей» (с. 163). Вот дань будущего царя боязни, переполнившей его при мысли о судьбе Людовика XVI, казненного французами.
Апрель 1797 г.: тайные совещания Александра с новыми «молодыми друзьями»: гр. Н. Н. Новосильцевым, гр. П. А. Строгановым и, конечно, Чарторыйским. Вероятно, московские празднества позволяли более безопасно уединяться под благовидным предлогом от глаз сыщиков. Чарторыйский помнит, что на московских свиданиях Новосильцов прочитал какую-то записку, где «изложил общий взгляд на предмет, не касаясь основательной разработки частностей, относящихся к различным отраслям государственного управления. Эту дополнительную работу предстояло еще исполнить, но она никогда не была сделана. Великий князь выслушал, однако, внимательно и с удовольствием чтение сжатого очерка обязанностей главы государства и предстоящих ему трудов. Он заключался в удачно составленном обзоре и общих выводах, могущих служить основанием счастья народов, с присовокуплением плана главнейших мероприятий. Автор ввел в свой труд красноречивые обращения к великодушному и патриотическому сердцу августейшего слушателя. Новосильцов умел изящно излагать свои мысли на русском языке; стиль его отличался ясностью и, как мне казалось, звучностью. Великий князь осыпал его похвалами и заявил ему и графу Павлу Александровичу [Строганову], что он усваивает себе начала, высказанные в записке, которые совпадают с его собственными взглядами. Он убеждал Новосильцова закончить начатый труд и затем передать ему, дабы он имел возможность обдумать его содержание и впоследствии применить теорию на практике» (с. 170).
Как видно, Новосильцов прочитал нечто вроде программного введения к будущей конституции. Чарторыйский не помнит или не хочет говорить о деталях, тем более что в этом месте своего повествования он сетует на усиление русской, патриотической точки зрения в их кружке с приходом Строганова и Новосильцова. Вопрос о польской независимости, первостепенно важный для кн. Адама, теперь отодвигается на второй план. Письмо же Лагарпу, как и прежде, прекрасно конкретизирует рассказ Чарторыйского и позволяет узнать, что было в записке Новосильцова и о чем толковала «четверка»: «Мы намереваемся в течение настоящего царствования поручить перевести на русский язык столько полезных книг, как это только окажется возможным, но выходить в печати будут только те из них, печатание которых окажется возможным, а остальные мы прибережем для будущего; таким образом, по мере возможности положим начало распространению знания и просвещению умов. Но когда придет и мой черед, тогда нужно будет стараться, само собою разумеется, постепенно образовать народное представительство, которое, должным образом руководимое, составило бы свободную конституцию, после чего моя власть совершенно прекратилась бы, и я, если Провидение благословит нашу работу, удалился бы в какой-нибудь уголок и жил бы там, счастливый и довольный, видя процветание своего отечества и наслаждаясь им» (с. 164).
Известно, впрочем, что Новосильцов и Строганов постоянно боролись с «эгоистической склонностью» Александра к уходу в частную жизнь после «дарования свобод». Чарторыйский же, видимо, обсуждал эту тему деликатно и льстил самолюбию цесаревича, уже не отличавшего своих истинных намерений от благородно-сентиментальной позы. Итак, вокруг Александра и при его участии оформлялась определенная политическая программа. Складывалась ситуация, в которой при всей ее умеренности ясно видна конспиративная сторона: во-первых, само ожидание перемены власти, подготовка к следующему царствованию были в том контексте потенциальным элементом заговора; во-вторых, мысль о переводе «полезных книг», из которых часть, и может быть большая, не дойдет до печати, объективно относится уже к тайной рукописной пропаганде, пусть среди узкого круга, но подлежащего расширению, так как сама цель такого издания — «просвещение умов». Между прочим, интерес наследника и его окружения к «Санкт-Петербургскому журналу» И. И. Пнина и А. Ф. Бестужева (отца будущих декабристов), издававшемуся в 1798 г., легко находит место в системе тех просветительских планов, о которых только что говорилось[133]. В-третьих, идеи «четверки» отличаются от официально принятых: из французских событий не делаются те выводы, к которым пришел царь: наследник ратует не за резкое, павловское, усиление централизации, а скорее за умеренный вариант французских перемен (без упоминаний о том обстоятельстве, о котором Александр начнет затем постоянно размышлять: о страхе, что события, как и во Франции, перехлестнут умеренно-конституционный барьер и поведут дальше).
Если молодой Павел, как известно, связывал свое будущее с конституционными гарантиями (проекты бр. Паниных — Д. И. Фонвизина), то события 1789–1794 гг. во Франции отбили у него охоту к поискам подобных реформ. Александр же, не сходясь с отцом, не соглашался полностью и с «бабушкиным отвращением» к французской конституции. Еще в 1792 г. он весьма сочувственно интересуется французской «Декларацией прав» и другими революционными документами[134], а весной 1796 г., «осуждая ужасные крайности революции», — Французской республикой, то есть режимом Директории: умеренно-либеральные политические формы представлялись Александру и его друзьям надежной гарантией против «крайностей».
В наивно-незрелой форме, навеянной просветительством XVIII в., а также прямым государственным расчетом, члены «четверки», размышлявшие весной 1797 г. о судьбах страны, представляют себе будущие перемены по легкой умозрительной формуле (просвещение готовит умы к свободе, и затем свобода дается стране!).
Однако реальный политический вес наследника и его приближенных создавал объективно ситуацию заговора, потенциального переворота, пусть и направленного, по словам Александра, к тому, чтобы «не допустить Россию сделаться игрушкою в руках каких-либо безумцев». Добавим к четырем «конспираторам» пятого — вел. кн. Елизавету Алексеевну, которая, без сомнения, многое знала и разделяла основные идеи мужа и его друзей. Александр в 1796 г. пишет Чарторыйскому: «Супруга моя — поверенная во всех делах» (с. 116), Кочубею: «Мысли жены совершенно согласны с моими» (с. 114). Как раз летом 1797 г. она заводит, вероятно, для потаенных дел мужа и его друзей, секретную переписку со своей матерью, принцессой Баденской, как опытный конспиратор, пользуется молоком вместо чернил и советует родным: «Вместо того, чтобы держать письмо над огнем, можно также посыпать его угольным порошком; это делает видимым написанное, и таким образом можно писать с обеих сторон»[135].
Одно из первых посланий Елизаветы Алексеевны от 27 июня (8 июля) 1797 г. говорит само за себя и по духу, и по контексту, в котором упоминается Павел: «Это уже кое-что — иметь честь его не видеть. Правда, мама, этот человек мне противен, даже когда о нем только говорят, а его общество мне еще противнее, когда каждый, кто бы он ни был, сказавший в его присутствии что-нибудь, что имело несчастье не понравиться Его Величеству, может ожидать от него грубость, которую надо терпеть. Поэтому я Вас уверяю, что за исключением нескольких офицеров народ в массе его ненавидит… Представьте себе, мама, он велел бить однажды офицера, наблюдающего за припасами на императорской кухне, потому что вареная говядина за обедом была нехороша! Он приказал бить его у себя на глазах, и еще выбрал палку потолще! Он велел посадить человека под арест; мой муж ему доказывает, что он невиновен, а виноват другой! Он ему отвечает: „Все равно! Они поладят между собой…“ Вот образчик всяких мелких историй, происходящих ежедневно. Потому-то я невестка самая почтительная, но в действительности вовсе не нежная. Впрочем, ему безразлично, любят ли его, лишь бы его боялись. Он это сам сказал»[136].
Александр не имел в то время ни намерения, ни возможностей отстранить отца от власти, хотя мысль о том, что это было бы хорошо, сама собою вытекает из взволнованного описания им русских дел в письме Лагарпу. Наследник — не прямой заговорщик. Но, отчасти сознавая это, а отчасти независимо от своей воли, делается центром притяжения антипавловских сил: молва о нем как о мягком заступнике распространяется быстро; представление многих окружающих о его взглядах на вещи также довольно отчетливо. «Три друга» не проговариваются, но им трудно, невозможно скрыть от всех тон, стиль и дух «просвещенных преобразований», который они исповедуют. Именно эти настроения, очевидно, имеет в виду Чарторыйский, когда пишет, что «еще в 1797 году, до моего отъезда из Петербурга, среди придворной молодежи считалось признаком хорошего тона критиковать и высмеивать действия Павла, составлять на его счет эпиграммы и вообще допускать такие вольности, которые при этом говорились почти во всеуслышание. Это была государственная тайна, которая доверялась всем, даже женщинам и юным щеголям общества, и между тем никто не проговорился, никто эту тайну не выдал. И это при монархе столь подозрительном и недоверчивом, каким был Павел»[137].
Что-то все же просачивается к царю по агентурным каналам. «Великий князь Александр ненавидит отца, — замечает проницательный Ф. В. Ростопчин, — великий князь Константин его боится; дочери, воспитанные матерью, смотрят на него с отвращением, и все это улыбается и желало бы видеть его обращенным в прах»[138]. В этом-то контексте распространяется слух о «беде во дворце» и происходят два важных эпизода в Павловске.
4 августа 1797 г. императрица Мария Федоровна говорила фрейлине Е. И. Нелидовой, явно передавая слова самого царя: «Между нами говоря, моя милая, пока еще не выяснено, что было причиной тревоги. Вчера сыновья рассказали мне, что в нескольких полках ее ожидали с утра… Сказать по правде, дитя мое, мне это не нравится. Я подозреваю, что какой-нибудь шалопай захотел поразвлечься. Это наводит на размышления. Не надо приучать солдат к мысли о тревоге: дворец не должен быть похож на место сбора войск, так как в этом случае трудно уберечься от беспорядков; я знаю, например, что они поднялись на гору возле ограды с ружьями наперевес; если бы они не увидели императора на лошади, они проникли бы в сад, думая, что что-то произошло: беда во дворце…[139]. Офицеров отталкивали, сбивали с ног, два офицера и несколько солдат ранены. Все это — следствие усердия, но такие происшествия могут стать опасными, и я бы хотела, чтобы было запрещено трубить тревогу даже из-за пожара, не получив на это личного приказа императора… Масса хороша, верна, привязана, но кто может сказать, что среди них нет подозрительных личностей… Император вел себя прекрасно; похвалив войска, их усердие, их привязанность, он очень тонко избежал вопроса о причине тревоги, но таких случайностей надо в будущем избегать»[140]. Не прошло, однако, и двух дней, как последовала вторая тревога: опять прибежали гвардейцы. Царь же объявил, что первый офицер, который посмеет вывести войска без его приказа, будет тотчас разжалован в солдаты. И снова императорское семейство, хоть и обрадованное проявлением «верноподданнических чувств», озабочено самой возможностью таких тревог.
Третья тревога, совершенно похожая на первые две, происходит через несколько месяцев, 11 декабря 1797 г., уже в Петербурге… Возможно, причины «шума» были случайными, но не случайными были нервная напряженность и ожидание. Одна из придворных дам помнит: «Толки в обществе и при дворе (которые с самого начала этого царствования приняли такое направление, что можно было предчувствовать конец его) постарались объяснить совершенно иначе это событие»[141]. На другой день после «первого шума», 4(15) августа 1797 г., Елизавета Алексеевна написала, а затем сумела передать своей матери следующие откровенные впечатления, которые были преданы гласности только в начале XX в.: «Я, как и многие, ручаюсь головой, что часть войск имеет что-то на уме или что они, по крайней мере, надеялись получить возможность, собравшись, что-либо устроить. О! Если бы кто-нибудь стоял во главе их! О, мама, в самом деле он тиран!»[142] Естественно, речь идет здесь не о народных массах: дворянская верхушка беспокоилась за собственную судьбу. Налицо уже не пассивное недоброжелательство к царю: надежда и ожидание, что «кто-нибудь» станет «во главе их»; может быть, косвенный упрек мужу, что он еще не «во главе»; ожидание переворота. Через три дня после гибели Павла, 14(26) марта 1801 г., Елизавета напишет, что «вздохнула вместе со всей Россией»; что всегда желала, чтобы «несчастная страна чувствовала себя свободной любой ценой» и что давно ощущала «угрозу всеобщего восстания»[143].
Лето и осень 1797 г.: усиление подозрений Павла насчет сына и его друзей. Под угрозой серьезной опалы оказывается Новосильцов «вследствие независимости его поведения и тех мнений, которые ему приписывали» (с. 171). Павел охотно соглашается на отправку в Англию подозрительного друга наследника, и Новосильцов до 1801 г. находится в Лондоне, очевидно, располагая (как это видно из его переписки с С. Р. Воронцовым) конспиративным каналом связи с Александром. Отправляясь в путь, он берет с собой то письмо Лагарпу от 27 сентября 1797 г., к которому мы уже обращались: Александр приглашает своего воспитателя стать пятым или, если иметь в виду Елизавету, шестым соучастником тайного дела: «Мы будем даже достаточно счастливы и тем, если Вы не откажетесь передать нам Ваши советы через г. Новосильцова, который в свою очередь может сообщить Вам множество сведений на словах. Это отличный молодой человек и притом очень образованный и особенно хорошо знающий свое отечество: я поручаю его Вашему вниманию, мой дорогой друг. Ему поручено, с нашей стороны, об очень многом расспросить Вас, в особенности о роде того образования, которое Вы считаете наиболее удобным для прививки и его дальнейшего распространения и которое притом просветило бы умы в кратчайший промежуток времени. Вопрос этот имеет громадное значение, и без разрешения его немыслимо приступить к делу… Я предоставляю г. Новосильцову сообщить Вам много других подробностей на словах. Дай только бог, чтобы мы когда-либо могли достигнуть нашей цели — даровать России свободу и предохранить ее от поползновений деспотизма и тирании. Вот мое единственное желание, и я охотно посвящу все свои труды и всю свою жизнь этой цели, столь дорогой для меня» (с. 164). Разумеется, речь шла тут о дворянской свободе, понимаемой в узкоклассовых интересах.
Конспиративные связи Александра не ограничиваются кружком молодых его друзей. Возможно, отношения с генералом А. А. Аракчеевым имели доверительную сторону, выходившую за пределы павловского надзора: ведь именно Аракчееву Павел вскоре после восшествия на престол поручил надзор за сыном, «бабушкиным баловнем». Однако хитрый фаворит не желал портить отношений с будущим царем. Письма Александра Аракчееву, относящиеся к августу 1797 г., маскируют истинные намерения царевича (достаточно положить рядом его послание Лагарпу) и в то же время выявляют дружеские, откровенные связи с доверенным лицом Павла, то есть такие контакты, которыми царь был бы недоволен. «Теперь я должен, — пишет Александр, — твое желание исполнить и сказать тебе, что меня очень хорошо сегодня приняли (у Павла. — Н. Э.) и ничего о прошедшем не упоминали; еще вчерась мне милостивые отзывы были чрез мою жену, как, например, чтобы я не сердился на него и тому подобное. Впрочем, сие не переменяет моего желания идтить в отставку, но к несчастию, мудрено, чтобы оно сбылось» (с. 180).
Отъезд Новосильцова как бы завершил первую главу предыстории «большого заговора» 1801 г. — «малый заговор» 1797 г. Однако на том дело не остановилось. Следующее обострение поколебленной осенью 1797 г. конспирации связано с прибытием в июне 1798 г. в Петербург из Константинополя, где он был посланником, друга юности Александра и племянника канцлера А. А. Безбородко — князя В. П. Кочубея. Вероятно, Павел видел в молодом государственном деятеле средство воздействия и контроля за Александром, так как однажды вслух мечтал о сформировании дружеской «четверки» (царь, Безбородко, наследник, Кочубей). В 1798 и начале 1799 г. Кочубей был награжден высокими чинами и должностями, графским титулом. Однако, получив еще в 1796 г. цитированное выше письмо Александра, он теперь укрепляет связи с наследником, явно берет его сторону и начинает постоянно беседовать с ним и Строгановым «о желании видеть наше правительство устроенным на принципах здравого смысла» (с. 172).
Тогда-то, явно с согласия Александра, племянник запрашивает насчет переустройства России своего хитроумнейшего дядю, престарелого Безбородко. Пройдет восемь лет, и Кочубей подаст, уже императору Александру I, записку от 18 марта 1806 г. об учреждении министерств, где между прочим вспомнит о человеке, «которого большим умом, большими заслугами и большими видами Россия, конечно, тщеславиться может»; вспомнит и о том, как некогда Александру «угодно было между прочим, чтоб я склонил его заняться изложением на бумаге мыслей его об управлении государством, к чему было, как известно Вашему Величеству, он и приступил»[144]. Названная записка Безбородко «О потребностях империи Российской», иначе «Записка для составления законов российских», была опубликована В. И. Григоровичем с ошибочной оценкой, будто она предназначалась для Павла I[145]. Шильдер же верно определил записку как документ нелегальный, адресованный наследнику и его кругу.
С огромной долей вероятия в секреты Безбородко был посвящен и ближайший к нему человек, земляк и протеже Д. П. Трощинский, в будущем один из министров Александра I. В мемуарной записке Ф. В. Ростопчина красочно описывается волнение Безбородко: «Просил он о Трощинском, который был его творение, и объяснил мне, что уже восьмой день, как подписан указ о пожаловании его в действительные статские советники, но не отослан в Сенат»; Ростопчин напомнил тогда Павлу о Трощинском, и просьба была удовлетворена[146]. Не исключено, что пером секретаря Екатерины II и был выполнен секретный проект 1798 г. Позже, в роковую для Павла I ночь с 11 на 12 марта 1801 г., именно Трощинский будет вызван Александром и подготовит сначала проект отречения Павла I[147], а затем, когда надобность в том отпадет, составит первый манифест нового императора с обещанием «управлять по законам и по сердцу августейшей бабки нашей». Роль Трощинского в 1801 г. была, видимо продолжением его деятельности, связанной с запискою «О потребностях империи Российской».
В конце 1798 — начале 1799 г. рукопись этого сочинения Кочубей передал Строганову, а тот — Александру. Наследник оказался, однако, не слишком-то доволен мыслями Безбородко и предпочел прежний проект Новосильцова. Между тем канцлер формулировал принцип просвещенной законности, то есть екатерининскую установку вопреки павловской: «Малейшее ослабление самодержавия повлекло бы за собою отторжение многих провинций, ослабление государства и бесчисленные народные бедствия. Но государь самодержавный, если он одарен качествами, сана его достойными, чувствовать должен, что власть дана ему беспредельная не для того, чтобы управлять делами по прихоти, но чтоб держать в почтении и исполнении законы предков своих и самим им установленные; словом, изрекши закон свой, он, так сказать, сам первый его чтит и ему повинуется, дабы другие и помыслить не смели, что от того уклониться или избежать могут» (с. 172). Безбородко практически сформулировал программу упорядочения государственного аппарата, реформы Сената и др., что было затем отчасти осуществлено в первые годы александровского правления.
Дворцовая интрига 1797–1799 гг. нашла определенное продолжение в провинции. В этой связи до сих пор остается много темного, например, в деле «смоленских вольнодумцев». По материалам следственного делопроизводства, частично сохранившимся, была воспроизведена довольно сложная, не всегда ясная, но крайне любопытная картина обширного антипавловского заговора[148]. Напомним вкратце главные обстоятельства: 25–30 офицеров и чиновников, в основном служивших в Смоленске или близ него, конспиративно соединяются в 1797 г. Иногда они называли свое общество «канальским цехом». В центре конспирации — полковник А. М. Каховский и его сводный брат, будущий известный военачальник, а в то время подполковник А. П. Ермолов. Среди связанных с ними лиц — несколько видных офицеров: командир Петербургского драгунского полка, квартировавшего в Смоленске, полковник П. С. Дехтерев, адъютант и управляющий канцелярией смоленского губернатора капитан В. С. Кряжев. Заговор питается ненавистью к Павлу и его режиму. Среди доносов и добытых позже показаний выплывают такие подробности, которые дают некоторое право видеть в этих людях «предшественников декабристов»[149]. 24 августа 1797 г. Кряжев пишет Каховскому: «Брут, ты спишь, а Рим в оковах». Читая Вольтерову «Смерть Цезаря», Каховский воскликнул: «Если б этак нашего!» — и якобы обратился к своему прежнему начальнику и покровителю А. В. Суворову, предлагая свергнуть Павла. Однако полководец «подпрыгнул и перекрестил рот Каховскому: „Молчи, молчи, не могу. Кровьсограждан“»[150]. Дехтерев был готов поднять свой полк против Павла.
Никаких программных документов о целях заговорщиков не сохранилось; известны только сведения об их интересе к сочинениям французских передовых мыслителей К. А. Гельвеция, П. А. Гольбаха, Ш. Л. Монтескье, а также о планах нарочитого роспуска ложных слухов с целью подрыва авторитета Павла I. Необходимо отметить и то не учитывавшееся прежде обстоятельство, что расцвет смоленской конспирации относится как раз ко времени «летних шумов» 1797 г. в Павловске и тайных совещаний вокруг наследника. С конца 1797 г. по «смоленскому делу» велось следствие, окончившееся отправкой около 20 человек в крепость, на поселение и под надзор. С восшествием же на престол Александра I Каховский, Ермолов и все их «однодельцы» были немедленно и полностью реабилитированы. Есть основания думать, что подсудимые «отделались» сравнительно легко, ибо их тайная защита шла из дворца. Только эта причина заставила ретивого следователя генерала Ф. И. Линденера умерить пыл. По приказу царя в ноябре 1798 г. дело было прекращено, сожжен обширный комплекс делопроизводства — результат пятимесячного следствия, производившегося в Дорогобуже. Несколько попыток Линденера расширить круг привлеченных лиц и уловить какие-то связи смоленских заговорщиков с военными и штатскими деятелями в других местах России пресекались, хотя лично руководителю следствия были видны контуры конспирации «от Калуги до литовской границы и от Орла до Петербурга»[151].
Кто же именно остановил и пресек следственное разоблачение? Прямые приказы Павла были порождены тонкой, точно направленной интригой, когда императора сумели убедить в опасности слишком широкого процесса и в недостаточной объективности следствия, преувеличивающего «якобинство» смоленского кружка и желающего поссорить «царя-рыцаря» с его армией. Среди случайно сохранившихся документов мелькают подробности и имена, относящиеся к вероятному контрманевру сильных защитников Каховского и Ермолова. Подбор имен и фактов представляется явно не случайным. Так, смоленский военный начальник генерал-майор П. Белуха поощряет заговорщиков, ссылаясь на свои связи «с Куракиным, Безбородкой, Трощинским»[152]. Попытки Линденера, получившего это показание, привлечь к следствию Белуху, как и смоленских вице-губернатора И. Ф. Мезенцева, губернского предводителя дворянства Н. Б. Потемкина и губернского прокурора X. С. Повала-Швейковского, не получили одобрения Петербурга. Лишь смоленский уездный предводитель дворянства Сомов, когда выяснилось, что он помог Каховскому «замести следы», был арестован, да и то вскоре освобожден «по ходатайству Трощинского и Г. Р. Державина»[153].
Линденер попытался еще вывести следствие на таких персон, как «екатерининцы» П. А. и В. А. Зубовы (у Дехтерева обнаружилась табакерка с их портретом), но и тут был остановлен. Он жаловался на очевидные действия в пользу арестованных чиновника тайной экспедиции Фукса («не смея назвать более важных лиц»)[154]. В числе сильных доброжелателей, передающих нужные сведения семье Каховских, находился и молодой, но уже набиравший силу М. М. Сперанский. Как видим, еще в конце XVIII в. завязывался узел, внутри которого соединились очень многие из тех, чьи имена весьма громко зазвучали в начале XIX в.
Хронологическое совпадение «дела Ермолова и Каховского» с «петербургскими заговорами» 1797–1799 гг.; обширные связи заговорщиков, выходящие далеко за пределы западных губерний; несомненная помощь, полученная ими в трудные дни от сильных людей в столице; повторяющиеся упоминания о Трощинском и постоянная связь его с Безбородкой — все это позволяет связать «шумы» и смоленские дела с петербургскими. Активность кружка «Каховского и Ермолова» росла на фон е коронационных торжеств, которые разжигали страсти и в кружке наследника. Поездка Павла по западным губерниям, последовавшая после московских празднеств (май 1797 г.), укрепила оппозицию в Смоленске и других местах, образовав не вполне видимую ныне связь между разными очагами недовольства. Отметим также, что в Смоленске Павел был как раз вместе с наследником, Безбородкой и другими «конспираторами 1797 года».
Мы далеки от мысли видеть в конспирации 1797–1799 гг. сложившееся «тайное общество», различаем разнородность лиц и пестроту программных формулировок — от «цареубийственных деклараций» смоленских заговорщиков до умеренно-конституционных или просветительских формул при дворе, да еще с немалой дозой лицемерия, нацеленного на использование недовольства в личных интересах. Однако нельзя также игнорировать и некоторое единство устремлений противников Павла. Субъективные их пожелания дополнялись к тому же мощным объективным фактором — нараставшим дворянским сопротивлением.
Но к 1799 г. первая волна антипавловской конспирации пошла на убыль. Царь перешел в наступление и фактически разгромил кружок Александра, оставив наследника в почти полной изоляции. Эта контратака тоже может быть причислена к списку малых, скрытых переворотов и контрпереворотов, являвшихся обычной чертой той эпохи. В апреле 1799 г. Безбородко умер, находясь уже в опале. Резко возросла роль циничного Ростопчина, который немало сделал для организации контратаки. Уход Безбородки вызвал немедленную отставку Трощинского и ухудшил положение вице-канцлера Кочубея. 8 августа 1799 г. его уволили от службы, которую он, правда, нес еще некоторое время, пока не приехал из Берлина его преемник Н. П. Панин.
В это же время разыгралась острая придворная интрига против жены и друзей Александра. Сначала, когда Баденское маркграфство проявило понятную робость перед мощным давлением Французской республики, Павел 26 февраля 1799 г. велел прервать всякие отношения великой княгини с ее родителями и отдал приказ (позже отмененный) о перлюстрации ее писем. Вскоре Павлу намекнули, что новорожденная внучка, вел. княжна Мария Александровна (дочь наследника и Елизаветы, родившаяся 18 мая 1799 г. и прожившая чуть больше года), на самом деле дочь Чарторыйского. Последовали унизительные для Елизаветы допросы при свидетельнице: «Войдя в комнату, где обыкновенно дожидалась его великая княгиня, император, не говоря ни слова, взял за руку великую княгиню Елизавету, повернул ее так, что свет падал на ее лицо, и уставился на нее самым оскорбительным образом. Начиная с этого дня, он не говорил с ней в течение трех месяцев»[155]. Елизавета терроризирована, Чарторыйский удален и 12 августа 1799 г. назначается послом в Сардинское королевство, причем ему рекомендовали ускорить отъезд и не посещать по дороге собственного отца, жившего в имении. Тогда же Павел «предал анафеме» Лагарпа, возглавившего республиканское правительство Швейцарии, приказав русскому командованию в Италии и Швейцарии схватить при случае и доставить в Россию наставника Александра. Наследнику к 1799 г. временно не с кем стало вынашивать планы на будущее. Даже Аракчеев в 1798 г. попал в опалу, затем был возвращен, но в конце 1799 г. за злоупотребления по службе снова выслан в Грузино.
Факты конспирации наследника Павла I против отца противоречат бытующей в литературе легенде об идеализме Александра, втянутого якобы «против воли» в переворот 1801 г. «Именно с этой поры, — свидетельствует Чарторыйский о времени первого заговора, — Павла стали преследовать тысячи подозрений: ему казалось, что его сыновья недостаточно ему преданны, что его жена желает царствовать вместо него. Слишком хорошо удалось внушить ему недоверие к императрице и к его старым слугам. С этого времени началась для всех, кто был близок ко двору, жизнь, полная страха, вечной неуверенности»[156]. В принципе у царя имелись на то определенные основания. Об этом говорят события не осуществившегося заговора 1797–1799 гг.
Итак, первый дворцовый заговор против Павла не дал ощутимых результатов. Но в нем виден зародыш будущих событий. Следующий, уже успешный заговор связан с предыдущим разнообразными нитями. Кроме того, в 1797–1799 гг. закладываются некоторые основы будущей политики Александра I и кружка «молодых друзей».
Известный дворцовый заговор 1800–1801 гг., завершившийся государственным переворотом и убийством Павла I, отвлек внимание многих исследователей от другого, более раннего этапа направленной против него конспирации. Этот эпизод интересен как предыстория событий 11 марта 1801 г., позволяющая понять также некоторые особенности политических воззрений не только будущего царя Александра I, но и его окружения. Ряд фактов о заговоре 1797–1799 гг. рассыпан по разным изданиям и прежде всего содержится в богатом материалами исследовании Н. К. Шильдера[129]. Однако он не дал упомянутым фактам четкого истолкования. Между тем даже простое их временное сопоставление открывает важные подробности. Возможно, Шильдер нарочно рассредоточил связанные друг с другом факты по разным главам своего труда или упорно не желал видеть того, что из подобного сопоставления получается. Речь же идет о серьезной конспирации вокруг наследника престола и во главе с ним.
В 1796 г. выявилось максимальное недовольство великого князя Александра Павловича правлением бабки, Екатерины II. 10 мая 1790 г. он писал В. П. Кочубею[130]: «В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду… При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившиеся в нем злоупотребления; это выше сил не только человека, одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже и гения, а я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно. Следуя этому правилу, я и принял то решение, о котором сказал Вам выше. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого неприглядного поприща (я не могу еще положительно назначить время сего отречения) поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастие в обществе друзей и в изучении природы» (с. 114).
Весной того же года Александр объявляет своему ближайшему другу кн. А. Чарторыйскому, «что нисколько не разделяет воззрений и правил Кабинета и Двора; что он далеко не одобряет политики и образа действий своей бабки; что он порицает ее основные начала… ненавидит деспотизм повсюду, во всех его проявлениях; что он любит свободу, на которую имеют одинаковое право все люди; что он с живым участием следил за Французскою революцией; что, осуждая ее ужасные крайности, он желает республике успехов и радуется им» (с. 116).
Осенью 1796 г., как известно, Екатерина II особенно активно добивается согласия внука на занятие им престола вместо Павла I. Александр же, открывшись отцу, максимально с ним сближается и явно надеется на его воцарение. Однако в послании-исповеди своему воспитателю Ф. С. де Лагарпу, написанном на исходе первого года павловского правления (27 сентября 1797 г.), Александр дает достаточно резкий обзор происшедшего: «Вам известны различные злоупотребления, царившие при покойной императрице; они лишь увеличивались по мере того, как ее здоровье и силы, нравственные и физические, стали слабеть. Наконец, в минувшем ноябре она окончила свое земное поприще. Я не буду распространяться о всеобщей скорби и сожалениях, вызванных ее кончиною и которые, к несчастию, усиливаются теперь ежедневно. Мой отец, по вступлении на престол, захотел преобразовать все решительно. Его первые шаги были блестящими, но последующие события не соответствовали им. Все сразу перевернуто вверх дном, и потому беспорядок, господствовавший в делах и без того в слишком сильной степени, лишь увеличился еще более» (с. 162).
Далее следует перечисление безрассудств Павла: армия, которая «теряет время исключительно на парадах»; отсутствие во всем «строго определенного плана». Сегодня приказывают то, что «через месяц будет уже отменено»; наследник довольно решительно осуждает «неограниченную власть, которая творит все шиворот навыворот», «строгость, лишенную малейшей справедливости, фаворитизм»: «Я сам, обязанный подчиняться всем мелочам военной службы, теряю все свое время на выполнение обязанностей унтер-офицера, решительно не имея никакой возможности отдаться своим научным занятиям, составлявшим мое любимое времяпрепровождение; я сделался теперь самым несчастным человеком» (там же).
Мы еще обратимся в этому документу, единственному в своем роде обвинительному акту Александра против отца. Позже, в 1801 г., практически не слышно голоса наследника; за него говорят заговорщики. Да и для укрепления версии о малой причастности или непричастности Александра к «11-му марта» его старые доводы против павловского управления не вспоминаются; они как бы «не существовали». Однако ничем не сдерживаемая откровенность в переписке с любимым учителем позволяет увидеть оппозицию наследника, весьма продуманную, целенаправленную и главное — очень раннюю.
Ноябрь 1796 — март 1797 г.: вокруг Александра образуется кружок «молодых друзей» (который с 1801 г. будет иметь важное правительственное значение). Близость с Чарторыйским, усилившаяся в последние месяцы екатерининского правления, дополняется «союзом четырех». Еще в Петербурге, вскоре после воцарения Павла, как вспоминает Чарторыйский, «я говорил с великим князем о моих двух друзьях (Новосильцове и Строганове); он уже отличил графа Павла Александровича Строганова; я ему сообщил, что их убеждения сходятся с его взглядами, что можно положиться на их преданность, скромность, что они желают его видеть неофициально, предложить ему свои услуги и выяснить себе, каким образом действовать сообразно его великодушным намерениям, когда настанет к тому время. Великий князь согласился посвятить их в свои тайны и приобщить к своим замыслам» (с. 170).
Трудно определить, чья инициатива была тут сильнее: Александра или Чарторыйского? Хотя последний в записках, составленных много лет спустя, принижает свою роль и даже пытается трактовать то, что тогда происходило, с некоторой иронией бывалого человека, вспоминающего «грехи молодости», тем не менее для 1796–1797 гг. эти потаенные разговоры были немалой крамолой. Инициатива была обоюдной, но кн. Адам, как видно, явился силой организующей. Каковы же были замыслы, к которым хотел приобщить своих друзей наследник? В цитированном выше письме Лагарпу они изложены так: «Вам уже давно известны мои мысли, клонившиеся к тому, чтобы покинуть свою родину. В настоящее время я не предвижу ни малейшей возможности к приведению их в исполнение, а затем и несчастное положение моего отечества заставляет меня придать своим мыслям иное направление. Мне думалось, что если когда-либо придет и мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания себя я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкою в руках каких-либо безумцев» (с. 163).
15 марта — 3 мая 1797 г.: коронационные торжества в Москве. Здесь на глазах Александра произошел «малый переворот» — смена при царе клана Куракиных кланом Лопухиных, обострение того фаворитизма, о котором говорилось в письме к Лагарпу. Не одобрял наследник и умаления прав своей матери, и массовой раздачи государственных крестьян при коронации, и откровенной демонстрации прав императора как главы церкви (когда 29 апреля Павел командовал парадом в далматике[131] и короне), и особенно ограничение Жалованной грамоты дворянства (13 апреля была подтверждена возможность телесных наказаний дворян вместе с лишением сословных прав). Тогда же, вероятно, под прямым впечатлением деклараций и действий Павла во время коронации, наследник просит Чарторыйского составить манифест на случай возможного вступления его самого на престол. Кн. Адам утверждает, будто он долго отказывался, но Александр настаивал.
Чарторыйский вспоминает: «Чтобы его успокоить, я наскоро составил, как умел, проект прокламации. То был ряд рассуждений, в коих я говорил о неудобствах образа правления, существовавшего дотоле в России, и о всех выгодах другого, который Александр намеревался ей даровать, о благодеяниях свободы и справедливости, которыми ей предстояло пользоваться по устранении стеснений, препятствовавших ее благоденствию, и, наконец, о решимости его, по совершении сего высокого подвига, сложить с себя власть, дабы тот, кто будет признан наиболее ее достойным, мог упрочить и усовершенствовать начатое им великое дело. Мне незачем объяснять, в какой степени все эти прекрасные рассуждения, эти фразы, которые я старался, по мере возможности, связать одну с другою, были малопригодны в применении к действительности. Александр был в восторге от моего труда, который воспроизводил занимавшую его тогда фантазию, ибо, желая составить счастие своего отечества, как сам он понимал его в то время, он вместе с тем хотел сохранить за собою свободу отделаться от власти и от положения, коих опасался и которые ему не нравились, дабы поселиться спокойно в тихом уединении, где бы он мог издалека и на досуге наслаждаться содеянным им добром. Александр с великим удовольствием положил бумагу в карман и горячо благодарил меня за мою работу. Это успокоило его относительно будущего. Ему казалось, что, заперев эту бумагу в свое бюро, он лучше будет подготовлен к событиям, которые могли быть нежданно вызваны судьбою: странное и почти невероятное следствие иллюзий, мечтаний, коими утешает себя юность даже при обстановке, в которой опыт преждевременно охлаждает душу! Я не знаю, что сталось с этой бумагою» (с. 166–167).
Верность рассказа Чарторыйского подтверждается почти текстуальным совпадением его с письмом Александра Лагарпу от 27 сентября 1797 г.[132] Говоря о «даровании стране свободы», Александр замечает: «Это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законной властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена и нация избрала бы своих представителей» (с. 163). Вот дань будущего царя боязни, переполнившей его при мысли о судьбе Людовика XVI, казненного французами.
Апрель 1797 г.: тайные совещания Александра с новыми «молодыми друзьями»: гр. Н. Н. Новосильцевым, гр. П. А. Строгановым и, конечно, Чарторыйским. Вероятно, московские празднества позволяли более безопасно уединяться под благовидным предлогом от глаз сыщиков. Чарторыйский помнит, что на московских свиданиях Новосильцов прочитал какую-то записку, где «изложил общий взгляд на предмет, не касаясь основательной разработки частностей, относящихся к различным отраслям государственного управления. Эту дополнительную работу предстояло еще исполнить, но она никогда не была сделана. Великий князь выслушал, однако, внимательно и с удовольствием чтение сжатого очерка обязанностей главы государства и предстоящих ему трудов. Он заключался в удачно составленном обзоре и общих выводах, могущих служить основанием счастья народов, с присовокуплением плана главнейших мероприятий. Автор ввел в свой труд красноречивые обращения к великодушному и патриотическому сердцу августейшего слушателя. Новосильцов умел изящно излагать свои мысли на русском языке; стиль его отличался ясностью и, как мне казалось, звучностью. Великий князь осыпал его похвалами и заявил ему и графу Павлу Александровичу [Строганову], что он усваивает себе начала, высказанные в записке, которые совпадают с его собственными взглядами. Он убеждал Новосильцова закончить начатый труд и затем передать ему, дабы он имел возможность обдумать его содержание и впоследствии применить теорию на практике» (с. 170).
Как видно, Новосильцов прочитал нечто вроде программного введения к будущей конституции. Чарторыйский не помнит или не хочет говорить о деталях, тем более что в этом месте своего повествования он сетует на усиление русской, патриотической точки зрения в их кружке с приходом Строганова и Новосильцова. Вопрос о польской независимости, первостепенно важный для кн. Адама, теперь отодвигается на второй план. Письмо же Лагарпу, как и прежде, прекрасно конкретизирует рассказ Чарторыйского и позволяет узнать, что было в записке Новосильцова и о чем толковала «четверка»: «Мы намереваемся в течение настоящего царствования поручить перевести на русский язык столько полезных книг, как это только окажется возможным, но выходить в печати будут только те из них, печатание которых окажется возможным, а остальные мы прибережем для будущего; таким образом, по мере возможности положим начало распространению знания и просвещению умов. Но когда придет и мой черед, тогда нужно будет стараться, само собою разумеется, постепенно образовать народное представительство, которое, должным образом руководимое, составило бы свободную конституцию, после чего моя власть совершенно прекратилась бы, и я, если Провидение благословит нашу работу, удалился бы в какой-нибудь уголок и жил бы там, счастливый и довольный, видя процветание своего отечества и наслаждаясь им» (с. 164).
Известно, впрочем, что Новосильцов и Строганов постоянно боролись с «эгоистической склонностью» Александра к уходу в частную жизнь после «дарования свобод». Чарторыйский же, видимо, обсуждал эту тему деликатно и льстил самолюбию цесаревича, уже не отличавшего своих истинных намерений от благородно-сентиментальной позы. Итак, вокруг Александра и при его участии оформлялась определенная политическая программа. Складывалась ситуация, в которой при всей ее умеренности ясно видна конспиративная сторона: во-первых, само ожидание перемены власти, подготовка к следующему царствованию были в том контексте потенциальным элементом заговора; во-вторых, мысль о переводе «полезных книг», из которых часть, и может быть большая, не дойдет до печати, объективно относится уже к тайной рукописной пропаганде, пусть среди узкого круга, но подлежащего расширению, так как сама цель такого издания — «просвещение умов». Между прочим, интерес наследника и его окружения к «Санкт-Петербургскому журналу» И. И. Пнина и А. Ф. Бестужева (отца будущих декабристов), издававшемуся в 1798 г., легко находит место в системе тех просветительских планов, о которых только что говорилось[133]. В-третьих, идеи «четверки» отличаются от официально принятых: из французских событий не делаются те выводы, к которым пришел царь: наследник ратует не за резкое, павловское, усиление централизации, а скорее за умеренный вариант французских перемен (без упоминаний о том обстоятельстве, о котором Александр начнет затем постоянно размышлять: о страхе, что события, как и во Франции, перехлестнут умеренно-конституционный барьер и поведут дальше).
Если молодой Павел, как известно, связывал свое будущее с конституционными гарантиями (проекты бр. Паниных — Д. И. Фонвизина), то события 1789–1794 гг. во Франции отбили у него охоту к поискам подобных реформ. Александр же, не сходясь с отцом, не соглашался полностью и с «бабушкиным отвращением» к французской конституции. Еще в 1792 г. он весьма сочувственно интересуется французской «Декларацией прав» и другими революционными документами[134], а весной 1796 г., «осуждая ужасные крайности революции», — Французской республикой, то есть режимом Директории: умеренно-либеральные политические формы представлялись Александру и его друзьям надежной гарантией против «крайностей».
В наивно-незрелой форме, навеянной просветительством XVIII в., а также прямым государственным расчетом, члены «четверки», размышлявшие весной 1797 г. о судьбах страны, представляют себе будущие перемены по легкой умозрительной формуле (просвещение готовит умы к свободе, и затем свобода дается стране!).
Однако реальный политический вес наследника и его приближенных создавал объективно ситуацию заговора, потенциального переворота, пусть и направленного, по словам Александра, к тому, чтобы «не допустить Россию сделаться игрушкою в руках каких-либо безумцев». Добавим к четырем «конспираторам» пятого — вел. кн. Елизавету Алексеевну, которая, без сомнения, многое знала и разделяла основные идеи мужа и его друзей. Александр в 1796 г. пишет Чарторыйскому: «Супруга моя — поверенная во всех делах» (с. 116), Кочубею: «Мысли жены совершенно согласны с моими» (с. 114). Как раз летом 1797 г. она заводит, вероятно, для потаенных дел мужа и его друзей, секретную переписку со своей матерью, принцессой Баденской, как опытный конспиратор, пользуется молоком вместо чернил и советует родным: «Вместо того, чтобы держать письмо над огнем, можно также посыпать его угольным порошком; это делает видимым написанное, и таким образом можно писать с обеих сторон»[135].
Одно из первых посланий Елизаветы Алексеевны от 27 июня (8 июля) 1797 г. говорит само за себя и по духу, и по контексту, в котором упоминается Павел: «Это уже кое-что — иметь честь его не видеть. Правда, мама, этот человек мне противен, даже когда о нем только говорят, а его общество мне еще противнее, когда каждый, кто бы он ни был, сказавший в его присутствии что-нибудь, что имело несчастье не понравиться Его Величеству, может ожидать от него грубость, которую надо терпеть. Поэтому я Вас уверяю, что за исключением нескольких офицеров народ в массе его ненавидит… Представьте себе, мама, он велел бить однажды офицера, наблюдающего за припасами на императорской кухне, потому что вареная говядина за обедом была нехороша! Он приказал бить его у себя на глазах, и еще выбрал палку потолще! Он велел посадить человека под арест; мой муж ему доказывает, что он невиновен, а виноват другой! Он ему отвечает: „Все равно! Они поладят между собой…“ Вот образчик всяких мелких историй, происходящих ежедневно. Потому-то я невестка самая почтительная, но в действительности вовсе не нежная. Впрочем, ему безразлично, любят ли его, лишь бы его боялись. Он это сам сказал»[136].
Александр не имел в то время ни намерения, ни возможностей отстранить отца от власти, хотя мысль о том, что это было бы хорошо, сама собою вытекает из взволнованного описания им русских дел в письме Лагарпу. Наследник — не прямой заговорщик. Но, отчасти сознавая это, а отчасти независимо от своей воли, делается центром притяжения антипавловских сил: молва о нем как о мягком заступнике распространяется быстро; представление многих окружающих о его взглядах на вещи также довольно отчетливо. «Три друга» не проговариваются, но им трудно, невозможно скрыть от всех тон, стиль и дух «просвещенных преобразований», который они исповедуют. Именно эти настроения, очевидно, имеет в виду Чарторыйский, когда пишет, что «еще в 1797 году, до моего отъезда из Петербурга, среди придворной молодежи считалось признаком хорошего тона критиковать и высмеивать действия Павла, составлять на его счет эпиграммы и вообще допускать такие вольности, которые при этом говорились почти во всеуслышание. Это была государственная тайна, которая доверялась всем, даже женщинам и юным щеголям общества, и между тем никто не проговорился, никто эту тайну не выдал. И это при монархе столь подозрительном и недоверчивом, каким был Павел»[137].
Что-то все же просачивается к царю по агентурным каналам. «Великий князь Александр ненавидит отца, — замечает проницательный Ф. В. Ростопчин, — великий князь Константин его боится; дочери, воспитанные матерью, смотрят на него с отвращением, и все это улыбается и желало бы видеть его обращенным в прах»[138]. В этом-то контексте распространяется слух о «беде во дворце» и происходят два важных эпизода в Павловске.
4 августа 1797 г. императрица Мария Федоровна говорила фрейлине Е. И. Нелидовой, явно передавая слова самого царя: «Между нами говоря, моя милая, пока еще не выяснено, что было причиной тревоги. Вчера сыновья рассказали мне, что в нескольких полках ее ожидали с утра… Сказать по правде, дитя мое, мне это не нравится. Я подозреваю, что какой-нибудь шалопай захотел поразвлечься. Это наводит на размышления. Не надо приучать солдат к мысли о тревоге: дворец не должен быть похож на место сбора войск, так как в этом случае трудно уберечься от беспорядков; я знаю, например, что они поднялись на гору возле ограды с ружьями наперевес; если бы они не увидели императора на лошади, они проникли бы в сад, думая, что что-то произошло: беда во дворце…[139]. Офицеров отталкивали, сбивали с ног, два офицера и несколько солдат ранены. Все это — следствие усердия, но такие происшествия могут стать опасными, и я бы хотела, чтобы было запрещено трубить тревогу даже из-за пожара, не получив на это личного приказа императора… Масса хороша, верна, привязана, но кто может сказать, что среди них нет подозрительных личностей… Император вел себя прекрасно; похвалив войска, их усердие, их привязанность, он очень тонко избежал вопроса о причине тревоги, но таких случайностей надо в будущем избегать»[140]. Не прошло, однако, и двух дней, как последовала вторая тревога: опять прибежали гвардейцы. Царь же объявил, что первый офицер, который посмеет вывести войска без его приказа, будет тотчас разжалован в солдаты. И снова императорское семейство, хоть и обрадованное проявлением «верноподданнических чувств», озабочено самой возможностью таких тревог.
Третья тревога, совершенно похожая на первые две, происходит через несколько месяцев, 11 декабря 1797 г., уже в Петербурге… Возможно, причины «шума» были случайными, но не случайными были нервная напряженность и ожидание. Одна из придворных дам помнит: «Толки в обществе и при дворе (которые с самого начала этого царствования приняли такое направление, что можно было предчувствовать конец его) постарались объяснить совершенно иначе это событие»[141]. На другой день после «первого шума», 4(15) августа 1797 г., Елизавета Алексеевна написала, а затем сумела передать своей матери следующие откровенные впечатления, которые были преданы гласности только в начале XX в.: «Я, как и многие, ручаюсь головой, что часть войск имеет что-то на уме или что они, по крайней мере, надеялись получить возможность, собравшись, что-либо устроить. О! Если бы кто-нибудь стоял во главе их! О, мама, в самом деле он тиран!»[142] Естественно, речь идет здесь не о народных массах: дворянская верхушка беспокоилась за собственную судьбу. Налицо уже не пассивное недоброжелательство к царю: надежда и ожидание, что «кто-нибудь» станет «во главе их»; может быть, косвенный упрек мужу, что он еще не «во главе»; ожидание переворота. Через три дня после гибели Павла, 14(26) марта 1801 г., Елизавета напишет, что «вздохнула вместе со всей Россией»; что всегда желала, чтобы «несчастная страна чувствовала себя свободной любой ценой» и что давно ощущала «угрозу всеобщего восстания»[143].
Лето и осень 1797 г.: усиление подозрений Павла насчет сына и его друзей. Под угрозой серьезной опалы оказывается Новосильцов «вследствие независимости его поведения и тех мнений, которые ему приписывали» (с. 171). Павел охотно соглашается на отправку в Англию подозрительного друга наследника, и Новосильцов до 1801 г. находится в Лондоне, очевидно, располагая (как это видно из его переписки с С. Р. Воронцовым) конспиративным каналом связи с Александром. Отправляясь в путь, он берет с собой то письмо Лагарпу от 27 сентября 1797 г., к которому мы уже обращались: Александр приглашает своего воспитателя стать пятым или, если иметь в виду Елизавету, шестым соучастником тайного дела: «Мы будем даже достаточно счастливы и тем, если Вы не откажетесь передать нам Ваши советы через г. Новосильцова, который в свою очередь может сообщить Вам множество сведений на словах. Это отличный молодой человек и притом очень образованный и особенно хорошо знающий свое отечество: я поручаю его Вашему вниманию, мой дорогой друг. Ему поручено, с нашей стороны, об очень многом расспросить Вас, в особенности о роде того образования, которое Вы считаете наиболее удобным для прививки и его дальнейшего распространения и которое притом просветило бы умы в кратчайший промежуток времени. Вопрос этот имеет громадное значение, и без разрешения его немыслимо приступить к делу… Я предоставляю г. Новосильцову сообщить Вам много других подробностей на словах. Дай только бог, чтобы мы когда-либо могли достигнуть нашей цели — даровать России свободу и предохранить ее от поползновений деспотизма и тирании. Вот мое единственное желание, и я охотно посвящу все свои труды и всю свою жизнь этой цели, столь дорогой для меня» (с. 164). Разумеется, речь шла тут о дворянской свободе, понимаемой в узкоклассовых интересах.
Конспиративные связи Александра не ограничиваются кружком молодых его друзей. Возможно, отношения с генералом А. А. Аракчеевым имели доверительную сторону, выходившую за пределы павловского надзора: ведь именно Аракчееву Павел вскоре после восшествия на престол поручил надзор за сыном, «бабушкиным баловнем». Однако хитрый фаворит не желал портить отношений с будущим царем. Письма Александра Аракчееву, относящиеся к августу 1797 г., маскируют истинные намерения царевича (достаточно положить рядом его послание Лагарпу) и в то же время выявляют дружеские, откровенные связи с доверенным лицом Павла, то есть такие контакты, которыми царь был бы недоволен. «Теперь я должен, — пишет Александр, — твое желание исполнить и сказать тебе, что меня очень хорошо сегодня приняли (у Павла. — Н. Э.) и ничего о прошедшем не упоминали; еще вчерась мне милостивые отзывы были чрез мою жену, как, например, чтобы я не сердился на него и тому подобное. Впрочем, сие не переменяет моего желания идтить в отставку, но к несчастию, мудрено, чтобы оно сбылось» (с. 180).
Отъезд Новосильцова как бы завершил первую главу предыстории «большого заговора» 1801 г. — «малый заговор» 1797 г. Однако на том дело не остановилось. Следующее обострение поколебленной осенью 1797 г. конспирации связано с прибытием в июне 1798 г. в Петербург из Константинополя, где он был посланником, друга юности Александра и племянника канцлера А. А. Безбородко — князя В. П. Кочубея. Вероятно, Павел видел в молодом государственном деятеле средство воздействия и контроля за Александром, так как однажды вслух мечтал о сформировании дружеской «четверки» (царь, Безбородко, наследник, Кочубей). В 1798 и начале 1799 г. Кочубей был награжден высокими чинами и должностями, графским титулом. Однако, получив еще в 1796 г. цитированное выше письмо Александра, он теперь укрепляет связи с наследником, явно берет его сторону и начинает постоянно беседовать с ним и Строгановым «о желании видеть наше правительство устроенным на принципах здравого смысла» (с. 172).
Тогда-то, явно с согласия Александра, племянник запрашивает насчет переустройства России своего хитроумнейшего дядю, престарелого Безбородко. Пройдет восемь лет, и Кочубей подаст, уже императору Александру I, записку от 18 марта 1806 г. об учреждении министерств, где между прочим вспомнит о человеке, «которого большим умом, большими заслугами и большими видами Россия, конечно, тщеславиться может»; вспомнит и о том, как некогда Александру «угодно было между прочим, чтоб я склонил его заняться изложением на бумаге мыслей его об управлении государством, к чему было, как известно Вашему Величеству, он и приступил»[144]. Названная записка Безбородко «О потребностях империи Российской», иначе «Записка для составления законов российских», была опубликована В. И. Григоровичем с ошибочной оценкой, будто она предназначалась для Павла I[145]. Шильдер же верно определил записку как документ нелегальный, адресованный наследнику и его кругу.
С огромной долей вероятия в секреты Безбородко был посвящен и ближайший к нему человек, земляк и протеже Д. П. Трощинский, в будущем один из министров Александра I. В мемуарной записке Ф. В. Ростопчина красочно описывается волнение Безбородко: «Просил он о Трощинском, который был его творение, и объяснил мне, что уже восьмой день, как подписан указ о пожаловании его в действительные статские советники, но не отослан в Сенат»; Ростопчин напомнил тогда Павлу о Трощинском, и просьба была удовлетворена[146]. Не исключено, что пером секретаря Екатерины II и был выполнен секретный проект 1798 г. Позже, в роковую для Павла I ночь с 11 на 12 марта 1801 г., именно Трощинский будет вызван Александром и подготовит сначала проект отречения Павла I[147], а затем, когда надобность в том отпадет, составит первый манифест нового императора с обещанием «управлять по законам и по сердцу августейшей бабки нашей». Роль Трощинского в 1801 г. была, видимо продолжением его деятельности, связанной с запискою «О потребностях империи Российской».
В конце 1798 — начале 1799 г. рукопись этого сочинения Кочубей передал Строганову, а тот — Александру. Наследник оказался, однако, не слишком-то доволен мыслями Безбородко и предпочел прежний проект Новосильцова. Между тем канцлер формулировал принцип просвещенной законности, то есть екатерининскую установку вопреки павловской: «Малейшее ослабление самодержавия повлекло бы за собою отторжение многих провинций, ослабление государства и бесчисленные народные бедствия. Но государь самодержавный, если он одарен качествами, сана его достойными, чувствовать должен, что власть дана ему беспредельная не для того, чтобы управлять делами по прихоти, но чтоб держать в почтении и исполнении законы предков своих и самим им установленные; словом, изрекши закон свой, он, так сказать, сам первый его чтит и ему повинуется, дабы другие и помыслить не смели, что от того уклониться или избежать могут» (с. 172). Безбородко практически сформулировал программу упорядочения государственного аппарата, реформы Сената и др., что было затем отчасти осуществлено в первые годы александровского правления.
Дворцовая интрига 1797–1799 гг. нашла определенное продолжение в провинции. В этой связи до сих пор остается много темного, например, в деле «смоленских вольнодумцев». По материалам следственного делопроизводства, частично сохранившимся, была воспроизведена довольно сложная, не всегда ясная, но крайне любопытная картина обширного антипавловского заговора[148]. Напомним вкратце главные обстоятельства: 25–30 офицеров и чиновников, в основном служивших в Смоленске или близ него, конспиративно соединяются в 1797 г. Иногда они называли свое общество «канальским цехом». В центре конспирации — полковник А. М. Каховский и его сводный брат, будущий известный военачальник, а в то время подполковник А. П. Ермолов. Среди связанных с ними лиц — несколько видных офицеров: командир Петербургского драгунского полка, квартировавшего в Смоленске, полковник П. С. Дехтерев, адъютант и управляющий канцелярией смоленского губернатора капитан В. С. Кряжев. Заговор питается ненавистью к Павлу и его режиму. Среди доносов и добытых позже показаний выплывают такие подробности, которые дают некоторое право видеть в этих людях «предшественников декабристов»[149]. 24 августа 1797 г. Кряжев пишет Каховскому: «Брут, ты спишь, а Рим в оковах». Читая Вольтерову «Смерть Цезаря», Каховский воскликнул: «Если б этак нашего!» — и якобы обратился к своему прежнему начальнику и покровителю А. В. Суворову, предлагая свергнуть Павла. Однако полководец «подпрыгнул и перекрестил рот Каховскому: „Молчи, молчи, не могу. Кровьсограждан“»[150]. Дехтерев был готов поднять свой полк против Павла.
Никаких программных документов о целях заговорщиков не сохранилось; известны только сведения об их интересе к сочинениям французских передовых мыслителей К. А. Гельвеция, П. А. Гольбаха, Ш. Л. Монтескье, а также о планах нарочитого роспуска ложных слухов с целью подрыва авторитета Павла I. Необходимо отметить и то не учитывавшееся прежде обстоятельство, что расцвет смоленской конспирации относится как раз ко времени «летних шумов» 1797 г. в Павловске и тайных совещаний вокруг наследника. С конца 1797 г. по «смоленскому делу» велось следствие, окончившееся отправкой около 20 человек в крепость, на поселение и под надзор. С восшествием же на престол Александра I Каховский, Ермолов и все их «однодельцы» были немедленно и полностью реабилитированы. Есть основания думать, что подсудимые «отделались» сравнительно легко, ибо их тайная защита шла из дворца. Только эта причина заставила ретивого следователя генерала Ф. И. Линденера умерить пыл. По приказу царя в ноябре 1798 г. дело было прекращено, сожжен обширный комплекс делопроизводства — результат пятимесячного следствия, производившегося в Дорогобуже. Несколько попыток Линденера расширить круг привлеченных лиц и уловить какие-то связи смоленских заговорщиков с военными и штатскими деятелями в других местах России пресекались, хотя лично руководителю следствия были видны контуры конспирации «от Калуги до литовской границы и от Орла до Петербурга»[151].
Кто же именно остановил и пресек следственное разоблачение? Прямые приказы Павла были порождены тонкой, точно направленной интригой, когда императора сумели убедить в опасности слишком широкого процесса и в недостаточной объективности следствия, преувеличивающего «якобинство» смоленского кружка и желающего поссорить «царя-рыцаря» с его армией. Среди случайно сохранившихся документов мелькают подробности и имена, относящиеся к вероятному контрманевру сильных защитников Каховского и Ермолова. Подбор имен и фактов представляется явно не случайным. Так, смоленский военный начальник генерал-майор П. Белуха поощряет заговорщиков, ссылаясь на свои связи «с Куракиным, Безбородкой, Трощинским»[152]. Попытки Линденера, получившего это показание, привлечь к следствию Белуху, как и смоленских вице-губернатора И. Ф. Мезенцева, губернского предводителя дворянства Н. Б. Потемкина и губернского прокурора X. С. Повала-Швейковского, не получили одобрения Петербурга. Лишь смоленский уездный предводитель дворянства Сомов, когда выяснилось, что он помог Каховскому «замести следы», был арестован, да и то вскоре освобожден «по ходатайству Трощинского и Г. Р. Державина»[153].
Линденер попытался еще вывести следствие на таких персон, как «екатерининцы» П. А. и В. А. Зубовы (у Дехтерева обнаружилась табакерка с их портретом), но и тут был остановлен. Он жаловался на очевидные действия в пользу арестованных чиновника тайной экспедиции Фукса («не смея назвать более важных лиц»)[154]. В числе сильных доброжелателей, передающих нужные сведения семье Каховских, находился и молодой, но уже набиравший силу М. М. Сперанский. Как видим, еще в конце XVIII в. завязывался узел, внутри которого соединились очень многие из тех, чьи имена весьма громко зазвучали в начале XIX в.
Хронологическое совпадение «дела Ермолова и Каховского» с «петербургскими заговорами» 1797–1799 гг.; обширные связи заговорщиков, выходящие далеко за пределы западных губерний; несомненная помощь, полученная ими в трудные дни от сильных людей в столице; повторяющиеся упоминания о Трощинском и постоянная связь его с Безбородкой — все это позволяет связать «шумы» и смоленские дела с петербургскими. Активность кружка «Каховского и Ермолова» росла на фон е коронационных торжеств, которые разжигали страсти и в кружке наследника. Поездка Павла по западным губерниям, последовавшая после московских празднеств (май 1797 г.), укрепила оппозицию в Смоленске и других местах, образовав не вполне видимую ныне связь между разными очагами недовольства. Отметим также, что в Смоленске Павел был как раз вместе с наследником, Безбородкой и другими «конспираторами 1797 года».
Мы далеки от мысли видеть в конспирации 1797–1799 гг. сложившееся «тайное общество», различаем разнородность лиц и пестроту программных формулировок — от «цареубийственных деклараций» смоленских заговорщиков до умеренно-конституционных или просветительских формул при дворе, да еще с немалой дозой лицемерия, нацеленного на использование недовольства в личных интересах. Однако нельзя также игнорировать и некоторое единство устремлений противников Павла. Субъективные их пожелания дополнялись к тому же мощным объективным фактором — нараставшим дворянским сопротивлением.
Но к 1799 г. первая волна антипавловской конспирации пошла на убыль. Царь перешел в наступление и фактически разгромил кружок Александра, оставив наследника в почти полной изоляции. Эта контратака тоже может быть причислена к списку малых, скрытых переворотов и контрпереворотов, являвшихся обычной чертой той эпохи. В апреле 1799 г. Безбородко умер, находясь уже в опале. Резко возросла роль циничного Ростопчина, который немало сделал для организации контратаки. Уход Безбородки вызвал немедленную отставку Трощинского и ухудшил положение вице-канцлера Кочубея. 8 августа 1799 г. его уволили от службы, которую он, правда, нес еще некоторое время, пока не приехал из Берлина его преемник Н. П. Панин.
В это же время разыгралась острая придворная интрига против жены и друзей Александра. Сначала, когда Баденское маркграфство проявило понятную робость перед мощным давлением Французской республики, Павел 26 февраля 1799 г. велел прервать всякие отношения великой княгини с ее родителями и отдал приказ (позже отмененный) о перлюстрации ее писем. Вскоре Павлу намекнули, что новорожденная внучка, вел. княжна Мария Александровна (дочь наследника и Елизаветы, родившаяся 18 мая 1799 г. и прожившая чуть больше года), на самом деле дочь Чарторыйского. Последовали унизительные для Елизаветы допросы при свидетельнице: «Войдя в комнату, где обыкновенно дожидалась его великая княгиня, император, не говоря ни слова, взял за руку великую княгиню Елизавету, повернул ее так, что свет падал на ее лицо, и уставился на нее самым оскорбительным образом. Начиная с этого дня, он не говорил с ней в течение трех месяцев»[155]. Елизавета терроризирована, Чарторыйский удален и 12 августа 1799 г. назначается послом в Сардинское королевство, причем ему рекомендовали ускорить отъезд и не посещать по дороге собственного отца, жившего в имении. Тогда же Павел «предал анафеме» Лагарпа, возглавившего республиканское правительство Швейцарии, приказав русскому командованию в Италии и Швейцарии схватить при случае и доставить в Россию наставника Александра. Наследнику к 1799 г. временно не с кем стало вынашивать планы на будущее. Даже Аракчеев в 1798 г. попал в опалу, затем был возвращен, но в конце 1799 г. за злоупотребления по службе снова выслан в Грузино.
Факты конспирации наследника Павла I против отца противоречат бытующей в литературе легенде об идеализме Александра, втянутого якобы «против воли» в переворот 1801 г. «Именно с этой поры, — свидетельствует Чарторыйский о времени первого заговора, — Павла стали преследовать тысячи подозрений: ему казалось, что его сыновья недостаточно ему преданны, что его жена желает царствовать вместо него. Слишком хорошо удалось внушить ему недоверие к императрице и к его старым слугам. С этого времени началась для всех, кто был близок ко двору, жизнь, полная страха, вечной неуверенности»[156]. В принципе у царя имелись на то определенные основания. Об этом говорят события не осуществившегося заговора 1797–1799 гг.
Итак, первый дворцовый заговор против Павла не дал ощутимых результатов. Но в нем виден зародыш будущих событий. Следующий, уже успешный заговор связан с предыдущим разнообразными нитями. Кроме того, в 1797–1799 гг. закладываются некоторые основы будущей политики Александра I и кружка «молодых друзей».
Вопросы истории. 1981. № 1.

Записки Беннигсена
 В начале 1876 г. «Московские ведомости» извещали читателей, что «за границей остались мемуары генерала Беннигсена» и что теперь, через 50 лет после смерти генерала, они, по завещанию, будут напечатаны в Лондоне или Париже.
Эти строки попали на глаза престарелому сановнику А. В. Фрейгангу, который аккуратно их вырезал из газеты и 8 февраля 1876 г. отправил главному редактору журнала «Русская старина» Михаилу Ивановичу Семевскому. Фрейганг не верил московской газете и вспоминал по этому поводу события, случившиеся полвека назад на его глазах: как только пришло известие о смерти (на 82-м году) генерала Беннигсена — в его родовом имении Бантельн, в Ганновере, — русский посланник в Саксонии сразу же и, очевидно, по приказу свыше, «откомандировал к наследникам Беннигсена старшего секретаря посольства барона Барклая де Толли, чтобы забрать бумаги»; «я был тогда в Лейпциге, — поясняет Фрейганг, — и видел Барклая по возвращении в родительском доме»[157].
Больше никаких подробностей в этом письме не было, но автор намекал, что бумаги Беннигсена скорее не у его домашних, а в секретных архивах Петербурга…
Действительно, миновал 1876 год, затем еще несколько лет, но никаких записок Беннигсена не появилось, и у специалистов возникли подозрения: существуют ли вообще мемуары; и конечно, очень хотелось в это поверить, так как генерал Беннигсен — человек непростой, и ему было что рассказать любопытным потомкам.
В начале 1876 г. «Московские ведомости» извещали читателей, что «за границей остались мемуары генерала Беннигсена» и что теперь, через 50 лет после смерти генерала, они, по завещанию, будут напечатаны в Лондоне или Париже.
Эти строки попали на глаза престарелому сановнику А. В. Фрейгангу, который аккуратно их вырезал из газеты и 8 февраля 1876 г. отправил главному редактору журнала «Русская старина» Михаилу Ивановичу Семевскому. Фрейганг не верил московской газете и вспоминал по этому поводу события, случившиеся полвека назад на его глазах: как только пришло известие о смерти (на 82-м году) генерала Беннигсена — в его родовом имении Бантельн, в Ганновере, — русский посланник в Саксонии сразу же и, очевидно, по приказу свыше, «откомандировал к наследникам Беннигсена старшего секретаря посольства барона Барклая де Толли, чтобы забрать бумаги»; «я был тогда в Лейпциге, — поясняет Фрейганг, — и видел Барклая по возвращении в родительском доме»[157].
Больше никаких подробностей в этом письме не было, но автор намекал, что бумаги Беннигсена скорее не у его домашних, а в секретных архивах Петербурга…
Действительно, миновал 1876 год, затем еще несколько лет, но никаких записок Беннигсена не появилось, и у специалистов возникли подозрения: существуют ли вообще мемуары; и конечно, очень хотелось в это поверить, так как генерал Беннигсен — человек непростой, и ему было что рассказать любопытным потомкам.
«Длинный кассиус»
Это насмешливое прозвище Левина Августа Теофила Беннигсена появится в одной примечательной записи очень знаменитого человека. Но о том — чуть позже… Прежде чем заслужить такое внимание, граф прожил несколько нескучных десятилетий. С гравированного портрета работы Больдта глядит лик невозмутимый, лукавый, и если следовать распространенному увлечению того века — физиогномистике, точнее так называемой «носологии» — то по одному этому крупному парусообразному носу можно было бы, пожалуй, кое-что вычислить, конечно, не все, — но очень многое… Первые 28 лет — в Германии. Семилетняя война, замки, охота, а также — любовные и питейные проделки, кажется, настолько превысившие среднеевропейскую норму, что каким-то образом вызвали неудовольствие прусского короля Фридриха II… Прямого отношения к карьере молодого офицера это иметь не могло, так как он принадлежал не к прусской, а к ганноверской армии, — но Фридрих Великий был достаточно влиятелен, чтобы при желании испортить и не такую репутацию. В конце концов в 1773 г. двадцативосьмилетний подполковник королевско-ганноверской службы переходит в войско российской императрицы Екатерины II — чином ниже, премьер-майором в Вятский мушкетерский полк. Начинается российская служба Левина Августа Теофила, переименованного для благозвучия в Леонтия Леонтьевича; карьера, которой суждено продлиться почти полвека и пройти удивительными путями… Вопрос о национальности, если бы он был задан, затруднил бы и офицера, и его новых начальников: по предкам — немец; но подданство (которое он не сменил) — ганноверское, а так как в Лондоне правит ганноверская династия и королем Ганновера «по совместительству» является король Великобритании, то Беннигсен — англичанин; родной язык военного, на котором писаны почти все его сочинения, — французский; наконец, служба, карьера — российская. По правде говоря, в ту эпоху не нашли бы здесь ничего особенного. Феодальные понятия о вассале, сюзерене, службе еще крепко соперничали с национальными; и если позже польские повстанцы будут уверены в справедливости своей борьбы с Николаем I за национальную свободу, то царь и его окружение, исходя из тысячелетнего феодального принципа, будут обвинять поляков в нарушении обета верности, присяги своему монарху. Тем не менее четыре европейских начала — в одном премьер-майоре; да к тому же столь необычайный нос при столь твердом и хитром взоре — все это уж слишком явные черты одной из древнейших и до сих пор, как известно, не вымерших профессий — кондотьера, наемника, профессионала, готового сражаться за каждого и против каждого (даже само слово «кондотьер» идет Беннигсену: сходно с кондором — умной птицей с могучим клювом…). Трудно отрицать: таков он есть — Леонтий Леонтьевич… Поэтому, угадав кондотьера, попробуем лишь «вычислить» то, что дополняет, осложняет простую и ясную кличку. Кондотьер — не попадает в русскую армию, которая уже оживлена петровской реформой; в армию Суворова и Румянцева, войско национальное, одно из самых передовых по приемам и порядкам. Кондотьер — но не из случайных полуразбойников, а из старинного графского рода с большим зáмком и генеалогическим древом, корни которого — в XIII столетии. По этим ли или другим причинам, но вновь принятый ганноверский наемник принадлежит к типу людей, делающих свое дело точно, добросовестно, честно. Важное слово произнесено: мы никогда не узнаем, насколько Беннигсена в самом деле занимали Россия, русские дела… Но он перешел сюда на службу и будет среди других не худшим. Возможно, не столько для чужой земли, сколько для себя будет стараться, и не без успеха. Он — хороший профессионал, и в этом его гордость. Надо служить… К тому же Беннигсен ведь недавно овдовел. Двое дочерей остались у матушки в Ганновере, состояние раздроблено между разными ветвями старинной фамилии, а императрица Екатерина ведет войну за войной — в Польше, с Турцией, опять с Турцией, снова в Польше, с Персией — и везде удачи, и всюду есть где отличиться. В послужном списке Беннигсена[158] отмечено участие в нескольких знаменитых битвах и походах XVIII в., а также ряд все возрастающих по значению орденов. Правда, чин полковника получен только на сорок третьем году жизни, через 14 лет после начала российской службы. Зато еще через три года — бригадир; в 1794-м — генерал-майор… Как видно, фортуна пошла как раз на закате екатерининского царствования. Нужно думать, были оценены несомненные способности ганноверца — хладнокровие, храбрость; однако наверняка не обошлось без выгодных связей. Мы больше знаем, правда, о дружеском покровительстве, которое сам Беннигсен оказывал одному из своих подчиненных, выходцу из Голштинии Александру Борисовичу Фоку. Молодой майор, восемнадцатью годами младше своего генерала, очень понравился Беннигсену, возможно, сходством личных судеб или храброй распорядительностью… Мы запомним эту дружбу, во-первых, по ее прямой связи с загадкой Беннигсеновых записок; а, во-вторых, по связи двух имен с третьим, одним из самых могущественных: Зубов. Князь Платон Александрович, последний фаворит Екатерины II, тот, при котором всесильные генерал-губернаторы только после третьего приглашения усаживались на кончике стула, — заметил двух друзей (дело было после взятия Варшавы в 1794 г.) и отличил, привлек. В эту пору Беннигсен познакомился с немалым числом людей Зубова (как водится, вокруг фаворита и двух его братьев образовался широкий клан политически, финансово и служебно зависимых лиц). В их числе был, между прочим, ровесник Беннигсена, генерал из курляндцев Петр Алексеевич Пален — но кто же мог угадать исторические перспективы такого знакомства? Так или иначе, но улыбка Зубова стоила в те годы немало, и вот уже Александр Фок формирует по поручению временщика первые в русской армии конно-артиллерийские роты, Беннигсен же, как стало известно через сто с лишним лет, был вызван на секретное совещание к царице. Главнокомандующим в Кавказском походе против Персии становился родной брат фаворита Валерьян Зубов, в качестве же начальника штаба, то есть опытного помощника, наставника, присмотрели Беннигсена. Екатерина II обласкала генерала и открыла ему тайные мотивы Персидского похода (официальный повод — поддержка претендента на шахский престол): царица желала создания торговой базы в Астрабаде, на южном берегу Каспия, «чтобы повернуть к Петербургу часть индийской торговли, которая притягивается Лондоном»[159]. Поход сулил Беннигсену новые блага, и немалые. За взятие Дербента он получает очень высокий орден Анны первой степени; еще прежде стал владельцем больших (свыше тысячи душ) имений в Литве и Белоруссии, что оказалось весьма спасительным для семейных обстоятельств генерала: как и при вступлении в русскую службу, 23 года назад, он оставался вдовцом, правда, уже пережившим трех жен (от второй оставался сын, от третьей — еще две дочери, а всего уже пять детей, причем старшие начинали одаривать Беннигсена внуками). Сияющие перспективы рассеялись, однако, более стремительно, чем образовались. В последних числах 1796 г. курьер из столицы догнал углубляющуюся в Закавказье армию с вестью о новом царе Павле I. Первые же распоряжения сына Екатерины сулили начальству штаба грусть и печаль: поход прекращен, но приказы возвращаться на родину поступали прямо командирам отдельных частей, минуя главное командование, так что Валерьян Зубов и Беннигсен с удивлением и ужасом видят, как уходят на север вверенные им полки. В перспективе им двоим оставалось удерживать Дербент и Каспийское побережье… В 1797 г. они возвращаются в столицу, представляются. Беннигсен «по старшинству» получает даже чин генерал-лейтенанта, но вскоре отправляется в глухую отставку, в литовские имения — и, конечно, не случайно вылетает из службы в одно время со всеми Зубовыми, тоже разогнанными по своим деревням под строгий надзор местной власти (Павел одним росчерком пера, между прочим, лишил князя Платона 36 старых должностей!). Младший друг Александр Фок продержался чуть дольше, получил генерал-майора, но тоже против воли ушел в отставку 21 января 1800 г., правда, с разрешением, редко дававшимся, — проживать в Петербурге… Биография Беннигсена казалась законченной. Он на шестом десятке, в приличном чине, и вот-вот затеряется среди многих «званых и незваных», чьи имена известны только компетентным военным историкам. Записки… Вел ли их бывалый участник многих кампаний? Позже он обмолвился, что — записывал с восемнадцатилетнего возраста, то есть еще за десять лет до прибытия в Россию! Может быть… Однако за все годы русской службы вышло лишь одно сочинение Беннигсена: не очень складным немецким языком составленное назидание опытного воина под названием: «Необходимые офицеру легкой кавалерии сведения о военной службе и лошадях». Если б кто-либо представил почтенному Беннигсену (отбивающемуся в своих литовских владениях от нескольких нелепых судебно-финансовых дел) надежный гороскоп, свидетельствующий, что главные события его жизни впереди, — даже невозмутимый Беннигсен, вероятно, удивился бы немного, но виду бы не подал — только привычно повел бы славным своим генеральским носом… «Беннигсен, — записывает несколько лет спустя великий Гете, — длинный Кассиус вышел в отставку генерал-лейтенантом, пытается опять поступить на службу, получает отказ, собирается в понедельник 11 марта уехать, граф (Пален) удерживает его и отправляет к Зубовым»[160]. «„Длинный Кассуис“, — заметил С. Н. Дурылин, автор замечательной работы о Гете и России, — это, конечно, не только „прозвище“, но и целая характеристика Беннигсена»[161]. Кассий и Брут — убийцы Цезаря.
«Несообразные странности»
11 марта 1801 г., точнее в ночь на 12-е, генерал внезапно приобретает мировую известность особого рода. Кроме Гете, его заметит, запомнит Наполеон, и даже на острове Св. Елены, рассказывая близкому человеку о делах минувших, определит: «Генерал Беннигсен был тем, кто нанес последний удар: он наступил на труп»[162]. Десятки послов, министров, а также других современников на разные лады говорят: Беннигсен — один из главных убийц Павла I. Полвека спустя К. Маркс и Ф. Энгельс отведут этому факту значительную часть статьи «Беннигсен», составленной ими для «Новой американской энциклопедии»[163]. Рассказы перемешиваются с легендами: несколько человек беседуют о происшедшем с самим «Кассиусом», и сразу или чуть позже записывают то, что слышат от него (знал бы Беннигсен, что пройдут годы, и эти рассказы можно будет положить рядом и сравнить!). В конце концов образовалась спасительная для генерала неясность. С одной стороны, почти все соглашались, что без Беннигсена дело не было бы доведено до конца; с другой стороны, не понимали, каким образом он, запертый в своем имении, опальный, вдруг столь эффектно прибыл к месту действия. Столкнулись два противоречащих друг другу образа. Хладнокровный организатор убийства и человек, который по авторитетному свидетельству декабриста генерала Михаила Фонвизина «во всю свою службу был известен, как человек самый добродушный и кроткий. Когда он командовал армией, то всякий раз, когда ему подносили подписывать смертный приговор какому-нибудь мародеру, пойманному на грабеже, он исполнял это как тяжкий долг, с горем, с отвращением, и делал себе насилие. Кто изъяснит такие несообразные странности и противоречия человеческого сердца!»[164] Сам же генерал быстро догадался, что 11 марта — не тот сюжет, которым можно хвалиться в царствование сына Павла, царя, явно причастного к заговору и оттого болезненно относящегося к истории страшной ночи… Беннигсен — среди тех, кто возвел Александра на престол, но генерал помнит, что «ни одно благодеяние не остается без наказания». Впрочем, пока что, в 1801 г., Леонтий Леонтьевич извлечен из отставки. Недоброжелатель его, писатель А. Ф. Воейков, вспомнит, как впервые увидел Беннигсена в «кремлевском дворце в день коронования императора Александра и с невольным почтением остановился пред этой величавой фигурой. Он был в общем генеральском мундире с Александровскою лентою и с Георгием на шее. Высокий, сухощавый с длинным лицом и орлиным носом, с видной осанкой, прямым станом и холодной физиономией, он поразил меня своею наружностью, между круглыми, скуластыми и курносыми лицами русских генералов и сановников»[165]. В это время Беннигсен получает следующий чин — генерала от кавалерии и отправляется к войскам в литовские губернии. Не в опалу, как другие руководители заговора, но все же подальше от столицы. У него опять есть время писать записки, а ведь к старым приключениям прибавилось новое, которое стоит всех прежних. Но пишет ли? Впрочем, новые главы биографии генерала будто специально делались для самых отменных мемуаров.
1801–1818
Для начала генерал-граф женится — в четвертый раз — на польской аристократке Марии Бутовт-Андржейкович 30 годами моложе его и производит на свет еще сына и дочь, причем седьмой и последний ребенок оказался на 47 лет моложе старшей дочери от первого брака. Обратившись к общественной карьере Леонтия Леонтьевича, мы находим тропу, взмывающую к облакам, затем низвергающуюся в пропасть, и — снова вверх, опять вниз… Впрочем, генерал спокоен и все на свете старается делать хорошо. Итак, 1801–1805. Служба и прозябание в Литве. 1805–1806. Наполеон побеждает под Аустерлицем, Иеной; движется в Польшу. Так как Кутузов в глубокой опале, царь нехотя приглашает командующим Беннигсена: Александр I мог, по крайней мере, не сомневаться в решительности этого и других заговорщиков 1801 г. Такое мнение об участниках заговора сохранялось у него и в дальнейшем. Зима 1806–1807. Апофеоз Беннигсена. О нем снова говорят во всем мире: выстоял против Наполеона при Эйлау; непобедимый император не победил. Александр I, императрица-мать Мария Федоровна в чрезвычайно лестных выражениях благодарят главнокомандующего. Через полгода под Фридландом Наполеон все же берет верх. Тильзитский мир — и в 1807–1812 гг. Беннигсен опять не у дел, в имении Закрет близ Вильны. Опять много времени, возраст уже — к семидесяти. Снова финал? Июнь 1812. Александр I приезжает в гости, бал для царя в Закрете (бал попадет в свое время на страницы «Войны и мира»). Посреди празднества приходит известие о вторжении Наполеона… Беннигсен возвращается в строй, ожесточенно спорит с Барклаем, не одобряя отступление; затем уезжает из армии, в Торжке встречает Кутузова, едущего принимать командование. Кутузов зовет с собою, Беннигсен возвращается к войскам, но вскоре начинает возражать и фельдмаршалу, упорствует на совете в Филях, правда, удачно действует при Тарутине, но — затем жалуется на «пассивность» Кутузова царю. Кутузов, в ответ, жалуется в Петербург на Беннигсена. В результате царь разрешает главнокомандующему выслать подчиненного. Кутузов не торопится, но на последнем, победном этапе кампании нападки Беннигсена усиливаются: он доказывает (и, по правде говоря, с ним согласны многие генералы и офицеры), что Наполеона можно и должно отрезать, окружить, что у французов слишком мало сил, чтобы уйти из России. Кутузов, однако, исходил из своей логики: не хотел удесятерять сопротивляемость Наполеона, загоняя его в совершенно безвыходное положение. Опасался нарваться на контрудар, полагая, что нужно как бы «эскортировать» тающую французскую армию до границы: «Сами пришли — сами уйдут». Сопротивление Беннигсена раздражает Кутузова. И тут он достает ранее полученную царскую бумагу: Леонтия Леонтьевича высылают. 1812–1813. Новая, уже четвертая опала. Сначала в Калуге, потом все в том же разоренном французами Закрете. Однако «властитель слабый и лукавый» не хочет и чрезмерного торжества Кутузова. Милость Беннигсену постепенно возвращается. 1813–1814. Беннигсен снова в действующей армии, войну завершает у Гамбурга. После 1814. Получает высочайшие ордена, огромную денежную награду; но видны уже и контуры пятой опалы. Леонтий Леонтьевич послан командовать армией на Украину и в Бессарабию. Он явно рассчитывал на большее. Устал… В 1818-м, на 74-м году жизни, просится в отставку. Царю пишет: «Прошу разрешить отъезд в мое прежнее отечество», в Ганновер (где только недавно скончалась его 90-летняя мать). Молодая жена, семеро детей в возрасте от семи до 54 лет, внуки и правнуки, награды и ценности, многолетний архив — все отныне сосредоточивается в отцовском замке Бантельн. И секретные мемуары, если они велись; записки о 1801, 1807, 1812-м и многих других любопытных датах.
«Бессмертные творения»
Это сочетание слов употребил в письме к Беннигсену его многолетний приятель, французский эмигрант на русской службе — генерал Ланжерон. «Мой многоуважаемый генерал! Взяв в руки Ваши бессмертные творения, нельзя от них оторваться, я читал и перечитывал <…> Вы слишком добры ко мне, и мы, смею сказать, слишком близки друг к другу, чтобы я стал говорить Вам пустые комплименты. <…> Советую Вам сшить по листкам каждое письмо, потому что легко могут затеряться отдельные листки. Бесспорно, мой журнал далеко не имеет того интереса, как Ваш, но я последовал Вашему приказанию и послал его Вам, чтобы Вы могли позаимствовать некоторые сведения»[166]. «Журнал» — это дневник, уже обработанный и превращающийся в записки. Ланжерон — сам известный мемуарист (и мы еще вспомним об этом) — получил для прочтения журнал своего начальника. Из текста видно, что Беннигсен составляет воспоминания в виде серии писем, очевидно, обращенных к кому-то. Понятно также, что речь идет о записках, посвященных минувшим войнам. Но может быть — не только войнам? О том, что Беннигсен пишет мемуары, знал не один Ланжерон. Кажется, хитрый ганноверец в определенную пору нарочно распускал слухи. Это бывало в годы опалы, когда требовалось искать пути к сердцу цареву и — к новому возвышению. В 1810-м — между двумя войнами с Наполеоном — Беннигсен, обращаясь к близкому другу, «льстит себя надеждой, что император прочтет мой труд с интересом»[167]. Другом был уже упоминавшийся А. Б. Фок, который в ту пору служил при военном министре Барклае и через его посредство легко мог передать записки Беннигсена в руки государя… Мог — и, кажется, передал (что и сыграло роль в очередном примирении Александра с Беннигсеном перед 1812 г.). «Мемуары-письма», о которых толкует Ланжерон, были письмами к Фоку, рассчитанными не только и не столько на Фока. Записки о двух войнах с Наполеоном должны были выдвинуть Беннигсена-полководца, а также, видимо, погасить упорные слухи, ходившие по Европе, будто генерал описал и самое щекотливое дело в своей жизни. Источник неприятных слухов был Беннигсену ясен: Наполеон, французская пропаганда. В Париже к Беннигсену-полководцу относились с достаточным признанием, и во время Тильзитского свидания Наполеон хвалил Александру его командующего (как обычно делал в отношении разбитых в конце концов генералов противной стороны)[168]. Разумеется, не по этой линии император Франции мстил генералу российской службы: Павел, вступивший с Наполеоном в союз, разорвавший с Англией, пославший уже казаков завоевывать Индию, — вот причина. Гибель Павла разрушила слишком много надежд Наполеона, чтобы он «простил» убийц. Когда в 1804 г. Александр возмутится расстрелом французами герцога Энгийенского, из фамилии Бурбонов, Наполеон пошлет ядовитейший ответ: если бы император Александр, узнав, что на чужой территории находятся убийцы императора Павла, пожелал бы этих убийц арестовать, то Наполеон не протестовал бы. Позже Александр I схватится за шпагу, услышав реплику пленного французского генерала Вандамма о грехе отцеубийства, лежащем на российском императоре… Имея все это в виду, мы поймем, отчего появление военных записок Беннигсена сопровождается (мы точно знаем по рассказам современников!) разными разговорами генерала о «несчастном дне 11 марта»; и как можно догадаться, «длинный Кассиус» не старался этими разговорами ухудшить свою репутацию. Так или иначе, но до современности доходили «мемуарные волны», причудливо отражавшие подъемы и спады Беннигсеновой карьеры. Только последние восемь лет жизни генерал мог, кажется, не беспокоиться…
1818–1826
Внучка генерала, Теодора фон Баркхаузен, в начале XX в., в возрасте около 90 лет, неплохо помнила деда, а еще лучше — фамильные предания о нем. Водворившись на покой в Бантельне, Беннигсен поддерживал форму — прогулками, верховой ездой, работой: «Дед работал каждое утро с моей матерью и теткой над мемуарами». Внучка признается, что содержание работы ее совершенно не интересовало — куда лучше запомнилась внешняя сторона: «Генерал в кресле, рядом тетка София фон Ленте с рукописью в руках. У матери другой экземпляр. Одна — громко читает текст, другая корректирует (очевидно, по копии), дед изредка перебивает, исправляет, дополняет»[169]. О том, что записки сразу создавались в нескольких экземплярах, сохранилось не одно свидетельство. Но о чем же вспоминал на досуге генерал? О прошлых войнах, кажется, письма уже написаны? Генералу и будущему известному историку Михайловскому-Данилевскому Беннигсен скажет, уезжая из России, что у него «целых семь томов „Les Mémoires de mon temps“»[170], начинающихся с 1763 г.[171] Слухи о них распространяются все шире, вместе с догадками о возможном сенсационном содержании. Этого оказалось достаточно, чтобы французские издатели предложили за текст 60 тысяч талеров… Дело было в 1826 г. Потомки помнили, как прибывали в Бантельн газеты, сообщавшие о восстании декабристов и суровом приговоре. «Эти новости очень волновали деда, и он о них часто говорил»[172]. Мы легко догадываемся, что волновало Беннигсена: прежде всего аналогия, и в то же время разница между «14 декабря» и «11 марта», тем заговором, где он был среди главных действующих лиц. Вряд ли генерал разобрался в событиях, вряд ли понял, что Рылеев, Пестель и другие (некоторые из них ему наверняка были известны лично) хотели не смены, а коренной перемены правления. Однако 1825 год бросал обратный исторический отсвет на 1801-й. Даже императрица-мать Мария Федоровна огорошила одного из собеседников своими соображениями, что поскольку ее сын Александр не мог покарать цареубийц 11 марта, ее младший сын Николай восполнит упущенное. Трудно сказать, не российские ли известия повлияли на здоровье Беннигсена. Родственники свидетельствуют, что он как-то разом слег — даже не болел, и 2 октября 1826 г. скончался[173]. Вот тогда-то вдова и получила предложение — продать мемуары за 60 тысяч талеров.
«Ко мне!»
Николай I писал эти два слова у заглавия тех документов, которые считал необходимым совершенно изъять из обращения (например, «Мемуары Екатерины II», обнаруженные в бумагах погибшего Пушкина). Мы снова находимся у той даты — 1826 г., — с которой начинали и от которой «Московские ведомости» отсчитывали 50 лет, ожидая обнародования секретных записок. Несколько рассказов о происшедшем сходятся в основе, но расходятся в любопытнейших деталях. Послушаем: 1. Михайловский-Данилевский (в 40-х годах знавший практически все о секретных архивах, но сделавший цитируемую далее запись еще в 1829-м): «Получив предложение 60 тысяч талеров, вдова обратилась за разрешением к посланнику в Гамбурге Струве и получила в ответ письмо министерства иностранных дел, предлагавшее отправить записки мужа в Петербург. Согласно этой версии, Марии Беннигсен обещали вернуть рукопись после прочтения, но вместо того выслали известную сумму, и дело на том кончилось»[174]. 2. Внучка Беннигсена (несомненно пользующаяся не только личными воспоминаниями, но и семейными бумагами): «Русский поверенный в делах господин Струве тотчас затребовал у вдовы от имени своего суверена мемуары ее мужа. Она не могла противиться желанию его величества и отослала обширные мемуары вместе со всеми документами, составлявшими приложения к ним»[175]. Вдова получила за это большую пожизненную пенсию, добавляет другой потомок-комментатор. «К счастью, София фон Ленте, одна из дочерей генерала, была настолько предусмотрительна, что сняла копию со всех наиболее интересных частей мемуаров»[176]. В дополнение к этим сходным в основе рассказам следует привести выразительный документ (скопированный Н. К. Шильдером): уже упомянутый Струве 15/27 января 1827 г. спрашивает свое правительство, следует ли остановить издание записок Беннигсена, которое, по слухам, готовится во Франции? На документе собственноручная резолюция Николая I: «Il faut faire» («Это нужно сделать»)[177]. Казалось бы, тема исчерпана, но имеется еще один вариант: 3. Рассказ, многократно осмеянный как весьма недостоверный. Он появился в Германии в 1875 г. (автор — некая Ида фон Нойенбург-Барфельде). Дядя автора, близкий друг Беннигсена в последние годы его жизни, получил на прочтение секретные записки генерала об убийстве Павла: «Незадолго до смерти генерал заверял друга со всей определенностью и уверенностью умирающего, что никакое убийство не отягощает его душу»[178]. Позже, в начале 30-х годов — если верить Иде фон Нойенбург — в ганноверском имении появляются двое русских: некие Грузинский-Соловьев и Кайданов; поскольку госпожа Беннигсен в ту пору помогала польским противникам Николая I, многие решили, что двух русских преследует царская полиция. Через некоторое время они были приняты в доме Беннигсенов, пировали, жуировали, наконец, получили на короткое время секретные рукописи и — исчезли с ними… Недостоверность этой истории, по мнению нескольких комментаторов, ясно доказывается двумя предшествующими рассказами: если российские дипломаты отобрали мемуары в 1827 г., то российской полиции незачем было красть эти записи несколько лет спустя. Возможно, что и так… Но копии, те копии, что так предусмотрительно сняла дочь Беннигсена? Желание Николая I получить все, чтобы в Бантельне ничего не оставалось, сомнений не вызывает. Отсюда, сам слух, даже если он неверен, весьма показателен. К тому же могла быть действительно предпринята агентурная проверка тех бумаг, которые Беннигсены не сдали (отметим в этой связи странную путаницу в именах русских дипломатов, участвовавших в том деле: одни свидетельства указывают на посольство в Дрездене, посла Ханыкова и секретаря Барклая де Толли; другие же документы говорят об участии гамбургского посланника Струве). Причина особых волнений Петербурга абсолютно ясна: Павел I. И без этой особой причины власти постарались бы взять под контроль бумаги умершего крупного деятеля: так обычно делалось. Однако боязнь документальных разглашений одного из самых зловещих секретов российской истории (убийство царя-отца, в сущности, с ведома наследника-сына) была свойственна как Александру I, так и другому сыну убитого — Николаю I. Как раз в эти годы таинственно исчезают важнейшие бумаги, которые могли бы пролить свет на всю загадочную (несмотря на отрывочные заграничные публикации) историю. Еще за два года до смерти Александр I, по сообщению декабриста С. Г. Волконского, послал трех доверенных лиц изъять бумаги умершего Платона Зубова (среди сохранившихся документов Зубова в Центральном государственном архиве древних актов — только рукописи екатерининских времен). Понятно, что все более позднее изъято и, вероятно, уничтожено после высочайшего просмотра. В 1826 г. почти одновременно с Беннигсеном скончался в своем курляндском поместье глава дворцового заговора 1801 г. П. А. Пален. Вскоре при Петербургском дворе появился документ, где важный придворный чин граф Медем объявлял недействительными все возможные сочинения об убийстве Павла I, авторы которых ссылаются на свидетельства деда Медема, графа Палена. Поскольку это объявление хронологически следует сразу за смертью Палена, надо думать, ему предшествовало изъятие подозреваемых бумаг; во всяком случае, местонахождение архива П. А. Палена до сих пор неизвестно. Беннигсен был третьим «столпом» того, старого заговора, и Петербург не шутя интересуется его архивом. Бумаги получены и вывезены либо для секретного хранения, либо для уничтожения… Проходят годы, десятилетия. События 1801, 1812, 1825-го все дальше, но по-прежнему злободневны, Пушкин сказал бы — «животрепещущи, как вчерашняя газета». Вдруг, в 40-х годах французский историк Тьер публикует поражающе точные подробности гибели Павла — между прочим, не скрывая, что его информатор заимствовал сведения у Палена и Беннигсена… Только много позже догадались, что Тьер прочитал бумаги Ланжерона, того генерала, который восхищался записками Беннигсена, сам вел «журнал» и, конечно, не пропустил рассказов своего старшего друга о знаменитой ночи с 11 на 12 марта 1801 г. Еще через 20 лет Герцен в своей Вольной типографии печатает другой замечательный рассказ, тоже записанный за Беннигсеном: как выяснилось, мемуары злого, остроумного, странного литератора пушкинской поры Александра Воейкова… Наконец, в Германии маститый историк, знаток России (некогда служивший в прусском посольстве в Петербурге) Теодор фон Бернгарди, рассуждая о разных делах, связанных с гибелью Павла, как бы вскользь замечает, что об этом «нет никаких подробностей ни в рукописных воспоминаниях Беннигсена, ни в заметках других осведомленных участников»[179]. Таким образом, вместе с рассказами слышавших появляются впечатления читавших… Когда же через 50 лет после кончины Беннигсена воскресла надежда — прочесть, наконец, те злополучные записки, — возникло, как помним, разномыслие: где они находятся, в Ганновере у потомков или в России; в семейном архиве в Бантельне или в Государственном архиве в Петербурге? Однако «длинный Кассиус» обманул и пожелал явиться потомкам из третьего потаенного места.
Сорок два письма
Открыватель — дотошный чиновник государственной канцелярии Петр Михайлович Майков (родственник знаменитого поэта). Время действия — 90-е годы прошлого столетия. Место — семейный архив обширной фамилии Фоков; уже одним этим сказано многое. Борис Александрович Фок и его родня — внуки и правнуки того генерал-майора, который почти всю жизнь дружил с Беннигсеном. Что Леонтий Леонтьевич отправлял письма-мемуары А. Б. Фоку, было смутно известно и прежде. Но что письма сохранялись в семье адресата почти столетие спустя — вот это была неожиданность. Отчего же семья Фок раньше не обнародовала важных бумаг? Скорее всего потому, что автор их не был в большой чести у российских историков: во-первых, из-за щекотливой «непечатной» темы о Павле I; во-вторых, из-за устойчивой репутации интригана, мешавшего Кутузову… Слишком близко все было, и многие из живых свидетелей могли начать нежелательную для письмовладельцев дискуссию. К 90-м годах последних ветеранов Отечественной войны не стало, и чуть приутихли старые исторические страсти, уступая место новым. Тем не менее Майкову было непросто опубликовать сочинения столь сомнительной исторической личности, к тому же самой неясной национальной принадлежности. В течение нескольких последних лет XIX и в первые годы XX в. в журнале «Русская старина» и в других повременных изданиях были напечатаны — однако неполно, с немалыми купюрами — мемуары Беннигсена в виде его писем к Фоку. И тут, после первых публикаций, произошло давно ожидаемое: перед Майковым открылись фон ды архива военного министерства, где лежали бумаги Беннигсена, очевидно, те самые, которые были выкуплены в 1827 г. у семьи генерала[180]. Так Майков вывел наружу два из трех «подземных» хранилищ записок. То, что лежало в военномминистерстве, поддается сегодняшней проверке: в Центральном государственном военно-историческом архиве немало Беннигсеновых бумаг. Что же касается архива Фоков, то он исчез после революции, и если бы Майков вовремя не воспользовался им, важный исторический комплекс был бы, возможно, утрачен… Но что же извлек Майков из двух архивов? Что было в записках Беннигсена? Прежде всего — 25 больших писем к А. Б. Фоку: история кампаний 1806–1807 гг., история Эйлау и всей войны до Тильзитского мира, когда Беннигсен достиг вершины своих военных успехов. Затем — 17 писем, тоже к Фоку, о кампании 1812–1813 гг. Документы суховатые, не всегда складные, хитрые, порою лживые, всегда отчетливо характеризующие автора, в общем, очень любопытные — и как свидетельство очевидца, участника, и как субъективная оценка, которая порою любопытнее самого излагаемого факта. Сотни страниц одного из важных деятелей об очень интересном времени. Майков, однако, догадывался, что были еще мемуары (где же семь томов, о которых говорилось Михайловскому-Данилевскому?), что явно не хватает описания многих месяцев последнего похода против Наполеона… Но даже то, что было обнаружено, удалось собрать в единое, откомментированное издание не в России, а в стране, с которой Беннигсен немало повоевал. В 1906–1907 гг. (к столетию известной кампании) капитан французской армии Е. Казальс подготовил трехтомное издание майковских бумаг — «Memoires du Général Bennigsen». Понятно, что с первых же публикаций, и в России и за границей, громко или «про себя», многими задавался важный вопрос — о сокровенных главах, о 1801 г. Майков свидетельствовал, что ни в семье Фоков, ни в военном архиве он не нашел ни слова о Павле I. Большие знатоки российских тайных архивов Н. К. Шильдер и В. А. Бильбасов также нигде не обнаруживали «павловских глав» из Беннигсеновых записок… Получалось одно из трех: либо таких мемуаров вообще не было — но этому противоречило несколько туманных и одно вполне ясное иностранное свидетельство; второй вариант — что вдова Беннигсена отдала их в Россию вместе с другими бумагами, а Николай I, ознакомившись, сжег, так же как бумаги Зубова, Палена… Это возможно; но почему же у Фоков ничего не осталось? Тоже боялись? Третья версия: наследники фельдмаршала на всякий случай не отдали русскому царю «павловских страниц», которые могли бы вдруг вызвать нежелательный гнев Николая, повредить вдове Беннигсена. Поступив таким образом, потомки должны были затаиться и не дразнить петербургского властителя. Однако всему — время.
«Вы сами видите, генерал…»
Столетие убийства Павла в 1901 г. давало повод снять некоторые запреты. В России даже вышел сборник анекдотов о том царствовании, но подготовленные материалы о самом заговоре все же были запрещены (до 1906–1907 гг.). Рассказывали, будто царь Николай II прочитал и сжег какое-то послание своего прапрадеда, адресованное тому, кто будет править через сто лет… Возможно, само по себе появление в русских журналах писем Беннигсена к Фоку произвело впечатление и на тех, кто владел потаенной частью записок. А ей негде было и быть, кроме родового гнезда в Ганновере. И вот известного немецкого историка Теодора фон Шиманна, убежденного консерватора, личного друга кайзера Вильгельма, большого знатока российского прошлого, пригласила внучка Беннигсена, уже упоминавшаяся Теодора фон Баркхаузен, которая и в начале XX столетия помнила своего знаменитого деда… Внучка вручила историку текст весьма любопытного документа. Вскоре, однако, выяснилось, что и другие представители разросшегося графского древа владеют этим же текстом, а также некоторыми другими… Особенно разволновался клан Беннигсенов, получив первые два тома военных записок генерала, опубликованных в Париже; тут уж было «европейское звучание», и семья не осталась равнодушной. Два внука, Мишель и Леон, специально прибыли в Париж к капитану Казальсу, чтобы сообщить ряд документов и успеть ввести их в третий том. В предисловии к последнему тому парижского издания редактор специально благодарил Беннигсенов: «Корреспонденция богата, но многое еще не время публиковать…» Эти строки, конечно, не пройдут мимо нашего внимания и воображения. Из того же, что можно было опубликовать, появилась любопытная «Записка об Индии», явно составленная Беннигсеном для императора Александра I между 1807 и 1812 гг. Смысл ее: противопоставление «замечательного плана» Екатерины II (начатого Персидским походом 1796 г.) и павловской «безумной идеи» — послать казаков на завоевание Индии. Беннигсен разбирает возможности новых походов и жалуется, что «время упущено, ибо в Индии англичане теперь все, а индусы — ничто»[181]. И еще одно письмо с обращением, вынесенным в начало этой главки: «Вы сами видите, генерал…» Генерал Фок может «сам увидеть», что «такое положение дел, такое замешательство во всех отраслях правления, такое всеобщее недовольство, охватившее население не только Петербурга, Москвы и других больших городов империи, но и всю нацию, не могло продолжаться и что надо было рано или поздно предвидеть падение империи». В парижском издании, очевидно, приведен самый полный текст этого документа, несколько отличающийся от того, который напечатал профессор Шиманн[182], и позже, еще раз и по другому списку, великий князь Николай Михайлович[183]. В парижском списке обозначены даже зачеркнутые черновые места… Впрочем, различия текстов нас не удивят, так как помним рассказ внучки, что дедушка заставлял двух дочерей сопоставлять рукописи, вносить коррективы и таким образом рядом могли сохраниться отличающиеся варианты. «Март 1801 г. С.-Петербург. Я был уверен, генерал, что вы с нетерпением ждете от меня точного описания великих событий, происшедших в Петербурге 12(24) числа этого месяца; я не сомневался, кроме того, что вы не без интереса услышали мое имя при рассказе об этих событиях в виде того участия, которое приписывали мне в них по слухам и которое набрасывает на меня тень и противоречит в значительной степени моим принципам и чувству чести, всегда руководившему мною в моих действиях. Поэтому я представляю вам самые точные данные о происшедшей здесь революции, которая прекратила жизнь императора Павла и возвела на русский трон великого князя Александра к необычайному восторгу населения Петербурга, Москвы и, может быть, всей империи. Восторг этот был безграничен, когда новый государь в своем манифесте дал обещание управлять государством по духу бессмертной Екатерины». Привычная для Беннигсена позиция: нужно объясниться. И он рискует… Но тут позволим себе краткое отступление. Заметим, что охотников собственноручно описывать «дело 11 марта» практически не было. В каком-то смысле это была более потаенная история, чем объективно куда более страшное для власти 14 декабря 1825 г. Декабристы дожили до начала заграничных и даже русских публикаций об их деле. Заговорщики 11 марта не дожили. У декабристов был великий стимул — описывать свою борьбу, рассказывать о своих идеях; у цареубийц стимулы были куда слабее, более личные… За те два без малого века, что отделяют нас от 1801 г., обнаружилось около сорока рассказов о том событии. Около сорока — но все записанные со слов участников или даже третьими лицами. Обнаружено только два исключения: первое — это записки (полностью не опубликованные, но часто цитируемые) одного из семеновских офицеров Константина Марковича Полторацкого, сыгравшего немалую роль в обеспечении нужного заговорщикам «спокойствия во дворце» в ночь с 11 на 12 марта; второе исключение (а по значению — первое) — записки Беннигсена. Ни от Палена, ни от Зубовых, ни от Талызина, ни от Уварова, ни от других активных участников (а их было несколько десятков человек) не осталось ни строки, писанной их рукой, о столь впечатляющем событии. Беннигсен же, как видим, выводит в начале письма: «Март 1801 г. С.-Петербург» (строго говоря, мы не видели автографа этих важных мемуаров, но нет сомнения в совпадающей информации потомков; убеждает и существование черновых вариантов). Итак, действительно ли писано в Петербурге? Можно ли доверять лукавому Кассию? Где доказательство, что это написано не через полгода, год — задним числом, как Беннигсен часто делал в военных письмах 1807–1812 гг.? Присмотримся: письмо несет живой отпечаток события, и в нем имеется фраза о «событиях, происшедших в Петербурге 12(24) числа этого месяца», т. е. очевидно, что написано действительно в марте 1801 г. Но дошло ли письмо к Фоку, жившему в 1801 г. в Петербурге? Ведь Майков не обнаружил подобного текста у потомков Фока: их дед, умерший весной 1825 г., либо избавился от опасного документа, либо вообще его не получил. Между прочим, никакого обращения в документе не найдем: просто — «генерал…». Потомки Беннигсена очевидно с его слов знали, что адресат — Фок, однако маскировка наводит на разные мысли… «11-го (23) 1801 г. утром я встретил князя Зубова в санях, едущих по Невскому проспекту. Он остановил меня и сказал, что ему нужно переговорить со мной…» Так начинается самая драматическая часть Беннигсенова рассказа. Сразу заметим, пока не вникая в детали, что, выходит, если бы князь Зубов «не встретил» автора именно в последний день жизни Павла, то дальнейших событий вроде не было бы… Отделение правды от вымысла — задача любопытная и очень не простая. Перед нами записки Беннигсена явно неполные, но и немалые. Их нужно сложить вместе: 1. Записка об Индии (события 1796–1801 гг.). 2. Смерть Павла (1801). 3. Кампания 1806–1807 гг. 4. Кампания 1812–1813 гг. Все это заняло три солидных парижских тома. Все тексты, кроме первого раздела, написаны в виде обращения к генералу Фоку (впрочем, не исключено, что и записка об Индии также была частью письма к Фоку). Три тома требуют изучения, размышления, сопоставления. Пока что проделаем небольшое исследование, далеко не охватывающее всех мемуаров, но одновременно выходящее за их пределы: 1. Раскроем одну главу записок Беннигсена — письмо об убийстве Павла. 2. Рядом с ним положим шесть записей, сделанных со слов Беннигсена другими лицами: подробную заметку генерала Ланжерона, составленную, по его словам, сразу же после беседы в 1804 г., рассказ Беннигсена генералу Кайсарову, записанный Воейковым (1812), строки Адама Чарторыйского, Августа Коцебу, лейб-медика Гриве, племянника Беннигсена фон Веделя. Записи, сделанные не в одно время, но об одном времени и со слов одного человека. Пусть же говорит сам Беннигсен в письме, пролежавшем целое столетие, пусть говорит, но помнит, что он открылся нескольким конфидентам[184]. Итак, 11 марта он встречает Зубова на Невском, который приглашает в гости. «Я согласился, еще не подозревая, о чем может быть речь, тем более, что я собирался на другой день выехать из Петербурга в свое имение в Литве. Вот почему я перед обедом отправился к графу Палену просить у него, как у военного губернатора, необходимого мне паспорта на выезд. Он отвечал мне: „Да отложите свой отъезд, мы еще послужим вместе“ — и добавил: „Князь Зубов скажет вам остальное“. Я заметил, что он все время был смущен и взволнован. Так как мы были связаны дружбой издавна, то я впоследствии очень удивился, что он не сказал мне о том, что должно было случиться»… Итак, всего за несколько часов до дела генерал «ничего не подозревал». Однако Беннигсену возражает Беннигсен (в изложении Воейкова): «Имея дело в Сенате, тяжебное дело, я просился в Петербург в отпуск, мне было отказано, вместе с отказом я получил письмо от гр. Палена, в котором он как С.-Петерб. воен. губернатор и сильный человек при императоре приглашал меня тайно приехать в столицу, на короткий срок, для устройства дел моих. Вместе с этим письмом прислал он мне и паспорт на проезд в С.-Петербург. Тяжба моя была нешуточная; я поскакал, явился к графу Палену, получил от него билет на проживание под именем поверенного генерала Беннигсена, он взял с меня слово не показываться ни в какие публичные места до разрешения моего дела, которое обещал мне исходатайствовать у государя. Таким образом, жил я, выходя только к сенатскому секретарю и обер-секретарю, производившему мое дело. Это происходило в феврале». Как видим, контакты «второго рассказчика» с графом Паленом отнюдь не случайны, как выходит из первого рассказа; некий тайный умысел вождя заговора в отношении Беннигсена очевиден. Кто же из двух Беннигсенов прав? Вмешивается третий: Беннигсен-Ланжерон. Он подтверждает, что еще в начале 1801 г. приглашен Паленом, который «энергично выражал свое желание видеть меня в столице, и уверял меня, что я буду прекрасно принят императором. Последнее его письмо было так убедительно, что я решился ехать». Далее сообщается, что Беннигсен не прятался вовсе, а явился на аудиенцию к царю, который сначала был добродушен, а затем предельно холоден. «Пален уговорил меня потерпеть еще некоторое время, и я согласился на это с трудом; наконец, накануне дня, назначенного для выполнения его замыслов, он открыл мне их: я согласился на все, что он мне предложил». Последний рассказ грубее, проще, не основан на «роковых случайностях» и выглядит весьма правдоподобно, тем более — учитывая известную нам дружескую близость Беннигсена и Ланжерона. Между прочим, в одном из сохранившихся писем к родственникам (выявленном в 1907 г.) генерал прямо свидетельствует, что прибыл в столицу еще 28 января 1801 г. и, конечно, имел время присмотреться к событиям и еще более сблизиться с Паленом. Все это позволяет нам не очень верить Беннигсену-мемуаристу, но прислушаться к Беннигсену-рассказчику… Впрочем, немудрено: ведь письмо Фоку, как и в иных случаях, писалось для прекращения слухов (эта задача объявлена в первых же его строках). Но пойдем далее. Собственною рукою Беннигсен описывает Фоку, как развернулись события вечером 11 марта. «Часов в десять, — приехал к Зубовым, где было еще три лица», посвященных в тайну: «Князь Зубов сообщил мне условленный план, сказав, что в полночь совершится переворот. Моим первым вопросом было: кто стоит во главе заговора? Когда мне назвали это лицо, тогда я, не колеблясь, примкнул к заговору». Назвали, понятно, наследника, великого князя Александра. «Беннигсен-Воейков» усиливает драматизм: оказывается, что у Зубова находилось «человек 30», что все равно ему, Беннигсену, «не было другого средства выпутаться». О наследнике же этот Беннигсен говорит много осторожнее, что узнал «о мерах, хотя прискорбных и тяжких, но необходимых, которые (будто бы) известны Александру Павловичу и Марии Федоровне…». Мы понимаем, что многое мог смягчить тот, кто записывал, но, даже приняв во внимание этот «коэффициент», наблюдаем любопытную разницу двух Беннигсенов: первый пишет в 1801 г., вскоре после убийства; ему сказали, кто во главе заговора, и в письме никаких намеков на обман. Ведь действительно, Александр I был «во главе», а если так, то можно ли «сопротивляться»? К тому же и Пален и Зубовы в 1801-м еще в силе… Однако в 1812 г. (время рассказа, записанного Воейковым), когда события удалились, быльем поросли, царю неприятно вспоминать о собственном согласии, Пален и Зубовы давно в опале, и дело подается так, что вроде бы генерала обманули. Чем позже рассказ, тем «обман» задним числом делался все сильнее… Читаем далее рассказ Беннигсена. К ночи он вместе с Зубовыми приходит на квартиру генерала Талызина, где собралось множество офицеров, выслушивающих инструкции Палена. В полночь вышли, разделившись на две колонны: «Во главе первой — князь Зубов, его два брата, Николай и Валерьян, и я…» Как видим, Беннигсен (в письме к Фоку) ставит себя на последнее место после более главных. Беннигсен-Ланжерон правдивее: «Все были по меньшей мере разгорячены шампанским, которое Пален велел подать (мне он запретил пить и сам не пил). Нас собралось человек 60; мы разделились на две колонны: Пален с одной из них прошел по главной лестнице… А я с другой колонной направился по лестнице, ведущей к церкви». Не для того Пален вызывал его из глуши, чтобы увеличить число участников еще на единицу. Вызвал, чтобы — возглавить: хорошо знал ганноверца и был знаком с его спокойным стилем… К тому же в такие минуты немаловажен и внешний вид: высокий рост, обилие орденов… Зубовы — все молодцы как на подбор, но Беннигсен особенно эффектен. Припомним пушкинское:
Эпилог
Записки человека о своем времени. Они могут нравиться, не нравиться; мы можем сделать прошлому выговор, возмутиться им, но никак не можем сделать одного: отменить то, что было… Можно, конечно, умолчать о неприятных фактах, воспоминаниях, однако умолчание — это мина под тем, что произнесено; мина, грозящая взорвать то, что рассказано. Надо ли объяснять, что рассказы Беннигсена в своем роде очень типичны, к тому же они позволяют искать и таинственные записки, принадлежавшие другим авторам: например, уяснить, как мало сообщили потомкам главные деятели 11 марта 1801 г., события, названного Герценом «энергическим протестом… не довольно оцененным». Наконец, положив рядом очевидные страницы мемуаров-писем Беннигсена, — тут же угадываем смутные контуры их невидимых частей. Где семь томов Журнала, ведущегося с 1763 г.? Где ответы Фока на письма Беннигсена? Где разные письма Беннигсена к родным и родных к нему: письма, особенно интересные в те периоды, когда каждая мелочь может многое объяснить? Таинственное «где все это?» относится не только к запискам самого генерала, но и к некоторым другим тайнам, которые Беннигсен будто притягивает: упомянутые записки Ланжерона, очень мало изученные, лежат частично в Отделе рукописей Ленинградской публичной библиотеки, но в основном — в Париже… Записки Воейкова: много дали бы историки и литераторы, если бы могли отыскать еще какие-либо фрагменты. «Многому еще рано появляться в печати», — заметил французский издатель в 1907 г. «Бантельн. Семейный архив семьи фон Беннигсен», — читаем мы в справке о западногерманских архивах, составленной в наши дни… Дремлют под ганноверскими сводами дневники, листки, письма… Некуда торопиться. Потомки генерала вряд ли посочувствуют любопытству современников… Наш рассказ посвящен «Запискам Беннигсена». Однако он был полон странных, а в сущности обыкновенных и, возможно, поучительных противоречий. Записки Беннигсена существуют, и в то же время их нет. Мы как будто можем без них обойтись, но так ли это? Сквозь толщу недомолвок и хитроумностей, сквозь недостающие страницы, главы, тома мы настойчиво пробиваемся к цели… Замечательный французский историк Марк Блок сетовал, что в оценках прошлого мы часто очень скованы: кто знает, может быть мы судим о нем по совершенно второстепенным, случайно уцелевшим сочинениям, в то время как рядом были другие, более ценные… Занимаясь поисками мемуаров Беннигсена, как и многих других старинных документов, разыскивая и находя, мы становимся независимее, свободнее по отношению к своему прошлому.
Встречи с книгой. М., 1979.

«Идет куда-то…»
Он идет куда-то — а возле, рядом целые поколения живут ощупью, в просонках, составленные из согласных букв, ждущих звука, который определит их смысл.А. Герцен
 Герцен удивлял врагов и друзей. Богатый дворянин, унаследовавший после отца крепостных крестьян, несколько сотен тысяч рублей, способный, образованный, достигший, невзирая на дважды налетавшую опалу, приличного чина надворного советника (то есть подполковника); и если бы только захотел, конечно, вышел бы в генералы.
Но не захотел, вышел в революционеры, основал в Лондоне Вольную русскую типографию и отдал всю жизнь борьбе с привилегиями своего сословия.
Это, впрочем, в России уже бывало и до него: декабристы…
Но вот к революционеру, эмигранту Герцену являются решительные люди, ожидающие, что он позовет Русь «к топору», возглавит подполье. Однако Герцен и их удивляет: он отвечает, что не считает себя вправе издалека, в чужой стране указывать российским свободолюбцам, как им действовать и когда выступить. Он говорит и пишет непривычные слова: «Я вижу слишком много освободителей, я вижу слишком мало свободных людей…»
Его пропаганда, его газета «Колокол», журналы «Полярная звезда», «Исторические сборники» и «Голоса из России» — все это, по мнению Герцена и преданного друга Огарева, «учебники свободы», где только провозглашаются некоторые принципы, указываются примеры, а дальше уже дело самих российских людей — переводить усвоенные идеи на язык практических действий.
Примеры из прошлого, о которых вели речь вольные издания, также многих удивляли; иные, даже из своих, недоумевали, пожимали плечами.
Когда Герцен говорил о себе (на страницах печатавшихся с продолжением «Былого и дум») — это был пример прямой, наглядный; также были понятны, естественны публикации о декабристах. Само название герценовского журнала «Полярная звезда», силуэты пяти казненных декабристов — все это было достаточно красноречиво…
Однако «Искандер» — Герцен берет широко. Среди его героев — Александр Радищев, чью книгу в Лондоне издают второй раз (через 68 лет после того, как «приговорено» первое издание). Радищев — революционер, предшественник; в одном же томе с его «Путешествием из Петербурга в Москву» Герцен печатает также и совсем другого деятеля, многознающего историка, но при том монархиста, консерватора, крепостника князя Михаила Щербатова. Немало места отдано и княгине Екатерине Дашковой, — конечно, личности яркой, просвещенной, но также не мыслившей России без монархии и крепостного права.
Зачем Герцену, зачем революционной типографии в горячий период общественного подъема, накануне освобождения крестьян, привлекать внимание просыпающейся России к таким старинным деятелям, к столь устаревшим взглядам?
Летом 1860 г. список «странных предков», приглашенных на страницы Вольной русской печати, пополняется еще одним. Сдвоенный 73–74-й лист (номер) герценовского «Колокола» содержал много статей и заметок, посвященных современному крестьянскому вопросу, тайным действиям власти, борьбе студентов за свои права — той раскаленной информации, ради которой русский читатель тайком, рискованно добывал сверхзапрещенную газету; в конце же номера находилось объявление: «Печатаются: Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы Ивана Владимировича Лопухина, составленные им самим».
Герцен удивлял врагов и друзей. Богатый дворянин, унаследовавший после отца крепостных крестьян, несколько сотен тысяч рублей, способный, образованный, достигший, невзирая на дважды налетавшую опалу, приличного чина надворного советника (то есть подполковника); и если бы только захотел, конечно, вышел бы в генералы.
Но не захотел, вышел в революционеры, основал в Лондоне Вольную русскую типографию и отдал всю жизнь борьбе с привилегиями своего сословия.
Это, впрочем, в России уже бывало и до него: декабристы…
Но вот к революционеру, эмигранту Герцену являются решительные люди, ожидающие, что он позовет Русь «к топору», возглавит подполье. Однако Герцен и их удивляет: он отвечает, что не считает себя вправе издалека, в чужой стране указывать российским свободолюбцам, как им действовать и когда выступить. Он говорит и пишет непривычные слова: «Я вижу слишком много освободителей, я вижу слишком мало свободных людей…»
Его пропаганда, его газета «Колокол», журналы «Полярная звезда», «Исторические сборники» и «Голоса из России» — все это, по мнению Герцена и преданного друга Огарева, «учебники свободы», где только провозглашаются некоторые принципы, указываются примеры, а дальше уже дело самих российских людей — переводить усвоенные идеи на язык практических действий.
Примеры из прошлого, о которых вели речь вольные издания, также многих удивляли; иные, даже из своих, недоумевали, пожимали плечами.
Когда Герцен говорил о себе (на страницах печатавшихся с продолжением «Былого и дум») — это был пример прямой, наглядный; также были понятны, естественны публикации о декабристах. Само название герценовского журнала «Полярная звезда», силуэты пяти казненных декабристов — все это было достаточно красноречиво…
Однако «Искандер» — Герцен берет широко. Среди его героев — Александр Радищев, чью книгу в Лондоне издают второй раз (через 68 лет после того, как «приговорено» первое издание). Радищев — революционер, предшественник; в одном же томе с его «Путешествием из Петербурга в Москву» Герцен печатает также и совсем другого деятеля, многознающего историка, но при том монархиста, консерватора, крепостника князя Михаила Щербатова. Немало места отдано и княгине Екатерине Дашковой, — конечно, личности яркой, просвещенной, но также не мыслившей России без монархии и крепостного права.
Зачем Герцену, зачем революционной типографии в горячий период общественного подъема, накануне освобождения крестьян, привлекать внимание просыпающейся России к таким старинным деятелям, к столь устаревшим взглядам?
Летом 1860 г. список «странных предков», приглашенных на страницы Вольной русской печати, пополняется еще одним. Сдвоенный 73–74-й лист (номер) герценовского «Колокола» содержал много статей и заметок, посвященных современному крестьянскому вопросу, тайным действиям власти, борьбе студентов за свои права — той раскаленной информации, ради которой русский читатель тайком, рискованно добывал сверхзапрещенную газету; в конце же номера находилось объявление: «Печатаются: Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы Ивана Владимировича Лопухина, составленные им самим».
Царская родня
Лопухины стали одним из знатнейших родов России, когда юного царя Петра женили на Евдокии Лопухиной. Царица родила сына, царевича Алексея Петровича, но затем была удалена из дворца, отправлена в монастырь, прожила длинную, страшную, опальную жизнь, в заточении узнала о гибели наследника, мешавшего Петру; лишь внук Петр II освободил бабушку из монастырской тюрьмы; впрочем, она пережила и внука, умершего за год до нее, в 1730-м. Все эти взлеты и падения, понятно, отражались на судьбе других Лопухиных. Двоюродный племянник царицы Евдокии, Владимир Иванович Лопухин, позже станет отцом того человека, которого напечатает Герцен. Троюродный брат царевича Алексея — Лопухин-старший многое видел и многое запомнил. Даты его жизни впечатляют: 1703–1797. Можно сказать, что он прожил целое восемнадцатое столетие. Успел сообщить сыну разнообразные подробности восьми царствований. Петр Великий посылал его в Испанию, при Анне Иоанновне он воевал в Польше; затем под началом фельдмаршала Миниха сражался с турками; еще позже генералом — в Семилетней войне. Этот человек видел и помнил многое, о чем не писали и с большой опаскою говорили. Уже немолодым он женился на Евдокии Ильиничне Исаевой, чьи рассказы позже сплетутся в памяти сына с отцовскими преданиями. Среди подруг матери была одна из самых замечательных женщин того времени Наталья Борисовна Долгорукая, урожденная Шереметева. Это о ней в поэме Некрасова «Русские женщины» справедливо говорится как о предшественнице декабристок:
Тут позволим себе небольшое отступление. Большинство читателей имеет представление о масонах более всего по тем главам романа «Война и мир», где Пьер Безухов ищет «масонскую правду», исполняет странные, порою нелепые обряды, ведет откровенную переписку со своим духовным наставником, но в конце концов разочаровывается, находит все это глупым и ненужным. В последнее же время в советской печати вышло довольно много работ, посвященных масонству. Признаемся прямо, что немалая часть этих трудов довольно необъективна, порою искаженно представляет суть дела. Прежде всего смешиваются воедино современное масонство и старинное, конца XVIII — начала XIX в. Двести лет назад русское масонство объединяло преимущественно просвещенных дворян; для многих то была игра, шутовство, но не для всех. Скорее это союз людей, связанных общим членством в полулегальной ложе; здесь на равных могли встречаться лица, занимавшие разные ступени общественной иерархии, — рядовые офицеры, князья, даже члены царствующей фамилии. Неформальные связи расширяли возможности человеческого общения, очевидно, удовлетворяли потребность в таком общении. Часть раннего русского масонства играла заметную просветительскую роль. Николай Иванович Новиков и другие «мартинисты», употребляя в разговорах между собой мистически-религиозную терминологию, видели цель своего объединения в филантропии, внутреннем самоусовершенствовании, просвещении; конечно, подразумевалось в немалой степени духовное, религиозное просвещение, но оно не мыслилось вне общего расширения человеческих знаний. Новиков и его друзья были, по нашим понятиям, хорошие странные люди, создавшие в Москве в 1783–1792 гг. «Дружеское ученое общество» и «Типографское общество». Эти энтузиасты основывали школы, больницы, типографии; издали примерно треть русских книг, увидевших свет в то время. Свято, порою наивно они верили, что просветят, возвысят, спасут своих соотечественников. Вот к этим людям и примкнул юный Лопухин, пожертвовал для общего дела немалую часть своего состояния, много писал, просвещал — и был счастлив с просветителями… Дальнейший ход событий известен: французская революция 1789 г.; перепуганная Екатерина II ищет заговорщиков у себя в стране. Просвещение, прежде поощрявшееся и сверху, теперь заподозрено. Хотя ни Новиков, ни Лопухин отнюдь не придерживались революционных взглядов, и Лопухин, к примеру, решительно не одобрял книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (писал, что Радищев лучше выполнил бы свою цель, если бы тайно донес царице о злоупотреблениях), несмотря на все это, Екатерина II готовила расправу над московскими просветителями. Среди изданных ими книг было немало таких, которые казались «революционной заразой»; к тому же царицу пугало известное влияние Новикова и его окружения на наследника Павла. В 1792 г. Новикова хватают, бросают в крепость, где он проведет четыре года и выйдет на волю уже человеком с надломленной психикой. Высылают еще нескольких видных просветителей, в том числе Ивана Петровича Тургенева, отца столь известных в литературе и декабристском движении нескольких братьев Тургеневых. Незадолго перед арестом Николай Иванович Новиков характеризовал Лопухина в письме к Тургеневу — «многодостойнейший» и «сердцу Вашему давно любезнейший». Угроза нависла и над Лопухиным.
«Многодостойнейший»
Его вызывают на допросы к генерал-губернатору Прозоровскому. Лопухин не боится; конечно, помнит о судьбе Евдокии Лопухиной, но сохраняет достоинство, готов вещать о добрых делах даже на костре. «Мы, — пишет Лопухин, — со лбу на лоб с кн. Прозоровским беседовали, по крайней мере, часов с двадцать… Долго помнил я все мои ответы, так что мог бы записать их почти от слова до слова; но я настолько устал от упражнения в оригинальном их сочинении, что очень много дней после того приняться за перо была самая тяжкая для меня работа. Заключение же вытекло из такого сильного во мне впечатления, что я никогда не мог его забыть; писав его, я подлинно плакал, обливался, можно сказать, слезами, и точно от причин, в нем изображенных». Говорили, будто, прочитав откровенные, возвышенные ответы Лопухина, прослезилась и сама царица. Екатерина II решает не связываться со столь знаменитым родом — Ивана Владимировича приговаривают к ссылке в деревню, под надзор, он возражает, так как должен находиться возле престарелого отца. В конце концов его оставляют во второй столице… Судьбы человеческие и политические причудливы: просвещенный Лопухин в конце правления просвещенной Екатерины, можно сказать — на самом пороге тюрьмы. Но вот на престоле ее сын, грозный Павел I. Начинается «непросвещенное правление». И вопреки матери объявляет амнистию Новикову, Тургеневу, возвращен из Сибири Радищев; Лопухина же не только милуют, но приглашают во дворец. Иван Владимирович сообщает о том любопытные подробности: Павел был к нему крайне расположен, предлагал высокие должности, награды. «Вы философ, — говорит Лопухину павловский камердинер и фаворит Кутайсов, — а двора, позвольте сказать, не знаете. Теперь вам случай, я верно знаю, так много получить, как уже никогда не удастся, ежели упустите его. Ленту ли вам надобно, государь тотчас ее наденет на вас, чин какой получите. Если же вам надобна тысяча душ или больше, где вам угодно, то я берусь, по подаче вашего письма, вынести вам на то указ и позволю вам сделать со мною, что хотите, ежели тогда не исполню». Лопухин, отказываясь, отвечал временщику: «Придворные обстоятельства вижу тонее вашего» (т. е. тоньше); «Когда я сам буду просить наград не заслужа их, то я оправдаю гнев его (Павла)». К удивлению придворных, Лопухин идти в фавориты не соглашается. В конце концов и новый царь охладевает к странному вельможе, который не боится и ничего не просит. Его назначают сенатором в пятый сенатский департамент, находящийся в Москве. Не проходит и нескольких месяцев, как по стране начинают расходиться слухи о необыкновенном, правдивом вельможе, который судит по правде, взяток не берет, ни перед кем не гнется… Однажды он слышит сожаления петербургского сенатора насчет суровых приговоров многим «невинным почти». «Для чего же?» — спросил Лопухин. «Боялись иначе», — отвечал он. «Что, — говорил я, — так именно приказано было или государь особливо интересовался этим делом?» — «Нет, — продолжал он, — да мы… боялись не строго приговорить и самыми крутыми приговорами угождали ему». Лопухин: «Мы, далекие от двора московские сенаторы, проще живем, и не отведал бы, конечно, знакомец твой кнута, если бы случилось делу его быть в пятом уголовном департаменте московском Сената. Во все царствование Павла I, во время присутствия моего в Сенате, ни один дворянин пятым департаментом не был приговорен к телесному наказанию и по всем делам истощалась законная возможность к облегчению осуждаемых». Любопытно, что Павел почти все московские приговоры утверждал без возражений, а два-три даже смягчил. Когда «коллеги» выговаривали Лопухину: «Что вы делаете, Иван Владимирович, это же разбойники, преступники, а вы смягчаете наказание», он отвечал: «В России всегда найдется тот, что прибавит, а вот кто же заступится, убавит?..» После подобных слов другие сенаторы решали, что он «тайное око» государево и специально подослан — проверить, как в Москве идут дела. «Такое ложное заключение, — пишет Лопухин, — послужило однажды к избавлению многих несчастных от жесточайшего наказания. Согласились со мной раза два, три, — а там уже трудно было не соглашаться». После Павла I на престоле новый, более «мягкий» царь — Александр, а сенатор Лопухин не меняется. Предоставим слово Герцену: «Лопухин представляет явление редкое. Тихий, честный, чистый, твердый и спокойный, он со своим мистицизмом и мартинизмом идет так непохоже, так противоположно окружающему морю интриг, исканий, раболепия, что это бросается в глаза не только генерал-губернатору Брюсу, но даже самой Екатерине, которая велит сослать его покаявшегося товарища, а его не велит; Павлу, который вынес от него два раза возражение; Александру, благодарившему его за превосходную записку о духоборцах. Советником московской уголовной палаты Лопухин начинает свою карьеру тем, что склоняет сурового генерал-губернатора по мере возможности уменьшать число ударов кнутом… Во всей его жизни удивительное единство, он нигде не изменяет своего нравственного склада. Молодым советником он восстает против дикого гонения Прозоровским нищих… Стариком сенатором он отвечает своим товарищам, говорившим ему часто по поводу голосов, которые он подавал, „ведь не будет же по-твоему“ — „как будто надобно резать и грабить людей для того, что многие грабят и режут?“» Три царя отступили перед Лопухиным. Когда перед 1807 г., в ожидании вторжения Наполеона, император распорядился организовать местное ополчение за счет жителей, кажется, только он один решительно возразил, доказывая, что эта мера ненужная и лишь обездолит население. Александр I благодарил его за смелую откровенность, одновременно указывая, что сенатор касается и тех предметов, о которых «его не спрашивали». «Бранили меня, — вспоминает Лопухин, — ученые монахи, философы, политики… Бранили меня благочестивыми слывущие старцы, кои не пропускают обедней и прилежно разбирают… можно ли в постные дни чай пить с сахаром… И которые готовы без разбора подписывать людям ссылку и всякую неправду для приятеля, особливо для вельможи придворного». В ту пору ожидали крупных реформ в стране. Государственный секретарь М. М. Сперанский с согласия Александра I готовил сложную систему законов, которые должны были в конце концов привести к введению в стране пусть ограниченной, но конституции; пусть умеренной, но отмены крепостного права. Сперанский был в добрых отношениях с Лопухиным и не раз обращался к его уму и знаниям, хотя они во многом расходились, а Лопухин не уставал повторять, что, защищая народ от властей, жалея его, мечтая о просвещении, он все-таки против освобождения крестьян. 4 января 1807 г. Иван Владимирович написал царю: «Я первый, может быть, желал, чтоб не было на русской земле ни одного несвободного человека, если б то без вреда для нее возможно было. Но народ требует обуздания и для собственной его пользы». Иначе говоря, сенатор считает, что рано, опасно еще давать волю мужикам; он советует только применять строгие меры против тиранов-помещиков… При этом вполне умеренные взгляды Лопухина как бы оспаривались его особой репутацией. Царь, правда, дал ему высочайший чин действительного тайного советника, но прислушивался и к враждебным нашептываниям графа Ростопчина, а также других представителей консервативной знати. По их понятиям, такой человек, как Лопухин, столь рьяно ратовавший за законность и справедливость, не может не быть скрытым «якобинцем» (любопытно, что примерно такие же обвинения в эту пору были предъявлены Карамзину, тоже сочетавшему умеренно-консервативные воззрения с личной честностью и бесстрашием). Во дворец ползли слухи, «мнения» весьма важных лиц, будто Лопухин «человек самый безнравственный», что он стоит во главе «заговора мартинистов» и при случае изменит в пользу Наполеона. Почувствовав опасность, сенатор решил изложить свой образ мыслей в мемуарах. Так были задуманы те самые записки, о которых полвека спустя будет напечатано объявление в «Колоколе». Лопухин окончил свои воспоминания к лету 1809 г. и несколько позже так поведал о некоторых подробностях: «Из-за них меня пожаловали в такого самолюбца, какова-де другова и не сыщешь… Ворожили иль, прямее сказать, лихо зашептали против них некоторые, правда немногие… Один так на меня напал, с приятельскою будто кручиною, о вреде доброму моему имени, что как бы я тяжкое уголовное преступление учинил, что записки свои писал…» Далее следуют любопытные соображения Лопухина о русской мемуаристике вообще: «Ну да что за беда есть мои записки. У нас их еще почти не водится, а на иностранном языке мало ли мемуаров читаем? И сюллиевых, и тюреновых, и боневаловых (французские политические деятели. — Авт.), и какого-нибудь шевалье Д. Интересны, прочтешь; не интересны, и в руки не возьмешь. Вот и только; не любо, не слушай. За записки без придирки можно „охотнику“ побранить только того, у кого в них ложь, а в моих, право, ее ни крошечки. Но… лучше замолчать. Говоря о себе, и не услышишь, как промолвишься». Лопухин не писал, а диктовал свои мемуары и сам принялся за распространение. В главных архивах Москвы и Ленинграда имеется сегодня около 30 копий; очень осведомленный издатель журнала «Русский архив» П. И. Бартенев говорил, что Лопухин раздавал книжки «все одинаковой величины, в четвертку, красивого письма». Три копии Лопухин передал в московский архив коллегии иностранных дел. В приписке на имя директора архива Н. Н. Бантыш-Каменского находим: «Не знаю, понравится ли Вам моя книга; впрочем, есть пословица: не любо, не слушай, врать не мешай… Я в повести о своих былях не все рассказал, однако подлинно не сказал ни одной небылицы». Формально записки не заключали в себе ничего противоцензурного. Тем не менее рукопись, свободно ходившая по рукам, не печаталась из-за непривычно свободной прямоты и откровенности, с которыми автор писал о своих воззрениях. И об отношениях с властями.
Последние годы
Когда Наполеон вторгся в Россию, Лопухин и ряд других сенаторов не хотели покидать Москвы и, подобно древним римлянам, готовы были обсуждать свои дела до того момента, когда ворвутся солдаты; генерал-губернатор Ростопчин, закоренелый враг Лопухина, однако, закрыл Сенат и, можно сказать, силою выставил сенаторов из города перед самым приходом неприятеля. Позже Лопухин вернулся сначала в Москву, затем в родную орловскую деревню. Его здоровье слабело, но он успевал еще многим помочь. «Добрым благодетелем» назвал Лопухина молодой поэт Василий Андреевич Жуковский: то было время, когда он находился в упадке духа из-за крушения надежд на брак с любимой девушкой. Жуковский легко мог сойти с ума, погибнуть. В таком-то состоянии он пришел к Лопухину, а тот сумел с ним поговорить… Мы не знаем содержания этого разговора, лишь кое о чем догадываемся, но без больших преувеличений утверждаем, что Лопухин спас Жуковского для поэзии, для будущих друзей, для страны. Сохранилось еще несколько воспоминаний, авторы которых преклоняются перед личностью этого человека. Преувеличенно восторженные характеристики отнюдь не способствовали опубликованию записок. К тому же время подобных людей и подобных идей как будто проходило. Очень многие декабристы, в их числе Пестель, Лунин, Муравьевы, вступали в масонские ложи, надеясь использовать эти организации в конспиративных целях (недавно в 1-м томе собрания сочинений старейшего советского историка академика Н. М. Дружинина (1886–1986) была переиздана его работа, посвященная «масонским знакам» Пестеля)[186]. Большинство первых русских революционеров разочаровалось в итоге в масонской мистике, обрядах, странных церемониях: ясное, твердое политическое мышление требовало столь же ясных, удобных политических форм. Такими формами стали тайные революционные общества, и самое раннее, Союз Спасения, образовалось в том самом 1816-м, когда не стало Ивана Владимировича Лопухина. Правительство было напугано. Александр I, получая секретные сведения о деятельности декабристов, не шел на решительные контрмеры, но все же кое-что предпринял. Пушкин утверждал, что поводом послужила активность масонской ложи «Овидий», основанной на юге России: туда входили сам поэт и ряд декабристов. Царь, сильно напуганный этим полулегальным объединением среди войск, стоящих на границе, издал указ о строжайшем запрещении в стране всяких тайных обществ и масонских лож. Это было в августе 1822 г. Революционные союзы, конечно, игнорировали царский указ: именно после него укрепляются декабристские общества — Северное и Южное. То, что действительно сильно, не может быть опрокинуто простым официальным запретом. «Тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». В тех обстоятельствах «дробящимся стеклом» стали масонские ложи. После запрета они фактически исчезают, — лишь тлеют кое-где в провинции некоторое время, выдыхаясь… Столь быстрое подчинение указу открыло, что форма, некогда процветавшая, теперь себя изжила. С 1820-х годов до конца XIX в. русская мысль живет, развивается вне масонства. В биографиях позднего Пушкина, Лермонтова, Герцена, Толстого, Щедрина и их современников мы постоянно встречаемся с революционными, просветительскими кружками, но никакого масонства! Позже, в конце XIX в., масонство в России вновь усиливается: теперь это преимущественно союзы крупной буржуазии, придворных кругов, создаваемые для борьбы с оппозицией — революцией… Позднейшие русские ложи, а также современные западные (вроде пресловутой «Ложи П-2») смешивать с прогрессивным масонством пушкинского, новиковского времени — значит грубо нарушать научный принцип историзма. Еще раз повторим, что в 1820–1880-х годах масонство в российской жизни и культуре неощутимо. Это не мешает некоторым специалистам и сегодня упорно настаивать, будто «хитрые мартинисты» лишь плотно замаскировались, что без них не обошлось и в истории гибели Пушкина, и в других известных эпизодах русского прошлого. Серьезных доказательств не приводится никаких, но само их отсутствие рассматривается как результат «масонской конспирации». Это напоминает старинный анекдот о том, как в одной стране при раскопках нашли проволоку и было объявлено, что обнаружен древний телеграф; в другой же стране при раскопках ничего не нашли, и отсюда было сделано заключение, что там в старину телеграф был беспроволочный.
Суд потомства
Пройдут годы, десятилетия; имя Ивана Владимировича Лопухина все реже встречалось в книгах, журналах. Лишь время от времени добрым словом его помянут Жуковский, братья Тургеневы или прежние, доживающие век масоны. Для таких молодых людей, как Белинский, Грановский, Герцен, Огарев, не только Лопухин, но даже Радищев и другие мыслители XVIII в. долгое время как бы и не существовали: во-первых, старинные труды не всегда могли пробиться сквозь полицейскую цензуру; во-вторых, новейшие события — восстание декабристов, европейские революции, социалистическое движение 1830-х годов — все это затмило «стариков». Философские, политические системы XVIII столетия казались неактуальными, безнадежно устаревшими. Но вот Александр Герцен в 1847 г. оказывается за границей, переживает страшную личную и духовную драму. После чего усиливается его интерес к российскому прошлому. XVIII столетие становится ему важнее и интереснее; однако там, за границей, трудно было получить новые факты, сведения, документы. В 1851 г. Герцен сочиняет, а затем публикует по-французски, по-немецки, по-русски свою известную работу «О развитии революционных идей в России». В ней мы видим, вернее, физически ощущаем, сколь пристально приглядывается Искандер к тем десятилетиям, когда был еще молод его отец; как пытается отыскать там сокровенную формулу российской истории. «Правительство, — писал Герцен о XVIII веке, — продолжало идти во главе цивилизации. Эта тесная близость литературы и правительства стала еще более явной во времена Екатерины II. У нее свой поэт, поэт большого таланта; полный восторженной любви, он пишет ей послания, оды, гимны и сатиры, он на коленях перед нею, он у ее ног, но он вовсе не холоп, не раб. Державин не боится Екатерины, он шутит с нею, называет ее „Фелицей“ и „киргизкайсацкою царицей“. Порою музы его находят слова совсем иные, нежели те, в которых раб воспевает своего господина». Главные слова здесь, конечно, — «не холоп, не раб»… Державин, разумеется, не единственный герценовский герой из XVIII в.: названы Фонвизин, Ломоносов, Карамзин, Дмитриев, наконец, Новиков; он «был одной из тех великих личностей в истории, которые творят чудеса на сцене, по необходимости погруженной во тьму, — одним из тех проповедников тайных идей, чей подвиг становится известным лишь в минуту торжества этих людей». Обозначив главные идеи и перечислив несколько фигур, Герцен к нашему удивлению, ряд значительных сочинений вообще не называет. Ни слова о замечательном фон визинском «Рассуждении о непременных государственных законах»: оно ходило в списках по России, было известно декабристам, в орбиту же Вольной печати попадет только в 1861 г. — во второй книге «Исторического сборника Вольной русской типографии». Не найти в герценовской работе имени Е. Р. Дашковой; ни звука о мемуарах Екатерины II, которые были известны в определенных осведомленных кругах. Отсутствие М. М. Щербатова и его труда «О повреждении нравов в России» понятно: потаенное сочинение князя-историка было извлечено из небытия лишь несколько лет спустя. Однако наиболее заметный пробел — молчание о Радищеве! Упомянут Герценом — да и то мельком — лишь один потаенный «мемуарист»: там, где говорится о Новикове, высоко оценивается его смелая мысль — «объединить во имя нравственного интереса в братскую семью все, что есть умственно зрелого, от крупного сановника империи, как князь Лопухин, до бедного школьного учителя и уездного лекаря!». Иван Лопухин, правда, не был князем, но речь идет о нем! Пройдет еще несколько лет, и Герцен сам же напечатает многие сочинения, о которых в 1851 г. слышал смутно или совсем не слышал: Весна 1858 г., в одном томе — Щербатов и Радищев; Конец 1858-го — начало 1859 г., на французском, русском, немецком, датском и польском языках — «Записки Екатерины II»; 1858 г., впервые на русском языке — «Записки княгини Дашковой» вместе с интереснейшими приложениями к ним (переписка Дашковой с Екатериной II, Дидро, Вольтером и многими другими деятелями). В этом списке явно не хватало Николая Ивановича Новикова. Однако знаменитый журналист и издатель не оставил мемуаров. Одним из немногих его сподвижников, успевшим сочинить записки, был Иван Владимирович Лопухин. В известном смысле он представлял на страницах вольных изданий Герцена также и своего друга-наставника. Но все же сенатор, масон был далек от революционного демократа, социалиста, материалиста Герцена. Какие же мотивы связывали этих людей перед освобождением крестьян, против которого Лопухин возражал?!
Лопухин приближается
Перелистываем «Колокол» и другие вольные издания конца 1850-х годов. То тут, то там среди современных дел, как вспышки, — обращение к XVIII в., сравнение времен и людей. Вот вспомянуты противники петровских преобразований, сторонники старины: «Московская Русь, казненная в виде стрельцов, запертая в монастырь с Евдокией, задушенная в виде царевича Алексея, исключилась бесследно, и натянутый, старческий ропот кн. Щербатова (который мы предали гласности) замолк без всякого отзыва». Как не заметить, что в числе представителей Московской Руси названы близкие родственники Лопухина, царица Евдокия, царевич Алексей; Щербатов же, старший лопухинский современник, отчасти напоминал этого деятеля причудливым соединением внутреннего достоинства, политической смелости и притом защитой крепостничества и других отрицательных черт прошлого. Меж тем в России продолжались ограничения и запреты на ряд сочинений XVIII в.; они были вызваны испугом властей тем общественным эффектом, который в 1859 г. произвела как раз публикация секретного дела царевича Алексея (в VI томе книги Устрялова «История царствования Петра I»). 15 мая 1860 г. в «Колоколе» в заметке «Новости из России» Герцен отозвался на «новости цензурные»: «Устрялов напугал царевичем Алексеем… А посему цензура получила строжайшее указание ничего не пропускать о лицах, принадлежащих к царской фамилии и живших после Петра, кроме, разумеется, о их высочайшей добродетели и августейшем милосердии. Например, говоря о Петре III, надо непременно упомянуть о его уме, говоря об Екатерине II, удивляться ее целомудренности, говоря о Павле, с восторгом отозваться о его сходстве с Аполлоном Бельведерским, говоря о Николае, упрекнуть его в мягкой кротости и излишней любви к науке». Через месяц, в сдвоенном 73–74-м листе «Колокола», уже приводился точный текст высочайшего повеления об ограничении свободы исторического рассказа «концом царствования Петра Великого»: «После сего времени воспрещать оглашение сведений, могущих быть поводом к распространению неблагоприятных мнений о скончавшихся августейших лицах царствующего дома, как в журнальных статьях, так и в отдельных мемуарах и книгах». И в этом именно 73–74-м «Колоколе» объявление — «Печатаются: Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы Ивана Владимировича Лопухина, составленные им самим». Понятно, эти воспоминания, касавшиеся времени после Петра, трудно проходят сквозь российскую цензуру. Еще несколько месяцев назад, 1 февраля 1860 г., «Колокол» писал: «Нас спрашивают, получили ли мы записки кн. Ив. Вл. Лопухина? Нет, мы их не получали». И вот текст прибыл в Лондон, примерно в начале июня. Вопрос о том, кто доставил рукопись, пока не совсем ясен. Серьезные «подозрения» падают на Александра Николаевича Афанасьева, известного собирателя русских сказок, который много и основательно занимался XVIII веком, и в частности записками Лопухина. Вступительная статья Герцена к «Запискам» Лопухина сопровождается подписью «И-p» (Искандер) и датой «Лондон. 22 июля 1860 года». Как обычно, Герцен завершал предисловие за несколько дней до выхода книги. 1 августа 1860 г. 78-й лист «Колокола» извещал: «Записки И. В. Лопухина вышли. В следующем листе „Колокола“ мы поместим Введение к ним». Действительно, 79-й «Колокол» открывался статьей Герцена «Записки И. В. Лопухина», перепечатанной из только что вышедшей книги. Руководитель Вольной печати придавал такое значение этому материалу, что, как видим, счел необходимым опубликовать его дважды, в том числе в самом читаемом русском заграничном издании — «Колоколе»… В отделах редких книг нескольких крупнейших библиотек страны сохраняются сегодня экземпляры этого издания — «Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника и сенатора Ивана Владимировича Лопухина, составленные им самим. С предисловием Искандера (Лондон, издательство Трюбнера, 1860 год)». Знал бы сенатор, противник революций и крестьянской свободы, что первым его издателем и почитателем станет «государственный преступник», революционер… Предисловие Герцена заняло III–VIII страницы книги. Затем следовал довольно точный текст Лопухина (за исключением нескольких опечаток и разночтений). Обе части записок (ч. I, кн. 1–5, ч. II, кн. 6–9) разместились на 211 страницах герценовского издания. И на последней странице завещания Лопухина — с просьбой к друзьям не тратить денег на роскошные поминки, но помочь нуждающимся; не писать умершему похвал: «Да вы и сами того не сделаете; не для того только, что я их не заслуживаю, но для того, чтобы не сравнять меня со всеми теми, которых хвалят. Один вздох искренней любви больше усладит мою память, нежели книга похвал, написанная рукою хладного искусства». Старинный образ мысли, архаическая манера выражений…
Зачем же?
Герцен сам отвечал, зачем ему и его читателям необходимы такие воспоминания, хотя в его предисловии подчеркнуто отрицательное отношение к «закоснелому упорству Лопухина в поддерживании помещичьей власти». Дело в том, что, как Дашкова, как и Щербатов, Иван Владимирович яркая, самобытная, внутренне цельная личность: «Его странно видеть середь хаоса, случайных, бесцельных существований его окружающих; он идет куда-то — а возле, рядом целые поколения живут ощупью, в просонках, составленные из согласных букв, ждущих звука, который определит их смысл». Живая, свободная личность, даже существенно отличающаяся своими воззрениями от потомков, — для Герцена одно из главных завоеваний русского XVIII столетия. Естественно, Герцен стремится ответить на вопрос: откуда же в ту пору брались подобные люди, как умели выделиться из косного большинства? «Из пенящегося брожения столбовых атомов, тянущихся разными кривыми линиями и завитками к трону и власти, Лопухин был выхвачен своею встречей с Новиковым, своим вступлением в мартинисты. Ими пустое брожение, покорное стихийным силам, старалось вынырнуть, схватить в свои руки свою судьбу. Удачно ли или нет — все равно. Присутствие стремления и силы было неотразимо». Стремление и сила… Через 104 года после рождения, через сорок четыре года после кончины Иван Владимирович Лопухин неожиданно вернулся. Принят же он был по-разному: не все согласились. Такая уж судьба была у этого человека — и в жизни, и в смерти.
Споры
Вскоре после герценовского издания «Записки» Лопухина наконец вышли и в самой России[187]. Признавая их историческую ценность, некоторые весьма и весьма достойные авторы (А. Н. Пыпин, Я. Л. Барсков) все же не находили того, что видел Герцен, — ценности современной. Однако в 1895 г., через 35 лет после первой публикации «Записок» Лопухина, о них высказался крупнейший русский историк Василий Осипович Ключевский: «Чтение… доставляет глубокое нравственное удовлетворение: как будто что-то проясняется в нашем XVIII веке, когда всматриваешься в этого человека, который самим появлением своим обличает присутствие значительных нравственных сил, таившихся в русском образованном обществе того времени… Когда мы читаем о подобных пароксизмах совестливой мысли, может быть, мы впервые застаем образ русского человека в минуту тяжкого раздумья, какое ему не раз пришлось и не раз еще придется переживать впоследствии». Герцен и Ключевский жили в разные эпохи, взгляды их во многом не совпадали; оба были историками-художниками, о прошлом они глубоко размышляли, тонко его чувствовали. Их мысль одновременно проста и нелегка: да, такие люди, как Лопухин, очень не похожи на нынешних, многие их взгляды, например на крепостное право, принадлежат к «предрассудкам» давнего времени. Однако свободный, хороший человек, — пусть по-иному свободный, чем потомки, — личность, сумевшая не раствориться среди множества «согласных»: такая личность — одно из главнейших приобретений любой цивилизации; ее надо беречь. Людей вроде Лопухина было в XVIII столетии мало; в следующие эпохи — больше… Но никакие завоевания освободительной борьбы не могут быть гарантированы, если не опираются на значительное, весомое число внутренне свободных или освобождающихся людей. Очень непохожие дед и внуки сходились в немногом, но самом важном — в тяжком, честном раздумье. «Я убежден, — восклицал Герцен, — что на тех революционных путях, какими мы шли до сих пор, можно лишь ускорить полное торжество деспотизма. Я нигде не вижу свободных людей, и я кричу: стой! — начнем с того, чтобы освободить самих себя…» Вот почему не забывать Лопухина просят потомков Жуковский и Герцен, Афанасьев и Ключевский…
Наука и жизнь. 1986. № 12.

Вспоминающая Россия (Размышления над книгой)[188]
 Культура плохо «различает» времена: прошлое, настоящее, будущее в ней спрессованы, легко переходят одно в другое; воспоминания о былом сегодня — столь естественный культурный феномен, что мы, к сожалению, уже разучились удивляться их необыкновенному обилию, почти не умеем взглянуть на это явление «со стороны». Но вот выходит оригинальное исследование, вдруг позволяющее это сделать; его главный герой — вспоминающая, «мемуарная» Россия, но не сегодняшняя, которая обращается к прошедшему, а «вчерашняя, позавчерашняя», рассказывающая о давно прошедшем. О 1812 годе.
«1812 год и русская мемуаристика», автор книги историк А. Г. Тартаковский ставит удивительный эксперимент, стараясь ответить на ряд труднейших вопросов, — как Россия вспоминала о 1812 годе? Кто вспоминал? Когда? Почему? Как это связано с исторической жизнью, общественной мыслью страны?
Сегодня, когда живут и здравствуют миллионы людей, помнящих Великую Отечественную войну, когда тысячи записали, рассказали (или еще запишут, расскажут) свои мемуары о 1941–1945 гг., — сегодня сюжеты Тартаковского не только наука, но и наша жизнь, наша память, наши тревоги, как бы продленные в прошлое, до времен дедов и прадедов.
Итак, мемуары о 1812 годе: о событии важнейшем (вспомним декабристское — «Мы все дети двенадцатого года»); к тому же записки о той войне писать, публиковать было сравнительно безопасно (опять же для сравнения уместно вспомнить нелегкую судьбу мемуаров о 14 декабря).
Поэтому документов очень много. Тартаковский же ставит задачу — прочесть все воспоминания о 1812-м — в форме ли записок, мемуарных писем, отдельных мемуарных записей, деловых документов, историко-критических трудов. Задача была бы немыслима, если бы над ней прежде не поработало несколько поколений исследователей, если бы не выходило продолжающееся под руководством и редакцией П. А. Зайончковского бесценное советское издание «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: аннотированный указатель книг и публикаций в журналах».
Тем не менее к известным прежде запискам автор книги прибавляет десятки рассыпанных по отдельным книгам, журналам, газетам. И всего, оказывается, было напечатано 412 мемуаров о 1812 годе.
Кто же авторы? Да «вся Россия»! От генерала Сергея Волконского до «солдата Памфила Назарова в иночестве Митрофана»; от «Изображения военных действий 1-й армии» Барклая де Толли до «обстоятельного известия о чудесном спасении вдовы генерал-майорши Н. М. при нашествии на Москву французов».
412 записок, но Тартаковскому «мало»: он отправляется в одиннадцать архивных хранилищ Москвы и Ленинграда и обнаруживает еще 45 никогда не печатавшихся мемуаров о первой Отечественной войне.
Этого одного было бы достаточно для высокой оценки исследования; но в книге «1812 год и русская мемуаристика» тут лишь один из побочных результатов.
457 воспоминаний; автор же ставит и решает еще одну трудную задачу — назвать максимум записок, еще не найденных, но в существовании которых нет сомнения. Здесь — 37 названий, среди которых (полностью или частично) утраченные записки крупнейших боевых деятелей П. П. Коновницына, К. Ф. Толя, документы весьма осведомленного И. П. Липранди, А. Ф. Воейкова, декабристов Ф. Н. Глинки, В. С. Норова, М. Ф. Орлова и др. Эти имена, естественно, будят воображение, стимулируют новые поиски.
Итак, основной мемуарный массив об Отечественной войне 1812 г. выявлен. Но надо же установить, в какие годы вспоминали, писали участники, свидетели, современники Бородина, московского пожара, разгрома Наполеона! В большинстве случаев (примерно на две трети) это было неизвестно; часто датой создания тех или иных записок ошибочно считались даты их публикаций.
А. Г. Тартаковский установил с помощью разнообразных научных приемов время создания около 270 произведений — и тогда-то сотни записок вдруг зажили новой «исторической жизнью»; как только их удалось «развести по годам», открылись важные закономерности, интереснейшие приливы и отливы мемуарного, общественного интереса к 1812 году.
Первый прилив — первое послевоенное семилетие: 1812–1819 гг., когда была написана примерно четверть всех воспоминаний о великой войне. То было преддекабристское время, когда уроки недавней войны многосложно вписывались в новую, послевоенную действительность. «Мы не ошибемся, — замечает Тартаковский, — если скажем, что столь остро проявившийся тогда интерес к истории Отечественной войны и попытки его воплощения обрели характер широкого общественного движения, явившись важным фактором идейной жизни того времени».
Мемуарный подъем сменился известным спадом 20-х годов, во многом вызванным неприязнью Александра I и аракчеевцев к памяти об Отечественной войне и освободительным устремлениям, связанным с нею.
Новый «мемуарный пик» (30-х годов), как тонко показывает автор, был продолжением общественной борьбы вокруг 1812 года: с одной стороны, попытки Николая I вписать славную войну в систему «официальной народности»; с другой — стремлением Пушкина и прогрессивной литературы понять истинный смысл великого и все удаляющегося события.
Актуальность 1812-го снова усиливается во время общественного подъема 1850–1860 гг. — и здесь происходит как бы последняя идеологическая битва вокруг прошедших славных лет в присутствии стареющих ветеранов, последних мемуаристов 1812 г.
«А крепко начинает попахивать двенадцатым годом», — замечает П. А. Вяземский в начале Крымской войны. «За 1812 годом шло 14 декабря», — напоминает Герцен.
Идут годы… Сходят в могилу 93-летний Матвей Муравьев-Апостол, Федор Глинка — мемуаристы 1812-го, декабристы. А. Г. Тартаковский сообщает, что в июне 1888 г. на 97-м году жизни окончил свои дни в Калуге и был с воинскими почестями похоронен генерал-майор А. Я. Миркович, встретивший войну 20-летним конногвардейским офицером (видимо, последний ветеран 1812 г.).
В 1899 г. в возрасте 91 года скончалась дочь управляющего шереметевскими имениями П. Н. Татлина, незадолго до смерти составившая автобиографические записки с описанием детских впечатлений от пожара Москвы и возвращения в разоренный город в 1812 г. («С этим годом соединяются первые воспоминания в моей жизни» — так начинается ее рассказ.) Вероятно, это хронологически последний мемуарный труд современника той эпохи.
Герои 1812-го замолкают на исходе XIX столетия, но в русской истории почти нет года, когда бы не выходило каких-либо записок о 1812-м. И сегодня ждут своего часа некоторые еще до сей поры не печатавшиеся рукописи.
Из всего же, что написано в книге «1812 год и русская мемуаристика», проступает один особенно важный, интереснейший культурологический вывод. Дело в том, что 1812 год повлиял на русскую мемуарную культуру вообще: во-первых, стали вспоминать и записывать куда больше, чем прежде; во-вторых, стали куда больше публиковать (раньше, в XVIII в., почти не печатали свои записки «при жизни»); в-третьих, начали писать люди, прежде чуждые этому делу: все больше мемуаристов из мелких дворян, военных, купцов, мещан.
Перелом, повторяем, произошел в связи с 1812-м, а после российские люди уже не «могли разучиться» и все больше, все чаще принимались за записки.
Отчего же именно 1812 год вызвал такую «охоту»? Главная причина была в том, что страна, народ пробудились; поняли, что не только история ими движет, но что и они — двигатели, делатели мировых событий; а если так, то многие, прежде не видевшие какой-либо общественной ценности своих воспоминаний, впервые осознали личную причастность к общему, к истории.
Сколько раз говорилось, писалось о великом значении 1812-го, о важном этапе формирования национального чувства. Но вот в книге о мемуарах, кажется, впервые эти тончайшие, сложнейшие процессы показаны наглядно, даже с таблицами, статистикой.
С 1812-го Россия больше вспоминает — значит, больше думает, глубже осознает себя и тем уже начинает себя освобождать.
Культура плохо «различает» времена: прошлое, настоящее, будущее в ней спрессованы, легко переходят одно в другое; воспоминания о былом сегодня — столь естественный культурный феномен, что мы, к сожалению, уже разучились удивляться их необыкновенному обилию, почти не умеем взглянуть на это явление «со стороны». Но вот выходит оригинальное исследование, вдруг позволяющее это сделать; его главный герой — вспоминающая, «мемуарная» Россия, но не сегодняшняя, которая обращается к прошедшему, а «вчерашняя, позавчерашняя», рассказывающая о давно прошедшем. О 1812 годе.
«1812 год и русская мемуаристика», автор книги историк А. Г. Тартаковский ставит удивительный эксперимент, стараясь ответить на ряд труднейших вопросов, — как Россия вспоминала о 1812 годе? Кто вспоминал? Когда? Почему? Как это связано с исторической жизнью, общественной мыслью страны?
Сегодня, когда живут и здравствуют миллионы людей, помнящих Великую Отечественную войну, когда тысячи записали, рассказали (или еще запишут, расскажут) свои мемуары о 1941–1945 гг., — сегодня сюжеты Тартаковского не только наука, но и наша жизнь, наша память, наши тревоги, как бы продленные в прошлое, до времен дедов и прадедов.
Итак, мемуары о 1812 годе: о событии важнейшем (вспомним декабристское — «Мы все дети двенадцатого года»); к тому же записки о той войне писать, публиковать было сравнительно безопасно (опять же для сравнения уместно вспомнить нелегкую судьбу мемуаров о 14 декабря).
Поэтому документов очень много. Тартаковский же ставит задачу — прочесть все воспоминания о 1812-м — в форме ли записок, мемуарных писем, отдельных мемуарных записей, деловых документов, историко-критических трудов. Задача была бы немыслима, если бы над ней прежде не поработало несколько поколений исследователей, если бы не выходило продолжающееся под руководством и редакцией П. А. Зайончковского бесценное советское издание «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: аннотированный указатель книг и публикаций в журналах».
Тем не менее к известным прежде запискам автор книги прибавляет десятки рассыпанных по отдельным книгам, журналам, газетам. И всего, оказывается, было напечатано 412 мемуаров о 1812 годе.
Кто же авторы? Да «вся Россия»! От генерала Сергея Волконского до «солдата Памфила Назарова в иночестве Митрофана»; от «Изображения военных действий 1-й армии» Барклая де Толли до «обстоятельного известия о чудесном спасении вдовы генерал-майорши Н. М. при нашествии на Москву французов».
412 записок, но Тартаковскому «мало»: он отправляется в одиннадцать архивных хранилищ Москвы и Ленинграда и обнаруживает еще 45 никогда не печатавшихся мемуаров о первой Отечественной войне.
Этого одного было бы достаточно для высокой оценки исследования; но в книге «1812 год и русская мемуаристика» тут лишь один из побочных результатов.
457 воспоминаний; автор же ставит и решает еще одну трудную задачу — назвать максимум записок, еще не найденных, но в существовании которых нет сомнения. Здесь — 37 названий, среди которых (полностью или частично) утраченные записки крупнейших боевых деятелей П. П. Коновницына, К. Ф. Толя, документы весьма осведомленного И. П. Липранди, А. Ф. Воейкова, декабристов Ф. Н. Глинки, В. С. Норова, М. Ф. Орлова и др. Эти имена, естественно, будят воображение, стимулируют новые поиски.
Итак, основной мемуарный массив об Отечественной войне 1812 г. выявлен. Но надо же установить, в какие годы вспоминали, писали участники, свидетели, современники Бородина, московского пожара, разгрома Наполеона! В большинстве случаев (примерно на две трети) это было неизвестно; часто датой создания тех или иных записок ошибочно считались даты их публикаций.
А. Г. Тартаковский установил с помощью разнообразных научных приемов время создания около 270 произведений — и тогда-то сотни записок вдруг зажили новой «исторической жизнью»; как только их удалось «развести по годам», открылись важные закономерности, интереснейшие приливы и отливы мемуарного, общественного интереса к 1812 году.
Первый прилив — первое послевоенное семилетие: 1812–1819 гг., когда была написана примерно четверть всех воспоминаний о великой войне. То было преддекабристское время, когда уроки недавней войны многосложно вписывались в новую, послевоенную действительность. «Мы не ошибемся, — замечает Тартаковский, — если скажем, что столь остро проявившийся тогда интерес к истории Отечественной войны и попытки его воплощения обрели характер широкого общественного движения, явившись важным фактором идейной жизни того времени».
Мемуарный подъем сменился известным спадом 20-х годов, во многом вызванным неприязнью Александра I и аракчеевцев к памяти об Отечественной войне и освободительным устремлениям, связанным с нею.
Новый «мемуарный пик» (30-х годов), как тонко показывает автор, был продолжением общественной борьбы вокруг 1812 года: с одной стороны, попытки Николая I вписать славную войну в систему «официальной народности»; с другой — стремлением Пушкина и прогрессивной литературы понять истинный смысл великого и все удаляющегося события.
Актуальность 1812-го снова усиливается во время общественного подъема 1850–1860 гг. — и здесь происходит как бы последняя идеологическая битва вокруг прошедших славных лет в присутствии стареющих ветеранов, последних мемуаристов 1812 г.
«А крепко начинает попахивать двенадцатым годом», — замечает П. А. Вяземский в начале Крымской войны. «За 1812 годом шло 14 декабря», — напоминает Герцен.
Идут годы… Сходят в могилу 93-летний Матвей Муравьев-Апостол, Федор Глинка — мемуаристы 1812-го, декабристы. А. Г. Тартаковский сообщает, что в июне 1888 г. на 97-м году жизни окончил свои дни в Калуге и был с воинскими почестями похоронен генерал-майор А. Я. Миркович, встретивший войну 20-летним конногвардейским офицером (видимо, последний ветеран 1812 г.).
В 1899 г. в возрасте 91 года скончалась дочь управляющего шереметевскими имениями П. Н. Татлина, незадолго до смерти составившая автобиографические записки с описанием детских впечатлений от пожара Москвы и возвращения в разоренный город в 1812 г. («С этим годом соединяются первые воспоминания в моей жизни» — так начинается ее рассказ.) Вероятно, это хронологически последний мемуарный труд современника той эпохи.
Герои 1812-го замолкают на исходе XIX столетия, но в русской истории почти нет года, когда бы не выходило каких-либо записок о 1812-м. И сегодня ждут своего часа некоторые еще до сей поры не печатавшиеся рукописи.
Из всего же, что написано в книге «1812 год и русская мемуаристика», проступает один особенно важный, интереснейший культурологический вывод. Дело в том, что 1812 год повлиял на русскую мемуарную культуру вообще: во-первых, стали вспоминать и записывать куда больше, чем прежде; во-вторых, стали куда больше публиковать (раньше, в XVIII в., почти не печатали свои записки «при жизни»); в-третьих, начали писать люди, прежде чуждые этому делу: все больше мемуаристов из мелких дворян, военных, купцов, мещан.
Перелом, повторяем, произошел в связи с 1812-м, а после российские люди уже не «могли разучиться» и все больше, все чаще принимались за записки.
Отчего же именно 1812 год вызвал такую «охоту»? Главная причина была в том, что страна, народ пробудились; поняли, что не только история ими движет, но что и они — двигатели, делатели мировых событий; а если так, то многие, прежде не видевшие какой-либо общественной ценности своих воспоминаний, впервые осознали личную причастность к общему, к истории.
Сколько раз говорилось, писалось о великом значении 1812-го, о важном этапе формирования национального чувства. Но вот в книге о мемуарах, кажется, впервые эти тончайшие, сложнейшие процессы показаны наглядно, даже с таблицами, статистикой.
С 1812-го Россия больше вспоминает — значит, больше думает, глубже осознает себя и тем уже начинает себя освобождать.
Советская культура. 1981. 13 октября.

Пестель и Пален
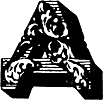 Декабрист Николай Лорер поместил в свои воспоминания следующий эпизод: «Раз Пестель мне рассказал, что, бывши адъютантом у графа Витгенштейна, стояли они с корпусом в Митаве, где Пестель познакомился с 80-летним Паленом, участвовавшим, как известно, в убийстве Павла I. Полюбив Пестеля, старик бывал с ним откровенен и, заметя у него еще тогда зародыш революционных идей, однажды ему сказал: „Слушайте, молодой человек! Если вы хотите что-нибудь сделать путем тайного общества, то это глупость. Потому что, если вас двенадцать, то двенадцатый неизменно будет предателем! У меня есть опыт, и я знаю свет и людей“»[189].
Очень близкий к Пестелю член Южного общества делает эту запись в 1860-х годах. Однако большое временнóе расстояние между фактом и воспоминанием о нем не мешает нам признать рассказ достоверным. Во-первых, записки декабриста довольно точны, что не раз доказано во вступлении и комментариях М. В. Нечкиной к этому изданию. Во-вторых, существует много примеров (и перед нами явно один из них), когда декабристы, делясь своими воспоминаниями с друзьями по каторге и ссылке, сначала вырабатывали устную версию мемуаров и только позже закрепляли ее в письме. В-третьих, рассказ Лорера поддается документальной проверке.
Руководитель дворцового переворота 11 марта 1801 г., окончившегося гибелью Павла I, генерал Петр Алексеевич Пален, как известно, был удален Александром I в отставку и поселился в своем имении близ Митавы. Как раз в Митаву прибыл в начале 1817 г. и Павел Пестель, молодой кавалергардский штаб-ротмистр, адъютант Витгенштейна и один из основателей, «старейшина», первого декабристского тайного общества «Союз спасения».
Пробыв в Курляндии более года (до весны 1818 г.), Пестель создал в Митаве отрасль декабристского Союза спасения, куда принял четырех членов и, несомненно, вел деятельность, подчиненную задачам тайного союза[190].
Встреча 24-летнего Пестеля с 72-летним генералом Паленом, часто наезжавшим в соседний с его имением город, была естественной, и столь же естественно было начаться разговору о способах достижения тайной цели.
Отношение декабристов к перевороту 11 марта было довольно сложным. Наиболее распространенным был взгляд на его участников как на деятелей, руководствовавшихся узкоэгоистическими, а не высокими патриотическими побуждениями. Не раз подчеркивались большие возможности для коренных перемен российской системы, которые существовали в 1801 г., но не были реализованы заговорщиками, удовлетворившимися переменой монарха. Эта точка зрения наиболее ярко представлена в известной формуле пушкинской «Вольности»:
Декабрист Николай Лорер поместил в свои воспоминания следующий эпизод: «Раз Пестель мне рассказал, что, бывши адъютантом у графа Витгенштейна, стояли они с корпусом в Митаве, где Пестель познакомился с 80-летним Паленом, участвовавшим, как известно, в убийстве Павла I. Полюбив Пестеля, старик бывал с ним откровенен и, заметя у него еще тогда зародыш революционных идей, однажды ему сказал: „Слушайте, молодой человек! Если вы хотите что-нибудь сделать путем тайного общества, то это глупость. Потому что, если вас двенадцать, то двенадцатый неизменно будет предателем! У меня есть опыт, и я знаю свет и людей“»[189].
Очень близкий к Пестелю член Южного общества делает эту запись в 1860-х годах. Однако большое временнóе расстояние между фактом и воспоминанием о нем не мешает нам признать рассказ достоверным. Во-первых, записки декабриста довольно точны, что не раз доказано во вступлении и комментариях М. В. Нечкиной к этому изданию. Во-вторых, существует много примеров (и перед нами явно один из них), когда декабристы, делясь своими воспоминаниями с друзьями по каторге и ссылке, сначала вырабатывали устную версию мемуаров и только позже закрепляли ее в письме. В-третьих, рассказ Лорера поддается документальной проверке.
Руководитель дворцового переворота 11 марта 1801 г., окончившегося гибелью Павла I, генерал Петр Алексеевич Пален, как известно, был удален Александром I в отставку и поселился в своем имении близ Митавы. Как раз в Митаву прибыл в начале 1817 г. и Павел Пестель, молодой кавалергардский штаб-ротмистр, адъютант Витгенштейна и один из основателей, «старейшина», первого декабристского тайного общества «Союз спасения».
Пробыв в Курляндии более года (до весны 1818 г.), Пестель создал в Митаве отрасль декабристского Союза спасения, куда принял четырех членов и, несомненно, вел деятельность, подчиненную задачам тайного союза[190].
Встреча 24-летнего Пестеля с 72-летним генералом Паленом, часто наезжавшим в соседний с его имением город, была естественной, и столь же естественно было начаться разговору о способах достижения тайной цели.
Отношение декабристов к перевороту 11 марта было довольно сложным. Наиболее распространенным был взгляд на его участников как на деятелей, руководствовавшихся узкоэгоистическими, а не высокими патриотическими побуждениями. Не раз подчеркивались большие возможности для коренных перемен российской системы, которые существовали в 1801 г., но не были реализованы заговорщиками, удовлетворившимися переменой монарха. Эта точка зрения наиболее ярко представлена в известной формуле пушкинской «Вольности»:
Проблемы истории русского общественного движения и исторической науки. М., 1981(под названием: «Из предыстории декабризма. Об одном эпизоде в „Записках“ Н. И. Лорера»).

К биографии Сергея Ивановича Муравьёва-Апостола
I
 Жизнь С. И. Муравьева-Апостола сравнительно мало изучена[201]. Причины тому — ранняя гибель одного из вождей декабризма, уничтожение многих связанных с ним документов накануне и во время восстания; наконец, сдержанность, порою скупость внешних проявлений богатой натуры революционера.
В данной работе использованы новые документы, которые в совокупности представляют интерес для понимания некоторых сторон биографии руководителя южного восстания.
С. И. Муравьев-Апостол родился в Петербурге 28 сентября (9 октября) 1796 г. Он был четвертым ребенком в семье литератора и государственного деятеля Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола[202]. Во время царствования Павла I И. М. Муравьев был посланником в Гамбурге, Копенгагене, а в 1800–1801 гг. находился в Петербурге в Коллегии иностранных дел.
Для истории формирования политических представлений у юных Муравьевых-Апостолов интересен до сих пор неясный вопрос о степени участия их отца в заговоре 11 марта 1801 г., тем более что с этим обстоятельством, очевидно, была связана длительная опала И. М. Муравьева-Апостола — главное событие в общественном и имущественном статусе семьи в течение многих лет.
В 1800 г. покровителем И. М. Муравьева[203] был его непосредственный начальник, вице-канцлер Никита Петрович Панин. Муравьев, несомненно, разделял многие его воззрения и в письме С. Р. Воронцову в Лондон от 16 февраля 1801 г., написанном симпатическими чернилами, с горечью сообщал об отставке и опале «г-на Панина, верного правилам чести и здравой политики». «Я сам расстроен, — признавался И. М. Муравьев, — лишившись единственного человека, который привязывал меня к службе. Я некоторым образом лишился способности размышлять и потому неудивительно, что не умею выражаться»[204].
Как известно, Н. П. Панин был одним из первых организаторов заговора, направленного к свержению Павла, но высылка из столицы прекратила его конспиративную деятельность.
Восшествие на престол Александра I отец декабристов встречает восторженно, не забывая при описании различных послаблений и наград в первые месяцы нового царствования, радостно отметить возвращение и возвышение Панина[205]. Однако летом 1801 г., находясь в Вене и Берлине с почетной миссией — передать тамошним дворам послания Александра и его матери — И. М. Муравьев-Апостол считает долгом предупредить своего покровителя о грозящей ему опасности. 23 августа 1801 г. в посланном с верной оказией письме из Вены И. М. Муравьев-Апостол обращался к Панину: «Я знаю Вас, Вы способны противиться урагану, ненастью. Но способны ли Вы перенести низкие интриги? Сильный безупречной совестью, целиком преданный делу, верный подданный и пламенный радетель за благо отечества, Вы всегда пойдете прямо к цели, с поднятой головой, пренебрегая или презирая те маленькие предосторожности, без которых невозможно долго шагать по скользкому паркету царских дворцов». В ответ на упреки каких-то врагов, что он — «преданная Панину душа», Муравьев отвечает: «Я не сержусь на это определение, но они добавляют, что я Ваше создание, и это меня сердит, так как я не являюсь чьим-либо созданием, кроме создателя»[206].
Письмо это, неплохо иллюстрирующее характер отношений двух государственных деятелей, открывает также и часть тех рассуждений (двор, интриги, совесть), которые, вероятно, с раннего детства слышали дети И. М. Муравьева-Апостола.
Как известно, предостережения подчиненного не помогли Панину: осенью 1801 г. он должен был выйти в отставку, а вскоре фактически взят под надзор, лишен права въезда в столицы и подвергся опале, длившейся 36 лет, до самой смерти Панина. Вопрос о причинах такой ненависти Александра I к вчерашнему приближенному во многом еще не ясен. Очевидно, сыграло роль не только предательство С. Р. Воронцова, представившего царю откровенные письма Паниных, но и особая роль Н. П. Панина в заговоре против Павла и его идеи ограничения самодержавия[207].
Вскоре после этого стала явно проявляться царская немилость и к И. М. Муравьеву-Апостолу: в 1802 г. он отправлен послом в Испанию, что было несомненным понижением по сравнению с его высокой петербургской должностью, а в 1805 г. по возвращении в Россию, — вынужден подать в отставку. Связь этой опалы со свержением Н. П. Панина кажется логичной. Данный эпизод тем интереснее, что о нем сохранились отзывы и старшего сына дипломата, и Александра Сергеевича Пушкина. Много лет спустя за престарелым Матвеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом будет записано: «Когда составлялся заговор, Иван Матвеевич тоже получил было от кого-то из заговорщиков приглашение принять в нем участие и отказался; потом участники заговора сумели восстановить Александра I против Ивана Матвеевича, который позже никогда не пользовался его милостью»[208].
Важно, что в таком виде этот эпизод, очевидно, отложился в сознании детей опального: неблагодарность императора из подробности семейной легко перерастала в черту политическую, связанную со многими важнейшими обстоятельствами («властитель слабый и лукавый», «к противочувствиям привычен»).
Осенью 1834 г. Пушкин сделал запись, вошедшую в его «Table-talk» и ввиду ее характера полностью опубликованную лишь в 1881 г. «Дмитриев предлагал имп. Александру Муравьева в сенаторы. Царь отказал начисто, и помолчав, объяснил на то причину. Он был в заговоре Палена. Пален заставил Муравьева писать конституцию, — а между тем произошло дело 11 марта. Муравьев хвастался впоследствии времени, что он будто бы не иначе соглашался на революцию, как с тем, чтобы наследник подписал хартию. Вздор. — План был начертан Рибасом и Паниным. Первый отстал раскаясь и будучи осыпан милостями Павла. — Падение Панина произошло от того, что он сказал, что все произошло по его плану. Слова сии были доведены до государыни Марии Федоровны — и Панин был удален. (Слышал от Дмитриева.)»[209].
Эта запись до сих пор отчасти таинственна. Очевидно, современникам нелегко было доискаться истины, даже такому важному человеку, как поэт Иван Иванович Дмитриев, при Павле обер-прокурор Сената, при Александре I — министр юстиции. Его память, к которой нередко обращался Пушкин, занимаясь потаенной русской историей, была точна. Начало эпизода до слова «вздор», кажется, довольно верное воспроизведение разговора с царем, происходившего скорее всего между 1810 и 1812 гг. Именно в это время министр юстиции много занимался составом Сената[210]; позже царь уехал на войну, Дмитриев попал в немилость, в 1814 г. попросился в отставку и почти безвыездно жил в Москве.
Итак, Александру донесли, что Муравьев «хвастался». «Вздор!» Эта оценка скорее всего принадлежит Дмитриеву, потому что пушкинское пояснение «слышал от Дмитриева» относится ко всему эпизоду. «Вздор», — говорит Дмитриев и, вероятно, соглашается Пушкин. Дмитриев и Пушкин знают, что царь говорит вздор, потому что план заговора (регентство, конституция) принадлежит Панину и Рибасу.
Насчет адмирала Рибаса точно известно, что он был одним из первых заговорщиков, но умер еще в декабре 1800 г. Непонятно только, когда он успел раскаяться? Впрочем, Дмитриев мог знать и нечто нам неведомое. Однако смысл воспоминания Дмитриева в том, что не Пален с Муравьевым, а Панин все придумал. Но ведь И. М. Муравьев-Апостол был заодно именно с Паниным, «преданная Панину душа». Естественно было бы услышать царское негодование по поводу сговора «Панин — Муравьев»… Но Дмитриев настаивает: Вздор! — не Пален — Муравьев, а Панин — Рибас. Других сведений, отвергающих или дополняющих это воспоминание, нет.
Возможно, все-таки Иван Муравьев в конце 1800 и начале 1801 г. работал с другим лидером заговора, Паленом (кстати, у Палена была, несомненно, тоже идея — ввести «хартию»).
В пушкинской записи угадываются два разговора Дмитриева с Муравьевым-Апостолом: во время первого Дмитриев ходатайствует, царь отказывает. Дмитриев сообщает об отказе Ивану Муравьеву, тот объясняет события по-своему. Важной параллелью к этим сведениям служит известное письмо-исповедь И. М. Муравьева-Апостола Г. Р. Державину от 10 сентября 1814 г.[211], где между прочим находились известные строки: «Я родился с пламенной любовию к отечеству; воспитание еще возвысило во мне сие благородное чувство, единое достойное быть страстию души сильной; и 44 года не уменьшило его ни на одну искру: как в двадцать лет я был, так точно и теперь готов, как Курций, броситься в пропасть, как Фабий обречь себя на смерть; но отечество не призывает меня; итак, безвестность, скромные семейственные добродетели — вот удел мой. Я и в нем не вовсе буду бесполезным отечеству: выращу детей, достойных быть русскими, достойных умереть за Россию. — Благодарю Всевышнего! Как золото в горниле, так душа моя очистилась несчастием: прежде могло ослеплять меня честолюбие, теперь же любовь моя к отечеству чем бескорыстнее, тем чище; пылает — не ожидая ни наград, ни даже признательности».
Сказанное, недосказанное, даже не высказанное в этом письме, самый стиль его (Державин подчеркнуто писал по-русски, Иван Матвеевич так же и отвечал) позволяют кое-что угадать и понять. В приведенных и других строках послания мелькают образы: «Любимец счастья», признаки честолюбия, поприще, усыпанное цветами, — и так до 35 лет. Затем — крушение и муки; муки жестокие — восемь лет «раны сердца» не закрывались и, кажется, к 1814 г. еще не совсем закрылись. Что же случилось? «Великое училище злополучия», «тернии», «гнусная клевета», «царская несправедливая рука», «несправедливое обо мне заключение».
Очевидно, Иван Матвеевич незадолго перед тем объяснялся с И. И. Дмитриевым насчет Сената и царской немилости, а теперь страдает из-за клеветы, — будто он писал конституцию под нажимом Палена и хвастался, что не принимал 11 марта «без хартии»… Но, видимо, дело не только в этом. В письме четырежды говорится о честолюбии («излишнем самолюбии»). Почему-то оно названо даже «ненавистным призраком»: раньше, как можно понять, оно столь было сильным у Ивана Матвеевича, что «ослепляло», рождало сны вместо ощущения жизни и радости бытия. Создается впечатление, что не только клеветников, но и себя винит автор письма: та клевета как-то даже вытекает из его честолюбия: «отечество не звало», но он сам что-то предлагал отечеству! Кажется, И. М. Муравьев когда-то проявил чрезмерное усердие, полагая, что это полезно для отечества, надеясь на «награду и признательность», и это усердие могло быть истолковано как исключительное стремление к собственной карьере. 1800–1801 гг., конец павловского царствования, дружба с Паниным, предложения заговорщиков — вот тогда, очевидно, и было проявлено это усердие, позже криво истолкованное, поднесенное царю определенным образом.
Таинственность эпизода, его характерность для политической атмосферы начала века, понятный интерес к нему видных деятелей литературы и общественной мысли — все это не позволяет недооценивать данную цепь событий в формировании мыслей и чувств у детей оскорбленного И. М. Муравьева-Апостола, «достойных умереть за Россию».
Жизнь С. И. Муравьева-Апостола сравнительно мало изучена[201]. Причины тому — ранняя гибель одного из вождей декабризма, уничтожение многих связанных с ним документов накануне и во время восстания; наконец, сдержанность, порою скупость внешних проявлений богатой натуры революционера.
В данной работе использованы новые документы, которые в совокупности представляют интерес для понимания некоторых сторон биографии руководителя южного восстания.
С. И. Муравьев-Апостол родился в Петербурге 28 сентября (9 октября) 1796 г. Он был четвертым ребенком в семье литератора и государственного деятеля Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола[202]. Во время царствования Павла I И. М. Муравьев был посланником в Гамбурге, Копенгагене, а в 1800–1801 гг. находился в Петербурге в Коллегии иностранных дел.
Для истории формирования политических представлений у юных Муравьевых-Апостолов интересен до сих пор неясный вопрос о степени участия их отца в заговоре 11 марта 1801 г., тем более что с этим обстоятельством, очевидно, была связана длительная опала И. М. Муравьева-Апостола — главное событие в общественном и имущественном статусе семьи в течение многих лет.
В 1800 г. покровителем И. М. Муравьева[203] был его непосредственный начальник, вице-канцлер Никита Петрович Панин. Муравьев, несомненно, разделял многие его воззрения и в письме С. Р. Воронцову в Лондон от 16 февраля 1801 г., написанном симпатическими чернилами, с горечью сообщал об отставке и опале «г-на Панина, верного правилам чести и здравой политики». «Я сам расстроен, — признавался И. М. Муравьев, — лишившись единственного человека, который привязывал меня к службе. Я некоторым образом лишился способности размышлять и потому неудивительно, что не умею выражаться»[204].
Как известно, Н. П. Панин был одним из первых организаторов заговора, направленного к свержению Павла, но высылка из столицы прекратила его конспиративную деятельность.
Восшествие на престол Александра I отец декабристов встречает восторженно, не забывая при описании различных послаблений и наград в первые месяцы нового царствования, радостно отметить возвращение и возвышение Панина[205]. Однако летом 1801 г., находясь в Вене и Берлине с почетной миссией — передать тамошним дворам послания Александра и его матери — И. М. Муравьев-Апостол считает долгом предупредить своего покровителя о грозящей ему опасности. 23 августа 1801 г. в посланном с верной оказией письме из Вены И. М. Муравьев-Апостол обращался к Панину: «Я знаю Вас, Вы способны противиться урагану, ненастью. Но способны ли Вы перенести низкие интриги? Сильный безупречной совестью, целиком преданный делу, верный подданный и пламенный радетель за благо отечества, Вы всегда пойдете прямо к цели, с поднятой головой, пренебрегая или презирая те маленькие предосторожности, без которых невозможно долго шагать по скользкому паркету царских дворцов». В ответ на упреки каких-то врагов, что он — «преданная Панину душа», Муравьев отвечает: «Я не сержусь на это определение, но они добавляют, что я Ваше создание, и это меня сердит, так как я не являюсь чьим-либо созданием, кроме создателя»[206].
Письмо это, неплохо иллюстрирующее характер отношений двух государственных деятелей, открывает также и часть тех рассуждений (двор, интриги, совесть), которые, вероятно, с раннего детства слышали дети И. М. Муравьева-Апостола.
Как известно, предостережения подчиненного не помогли Панину: осенью 1801 г. он должен был выйти в отставку, а вскоре фактически взят под надзор, лишен права въезда в столицы и подвергся опале, длившейся 36 лет, до самой смерти Панина. Вопрос о причинах такой ненависти Александра I к вчерашнему приближенному во многом еще не ясен. Очевидно, сыграло роль не только предательство С. Р. Воронцова, представившего царю откровенные письма Паниных, но и особая роль Н. П. Панина в заговоре против Павла и его идеи ограничения самодержавия[207].
Вскоре после этого стала явно проявляться царская немилость и к И. М. Муравьеву-Апостолу: в 1802 г. он отправлен послом в Испанию, что было несомненным понижением по сравнению с его высокой петербургской должностью, а в 1805 г. по возвращении в Россию, — вынужден подать в отставку. Связь этой опалы со свержением Н. П. Панина кажется логичной. Данный эпизод тем интереснее, что о нем сохранились отзывы и старшего сына дипломата, и Александра Сергеевича Пушкина. Много лет спустя за престарелым Матвеем Ивановичем Муравьевым-Апостолом будет записано: «Когда составлялся заговор, Иван Матвеевич тоже получил было от кого-то из заговорщиков приглашение принять в нем участие и отказался; потом участники заговора сумели восстановить Александра I против Ивана Матвеевича, который позже никогда не пользовался его милостью»[208].
Важно, что в таком виде этот эпизод, очевидно, отложился в сознании детей опального: неблагодарность императора из подробности семейной легко перерастала в черту политическую, связанную со многими важнейшими обстоятельствами («властитель слабый и лукавый», «к противочувствиям привычен»).
Осенью 1834 г. Пушкин сделал запись, вошедшую в его «Table-talk» и ввиду ее характера полностью опубликованную лишь в 1881 г. «Дмитриев предлагал имп. Александру Муравьева в сенаторы. Царь отказал начисто, и помолчав, объяснил на то причину. Он был в заговоре Палена. Пален заставил Муравьева писать конституцию, — а между тем произошло дело 11 марта. Муравьев хвастался впоследствии времени, что он будто бы не иначе соглашался на революцию, как с тем, чтобы наследник подписал хартию. Вздор. — План был начертан Рибасом и Паниным. Первый отстал раскаясь и будучи осыпан милостями Павла. — Падение Панина произошло от того, что он сказал, что все произошло по его плану. Слова сии были доведены до государыни Марии Федоровны — и Панин был удален. (Слышал от Дмитриева.)»[209].
Эта запись до сих пор отчасти таинственна. Очевидно, современникам нелегко было доискаться истины, даже такому важному человеку, как поэт Иван Иванович Дмитриев, при Павле обер-прокурор Сената, при Александре I — министр юстиции. Его память, к которой нередко обращался Пушкин, занимаясь потаенной русской историей, была точна. Начало эпизода до слова «вздор», кажется, довольно верное воспроизведение разговора с царем, происходившего скорее всего между 1810 и 1812 гг. Именно в это время министр юстиции много занимался составом Сената[210]; позже царь уехал на войну, Дмитриев попал в немилость, в 1814 г. попросился в отставку и почти безвыездно жил в Москве.
Итак, Александру донесли, что Муравьев «хвастался». «Вздор!» Эта оценка скорее всего принадлежит Дмитриеву, потому что пушкинское пояснение «слышал от Дмитриева» относится ко всему эпизоду. «Вздор», — говорит Дмитриев и, вероятно, соглашается Пушкин. Дмитриев и Пушкин знают, что царь говорит вздор, потому что план заговора (регентство, конституция) принадлежит Панину и Рибасу.
Насчет адмирала Рибаса точно известно, что он был одним из первых заговорщиков, но умер еще в декабре 1800 г. Непонятно только, когда он успел раскаяться? Впрочем, Дмитриев мог знать и нечто нам неведомое. Однако смысл воспоминания Дмитриева в том, что не Пален с Муравьевым, а Панин все придумал. Но ведь И. М. Муравьев-Апостол был заодно именно с Паниным, «преданная Панину душа». Естественно было бы услышать царское негодование по поводу сговора «Панин — Муравьев»… Но Дмитриев настаивает: Вздор! — не Пален — Муравьев, а Панин — Рибас. Других сведений, отвергающих или дополняющих это воспоминание, нет.
Возможно, все-таки Иван Муравьев в конце 1800 и начале 1801 г. работал с другим лидером заговора, Паленом (кстати, у Палена была, несомненно, тоже идея — ввести «хартию»).
В пушкинской записи угадываются два разговора Дмитриева с Муравьевым-Апостолом: во время первого Дмитриев ходатайствует, царь отказывает. Дмитриев сообщает об отказе Ивану Муравьеву, тот объясняет события по-своему. Важной параллелью к этим сведениям служит известное письмо-исповедь И. М. Муравьева-Апостола Г. Р. Державину от 10 сентября 1814 г.[211], где между прочим находились известные строки: «Я родился с пламенной любовию к отечеству; воспитание еще возвысило во мне сие благородное чувство, единое достойное быть страстию души сильной; и 44 года не уменьшило его ни на одну искру: как в двадцать лет я был, так точно и теперь готов, как Курций, броситься в пропасть, как Фабий обречь себя на смерть; но отечество не призывает меня; итак, безвестность, скромные семейственные добродетели — вот удел мой. Я и в нем не вовсе буду бесполезным отечеству: выращу детей, достойных быть русскими, достойных умереть за Россию. — Благодарю Всевышнего! Как золото в горниле, так душа моя очистилась несчастием: прежде могло ослеплять меня честолюбие, теперь же любовь моя к отечеству чем бескорыстнее, тем чище; пылает — не ожидая ни наград, ни даже признательности».
Сказанное, недосказанное, даже не высказанное в этом письме, самый стиль его (Державин подчеркнуто писал по-русски, Иван Матвеевич так же и отвечал) позволяют кое-что угадать и понять. В приведенных и других строках послания мелькают образы: «Любимец счастья», признаки честолюбия, поприще, усыпанное цветами, — и так до 35 лет. Затем — крушение и муки; муки жестокие — восемь лет «раны сердца» не закрывались и, кажется, к 1814 г. еще не совсем закрылись. Что же случилось? «Великое училище злополучия», «тернии», «гнусная клевета», «царская несправедливая рука», «несправедливое обо мне заключение».
Очевидно, Иван Матвеевич незадолго перед тем объяснялся с И. И. Дмитриевым насчет Сената и царской немилости, а теперь страдает из-за клеветы, — будто он писал конституцию под нажимом Палена и хвастался, что не принимал 11 марта «без хартии»… Но, видимо, дело не только в этом. В письме четырежды говорится о честолюбии («излишнем самолюбии»). Почему-то оно названо даже «ненавистным призраком»: раньше, как можно понять, оно столь было сильным у Ивана Матвеевича, что «ослепляло», рождало сны вместо ощущения жизни и радости бытия. Создается впечатление, что не только клеветников, но и себя винит автор письма: та клевета как-то даже вытекает из его честолюбия: «отечество не звало», но он сам что-то предлагал отечеству! Кажется, И. М. Муравьев когда-то проявил чрезмерное усердие, полагая, что это полезно для отечества, надеясь на «награду и признательность», и это усердие могло быть истолковано как исключительное стремление к собственной карьере. 1800–1801 гг., конец павловского царствования, дружба с Паниным, предложения заговорщиков — вот тогда, очевидно, и было проявлено это усердие, позже криво истолкованное, поднесенное царю определенным образом.
Таинственность эпизода, его характерность для политической атмосферы начала века, понятный интерес к нему видных деятелей литературы и общественной мысли — все это не позволяет недооценивать данную цепь событий в формировании мыслей и чувств у детей оскорбленного И. М. Муравьева-Апостола, «достойных умереть за Россию».
II
Еще находясь в Испании, И. М. Муравьев-Апостол отправил жену со всеми детьми в Париж, имея в виду прежде всего помещение сыновей в одно из лучших учебных заведений — пансион Хикса. Сохранился целый комплекс писем матери декабристов Анны Семеновны Муравьевой-Апостол к мужу Ивану Матвеевичу — из Парижа в Россию[212]. Большая семья, мать и семеро детей (от родившегося здесь Ипполита до невесты Елизаветы), проводит во Франции более пяти лет, не прерываемых даже войной России с Наполеоном в 1805–1807 гг. Последнее обстоятельство, очевидно, вызвало в начале 1806 г. упреки из России. В письме от 11 апреля 1806 г. А. С. Муравьева-Апостол пересказывает мужу соображения близкой родственницы Е. Ф. Муравьевой (матери декабристов Никиты и Александра Муравьевых), которая находит, что «в Москве учат не хуже и что все могут поверить, будто Иван Матвеевич не желает возвращения семьи». Анна Семеновна сетует на судьбу, напоминая, что она в Париже «не по своей воле», что у нее большие долги, заботы по обучению детей и лечению больных ног сына Матвея (л. 6). По сохранившимся воспоминаниям Олениных и Капнистов известно, что и в годы разрыва Франции с Россией Анна Семеновна и ее дети держались гордо и достойно. Сергей в пансионе давал отпор попыткам «ущемления» России. Сам Наполеон, кажется, лично знал А. С. Муравьеву-Апостол и относился к ней с большим уважением. Письма периода 1805–1807 гг. редки и скупы. Очевидно, часть переписки пропала из-за войны. Писать следовало с большой осмотрительностью, совершенно не упоминая о политике и т. п. (только после заключения Тильзитского мира отношения с Россией делаются живее и регулярнее). В письме от 10 августа 1806 г. (л. 10). А. С. Муравьева-Апостол извещает мужа: «Сегодня большой день. Мальчики возвращаются в пансион» (очевидно, после каникул). Затем следует самое раннее из сохранившихся писем Сергея и Матвея Муравьевых. Тринадцатилетний Матвей: «Дорогой папа, сегодня я возвращаюсь. Я очень огорчен тем, что не получил награды, но я надеюсь, что награда будет возвращена в течение этого полугодия. Мама давала обед моему профессору, который обещал ей хорошенько за мною смотреть». Десятилетний Сергей: «Дорогой папа, я обнимаю тебя[213] от глубины души. Я бы хотел иметь маленькое письмецо от тебя[214]. Ты мне еще никогда не писал. В этом году я иду на третий курс („en troisième“) вместе с братом. Я обещаю тебе хорошо работать. До свидания, дорогой папа, я тебя обнимаю от всего сердца». Таким образом, младший тремя годами Сергей по успехам догнал старшего брата. Позже мать, регулярно сообщая об успехах и неудачах детей, постоянно напоминает рассеянному отцу о том, что письмо, адресованное мальчикам, «не повредит». Как видно, в пансионе Хикса (вызывавшем в ту пору недоброжелательство наполеоновских властей и стремление подчинить заведение государственному контролю) весьма ценили пребывание двух знатных русских учеников как со стороны финансовой[215], так и для репутации заведения. 10 января 1808 г. Анна Семеновна сообщает, что «господин Хикс приходил со всеми своими помощниками поздравлять ее с новым годом. Он принес подарки всем, включая Ипполита, а затем пригласил двух мальчиков с собою на обед и в оперу и доставил их обратно в своем экипаже» (л. 14). В этом же письме сообщается о появлении в Париже русского общества, посольства. Позже, 29 сентября 1808 г., она заметит: «Русских прибывает так много, что, я боюсь, вскоре Париж будет более русским, чем французским». «Поздравляю тебя, мой друг, — пишет А. С. Муравьева, — с двумя взрослыми дочерьми; Катерина больше Элизы, а та выше матери; только Матвей не растет совсем, Катерина на голову выше его. Сережа тоже большой. Матвей начал работать чуть лучше […]. Они начали учиться по-русски: один секретарь дает им уроки, они от этого в восторге» (л. 15). Строки почти символические для истории образования и умонастроения будущих революционеров; один на пятнадцатом, другой на двенадцатом году начинают систематически учиться родному языку, но притом как характерен их восторг по этому поводу! Позже мать не раз возвращается к этой теме. 5 февраля 1808 г.: «У меня для тебя только одна хорошая новость, что Сережа работает очень хорошо в течение последнего месяца, его профессора очень довольны им, оба занимаются по-русски; граф Толстой[216] разрешил одному из своих секретарей, в пансионе, трижды в неделю давать им уроки. Они от этого в восторге». Из письма старшей дочери Елизаветы (Элизы) к отцу мы узнаем о круге их знакомых в Париже: Муравьевы бывают у Лагарпов, принца Ольденбургского, епископа Любекского, князя Меншикова, канцлера Румянцева. Сменивший Толстого посол князь Куракин сам наносит им визит. Элиза уверена, что отец в Киеве видится со старым другом семьи М. И. Кутузовым, «чьи дочери мои друзья, особенно младшая, Доротея». Сестра сообщает о братьях: «У Матвея и Сергея все в порядке. Я тебе говорила, что их сравнивают в пансионе с Кастором и Поллуксом, так как, пока один в небесах, другой — в аду, то есть пока один успевает в учении, другой ничего не делает, и так длится почти все пятнадцать дней, пока они не меняются местами. Вообще же оба становятся все более любезными. Матвей уже сложившийся мужчина, Сергей идет по стопам своего достойного брата. Об Ипполите ничего не могу сказать, кроме того, что он нас несколько раз сильно беспокоил» (л. 17). В эту пору мать уже размышляет о будущем своих сыновей. 25 февраля 1808 г.: «Еще два года, и их учение закончится. Я говорю тебе, что у Сергея глубокий ум и я верю, что он сделает нечто великое в науке. Матвей начинает хорошо работать, но он не имеет способностей своего брата. Возможно, они разовьются позднее» (л. 20). В письме без даты, но относящемся к этому же времени, находится интересный «портрет» Сергея, нарисованный матерью: «Прошлую неделю твой маленький Сергей был третьим в классе по французскому чистописанию, по риторике — наравне с мальчиками, которым всем почти 16 или 17 лет, а преподаватель математики очень доволен Сергеем, и сказал мне, что у него хорошая голова. Подумать только, что ему нет и 13 лет! Нужно тебе сказать, что он много работает, много больше, чем Матвей […] Он очень любит читать, и охотнее проведет целый день за книгой, чем пойдет прогуляться: и притом он такое дитя, что иногда проводит время со своими маленькими сестрами, играет в куклы и шьет им одежду. В самом деле, он необыкновенный» (л. 87). 6 мая 1808 г. в Россию сообщается о примечательном разговоре: «Господин Бетанкур[217] здесь, мы много говорим о нашей стране, и он мне советует направить мальчиков в математику; он меня заверял, что опытных русских инженеров очень мало, и поскольку Сергей так силен в математике — ему следовало бы более пансиона окончить политехническую школу. На все это надо еще лет пять, но полученное в результате высшее техническое образование было бы благом и для него и для отечества. Что же касается Матвея, то математика может сделать его артиллерийским офицером. Настоящее математическое образование можно получить только здесь; в России — труднее, или, говоря яснее, — невозможно» (л. 35). Как известно, эти планы не сбылись. Традиция, дух времени сулили обоим мальчикам военную службу. Международная обстановка была неустойчивой для длительного обучения во Франции. Хотя престиж точных наук возрастал, но на первом плане оставались политика, литература, науки общественные. Вскоре, в письме от 30 сентября 1808 г., Анна Семеновна высказывает иные соображения о карьере сыновей; сетует, что у нее нет средств выехать из Парижа: «все едут в Эрфурт[218] […]. Мне кажется, что я нашла бы способ поговорить с императором и уладить дела наших детей» (л. 46). Постепенно зреет мысль о необходимости вернуться на родину. Письма Анны Семеновны мужу полны жалобами на нехватку средств: парижская жизнь обходится семье в среднем в 20 000 ливров в год (8000–9000 руб., в зависимости от курса), однако долги не позволяют думать о немедленном выезде на родину. К Ивану Матвеевичу несутся просьбы продать часть земель. 29 ноября 1808 г. Анна Семеновна восклицает: «Ради бога, вытащи нас из этой парижской пучины. Я ничего другого не желаю на свете». Постепенные приготовления к отъезду мать держит в тайне от сыновей: «Я боюсь, что они перестанут совсем трудиться, в то время как сейчас они убеждены, что пробудут здесь еще два года» (письмо от 27 февраля 1809 г., л. 71 об.). Наконец, многочисленные долги заплачены и 21 июня 1809 г. в Россию сообщается: «Я отправляюсь завтра» (л. 75). Следующие письма с дороги наполнены колоритными подробностями о медленном движении большой семьи в дилижансе, затем на двух экипажах с прибавлением к ним в Берлине «une britchka». Летний путь 1809 г. по Германии лежал меж двух воюющих армий, французской и австрийской: 14 июля 1809 г. из Берлина, где была сделана длительная остановка, Анна Семеновна сообщала мужу: «Я даже была задержана на бивуаке, но к счастью это были французы. Мой страх, однако, невозможно описать, когда появились гусары […] с вопросом, кто мы такие, в 10 часов вечера, в темном лесу; ты можешь вообразить, что потребовалось немало смелости и твердости, имея семь детей, в том числе двух взрослых дочерей» (л. 78). После 8-летнего перерыва Анна Семеновна с детьми оказывается на родине. Именно в это время, на границе (как рассказал много десятилетий спустя Матвей Муравьев-Апостол) «оба брата Муравьева кинулись обнимать сторожевого казака»[219]. Как близок этот поступок к «восторгу» мальчиков, начавших в Париже изучать русский язык. Именно тогда мать и сообщила впервые детям: «В России вы найдете рабов». Осенью 1809 г. семья находилась в имении Бакумовке Полтавской губернии. 7 января 1810 г. Анна Семеновна пишет мужу уже из Москвы, на квартире Катерины Федоровны Муравьевой, «на Большой Никитской улице, в приходе Георгия на Всполье, № 237, в доме бывшем княгини Дашковой» (л. 90). В конце февраля семья в Петербурге, старшая дочь Елизавета выходит за графа Ф. П. Ожаровского. Анна Семеновна собирается надолго поселиться в провинции для восстановления запущенного хозяйства и 28 февраля 1810 г. пишет (Ожаровскому): «Мой муж останется в Москве со своими сыновьями, это для них необходимо» (л. 92 об.). В Москве мать внезапно умирает, 14-летний Сергей и 17-летний Матвей вскоре поступают на военную службу.III
Внезапная смерть матери (1810), а затем старшей дочери Е. И. Ожаровской (1814) ограничивает комплекс сохранившейся семейной переписки, так как за исключением некоторых случайных материалов, выявленных Л. A. Медведской, архив отца декабристов за период после 1814 г. в основном неизвестен. Несколько писем Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов пришли с театра военных действий против Наполеона. Лишения, переносимые в походе, усугубляются отсутствием денег — обычная ситуация в семье расточительного Ивана Матвеевича. 27 августа 1813 г. Сергей Иванович сообщает из Петервальсдау Ожаровским: «Я живу вместе с братом, и поскольку мы в сходном положении, то есть без единого су, мы философствуем каждый на свой лад, поглощая довольно тощий обед […]. Когда граф Адам [Ожаровский] был здесь, я обедал у него, но увы, он убыл, и его обеды вместе с ним»[220]. Матвей в приписке поясняет, что «философия с успехом заменяет пищу». Оправляющийся от раны Матвей в письме из Готы от 21 октября 1813 г. сообщает о закончившейся только что битве при Лейпциге: «Сергей дрался там со своим батальоном, и такого еще не видал, но остался цел и невредим, хотя с полудня до ночи четвертого октября находился под обстрелом, и даже старые воины говорят, что не припомнят подобного огня». Письмо заканчивается описанием «прекрасной Готы» и предвкушением бала, который дает город. «Впереди движение к Рейну и сладостное возвращение»[221]. Сложное умонастроение 18-летнего Сергея Муравьева, вернувшегося с войны, передает его письмо Ф. П. Ожаровскому при известии о смерти сестры Елизаветы: «Мой дорогой Франсуа, ужасная новость, которую я узнал тотчас по прибытии в Москву, в момент, когда я должен быть особенно счастлив, как раз тогда, когда я должен был ее увидеть […]. Она была более чем сестра для нас. Только религия может несколько облегчить нашу печаль». Конец письма свидетельствует о сильных религиозных чувствах, свойственных декабристу и позже своеобразно сплавившихся с революционным воззрением (это проявилось, в частности, в знаменитом «Катехизисе» С. И. Муравьева, читанном восставшему Черниговскому полку). В 1815–1820 гг. С. И. Муравьев-Апостол находится в Петербурге, в 1821–1826 гг. — на юге. Его отец с новой семьей с 1817 по 1824 г. почти безвыездно живет в имении Хомутец Полтавской губернии (позже там поселится и Матвей Муравьев-Апостол). В архиве Ожаровских сохранилось любопытное письмо декабриста Ф. П. Ожаровскому от 8 января 1818 г.: здесь представлена внешняя сторона жизни Сергея Ивановича в период его активной деятельности в первых декабристских обществах. Описывается пребывание гвардии в Москве, — «долгие дни, оживляемые лишь свадьбами; Каблуков женился на Завадовской, Обресков на Шереметевой, конногвардеец Сергей Голицын на юной графине Морковой и 300 000 рублях впридачу […]. Но Вы не думайте, что я собираюсь под ярмо Гименея; по Вашему совету — жду самую прекрасную, самую умную и любезную москвичку, хотя соблазн велик […]. И тогда, когда найду, я оставлю службу императорскую, чтобы посвятить себя ей — и стать философом […] Никита здесь и чувствует себя хорошо; Ипполит более учен, чем Аристотель и Платон, и очень важничает»[222]. За шутливой оболочкой письма скрываются серьезные размышления Сергея Муравьева, по-видимому, не считавшего возможным посвятить себя личной жизни после вступления в тайное общество, но часто мечтавшего о выходе в отставку и, по свидетельству брата, незадолго перед тем желавшего «оставить на время службу и ехать за границу слушать лекции в университете, на что отец не дал своего согласия»[223]. Некоторые новые сведения, касающиеся важного для биографии декабриста периода, обнаруживаются в обширном архиве Капнистов, друзей и полтавских соседей Муравьевых-Апостолов[224]. Несколько писем самого С. И. Муравьева-Апостола Капнистам были в свое время опубликованы И. Ф. Павловским[225]. Сверка публикации с подлинниками, хранящимися в ГНБ АН Украины, открыла некоторые подробности. Так, в письме от 24 апреля 1824 г. следует читать: «Любезнейший Семен Васильевич, после нечаянной, а для меня весьма приятной встречи нашей в Хомутце, возвратясь в Каменку, нашел я там Н. Н. больного и брата вашего Алексея Васильевича — мы провели там вместе день и после опять сошлись в Киеве, куда я приехал на несколько часов». Верное прочтение выделенных нами инициалов Н. Н., вместо П. Н. (у Павловского)[226] открывает имя одного из «каменских» — очевидно, Николая Николаевича Раевского-старшего, что сразу оживляет приведенные строки[227]. Большая часть сведений о декабристе из архива Капнистов носит косвенный характер, дополняя известные материалы о своеобразном культурном гнезде Муравьевых-Капнистов на Полтавщине, вводя скорее в мир «отцов», нежели сыновей, и позволяя восстановить некоторые подробности литературных и политических дискуссий, в которых участвовали и декабристы, понять степень взаимовлияния и отталкивания двух поколений. Из писем и записок И. М. Муравьева-Апостола семье Капнистов открывается широта культурных интересов опального государственного деятеля и его семьи, постоянные его мысли о недостатках «российского просвещения»: «Невежество! — восклицает Иван Матвеевич. — Ей богу стыдно! Я думаю, и поляки лучше нас учатся. Мы все еще татары»[228]. Поощряя В. В. Капниста к новым сочинениям, отец декабристов не скрывает своей особой («нейтральной», но ближе к «архаистам») позиции в литературных спорах тех лет: «Продолжайте! Докажите петропавловским умникам, что за 1500 верст от них можно заниматься Омером[229], а еще того лучше, что можно спорить, не бранясь. Посмотрите, как в Питере заступаются за Карамзина — чуть не по матушке…»[230]. В другом письме, отдавая на суд соседу свое «Путешествие по Тавриде» (1823), Иван Матвеевич замечает: «Аристархов наших я до того презираю, что почел бы обидою себе, если бы им вздумалось меня хвалить»[231]. Кумиры его — Державин и другие писатели старшего поколения, имя Пушкина в переписке не встречается. «Байрона я давно имею, — пишет И. М. Муравьев-Апостол, — надивиться не могу, как с прекрасным вашим вкусом вы можете находить прекрасного поэта в сумасбродном человеке, в произведениях коего я не видал до сих пор ни начала, ни конца, ни даже намерения, а того менее моральной цели, кроме той разве, чтобы представить в возможной эстетической красоте арнаута и разбойника. Впрочем, этот вкус поветрие: у нас промышляет им Жуковский и товарищи»[232]. Интерес Муравьевых-декабристов к серьезным литературным проблемам, частые наезды их на Полтавщину — все это делало высказанные отцом мысли весьма злободневными, полемическими. Позиция старшего поколения полтавских вольнодумцев была, как известно, противоречива. Оспаривая многие воззрения «детей», они в то же время пользовались уважением и вниманием прогрессивной молодежи. Известно желание декабристов видеть И. М. Муравьева-Апостола в составе временного правления после победы революции. Сохранился присланный Ивану Матвеевичу от издателей, Рылеева и А. Бестужева, том «Полярной звезды». Прямые упоминания о сыновьях-декабристах, понятно, становятся особенно частыми в письмах отца после 1820 г., когда семеновская история вызвала перевод С. И. Муравьева-Апостола на Украину и закрепила пребывание там его старшего брата. Весть о семеновской истории взбудоражила обитателей Хомутца — И. М. Мураьева-Апостола, его вторую жену П. В. Грушецкую[233] и детей от второго брака. 1 декабря (1820 г.) И. М. Муравьев-Апостол пишет В. В. Капнисту: «Чувствительно Вам благодарен, любезный сосед, за принимаемое Вами участие в моих беспокойствах о Сереже; и не менее того благодарен и любезному Семену Васильевичу[234], которому прошу о том сказать. Письма его к Вам от 11-го числа, а я вчера получил от 16-го (ноября) от возвратившегося уже из Ревеля Сережи, который в восхищении от эстляндских красавиц, пишет, что его носили на руках, давали ему званый обед у губернатора, бал великолепный, — не знаю где, и вот все тут. О приказе, распечатанном в Петербурге по 16-е число ни слова[235], — я тут ничего не понимаю […]. Впрочем, Вы можете быть уверены, что тут не умолчание, и что Сережа бы написал с буквальной точностью, если бы что было»[236]. Пересказ несохранившегося письма С. И. Муравьева-Апостола из Ревеля (куда переводились некоторые роты старого Семеновского полка) воспроизводит атмосферу общественного сочувствия пострадавшим семеновцам; понятно, званый обед у губернатора и «ношение на руках» опальных офицеров было формой оппозиции, общественного вызова против аракчеевской расправы над семеновцами. Подобный же характер оппозиции, пусть весьма умеренной, имеет другой документ, относящийся к семеновской истории и сохранившийся в архиве Капнистов. В письме без даты, но, несомненно, относящемся к концу 1820 — началу 1821 г., И. М. Муравьев-Апостол пишет В. В. Капнисту: «Между тем как Вы, дорогой сосед мой, любите меня и Сережу моего, то я уверен, что порадуетесь со мною вместе о том, что получил о нем. Я посылаю к Вам копию письма А. Мейендорфа к мадемуазель Малфузовой»[237]. А. Мейендорф — вероятно, Александр Казимирович (1790–1865), в будущем экономист, писатель; Малфузова — близкая знакомая семьи Муравьевых-Апостолов. Упомянутое письмо с описанием семеновской истории сохранилось[238]. «Петербург. 30 ноября [1820]. Вчера я получил Ваше письмо от 12 ноября и спешу ответить. Я, как никто, понимаю ту тревогу, которую должна была вызвать у Вас новость о Семеновском полку, но к тому моменту, когда Вы получите это письмо, у Вас не будет оснований для беспокойства. Вы, конечно, точно и детально извещены об этом событии, важном не столько самом по себе, сколько тем, что было сделано для подавления этого бунта. Господин Серж[239] в этих обстоятельствах не изменил себе, напротив, они помогли ему обнаружить прекрасный характер и показать, как благородно он мыслит и действует. Во время кризиса он удержал своим влиянием всю роту, готовую восстать. Он ночевал у своих гренадеров и сумел их успокоить. Это было всего через несколько часов после того, как волнение охватило его солдат, которые относились к нему с предельным уважением в течение всего кризиса. В крепости Сергей первый присоединился к своей роте. Это будет учтено военным судом и еще более увеличит то уважение, которое все время испытывали к нему его начальники и товарищи. Вам известен, конечно, приказ императора. Будущее Сергея не может Вас беспокоить. Могу Вам сказать уверенно, что в обществе отдают должное твердому, разумному и уверенному поведению Сергея. О нем говорят только с большим уважением; даже те, которые знают его лишь понаслышке, бесконечно сожалеют, что гвардия потеряла одного из своих лучших офицеров, который в этой ситуации сделался еще более достойным всеобщего уважения. Я очень рад, что могу правдиво передать Вам мнение о Сергее всех тех, кто его знает. Это мнение не может быть безразлично его уважаемым родителям и оно, напротив, должно полностью успокоить их в этом отношении». Письмо А. Мейендорфа к Малфузовой не обогащает какими-то принципиально новыми фактами историю возмущения семеновцев и биографию декабриста-семеновца. Умеренные воззрения автора очевидны — он склонен даже преувеличить стремление офицера остановить, сдержать солдат (игнорируя то обстоятельство, что часть командиров во многом разделяла чувства рядовых). Однако приведенный документ ценен как еще одно свидетельство современника событий и как дополнительная иллюстрация сильнейшего, очень широкого общественного сочувствия к семеновцам. В письмах, начиная с 1821 г., И. М. Муравьев-Апостол и его родственники часто упоминают о посещениях Сергея Ивановича. К сожалению, послания, отправлявшиеся с нарочным из Хомутца в соседнюю Обуховку, не имеют, как правило, даты (или указано только число без года и месяца). Подробный анализ, который уточнит датировку писем, выявит также итинерарий С. И. Муравьева-Апостола, даты его путешествий из Василькова в Хомутец и обратно, что, понятно, небезразлично для истории Южного общества. Первое появление С. И. Муравьева-Апостола в Хомутце после семеновской истории, очевидно, произошло 30 января 1821 г.: 2 февраля И. М. Муравьев-Апостол пишет В. В. Капнисту: «Вы получили известие от Семена Васильевича, а Сережа мой сам о себе привез третьего дня в ночь. На днях Вам его представлю»[240]. В другом письме («6 числа» неизвестного месяца, но по содержанию, несомненно, 1823 г.) И. М. Муравьев-Апостол сообщает: «Часа через три я буду богат столичными [так!] известиями; Сережа мой приехал, но я еще не видел его — прикатив до света, когда все еще спало, он отправился высыпать все ночи, которые вытрясла из него перекладная»[241]. В 1824 или 1825 г. находящийся в Хомутце Матвей Муравьев-Апостол пишет Семену Капнисту:«Господин Лан[242] обещает быть в понедельник у Вас. Я постараюсь, любезный Семен Васильевич, но не обещаю — брат мой приехал на столь короткое время, что я уверен, что Вы сами на моем месте воспользовались таким коротким свиданием. Свидетельствуйте почтение мое Вашей матушке, препоручаю себя Вашей дружбе»[243].IV
К сожалению, апогей политической деятельности С. И. Муравьева-Апостола, восстание Черниговского полка, не удается осветить сколько-нибудь существенными новыми документами. 3 января 1826 г. в сражении у деревни Ковалевки Черниговский полк был разбит правительственным отрядом. Тремя днями ранее приехавший к братьям и тут же присоединившийся к восстанию Ипполит Муравьев-Апостол гибнет, раненый Сергей и Матвей попадают в плен. Последнее, трагическое полугодие в жизни С. И. Муравьева-Апостола связано с некоторыми рассказами и легендами, анализ которых небесполезен. В 1862 г. в герценовском «Колоколе» в составе корреспонденции «Из Витебска до Ковна», присланной известным поляком, были опубликованы следующие строки: «Могилев. При названии этого города должно вспомнить русскому своего мученика Муравьева-Апостола: когда его, скованного, привели перед Остен-Сакеном, и когда Сакен стал бесноваться, вмешивая красные слова, то Муравьев потряс оковы от сдержанного волнения, плюнул на Сакена и повернулся к выходу» («Из рассказа старого капитана, конвоировавшего Муравьева до Петербурга»)[244]. Эта история находит определенную параллель в рапорте из Могилева в Петербург начальника штаба 1-й армии генерал-адъютанта Толя. Сообщая о предварительном допросе С. И. Муравьева-Апостола, он между прочим пишет: «В разговоре с подполковником Сергеем Муравьевым усмотрел я большую закоснелость зла, ибо сделав ему вопросы: как Вы могли предпринять возмущение с горстью людей? Вы, которые по молодости вашей в службе не имели никакой военной славы, которая могла бы дать вес в глазах подчиненных ваших: как могли вы решиться на сие предприятие? Вы надеялись на содействие других полков, вероятно потому, что имели в оных сообщников: не в надежде ли вы были на какое-нибудь высшее по заслугам и чинам известное лицо, которое бы при общем возмущении должно бы было принять главное начальство? На все сии вопросы отвечал он, что готов дать истинный ответ на все то, что до него касается, но что до других лиц относится, того он никогда не обнаружит, и утверждал, что все возмущение Черниговского полка было им одним сделано, без предварительного на то приготовления. По мнению моему, надобно будет с большим терпением его спрашивать»[245]. Сквозь штампованные обороты рапорта восстанавливается живой разговор — удивление важного генерала, как можно восставать, «не имея никакой военной славы, веса в глазах подчиненных»? Наверное, еще пренебрежительнее разговаривали с участником единственного в своей жизни сражения подпоручиком Бестужевым-Рюминым: он, «подобно Муравьеву, усовершенствованный закоснелый злодей, потому что посредством его имели сообщники свои сношения; и он по делам их был в беспрестанных разъездах; ему должны быть известны все изгибы и замыслы сего коварного общества»[246]. Разговор был грубым, жестким, слово «злодей» несколько раз появляется в рапорте Толя; разумеется, начальник штаба не стеснялся и в разговоре, так же как главнокомандующий 1-й армии Остен-Сакен. В этом случае Сакен и Толь были крайне заинтересованы скрыть или преуменьшить в своих отчетах отпор, полученный от С. И. Муравьева-Апостола; вероятно, рассказ старого капитана передает, пусть и «сгущая краски», реальную обстановку допроса, резкого и раздражительного со стороны командующих, и гордых, достойных ответов С. И. Муравьева-Апостола, что видно даже по отчету Толя.V
С. И. Муравьев-Апостол был доставлен во дворец поздно ночью 20 января 1826 г. Разговоры заключенных с царем, как известно, не протоколировались. В свое время в Вольной печати Герцена появилась следующая версия о словах, сказанных в ту ночь. «При допросе императором Николаем, Сергей Муравьев так резко высказал тягостное положение России, что Николай протянул ему руку и предложил ему помилование, если он впредь ничего против него не предпримет. Сергей Муравьев отказался от всякого помилования, говоря, что он именно и восставал против произвола и потому никакой произвольной пощады не примет»[247]. Другая редакция той же легенды записана в семье декабриста Ивашева со слов М. И. Муравьева-Апостола: «Во время допроса царем […] Сергей Муравьев-Апостол стал бесстрашно говорить царю правду, описывая в сильных выражениях внутреннее положение России; Николай I, пораженный смелыми и искренними словами Муравьева, протянул ему руку, сказав: — Муравьев, забудем все; служи мне. Но Муравьев-Апостол, заложив руки за спину, не подал своей государю…»[248] Буквально такой сцены, очевидно, не было. Однако зерно истины, содержащейся в приведенных рассказах, открывается из сопоставления двух документов, принадлежащих один — допрашивающему, другой — допрашиваемому. Николай I: «Никита Муравьев был образец закоснелого злодея». Из продолжения этой записи видно, что царь спутал Муравьевых, подразумевая Сергея Муравьева-Апостола: «Одаренный необыкновенным умом, получивший отличное образование, но на заграничный лад, он был в своих мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия, но вместе скрытен и необыкновенно тверд. Тяжело раненный в голову, когда был взят с оружием в руках, его привезли закованного. Здесь сняли с него цепи и привели ко мне. Ослабленный от тяжелой раны и оков, он едва мог ходить. Знав его в Семеновском полку ловким офицером, я ему сказал, что мне тем тяжелее видеть старого товарища в таком горестном положении, что прежде его лично знал за офицера, которого покойный государь отличал, что теперь ему ясно должно быть, до какой степени он преступен, что — причиной несчастия многих невинных жертв, и увещал ничего не скрывать и не усугублять своей вины упорством. Он едва стоял; мы его посадили и начали допрашивать. С полной откровенностью он стал рассказывать весь план действий и связи свои. Когда он все высказал, я ему отвечал: — Объясните мне, Муравьев, как вы, человек умный, образованный, могли хоть одну секунду до того забыться, чтоб считать ваше намерение сбыточным, а не тем, что есть — преступным злодейским сумасбродством? Он поник голову, ничего не отвечал, но качал головой с видом, что чувствует истину, но поздно. Когда допрос кончился, Левашов и я, мы должны были его поднять и вести под руки»[249]. Через пять дней после первого допроса, 25 января 1826 г. С. И. Муравьев-Апостол отправляет известное письмо царю, где между прочим ссылается на личное разрешение царя — непосредственно к нему обращаться, описывал тяжелое положение солдат и затем говорил о своем стремлении «употребить на пользу отечества дарованные мне небом способности; в особенности же если бы я мог рассчитывать на то, что я могу внушить сколько-нибудь доверия, я бы осмелился ходатайствовать перед вашим величеством об отправлении меня в одну из тех отдаленных и рискованных экспедиций, для которых ваша обширная империя представляет столько возможностей — либо на юг, к Каспийскому и Аральскому морю, либо к южной границе Сибири, еще столь мало исследованной, либо, наконец, в наши американские колонии. Какая бы задача ни была на меня возложена, по ревностному исполнению ее ваше величество убедитесь в том, что на мое слово можно положиться»[250]. Из письма видно (в нем содержится формула «подтверждаю еще раз»), что во время допроса 20 января С. И. Муравьев-Апостол уже говорил о недовольстве армии своим положением. Очевидно, Николай I поддержал эту тему, верный тому методу мнимого согласия или полусогласия с доводами собеседника, который был употреблен при допросах Каховского или, позже, в разговоре с привезенным из Михайловского Пушкиным. По всей вероятности, царь, беседуя с Муравьевым-Апостолом о положении в армии, выражал нечто вроде сожаления о способных людях, направляющих свои таланты не за, а против власти, говорилось и о необходимости «объединения усилий», чем Муравьеву была дана определенная надежда. След этого обещания наблюдается даже в царском воспоминании («Муравьев… одаренный необыкновенным умом… отличное образование») — и Муравьев, пожалуй, отзывается на эти царские слова, когда пишет «дарованные мне небом способности». Не стал бы он так наивно говорить о рискованных восточных экспедициях, если б ему не намекнули. Разрешение говорить о себе, намек на будущую «общую службу» — все это, умноженное в несколько раз слухами и воображением современников, дало легендарный итог: «Николай протянул ему руку и предложил ему помилование».VI
В «Русской старине» в 1873 г. появился следующий рассказ, записанный отчасти со слов Матвея Муравьева-Апостола: «Отцу позволили посетить Сергея Ивановича в тюрьме. Старый дипломат сильно огорчился, увидев сына в забрызганном кровью мундире, с раздробленной головой. — Я пришлю тебе, — сказал старик, — другое платье. — Не нужно, — ответил заключенный, — я умру с пятнами крови, пролитой за отечество»[251]. Эту же историю несколько иначе, на наш взгляд, более достоверно передает Софья Капнист, между прочим, получавшая вести из столицы от сестры Муравьевых-Апостолов — Екатерины Бибиковой. «Екатерина Ивановна описывала и трогательную сцену последнего свидания и прощания отца с несчастными сыновьями; получив повеление выехать за границу, он тогда же испросил позволение увидеть своих и проститься с ними». С ужасом ожидал он их прихода в присутственной зале; Матвей Иванович, первый явившись к нему, выбритый и прилично одетый, бросился со слезами обнимать его; не будучи в числе первых преступников и надеясь на милость царя, он старался утешить отца надеждою скорою свидания. Но когда явился любимец отца, несчастный Сергей Иванович, обросший бородою, в изношенном и изорванном платье, старику сделалось дурно, он, весь дрожащий, подошел к нему и, обнимая его, с отчаянием сказал: «В каком ужасном положении я тебя вижу! Зачем ты, как брат твой, не написал, чтобы прислать тебе все, что нужно?» Он со свойственной ему твердостью духа отвечал, указывая на свое изношенное платье: «Mon père, cela me suffira!», т. е. что «для жизни моей этого достаточно будет!». Неизвестно, чем и как кончилась эта тяжкая и горестная сцена прощания навеки отца в преклонных летах с сыновьями, которых он нежно любил и достоинствами коих так справедливо гордился[252]. Свидание С. И. Муравьева-Апостола с отцом происходило 13 мая 1826 г. Точность и большую достоверность воспоминаний С. В. Капнист (видимо, основанных на не дошедших к нам дневниковых записях) подтверждает газетное объявление, впервые появившееся в «Санкт-Петербургских ведомостях» 14 мая, а в последний, третий раз 21 мая 1826 г.: «Отъезжает тайный советник, сенатор, действительный камергер и кавалер Муравьев-Апостол с супругой Прасковьей Васильевной и малолетними детьми Евдокией, Елизаветой и Васильем; при них камердинер Карл Ион, саксонский подданный, и дворовые люди Иван Кононов и Евдокия Брызгова. Спрос на Исаакиевской площади в доме Кусовникова». Точность информации С. В. Капнист о предстоящем после свидания отъезде отца декабристов подтверждает достоверность другого элемента ее рассказа — о том, что И. М. Муравьев-Апостол получил царское повеление уехать за границу и находился там во время вынесения и исполнения приговора. Сенатор был слишком крупной персоной, сыновья его были в центре заговора; Николай I уже знал, что Сенат будет участвовать в решении дела, и в этом случае отец декабристов мешал высшей власти, самим своим существованием олицетворяя живой протест.*
С. И. Муравьев-Апостол был казнен на рассвете 13 июля 1826 г., мужественно держась до конца и ободряя своего друга М. П. Бестужева-Рюмина. Много лет спустя Лев Николаевич Толстой, отнюдь не разделявший основные идеи С. И. Муравьева-Апостола, запишет о нем рассказ престарелого Матвея Ивановича и скажет о погибшем декабристе: «Сергей Иванович Муравьев, один из лучших людей того, да и всякого времени»[253].Исторические записки. М., 1975. Т. 96.

Не ему их судить…
Осенью 1817 года в Москве Иван Якушкин объявил товарищам по тайному обществу, что считает благом для России отправиться с двумя пистолетами к Успенскому собору, где будет царь Александр I: одним выстрелом убить императора, другим — себя… Члены декабристского Союза спасения отговорили Якушкина, считая покушение нецелесообразным. Тайное общество не было еще готово ко взятию власти. В среде декабристов довольно широко распространился слух о предложении Якушкина. Сохранилось важное свидетельство будущего царя, в то время великого князя Николая Павловича: «По некоторым доводам я должен полагать, что государю (Александру I) еще в 1818 году в Москве после богоявления (в январе) сделались известными замыслы и вызов Якушкина на цареубийство: с той поры весьма заметна была в государе крупная перемена в расположении духа, и никогда я его не видал столь мрачным, как тогда…» Академик М. В. Нечкина высказала осторожное предположение, что информация достигла престола скорее не после, а до января 1818 г., что доносчиком был член тайного общества Николай Комаров. Очевидно, реальная угроза цареубийства (вместе с другими соображениями) повлияла на Александра I: он в присутствии многих лиц, за столом вскоре заговорил о своем будущем отречении от престола. Несколько позже царь впервые объявил младшему брату Николаю, что трон должен перейти к нему, а не к старшему брату и официальному наследнику Константину. Естественно, возникает вопрос, отчего, зная о проекте Якушкина, власти не прибегли к арестам и другим репрессиям? Ведь именно в это время заключают в Шлиссельбургскую крепость отставного полковника Тимофея Бока, подавшего на высочайшее имя смелые записки. И тем не менее в 1817–1819 гг. никто из декабристов не был наказан (не считая неожиданного, но краткого ареста Александра Муравьева в начале 1818 г.). Судя по всему, секретный розыск насчет Якушкина даже не велся. Этот факт еще можно объяснить тем, что сведения были весьма неопределенными; но вот последующие события уже не поддаются такой мотивировке. Три года спустя, в 1821 г. на царский стол лег подробный донос одного из членов Коренной управы (руководящего центра) тайного общества Михаила Грибовского, который перечислял главных деятелей Союза благоденствия, сообщал об их планах, целях. На рукописи доноса, как недавно удалось установить, следующий царь, Николай I, написал (по-французски): «Вручено императору Александру за четыре года до событий 14 декабря 1825 г.». Затаенный яд этой пометы очевиден: за четыре года до восстания были названы главные заговорщики, можно было «пресечь бунт» в зародыше, но Александр I почему-то этого не сделал. Не придал значения сообщенным фактам? Отнюдь нет! Сохранился ряд сведений об испуге и озлоблении царя. Кое-кто из названных в доносе лиц под благовидным предлогом был удален из столицы (но кое-кто, наоборот, повышен, поощрен); запрещены масонские ложи, иногда рядившиеся в масонские одежды тайные организации ушли еще глубже в подполье. На замечание одного из высших сановников Ил. Вас. Васильчикова о необходимости принятия более решительных мер против тайных обществ царь отвечает: «Не мне их карать». Эта фраза достоверна и свидетельствует о немалом кризисе верховной власти, ее бессилии сделать что-либо для пресечения дворянской революционности. В самом деле, Александр I своими обещаниями и послаблениями в начале царствования, проектами различных реформ (Негласный тайный комитет, затем замыслы Сперанского) возбудил много надежд на близкие коренные перемены — отмену крепостного права, конституцию. После победы над Наполеоном реформы были явно «задвинуты» или забыты; вместо них — аракчеевщина, военные поселения, Священный Союз. Обманутые надежды лучших людей российского общества постепенно сменяются убеждением, что сам царь виноват в антиправительственном возбуждении. К тому же формула «не мне их карать», очевидно, относилась и к роли самого Александра в событиях 1801 г., когда он, в сущности, санкционировал государственный переворот против отца — Павла I. По его представлениям, он сам был в ту пору заговорщиком «во благо России», как 20 лет спустя — члены тайных союзов. Не ему их судить. Время шло. Сравнительно мирные декабристские организации сменяются Северным и Южным военными тайными обществами, цель которых при всех колебаниях и разногласиях ясна: военная революция, уничтожающая самодержавие и крепостное право. Согласно Пушкину, в России о заговоре знали все, кроме тайной полиции (в X главе «Евгения Онегина» строка — «наш царь дремал»). Впрочем, дружины Рылеева и Пестеля, разумеется, принимали свои конспиративные меры, готовясь ответить ударом, если будут открыты. Известия же о заговоре, вероятно, не слишком конкретные, продолжали поступать. Вот запись 1824 г.: «Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит или по крайней мере сильно уже разливаем и между войском… В обеих армиях… есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров». В узком кругу царской семьи, среди приближенных повторяются слова, которые Александр I впервые произносил еще в юности, — о желаемом отречении, «уходе в отставку», отъезде с целью зажить частной жизнью где-нибудь за границей. (Так, известно, что весной 1825 г. шурин Александра I принц Оранский представил свои возражения против отречения императора.) Логическим продолжением этого сложного психологического состояния Александра I было окончательное оформление завещания. Передача престола подготавливалась в глубочайшей тайне, о том не знали даже многие виднейшие государственные лица. По всей стране в церквах по-прежнему, как полагается, возглашались здравия императору Александру и наследнику престола — Константину. Исследователи немало спорили о причинах этой таинственности. Наиболее вероятной кажется версия о страхе Александра I вызвать обсуждение причин перемены в престолонаследии, боязнь возможного брожения умов, которое могло быть усилено или использовано тайным обществом. Как мы знаем, позже, перед 14 декабря 1825 г., ситуация «Константин или Николай» была одной из пружин, ускоривших общественный взрыв. Летом 1825 г. унтер-офицер Шервуд, пробившись к Аракчееву, а затем к царю, сумел сообщить о мощном тайном союзе на юге, готовящем решительный удар. Начальник Главного штаба Дибич, присутствовавший при беседе царя с Шервудом, не поверил в реальность заговора, но царь возразил: «Шервуд говорит правду». При этом Александр I интересовался, не участвует ли в тайном обществе «кто-нибудь из лиц поважнее». Царь отбыл на юг страны: ближайшее будущее грозило ему взрывом и гибелью. 22 сентября 1825 г., находясь в Таганроге, Александр I узнал об убийстве в Грузине, близ Новгорода, возлюбленной Аракчеева Настасьи Минкиной. Ныне, спустя много лет, точно известно, что убийство совершили крестьяне, не вынесшие изуверской жестокости своей хозяйки. Но тогда, явно под впечатлением недавнего доноса Шервуда, Александр решил, будто в Грузине действовало тайное общество: Минкину «убили нарочно, из ненависти не к ней, но к графу Аракчееву, чтобы его удалить от дел» (записано начальником Главного штаба Дибичем). Аракчеев поддержал версию о «постороннем влиянии» и прибавлял — «по стечению обстоятельств можно еще, кажется, заключить, что смертоубийца имел помышление и обо мне». Царь вызывает к себе верного министра и фаворита, но тот не приезжает. Фразу в царском письме о необходимом расследовании дела Аракчеев использует как повод для жесточайшей расправы над сотнями подозреваемых. Вскоре приходят новые угрожающие сведения: 18 октября 1825 г. в Таганрог явился начальник южных военных поселений граф Витт, доставивший царю последние данные о большом заговоре, полученные от провокатора Бошняка. Хотя доклад Витта был устным, мы легко можем установить, чтó он рассказал императору, ибо позже сведения, добытые Бошняком, фигурировали и на процессе декабристов. Наряду с реальными фактами, конкретными именами старших офицеров и генералов-декабристов Бошняк собрал разные домыслы — отзвук преувеличенных представлений, свойственных некоторым заговорщикам, о силах тайного союза. К тому же в интересах нечистого на руку и циничного генерала Витта было завысить революционные силы и тем раздуть свои заслуги. Так или иначе, но 18 октября 1825 г. царю было доложено, что существует пять «вент» (отраслей) тайного общества, что заговорщики контролируют 13 полков, 5 артиллерийских рот и какую-то часть флота, что они рассчитывают на видных военачальников — Ермолова, Сенявина, Киселева. Царю, очевидно, дословно было передано записанное провокатором восклицание декабриста Лихарева: «Ах! Если бы Вы знали, кто между нами находится, Вы не захотели бы мне поверить». Сейчас, полтора века спустя, мы знаем, что некоторые высшие сановники в лучшем случае пассивно симпатизировали заговору и готовы были соучаствовать только после победы восстания. Однако важно понять, что осенью 1825 г. Александр I, особенно боявшийся заговора «лиц поважнее», помнивший, как подобные лица свергли Павла I, — представлял угрозу большей, чем она была. К тому же генерал Витт уже знал, что южные декабристы догадались о провокации, и это, несомненно, должно было толкнуть их к решительным действиям… Позже Витт, очевидно, смешивая правду с ложью, сообщал некоторые подробности той, последней его беседы с Александром I своему адъютанту Ксаверию Браницкому (в будущем известному деятелю польской эмиграции). Согласно Браницкому, царю в тот день, между прочим, были доложены явно преувеличенные данные о связях с заговорщиками таких важных сановников, как граф Михаил Воронцов и генерал Павел Киселев; Александр I говорил о необходимости хотя бы кратковременного ареста руководителей тайных обществ; о том, что он желает в будущем реформировать Россию главным образом путем… расширения системы военных поселений (через которые должна быть «пропущена» большая часть крестьянства и таким путем освобождена от крепостной зависимости). Любопытно, что даже такой осведомленный и влиятельный царедворец, как Витт, до конца дней был уверен, будто Александр I погиб насильственной смертью… Однако вернемся к событиям, предшествующим кончине царя. Едва были осмыслены «новости Витта», как в начале ноября пришел очередной донос Шервуда: член Южного общества Вадковский проговорился о планах декабристов выступить в скором времени, сразу после цареубийства… Как видим, осенью 1825 г. в Таганроге царя преследуют, подавляют угрозы и «призраки»: 1. Покушение тайного общества на Аракчеева и Минкину в Грузине. 2. Депрессия Аракчеева, на помощь которого Александр I особенно надеялся. 3. Желание многочисленных полков (артиллерии, флота) выступить против самодержавия. 4. Важные государственные персоны — среди заговорщиков. 5. Приближение часа цареубийства и восстания. Что делать? Не реагировать, дожидаясь неминуемого удара, царь не может и не хочет. Реагировать? Меры предосторожности приняты, ряд репрессий готовится. И в то же время реагировать «по-настоящему» — означало произвести массовые аресты и расправы в полках, среди генералитета, среди высших сановников. Этого он смертельно боится; возможно, ожидает подосланных убийц, а в связи с несомненным развитием религиозно-мистических чувств готов увидеть здесь «перст судьбы»; «тень убитого Павла» и т. п. Таким представляется общий фон настроений «наверху» за месяц до 14 декабря. И вдруг — внезапная болезнь и смерть царя в Таганроге 19 ноября 1825 г. Через 25 дней декабристы выходят на Сенатскую площадь.Советские историки собрали огромные материалы, сделали ряд замечательных открытий, связанных с историей декабристов. Однако впереди немало работы: до сих пор нам еще не известны важные подробности главных вооруженных выступлений декабристов в Петербурге и на юге. Еще не опубликованы десятки декабристских следственных дел, не изучены, как хотелось бы, биографии многих декабристов. Еще не произведено полное научное исследование тайного политического процесса, производившегося в течение полугода над сотнями дворянских революционеров. Только понаслышке мы знаем сегодня о сотнях декабристских воспоминаний, документов, стихотворений, что были в свое время уничтожены, спрятаны, а после забыты, утеряны и т. п. Совершенно особой и достаточно интересной является тема о декабристах и правительственных верхах. Это важно для понимания глубочайших внутренних причин, важных этапов развития освободительного движения 1820-х годов… Ведь Пестель и Пущин, Муравьевы и Бестужевы действовали в конкретной исторической обстановке, в окружении Романовых, Аракчеевых, Бенкендорфов. Поэтому тайны монархии, дворцовые секреты и легенды — если они относятся к 1820-м, особенно к 1825 г., — естественно, составляют объект внимания и изучения для историков декабризма. Сегодня мы должны основательно «допросить» и противников декабристов.
Послесловие Как известно, сразу же после 19 ноября 1825 г. возник слух, затем угас, исчез, а несколько десятилетий спустя возродился снова, будто Александр I не умер в Таганроге, а таинственно ушел, уехал, скрылся… Мы сейчас не собираемся, даже в самых кратких чертах, анализировать громадную литературу, посвященную «ушедшему императору», загадочному старцу Федору Кузьмичу и т. п. Напомним только о пристальном интересе Льва Николаевича Толстого к этому сюжету (неоконченная повесть «Посмертные записки старца Федора Кузьмича»). Заметим также, что в ряде зарубежных изданий вопрос об уходе со сцены Александра I рассматривается как «еще не решенный русскими и советскими историками». Этот сюжет обсуждался в нашей печати около 10 лет назад на страницах журнала «Вопросы истории», «Недели», «Науки и жизни». По инициативе одного из лучших знатоков этой проблемы, писателя, искусствоведа, автора известных воспоминаний «На чужбине» Льва Дмитриевича Любимова тогда рассматривался вопрос о необходимости изучения гробницы Александра I в Петропавловской крепости. Руководство Министерства культуры РСФСР в связи с этим справедливо указало, что предварительно необходимо осветить вопрос о предшествующих вскрытиях императорских гробниц. Действительно, среди многочисленных документов, воспоминаний, преданий функционирует немало сведений о том, будто усыпальница в соборе уже вскрывалась и что саркофаг императора Александра I (в отличие от других царских могил) совершенно пуст. Л. Д. Любимов незадолго до кончины ознакомил автора с рядом публикаций по интересующей нас теме, а также с огромным числом интересных писем, полученных им в ходе дискуссии 1966 г. и лишь частично поместившихся на страницах тогдашней печати. Среди этих документов (а также некоторых других, недавно полученных автором) находятся очень любопытные свидетельства. В парижской газете «Кандид» от 12 июля 1939 г. Л. Д. Любимов писал: «Коровин, известный художник, утверждал в разговоре со мною, что нарком просвещения Луначарский ему сообщал: „Гроб Александра I найден пустым“». Сходные данные, хотя и расходящиеся в некоторых деталях, поступили от профессора В. К. Красуского (Колтуши), профессора А. Н. Савинова (Ленинград), доктора физико-математических наук В. И. Ангелейко (Харьков), Н. К. Светлановой (Ленинград), Б. А. Короны (Москва). Первоисточниками сообщаемой информации были названы свидетельства А. А. Сиверса, В. К. Лукомского, Ф. И. Шмита (известных специалистов по различным историческим и искусствоведческим дисциплинам), О. В. Аптекмана (народника, автора известных воспоминаний, работавшего после революции в Петроградском историко-революционном архиве), архиепископа Николая (в миру врача В. М. Муравьева-Уральского). Согласно этим рассказам, при изучении царских склепов в Петропавловском соборе, произведенном свыше полувека назад, были обнаружены более или менее сохранившиеся тела различных членов императорской фамилии. Только в склепе Александра I будто бы не было ничего, кроме пыли. Этот же факт подтверждают еще несколько письменных, устных и напечатанных за рубежом свидетельств, некоторые со ссылками на руководителей Наркомпроса А. В. Луначарского и М. Н. Покровского. Всего в нашем распоряжении находится пятнадцать таких свидетельств. Из воспоминаний, восходящих к началу 1920-х годов, получено только одно — со смыслом, противоположным приведенному: писатель Ю. О. Домбровский сообщал, что профессор К. В. Кудряшов (автор книги «Александр I и тайна Федора Кузьмича») заверял слушателей своих лекций: «Гробницы в Петропавловском соборе не вскрывались». Каков вывод? Еще раз подчеркиваем, что мы сознательно сузили тему, решительно исключив, не рассматривая пока что все чрезвычайно многочисленные и крайне противоречивые свидетельства о других таинственных или неясных обстоятельствах, возможно, связанных с историей Александра I (все факты, появившиеся в печати или присланные в письмах во время обсуждения 1966 г., автору настоящей статьи известны). Речь идет пока только о подтверждении или опровержении имеющихся сведений насчет «пустой гробницы», обнаруженной в 1920-х годах. 15 свидетельств, в общем, одинаково описывающих интересующий нас факт, высказанных, в частности, людьми с квалифицированным научным мышлением, со ссылкой на ряд авторитетнейших имен… Казалось бы, достаточно для выводов, что: 1. В 1921 г. гробница Александра I была пуста. 2. Отсюда с огромной долей вероятности следует, что она была пуста и до 1917 г. 3. Немыслимо представить (на основании того, что нам известно о моральных и религиозных принципах правящей верхушки), чтобы царская фамилия разрешила потревожить тело одного из предков: либо в гробу в течение почти столетия вообще не лежало никакого тела, либо поначалу во время похорон Александра I был погребен в Соборе другой человек (об этом есть легенды) и после останки были оттуда изъяты. 4. Если так, значит, Александра I никогда не хоронили в Петропавловском соборе в 1826 г.; значит, он не умирал 19 ноября 1825 г. в Таганроге и скорее всего скрывался от приближавшегося декабристского удара. Куда? В Англию (по одним сведениям), на Дон, в Сибирь (по другим). Но от этой стороны вопроса мы сейчас решительно уклоняемся. Казалось бы, все логично. Но… но… Но ведь достаточно было распространиться хотя бы одному «хорошо рассказанному» слуху, чтобы возникла крепкая версия. К тому же мы знаем теперь, сколько вполне разумных, серьезных людей делались жертвами сложного «коллективного гипноза» и своими глазами видели «маленьких зеленых космических пришельцев», а иногда и еще более невероятные вещи. Нет, всякая тайна, развивая наше воображение, фантазию требует для противовеса самой нудной, сухой, тщательной проверки. Хотя о «пустом гробе» 1921 г. свидетельствуют весьма компетентные лица, но увы! Никто из них не видел сам — все ссылаются на других компетентных очевидцев. Ни одного свидетельства «первого ранга» пока не удалось найти. Архивные поиски официального акта о вскрытии гробниц пока ничего не дали: отдельный документ очень трудно, практически невозможно найти, если не представлять достаточно точно, по какому ведомству он шел. Специалисты по истории того периода допускают, между прочим, что вскрытие гробниц в 1921 или 1922 г. могло быть следствием энергичной инициативы каких-либо петроградских учреждений, чьи архивы за прошедшие десятилетия, особенно за время войны, подвергались различным, порою гибельным перемещениям. Так или иначе, но понятно, что «раскопки» в Петропавловской крепости если и были, то не оставили по условиям того времени достаточно весомой документации. Вскрытие гробницы Александра I и других императоров в Петропавловском соборе, произведенное в наши дни (наподобие недавнего вскрытия гробниц царей Ивана Грозного и Федора Ивановича в Московском Кремле), конечно, могло бы «закрыть тему», уничтожить многочисленные слухи от весьма правдоподобных до совершенно нелепых. Смерть Александра I или бегство его в контексте предыстории декабризма — явления одного порядка: кризис, паника, сокрушение, распад на фон е надвигающейся, как Немезида, революционной мести. В то же время, с точки зрения исторической психологии, нас интересуют разнообразные подробности, социально-психологические детали напряженной схватки. Вряд ли нужно доказывать, что психологический фон поведения верхов в период приближающегося восстания декабристов — проблема важная, помогающая объяснению ряда страниц первого революционного движения.
Наука и жизнь. 1976. № 7.

Журналы и докладные записки Следственного комитета по делу декабристов
 «Журналы заседаний Высочайше утвержденного комитета о злоумышленных обществах» и во многом сходный с ними документ «Докладные записки» являются частью сложного делопроизводственного комплекса, связанного со следствием над декабристами[254]. «Журналы» и «Записки» еще не опубликованы и далеко не достаточно используются историками[255]. После осуждения декабристов их следственные дела и другие материалы процесса долго хранились «за семью печатями» в Государственном архиве. К ним допускались отдельные историки, пользовавшиеся доверием власти (М. И. Богданович, Н. Ф. Дубровин, Н. К. Шильдер). Первые значительные извлечения из этих бумаг появились только после 1905 г.[256] Главное внимание первых публикаторов было обращено на следственные дела отдельных декабристов, содержащие их собственноручные показания.
С первых лет Советской власти началась подготовка к изданию следственных дел и других документов. С 1925 г. по настоящее время вышло 12 томов документов «Восстание декабристов»[257], где представлены 66 следственных дел (из общего числа более 300) и, сверх того, дела участников восстания Черниговского полка. Это издание — продолжающееся, имеющее большой перспективный план, — без сомнения, является основным событием в истории разработки «Журналов» и «Докладных записок». В статье «Следствие над декабристами», помещенной в первом томе этого издания, А. А. Покровский охарактеризовал «Журналы» Комитета и «Записки» (последние названы «Отчетами, о заседаниях»), которые представлялись Николаю I[258], использовав эти источники для краткого анализа деятельности Следственного комитета. Он привел ряд фактов из «Журналов», дополняющих следственные дела Трубецкого, Никиты Муравьева и некоторых других декабристов[259], однако систематической выборки из «Журналов» относительно восьми декабристов (чьи дела публиковались в томе), в первой книге «Восстания декабристов» не было проведено. Этот пробел лишь отчасти компенсирован последующими публикациями[260]. Со второго тома сборника помещаются очень важные дополнения из «Журналов» к каждому делу, что значительно обогащает публикации следственных дел, но, разумеется, не отменяет необходимого изучения этого источника в целом.
В дальнейшем «Журналы» и «Записки» использовались, во-первых, в обобщающих работах советских историков при характеристике следствия над декабристами и следственных материалов; во-вторых, в исследованиях, посвященных отдельным декабристам (материалы о которых выборочно извлекались из «Журналов», как это практиковалось и при издании следственных дел). В работе М. Н. Гернета «История царской тюрьмы» отмечено большое значение подлинных «Журналов». Кроме уже известных, в основном из статьи А. А. Покровского, выкладок о Следственном комитете, Гернет нашел в «Журналах» дополнительные подтверждения активной роли Николая I в следствии (указание, полученное Комитетом 28 мая 1826 г., — не заниматься разделением декабристов «по разрядам» и др.)[261].
В капитальном труде М. В. Нечкиной «Движение декабристов», в главе «Следствие, суд, приговор» содержится ряд сведений, заимствованных из «Журналов»[262]. Однако подробная история следствия не входила в задачу М. В. Нечкиной, другие же работы, посвященные истории декабристского процесса в целом, отсутствуют. О следствии и суде над отдельными декабристами написано немало, но одно, несколько, даже множество дел — это еще не процесс с его сложнейшими связями и взаимодействиями.
Краткая характеристика «Журналов» как исторических источников дана в работе И. А. Мироновой[263]. Автор использует «Журналы» и как подспорье для анализа следствия над И. Я. Якушкиным[264].
Многосторонне использованы «Журналы» М. В. Нечкиной при изучении следствия над А. С. Грибоедовым[265]. Анализ «Журнала» 10-го заседания Комитета (26 декабря 1825 г.), где было принято решение об аресте Грибоедова, позволил автору указать на недоговоренность в этом документе, где в спешке представлялся к аресту ряд лиц и не слишком точно сообщалось о том, чьи показания вызывают это представление (отчего оставалась неясной связь показаний С. П. Трубецкого и ареста Грибоедова). Сопоставляя почти одинаковые формулировки двух обращений Следственного комитета к царю по поводу дела Грибоедова (25 февраля и 31 мая 1826 г.), размышляя над тем, отчего первое обращение было отвергнуто, а второе принято, сопоставляя утверждения Комитета, будто против Грибоедова существует всего одно показание, в то время как их было не менее четырех, М. В. Нечкина угадывает за этим хлопоты в пользу Грибоедова влиятельных лиц (И. Ф. Паскевича и др.).
Примеры обращения к «Журналам» исследователей, работающих над биографиями отдельных декабристов, можно было бы увеличить. Однако «резервы» возможного использования источника еще далеко не исчерпаны. По-прежнему сохраняет актуальность та проблема, о которой удачно сказал Ю. М. Лотман: «Основным документальным фон дом для историка декабризма являются материалы Следственной комиссии. Когда-то недоступные и манившие историков, они теперь хорошо изучены, частично опубликованы и широко привлекаются в работах различных авторов. К сожалению, не всегда при этом проявляется достаточное понимание исследовательских приемов, которые необходимы всякому, обращающемуся к столь своеобразному документарию.
Упомянутый фон д исключает частичное, цитатное использование отдельных показаний или вырывание лишь каких-то дел и требует от изучающего знания всего материала и понимания всего хода работ Следственного комитета, учета ежедневных поворотов событий и конкретных изменений в тактике судей и их жертв — каждой в отдельности. В этом смысле исследование, в котором рассматривался бы весь ход следствия день за днем, принесло бы не только большую научную, но и методическую пользу. Огромные результаты сулит кропотливый труд по обзору материалов, проведенному не в порядке лиц и дел, а хронологически — день за днем, а где возможно — и час за часом. Такого рода работа даст в руки исследователя необходимые коэффициенты поправок точности тех или иных документальных свидетельств»[266].
Можно добавить, что без глубокого изучения «Журналов» Следственного комитета и ежедневных «Докладных записок» подобные задачи неразрешимы.
«Журналы заседаний Высочайше утвержденного комитета о злоумышленных обществах» и во многом сходный с ними документ «Докладные записки» являются частью сложного делопроизводственного комплекса, связанного со следствием над декабристами[254]. «Журналы» и «Записки» еще не опубликованы и далеко не достаточно используются историками[255]. После осуждения декабристов их следственные дела и другие материалы процесса долго хранились «за семью печатями» в Государственном архиве. К ним допускались отдельные историки, пользовавшиеся доверием власти (М. И. Богданович, Н. Ф. Дубровин, Н. К. Шильдер). Первые значительные извлечения из этих бумаг появились только после 1905 г.[256] Главное внимание первых публикаторов было обращено на следственные дела отдельных декабристов, содержащие их собственноручные показания.
С первых лет Советской власти началась подготовка к изданию следственных дел и других документов. С 1925 г. по настоящее время вышло 12 томов документов «Восстание декабристов»[257], где представлены 66 следственных дел (из общего числа более 300) и, сверх того, дела участников восстания Черниговского полка. Это издание — продолжающееся, имеющее большой перспективный план, — без сомнения, является основным событием в истории разработки «Журналов» и «Докладных записок». В статье «Следствие над декабристами», помещенной в первом томе этого издания, А. А. Покровский охарактеризовал «Журналы» Комитета и «Записки» (последние названы «Отчетами, о заседаниях»), которые представлялись Николаю I[258], использовав эти источники для краткого анализа деятельности Следственного комитета. Он привел ряд фактов из «Журналов», дополняющих следственные дела Трубецкого, Никиты Муравьева и некоторых других декабристов[259], однако систематической выборки из «Журналов» относительно восьми декабристов (чьи дела публиковались в томе), в первой книге «Восстания декабристов» не было проведено. Этот пробел лишь отчасти компенсирован последующими публикациями[260]. Со второго тома сборника помещаются очень важные дополнения из «Журналов» к каждому делу, что значительно обогащает публикации следственных дел, но, разумеется, не отменяет необходимого изучения этого источника в целом.
В дальнейшем «Журналы» и «Записки» использовались, во-первых, в обобщающих работах советских историков при характеристике следствия над декабристами и следственных материалов; во-вторых, в исследованиях, посвященных отдельным декабристам (материалы о которых выборочно извлекались из «Журналов», как это практиковалось и при издании следственных дел). В работе М. Н. Гернета «История царской тюрьмы» отмечено большое значение подлинных «Журналов». Кроме уже известных, в основном из статьи А. А. Покровского, выкладок о Следственном комитете, Гернет нашел в «Журналах» дополнительные подтверждения активной роли Николая I в следствии (указание, полученное Комитетом 28 мая 1826 г., — не заниматься разделением декабристов «по разрядам» и др.)[261].
В капитальном труде М. В. Нечкиной «Движение декабристов», в главе «Следствие, суд, приговор» содержится ряд сведений, заимствованных из «Журналов»[262]. Однако подробная история следствия не входила в задачу М. В. Нечкиной, другие же работы, посвященные истории декабристского процесса в целом, отсутствуют. О следствии и суде над отдельными декабристами написано немало, но одно, несколько, даже множество дел — это еще не процесс с его сложнейшими связями и взаимодействиями.
Краткая характеристика «Журналов» как исторических источников дана в работе И. А. Мироновой[263]. Автор использует «Журналы» и как подспорье для анализа следствия над И. Я. Якушкиным[264].
Многосторонне использованы «Журналы» М. В. Нечкиной при изучении следствия над А. С. Грибоедовым[265]. Анализ «Журнала» 10-го заседания Комитета (26 декабря 1825 г.), где было принято решение об аресте Грибоедова, позволил автору указать на недоговоренность в этом документе, где в спешке представлялся к аресту ряд лиц и не слишком точно сообщалось о том, чьи показания вызывают это представление (отчего оставалась неясной связь показаний С. П. Трубецкого и ареста Грибоедова). Сопоставляя почти одинаковые формулировки двух обращений Следственного комитета к царю по поводу дела Грибоедова (25 февраля и 31 мая 1826 г.), размышляя над тем, отчего первое обращение было отвергнуто, а второе принято, сопоставляя утверждения Комитета, будто против Грибоедова существует всего одно показание, в то время как их было не менее четырех, М. В. Нечкина угадывает за этим хлопоты в пользу Грибоедова влиятельных лиц (И. Ф. Паскевича и др.).
Примеры обращения к «Журналам» исследователей, работающих над биографиями отдельных декабристов, можно было бы увеличить. Однако «резервы» возможного использования источника еще далеко не исчерпаны. По-прежнему сохраняет актуальность та проблема, о которой удачно сказал Ю. М. Лотман: «Основным документальным фон дом для историка декабризма являются материалы Следственной комиссии. Когда-то недоступные и манившие историков, они теперь хорошо изучены, частично опубликованы и широко привлекаются в работах различных авторов. К сожалению, не всегда при этом проявляется достаточное понимание исследовательских приемов, которые необходимы всякому, обращающемуся к столь своеобразному документарию.
Упомянутый фон д исключает частичное, цитатное использование отдельных показаний или вырывание лишь каких-то дел и требует от изучающего знания всего материала и понимания всего хода работ Следственного комитета, учета ежедневных поворотов событий и конкретных изменений в тактике судей и их жертв — каждой в отдельности. В этом смысле исследование, в котором рассматривался бы весь ход следствия день за днем, принесло бы не только большую научную, но и методическую пользу. Огромные результаты сулит кропотливый труд по обзору материалов, проведенному не в порядке лиц и дел, а хронологически — день за днем, а где возможно — и час за часом. Такого рода работа даст в руки исследователя необходимые коэффициенты поправок точности тех или иных документальных свидетельств»[266].
Можно добавить, что без глубокого изучения «Журналов» Следственного комитета и ежедневных «Докладных записок» подобные задачи неразрешимы.
* * *
В уже упомянутой статье А. А. Покровского «Следствие над декабристами» определено «делопроизводственное происхождение» «Журналов» Следственного комитета: «По принятому тогда во всех учреждениях порядку, и в Комитете ежедневно велся журнал, причем в начале каждого заседания аккуратно записывалось, кто из членов Комитета был на заседании; во сколько оно началось, что происходило в нем, а в конце отмечали имена отсутствующих и время окончания заседания» (ВД. I. С. XIV)[267]. Действительно, описанная форма «Журналов» широко распространяется в государственных учреждениях после петровских реформ. Такого типа журналы велись еще, например, в Верховном тайном совете (1726–1730)[268]. По форме чрезвычайно похожи на «Журналы» Следственного комитета журналы других комитетов, работавших при Александре I и Николае I. Типичный пример — «Журналы Комитета, учрежденного высочайшим рескриптом 6 декабря 1826 г.»[269]. Спустя четверть века, в 1849 г., специальный Комитет вел следствие по делу петрашевцев. (К сожалению, журналы этого Комитета также не опубликованы и слабо изучены[270].) История работы секретных комитетов, понятно, была окружена тайной, отчего исключительное значение получают немногие сохранившиеся свидетельства самих следователей или чиновников, участвовавших в работе этих учреждений. Для истории Следственного комитета 1825–1826 гг. особенно важны воспоминания А. Д. Боровкова, правителя дел этого комитета[271]. Сохранилась рукопись этих воспоминаний[272]. Там, как и в печатном тексте, имеются пояснения А. Д. Боровкова, из которых видно, что записки его были начаты на сороковом году жизни, т. е. в 1828 г. Встречаются указания и на 1 января 1834 г. как время завершения какой-то части работы, которая была закончена в декабре 1852 г. Однако наиболее интересные главы, описывающие следствие над декабристами, сопровождаются примечанием: «Сентябрь 1849 г., слобода Александровка-Донская Павловского уездаВоронежской губернии».. Противоречие в датах разрешается следующим замечанием автора в приложениях к его запискам («Свод о внутреннем состоянии государства в царствование Александра I» и «Характеристики замечательнейших злоумышленников»): «Составлено в апреле 1828 г., С.-Петербург. Пересмотрено в апреле 1849 г., С.-Петербург»[273]. Таким образом, «Автобиографические записки» Боровкова начали составляться вскоре после завершения процесса декабристов, причем автор использовал подлинные следственные материалы и, вероятно, какие-то свои заметки или дневниковые записи. В то же время многие его воспоминания отделены от событий более чем 20 годами и, естественно, содержат ошибки и неточности. Вот пример: Боровков справедливо отмечает, что на первых заседаниях Следственного комитета рассматривались только бумаги арестованных, но затем утверждает, будто «21 декабря были спрошены князь Трубецкой, Рылеев и Якубович»[274]. Действительно, именно эти декабристы были допрошены первыми, но не в один день, а, как видно из «Журналов» Следственного комитета, последовательно, 23, 24 и 25 декабря[275]. Боровков, между прочим, сообщает важные сведения и об интересующих нас документах следствия над декабристами. «О всех допросах и ответах, — писал правитель дел Комитета, — тотчас после присутствия составлял я ежедневно краткие мемории для государя императора, они подносились его величеству на следующий день поутру, как только он изволит проснуться. Конечно, эти мемории, написанные наскоро, поздно ночью, после тяжкого утомительного дня, без сомнения, не обработаны, но они должны быть чрезвычайно верны, как отражение живых, свежих впечатлений»[276]. Впоследствии совокупность ежедневных «Докладных записок» царю составила рукописную книгу на 506 листах (в том числе 84 чистых), а «Журналы» 146 заседаний Следственного комитета — несколько бóльшую книгу в 553 листа (в их числе 47 чистых) — «Журналы Следственного комитета». Оба документа заполнены рукою Боровкова и нескольких писарей, а в ежедневных «Записках» много помет царя, начальника Главного штаба И. И. Дибича и председателя Следственного комитета А. И. Татищева. «Журнал» и «Записка» о каждом заседании помещались обычно на двух-трех листах, но к концу следствия попадаются и более объемистые документы: 113-е заседание — 7 листов, 114-е и 117-е — 6 листов, 127-е заседание — 10 листов, наконец, последнее, 146-е заседание (17 июня 1826 г.) — 13 листов. Обращение к «Журналам» показывает, что приведенное описание Боровкова требует известных уточнений: оно, безусловно, верно только для первого месяца работы Комитета. «Журнал» 1-го заседания Комитета (17 декабря 1825 г.) написан рукою Боровкова[277]. Им же составлена и «Докладная записка» № I[278]. Последний документ действительно является «краткой меморией» (т. е. памятной запиской) даже по сравнению с первым. Видно, что «Записка» составлена для царя и представляет только самое существенное из того, что произошло на 1-м заседании. В «Журнале», в отличие от «Записки», помещен список присутствующих членов (а в конце — их подписи), отмечено время заседания («началось в 6½ часов пополудни, кончилось в 12-м часу»); внесены два пункта: во-первых, рассмотрение доклада Дибича от 4 декабря 1825 г., на основании которого Комитет постановил «испросить через председателя высочайшее соизволение» на арест 20 лиц и доставку в Петербург еще ряда подозреваемых; во-вторых, «приведение в порядок и рассмотрение бумаг», взятых у ряда арестованных. В «Записке» же, составленной Боровковым для царя, второй пункт опущен, а первый отредактирован в виде прямого обращения председателя Комитета Татищева к Николаю I с просьбой «взять под стражу поименованных в том донесении лиц». На следующем, 2-м заседании Комитета, состоявшемся вечером 18 декабря, уже были приняты к сведению царские резолюции на поднесенной ему «Записке», а в «Журнале» 1-го заседания в графе, предназначенной для заметок, появилась запись (рукою Боровкова): «Исполнено 18 декабря». Очевидно, рано утром 18 декабря Николай I прочитал меморию Боровкова о вечернем заседании и сделал свои распоряжения: в эти первые дни после восстания правительство все еще было охвачено тревогой, ему было не до строгих делопроизводственных форм, царь и Комитет торопились, боясь упустить заговорщиков, опасаясь новых вспышек мятежа. Карандашные резолюции Николая I на «Записке» о 1-м заседании (как и в других случаях) были «проявлены» чернилами рукою начальника Главного штаба Дибича. Некоторые резолюции царя обнаруживают спешку и тревогу власти. Фамилии Крюкова, Шишкова, Лихарева царь обвел общей скобкой и написал: «Снестись с Г. Витгенштейном, буде еще не взяты, то чтоб сейчас сие исполнил». В «Записке» отмечалось, между прочим: «Граф Бобринский (не означено какой именно)». Николай I написал: «Если в Москве — то взять и прислать». В ответ на просьбу Комитета об аресте «юнкера Скарятина неизвестно какого полка» последовала резолюция: «Взять, где попадется»[279]. События торопили, и в тот же день, 18 декабря, очевидно еще до начала 2-го заседания Комитета, рукою Боровкова и за подписью Татищева была изготовлена «Докладная записка» № 2[280], где от имени Татищева обращалось внимание царя, что «в записке, при рапорте барона Дибича приложенной, оказываются еще злоумышленники, не бывшие прежде в виду» (Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Граббе, Толстой, Барятинский). В «Докладной записке» № 2 даже специально оговаривалась причина ее слишком быстрой подачи (не дожидаясь очередного заседания Комитета): «Предположения сии для выиграния времени я осмелился представить на благоусмотрение вашего императорского величества»[281]. В первые дни многие важные для истории следствия события не отражались или слабо отражались в исследуемых материалах. Важнейшие события с 14 по 17 декабря (т. е. происшедшие до открытия Комитета) почти не освещены в «Журналах». Первые шесть заседаний, с 17 по 23 декабря, были посвящены разбору бумаг, взятых при арестах, и распоряжениям о новых арестах. Главные допросы в эти дни, как видно из следственных дел декабристов, еще ведут вне Комитета царь, А. Х. Бенкендорф, В. В. Левашев, К. Ф. Толь. Только на 7-м заседании, 23 декабря, в «Журнале» отмечено, что «в присутствии Комитета допрашиван князь Трубецкой, который на данные ему вопросы, при всем настоянии членов, дал ответы неудовлетворительные». В последующие дни все еще сохраняется несоответствие между «Журналами» и реальным следствием: 24 декабря, например, в «Журнал» почему-то не попал второй допрос Трубецкого (о чем см. ВД. I). «Записки» для царя вплоть до 41-го заседания Комитета от 26 января 1826 г. по-прежнему написаны рукою Боровкова. Все последующие «Докладные записки» написаны уже другими, писарскими почерками (очевидно, их перебеляли особо выделенные чиновники). Исключение — «Записка» о 45-м заседании (30 января), снова написанная Боровковым. Очевидно, 26 января 1826 г. произошло перераспределение обязанностей в Комитете, так как отсутствие почерка Боровкова в «Докладных записках» точно совпадает со временем исчезновения его подписи в «Журналах»: начиная с «Журнала» 42-го заседания от 27 января, на месте прежней подписи «правитель дел Боровков» появляется другая: «флигель-адъютант Адлерберг». Боровков играл видную роль в Комитете до самого конца следствия, но, очевидно, его освободили от «писарских» обязанностей ввиду нарастающего количества сложных вопросов, требовавших участия этого опытного чиновника (29 января Комитет, между прочим, решил начать составление итоговых записок о делах декабристов; как известно, эти записки составлял именно Боровков). Что же касается «Журналов» Следственного комитета, то здесь рука Боровкова сменяется писарской уже начиная со 2-го заседания (18 декабря). Таким образом, большая часть «Записок» и почти все «Журналы» заполнены писарским почерком: в обоих документах чередуются четыре разных почерка. В первые дни следствия «Журналы» и «Записки», очевидно, еще не рассматриваются как «документы-близнецы»: их текст немало разнится, как уже было показано выше; отличается даже формат бумаги: в «Журналах» постоянно употребляются листы размером 35×22 см, а в «Докладных записках» подобные листы начинают постоянно использоваться с 3 января 1826 г. Точную последовательность работы над составлением «Журналов» и ежедневных «Записок» в этот период представить нелегко; какие-либо черновые или подготовительные материалы к «Журналам» не сохранились, хотя они, несомненно, были. Прежде чем отдать текст для переписки доверенному чиновнику, должен был, конечно, составляться черновой вариант: поскольку «Журнал» заседания состоял зачастую из многих пунктов, то, очевидно, их «не припоминали» задним числом, а, вероятно, пользовались записями, которые вел в ходе заседания какой-либо участник (может быть, и Боровков?). На очередной «Записке» всегда выставлялась дата, на день более поздняя, чем дата заседания: так, «Записка» о заседании Комитета от 12 апреля 1826 г. сопровождается датой «13 апреля». Это естественно, ибо из самого «Журнала» видно, что заседание кончилось, как обычно, поздно ночью (в тот день — «в 12 часов пополуночи») и записи, составлявшиеся после этого, уже должны были помечаться завтрашним числом. Столь важный документ, как отчет о заседании, прежде чем быть представленным царю, конечно, просматривался Татищевым. Его единственная подпись скрепляет каждую «Докладную записку». В первые дни работы Комитета отдельные «Записки» зачастую посвящались не изложению всего, что было на последнем заседании, а только отдельным вопросам. О некоторых заседаниях «Докладные записки» вообще не составлялись. Если в «Журналах» тщательно зафиксированы события каждого рабочего дня Комитета, то одна хронология первых «Докладных записок» говорит об особом их происхождении: «Записка» № 1 датируется, как и 1-е заседание Комитета, 17 декабря 1825 г., затем следуют «Записки» № 2 (18.XII), № 3 (19.XII), № 4 (20.XII), № 5 (21.XII), № 6 (22.XII), № 7 (25.XII), № 8 (27.XII), потом ненумерованные записки от 28.XII, 29.XII (о М. Ф. Орлове) и 31.XII (о Ф. Н. Глинке и Комарове). Если «Журналы» в эти и следующие дни представлены четкими писарскими записями, с редкими карандашными заметками на полях и пометами Боровкова об исполнении того или иного пункта, то «Докладные записки» выгладят совсем иначе. Это рабочие документы, где форма — на втором плане. Такова, например, «Записка» (29 декабря) о важных для следствия показаниях Д. А. Щепина-Ростовского, А. А. Бестужева, С. П. Трубецкого. На полях ее — записи несколькими почерками: карандашные резолюции царя, воспроизведенные чернилами Дибича (большей частью пометы вроде «взять», «привезти», «доставить сюда» и т. п.). Здесь же пометы Татищева, Дибича и других ответственных лиц. Так, против фамилии одного из подозреваемых, «генерал-майор Пущин в отставке», отмечено карандашом (видимо, Николай I): «NB» и «?». Тут же другим почерком ответ на царский вопрос: «Об нем можно узнать от двоюродного брата его, Пущина, который служил в Московском полку, а теперь должен быть в каком-либо другом полковником. Пок[азания] Трубецкого по справке — лейб-гвардии егерского»[282]. До 2 января 1826 г. на полях «Записок» много помет Татищева о том, когда они докладывались, что приказано царем и что исполнено. Создается впечатление, что Татищев лично вручал ежедневные «Записки» царю, и тут же при участии Дибича и других лиц принимались и записывались важные решения, которые затем четко фиксировались в «Журналах» Комитета. Таким образом, нужно отметить особо важную, деловую функцию ежедневных «Докладных записок» Николаю I, игравших тогда в общем ходе дел иную роль, нежели «Журналы», остававшиеся в Комитете. Как уже отмечалось, после быстрых, тревожных, иногда панических действий власти в первые недели следствия наступил период, когда правительство укрепило свои позиции, уверилось в своей победе. Эти события сказались на делопроизводстве Комитета. Начиная с 1 января 1826 г. «Записки» подаются уже один раз в сутки, в основном сообщая о ходе прошедшего заседания Комитета. Однако и на этой стадии разница между двумя документами порою еще значительна. Сопоставим, например, описание одного и того же 30-го заседания Комитета от 15 января 1826 г. в «Журнале» и «Записке». Два документа (один — изготовленный писарским почерком, другой — написанный Боровковым), понятно, очень близки: основные пункты те же и расположены в одной и той же последовательности, многие формулировки совпадают почти дословно (например, об исполнении царского повеления насчет «неназывания Комитета тайным»). Однако есть и немало отличий. По сути, ни один из пунктов не скопирован слово в слово. Если в «Журналах», например, сказано, что «читаны» ответы Аврамова, Крюкова и Титова, и сообщается, что после этого чтения в комитете «положили ответы сии приобщить к прочим», то в «Записке» Боровков пишет — «читали ответы», и не считает нужным обременять царя тем, что «положил» Комитет. Также не попадают в «Записку» первые два пункта «Журналов» — об утверждении протокола прошедшего 29-го заседания и о царской резолюции «повременить» в ответ на ходатайство Комитета об освобождении Зубкова. Характерна резолюция Николая I на представленной «Записке», требующая доставки (т. е. в сущности ареста) Норова[283], в то время как Комитет только намеревается спросить о Норове «Пестеля и других главных членов». Однако главное отличие «Журнала» 30-го заседания от соответствующей «Записки» состоит в том, что последняя выделяет в особый пункт показания полковника Бурцова и сообщает важные подробности, которые в «Журнале» отсутствуют (история списка заговорщиков, попавшего в 1821 г. в штаб 2-й армии). Понятно, деликатная ситуация, когда сам начальник штаба 2-й армии П. Д. Киселев выступает в роли «пособника заговорщиков», не описывалась в «Журнале», дабы не было чрезмерного разглашения (о подобных ситуациях, связанных с другими важными сановниками, см. ниже). Среди авторов, занимавшихся историей декабристских следственных документов, явно преобладает мнение об одновременности заседаний Следственного комитета и ведения их «Журналов»: выше приводилось высказывание по этому поводу А. А. Покровского; И. А. Миронова и М. Н. Гернет называют «Журналы» заседаний «протоколами»[284]. Это мнение документами следствия не подтверждается. Данные о том, что в ходе самих заседаний составлялся официальный протокол, отсутствуют. Вместе с тем не исключено, что во время заседаний, как уже отмечалось, велись членами Комитета или его чиновниками какие-либо черновые записи. Сравнивая сходство и отличие «Журнала» и «Записки», можно предположить четыре возможных типа их взаимосвязи (речь идет о периоде до конца января 1826 г., хотя этот анализ важен для истории следствия в целом): 1) сначала составлялся «Журнал», по «Журналу» составлялась «Записка»; 2) «Записка» — первична, «Журнал» — вторичен; 3) оба документа восходят к одному (черновому) источнику, который использован чиновником для написания «Журнала» очередного заседания по принятой форме, а Боровковым — для создания более свободной по форме «Записки» для царя; 4) оба документа созданы совершенно независимо друг от друга. Против последней версии говорит немалое сходство обеих записей. Наиболее вероятными для этого периода следствия представляются версии вторая и третья, из которых следует, что «Записки» независимы от текста «Журнала» (хотя не исключается, что и Боровков и составитель «Журнала» пользовались одним и тем же черновым источником — записями, которые велись по ходу заседаний). В пользу этих версий говорят следующие соображения: во-первых, уже отмеченная явная независимость «Записок» от «Журналов» в первые дни следствия, что, вероятно, должно было сохраниться и в январе 1826 г.; во-вторых, свидетельство Боровкова, рассказывающего о живых впечатлениях, которые он тут же после заседания вносил в «Записку» для государя. Повторяем, однако, что всего сложного характера взаимозависимости этих документов понять невозможно из-за отсутствия подготовительных материалов. Можно лишь предположить, например, что решение о непомещении в «Журнале» рассказа Бурцова и внесении его именно в «Записку» принималось на «высшем уровне» (Татищев и др.). С 27 января 1826 г., как отмечалось, «Журналы» и «Записки» становятся «близнецами», хотя и на этом этапе сохранились кое-какие различия (см. ниже). Очевидно, по-прежнему это документы, составляемые после окончания каждого заседания на основе каких-то черновых записей, до нас не дошедших. По-прежнему «Докладные записки» представляются более важным документом по его месту в следственном делопроизводстве. К этому времени формуляр «Журнала» и «Записки» был уже окончательно выработан. Обычный тип «Журнала», как это было показано, — краткое, последовательное изложение событий дня. Первый пункт — всегда утверждение членами Комитета «Журналов» вчерашнего заседания. Вслед за тем — сведения о «высочайших резолюциях», если таковые имелись, и потом — главные события прошедшего заседания: перечисление допросов, снятых накануне, свод читанных и обсужденных ответов декабристов, очных ставок, решений о перемещении заключенных, новых арестах, необходимости составления новых документов и т. п. В первые дни в «Журналах» — три, четыре пункта, затем обычно 8–10, но в дни, особенно напряженные, число пунктов много больше (6 мая — 26, в последнем заседании — 27). После окончания «Журнала» следуют подписи членов Следственного комитета[285]. В «Журналах» отражено в основном петербургское следствие. Следствия над черниговцами, «Обществом военных друзей» и др. представлены лишь в виде суммарных сводок. Зато в «Журналах» сравнительно много сведений о польских заговорщиках: хотя их дело велось в Варшавском комитете, но часть обвиняемых предварительно допрашивалась в столице. Несколько последних заседаний Комитета, с 141 по 144, в «Записках» не отражены (№ 145 и 146 имеются). Следствие уже кончилось, шла закулисная работа по подготовке суда и приговора. Царь, находившийся в непрерывных контактах со следователями, уже не нуждался в «Записках» о заседаниях Комитета. Однако в конце следствия Комитет (как и в начале работы) представил царю несколько записок, посвященных не истории отдельных заседаний, а некоторым особым вопросам: «О прапорщике Вятского пехотного полка Ледоховском»[286] (без даты), заключения Комитета об офицерах лейб-гвардии Московского полка Корнилове, Волкове, Броке, Кушелеве, князе Кудашеве и Бекетове[287] (9 мая 1826 г.; возвращено царем с его заключением 22 мая); выписки с резолюциями царя об офицерах лейб-гвардии Финляндского полка Базине, Бурнашеве, Насакиных 1-м и 2-м, Богданове, Мореншельде 1-м и 2-м, Гольтгоере и Нуммерсе[288]; выписки о полковнике Финляндского полка фон Моллере[289]. Таково краткое внешнее описание рассматриваемого источника. «Журналы» являются своеобразным дневником следствия над декабристами, документом, целиком вышедшим из лагеря победителей — самодержавия, аристократии и высшей бюрократии. Документ этот был столь же засекречен, сколь и само следствие, и предназначался для следователей и царя.* * *
Возможные аспекты использования этого источника весьма обширны. В «Журналах» найдет немало важного историк декабризма и специалист по внутренней политике России, историки государственных учреждений, правоведы и многие другие — вплоть до исследователей быта, психологов и лингвистов (анализ языка правительственных документов, «логические системы» следователей и подследственных и даже почерки членов Комитета, где разительно выделяется древнее «екатерининское письмо» престарелого Татищева). Однако особенно важное значение эти документы имеют для еще не разработанной в ряде отношений истории следствия над декабристами. Именно вопрос о том, что дают «Журналы» для истории политического процесса, длившегося семь месяцев, мы и рассмотрим далее. Прежде всего «Журналы» характеризуют сам орган следствия — Комитет. Один порядок подписей членов Комитета может помочь проникновению историка в механизм правительственной машины, пониманию значения того или иного сановника в этой машине. Так, по «Журналам» (хотя, конечно, не только из этого источника) видна особая роль трех членов, составлявших как бы «ударную группу» следствия и часто отделявшихся от Комитета для самостоятельных допросов, — это Бенкендорф, Чернышев и Левашев. Очевидна также особая роль дежурного генерала Главного штаба Потапова, осуществлявшего связь Комитета, начальника Главного штаба Дибича и царя[290]. В то же время средний и низовой аппарат Комитета представлен в «Журналах» довольно бедно[291]: только 9 января сообщалось о назначениях чиновников Попова, Вахрушева, Ивановского, Хлусовича, Карасевского и Григорьева, а 22 апреля «Журнал» сообщал о прикомандировании к Комитету «журналиста Департамента народного просвещения титулярного советника Сербиновича…[292] для переводов с польского». «Журналы» не содержат почти никаких сведений о прениях, столкновении мнений (или их оттенков) между членами Комитета. В то же время, согласно мемуарам многих декабристов (Якушкин, А. Поджио и др.), эти оттенки были. Так, Розен сообщает, что Татищев значительно меньше входил в дела, чем, например, Чернышев: «Он лишь иногда замечал слишком ретивым ответчикам: „Вы, господа, читали все, и Детю де Траси, и Бенжамена Констана, и Бентама, и вот куда попали, а я всю жизнь мою читал только Священное писание и смотрите, что заслужил“ — показывая на два ряда звезд, освещавших грудь его»[293]. Если же верить Завалишину, то Татищев на одном из допросов отвел его в сторону и уговаривал не сердить дерзким запирательством самых строгих членов Комитета (Чернышева и Бенкендорфа). Давно известно, что Боровков пытался кое-что сделать для облегчения участи декабристов[294]. В его «Автобиографических записках» имеются некоторые подробности заседаний Следственного комитета, не сохраненные «Журналами». Сопоставим сведения о первом допросе А. И. Якубовича в «Журналах», следственном деле декабриста и мемуарах Боровкова. Первый допрос А. И. Якубовича Следственным комитетом состоялся на 9-м заседании, 25 декабря 1825 г. (Боровков, как отмечалось, в своих записках ошибочно отнес этот допрос к 21 декабря). «Журнал» кратко сообщает только о самом факте допроса Якубовича, которого, очевидно, держали в комиссии долго (упомянуты «многие вопросы членов Комитета»)[295]. Конкретный характер допроса мы можем лишь приближенно восстановить по письменным ответам декабриста, поступившим в Комитет (см. ВД. II. С. 282–287). В деле Якубовича первый его вызов в Комитет не датирован. Дату помогают установить «Журналы». Среди письменных ответов Якубовича находим: «Обелять себя от преступлений не намерен … не боюсь теперь никакой казни, потеряв доброе мнение и любовь сограждан» (ВД. II. С. 285). В конце показывает: «Если нужно для примера жертву, то добровольно обрекаю себя» (ВД. II. С. 287). Воспоминания Боровкова позволяют восстановить некоторые немаловажные обстоятельства устного допроса, который все же отличался от последующего письменного диалога Комитета с декабристом: «Ответы Якубовича… были многословны, но не объясняли дела, он старался увлечь более красноречием, нежели откровенностью. Так, стоя посреди зала в драгунском мундире, с черною повязкою на лбу, прикрывавшею рану, нанесенную ему горцем на Кавказе, он импровизировал довольно длинную речь и в заключение сказал: цель наша была благо отечества; нам не удалось — мы пали; но для устрашения грядущих смельчаков нужна жертва. Я молод, виден собою, известен в армии храбростью; так пусть меня расстреляют на площади, подле памятника Петра Великого, где посрамились в нерешительности. О! Если бы я принял предложенное мне тогда начальство над собравшимся отрядом, то не так бы легко досталась победа противной стороне»[296]. Это, несомненно, интересная подробность в истории следствия над декабристами. Боровков, рассказывая о разногласиях в Комитете, вероятно, преувеличивает милосердие некоторых членов (не скрывая, впрочем, зафиксированной по многим источникам особенной жестокости А. И. Чернышева). Между прочим, он приводит своеобразный «монолог» великого князя Михаила Павловича, ярко представляющий атмосферу страха, паники, в которой жили тогда многие дворянские семьи. Достоверность картины не меняется от того, насколько она отражает истинные слова Михаила (хотя, очевидно, что-то в этом роде великий князь говорил). Важно то, что так представлялось дело самому Боровкову: «Тяжела обязанность, — говорит великий князь, — вырвать из семейства и виновного; но запереть в крепость невинного — это убийство»[297]. Продолжения речи Михаила в печатном тексте нет, в рукописи же находим о «невинном арестанте». «Чем мы вознаградим его? Скажем: „Ступайте, вы свободны!“ Радостно бедняк переступит порог своего жилища; но вдруг останавливается; он видит посреди комнаты гроб. Там лежит труп престарелой его матери, скоропостижно умершей в ту минуту, как сына ее потащили в крепость. Он робко спрашивает: „Где жена моя?“ — „В постели, при последнем издыхании“, — отвечают ему; она преждевременно разрешилась мертвым ребенком, также в тот момент, когда потащили несчастного из дому»[298]. Целые сцены, происходившие на заседаниях Комитета и известные нам по запискам декабристов, в «Журналах» обычно представлены одной-двумя строками. Вот пример: в «Журнале» 48-го заседания, 2 февраля 1826 г., довольно лаконично сообщается о допросе «32-го егерского полка майора Раевского». В то же время сохранилось, хотя и записанное много лет спустя, и не во всем точное, но уникальное воспоминание об этом же заседании самого В. Ф. Раевского[299]. Никак не отразились в «Журналах» и других следственных документах обрисованная декабристом обстановка допроса, взаимоотношения следователей, участие в заседании А. Ф. Орлова и Д. Н. Блудова, смелые ответы самого Раевского, его конфликт с Дибичем и т. п. Воспоминания Раевского и других декабристов показывают, что в «Журналах» отражался лишь результат обсуждения, но не дискуссия. Единственное исключение — в «Журнале» 74-го заседания, когда «впали в разногласие относительно судьбы членов Союза Благоденствия, не участвовавших в более поздних Обществах» (№ 74, 5 марта)[300]. «Журналы» важны также обилием содержащихся в них «формальных» сведений о ритме работы Комитета. Остановимся на этом несколько подробнее. Напряженнейший ритм следствия отразился в разнообразных сведениях о делопроизводственных трудностях, накоплении бумаг и т. п. (№ 61, 16 февраля; № 62, 17 февраля). По «Журналам» можно условно разделить следствие на два крупных периода. Первый период — приблизительно до середины марта (примерный рубеж — мартовские пропуски в заседаниях из-за похорон Александра I). Он охватывает около 80 заседаний, когда, при всем разнообразии «сюжетов», явно преобладает стремление власти выявить всех замешанных. Выяснение подробностей восстания и истории тайных обществ хотя и ведется, но пока еще — на втором плане, ибо многих крупных деятелей движения еще не доставили (с конца января, например, только начали привозить членов Общества соединенных славян). Второй период — приблизительно с 20-х чисел марта до конца следствия: поток арестованных ослабевает, из важных деятелей в этот период доставлены только А. Борисов (10 апреля) и Лунин (16 апреля). В то же время к середине марта уже было оформлено решение о прекращении дальнейших дел для нескольких членов Союза Благоденствия. Часть второстепенных, по мнению власти, заговорщиков уже отправляется в административную ссылку. 26 марта Дибич «объявил высочайшую волю, чтобы Комитет при открытии новых лиц… представлял бы о взятии тех только, кои окажутся сильно участвовавшими в преступных намерениях и покушениях общества…» (№ 87, 26 марта). Вскоре чиновники Комитета приступили к составлению итоговых записок о вине различных заключенных (начиная с № 89, 28 марта). Новая ситуация отразилась и в новом ритме следствия, что видно из «Журналов». 84-е заседание (22 марта) началось в 11 часов утра в Петропавловской крепости. После четырех очных ставок и двух допросов заседание было продолжено в 8 часов вечера в Зимнем дворце и длилось до 12½ часов ночи: здесь заключенных не допрашивали, но изучали полученные материалы и показания. Отныне Комитет почти ежедневно собирался утром в крепости для допросов и очных ставок, а вечером — во дворце для чтения материалов. Иногда «Журналы» сообщают об отдельных допросах, которые ведут с утра Бенкендорф или Чернышев (№ 103, 11 апреля — допрос Чернышевым Борисова 1-го; № 124, 3 мая, когда в крепости с 11 до 5 часов допросы и очные ставки вели всего два члена Комитета — Татищев и Чернышев). «Журналы» позволяют представить картину «массированного» давления на декабристов, осуществляемого властью на основе многих уже известных ей сведений. Так, на 113-м заседании (22 апреля) на Пестеля обрушилось 11 очных ставок (а всего за 7 часов этого заседания было 3 допроса и 14 очных ставок). По «Журналам» неплохо видно, как на завершающей стадии процесса подготавливались будущие документы для обнародования: первое чтение «Донесения Следственной комиссии» Блудова — 4 мая на 125-м заседании, затем 27 мая — на 142-м заседании; первое «рассуждение о разрядах», на которые должны разделить обвиняемых (16 мая на 137-м заседании), наконец, 19 мая «Журнал» 140-го заседания завершается следующими словами: «По причине, что действия Комитета по производимому исследованию окончены и что более ни допросов, ни очных ставок в виду не имеется, положили: несколько дней заседаний не иметь, дабы дать время канцелярии привести дела в надлежащий порядок, приготовить к прочтению и окончательному заключению записки о каждом находящемся под следствием и переписать доклад для государя императора». После этого было еще 6 заседаний — 24, 27–29, 31 мая и последнее 17 июня. Итак, «Журналы» Следственного комитета содержат разнообразные материалы по истории процесса над декабристами, позволяют лучше представить лагерь самодержавия, действия противной декабристам партии. В Следственном комитете можно увидеть, между прочим, зародыш будущего постоянного карательного учреждения — III Отделения, образовавшегося сразу после прекращения его работ. Не случайно это учреждение возглавил один из активнейших деятелей Комитета А. Х. Бенкендорф.* * *
Кроме фиксирования событий, происшедших на очередном заседании, в «Журналы» регулярно вносились и оценки происходившего. Для анализа «комитетской», правительственной точки зрения на отдельных декабристов, на различные эпизоды процесса «Журналы» дают немало. Понятно, что, формулируя отношение к происходящему, Комитет все время, в сущности, имел в виду читателя — царя; в ежедневных «Записках» мнения Комитета каждый день представлялись на рассмотрение Николая I. Характерно в этой связи резюме «Журналов» о том, например, что Александр Муравьев «был искренен», Михаил Фонвизин «оказал неискренность», Мошинский «подал сомнение» и т. д. 5 февраля царю специально сообщалось, что Давыдов и Бестужев-Рюмин «не во всем сознались и никаких внимания достойных показаний не сделали» (№ 51, 5 февраля). Относительно Батенькова Комитет однажды резюмировал, что тот «или хотел продолжать упорное запирательство, или из непостижимых видов принимает на себя звание главного начинщика возмущения 14 декабря, не быв таковым» (№ 81, 18 марта). «Журнал» 122-го заседания сохранил отношение следователей к показаниям Завалишина, которые «чрезмерно пространны и подробны, но для оправдания его недостаточны, ибо заключают много противоречий и весьма запутаны» (№ 122, 1 мая). Материалы «Журналов» неплохо иллюстрируют острую ненависть победителей к побежденным и фиксируют почти все случаи особых наказаний, назначенных отдельным узникам. Факты эти из литературы известны, но рассматриваемые в общей системе событий на процессе, среди других, «сопутствующих», явлений, они особенно рельефны (закование Якушкина, Якубовича, А. Поджио, Бестужева-Рюмина и др., разрешение переписки «только тем, кто менее виновный и оказал чистосердечие и раскаяние»). Учитывая все сказанное о происхождении и характере «Журналов», нужно обратить особое внимание на отмеченные там эпизоды борьбы, героического сопротивления отдельных декабристов. Признание этих фактов в таком документе имеет, понятно, свое значение (при этом, конечно, следует учитывать тайное сочувствие А. Д. Боровкова некоторым декабристам, возможно, повлиявшее на отдельные журнальные записи). На фон е торжествующих «Журналов» первых дней, куда заносятся десятки новых имен и сведений, добытых на первых допросах, — явным диссонансом звучит следующая запись: «Введен был статский советник Горский, которого Сутгоф уличал, что он во время происшествия 14 декабря был на Сенатской площади с шпагой в руках; однако Горский в держании шпаги в руках не признался. Положили: как Горский в ответах своих оказывает всегда упорство, а притом употребляет дерзость в выражениях, то для обуздания того и другого заковать его в железа, на что испросить высочайшего соизволения»[301] (№ 13, 29 декабря 1825 г.). 8 января 1826 г. «поручик Финляндского полка Цебриков… не только оказал явное упорство в признании, но еще в выражениях употреблял дерзость, забыв должное уважение к месту и лицам, составляющим присутствие. Положили: для обуздания Цебрикова от подобных поступков и возбуждения его к раскаянию испросить высочайшего соизволения на закование его в ручные железа» (№ 23, 8 января). Царь на полях соответствующей «Докладной записки» написал «заковать», а «Журнал» 10 января констатировал, что распоряжение «исполнено». Через несколько дней Комитет был разъярен поведением Крюкова 2-го, который, как видно из его следственного дела, намекнул, что Комитет фальсифицирует предъявленные ему показания Пестеля (см. ВД. XI. С. 356). В «Журнале» сказано: «Допрашиван поручик квартирмейстерской части Крюков 2-й, который, несмотря на явные против него улики, не только от всего отказывался незнанием, но еще в выражениях употреблял дерзость даже тоном некоторого презрения…» (№ 28, 13 января). Крюкова заковали, а через месяц «Журнал» отметил «чрезвычайнейшее упорство и закоснелость» Борисова 2-го (№ 58, 13 февраля). Еще через день отмечались показания Андреевича 2-го, «который, не раскрывая никаких новых обстоятельств, оправдывает свои и сообщников действия, восхваляет действия Сергея Муравьева, почитает его и себя жертвами праведного дела и в заключение обнаруживает преступнейшие мысли и чувства» (№ 60, 15 февраля). Царь пишет «заковать»; зато через два с лишним месяца Комитет с удовольствием констатирует успех тюремщиков: «Андреевич 2-й умоляет о снятии с него оков, оказывая величайшее раскаяние, и признает действия свои пагубными и преступными» (№ 116, 25 апреля). Почти в самом конце следствия «Журнал» отмечает, что ответы Борисова 1-го «раскрывают, что нимало не раскаивается в своем преступлении и почитает намерение, его к тому побудившее, благим и добродетельным» (№ 120, 29 апреля). 5 апреля в «Журнале» внесена запись, в свете которой ярко вырисовывается величие и благородство Сергея Муравьева-Апостола. Она производит особенно сильное впечатление при сплошном чтении «Журнала», так как именно на этом этапе следствия власть сломила многих узников: «Сергей Муравьев-Апостол… вообще более оказал искренности в собственных своих показаниях, нежели в подтверждении прочих, и, очевидно, принимал на себя все то, в чем его обвиняют другие, не желая оправдаться опровержением их показания. В заключение изъявил, что раскаивается только в том, что вовлек других, особенно нижних чинов, в бедствие, но намерение свое продолжает почитать благим и чистым, в чем бог его один судить может и что составляет единственное его утешение в теперешнем его положении» (№ 97, 5 апреля; ВД. IV. С. 458). Наконец, типичная история с С. Семеновым, «который во всем совершенно отперся… Комитет, удивленный таким неслыханным запирательством, подозревает, что Семенов хочет скрыть какую-либо другую тайну, которую опасается как-нибудь обнаружить при сознании в том, в чем его обвиняют». Комитет просит «повелеть о заковании Семенова с содержанием на хлебе и воде, почитая сию меру столь же необходимою для его наказания, сколь и могущую привести его в раскаяние…» (№ 84, 22 марта). 7 апреля, однако, Комитет просил (и получил согласие царя) о прекращении режима «хлеба и воды» для Семенова, который «оказал откровенность» (№ 99, 7 апреля). В «Журнале» регулярно подчеркивался успех репрессивных методов следствия. Однако именно в этом секретном документе видно стремление власти тщательно замаскировать, глубоко скрыть ряд важных и опасных для нее обстоятельств. Так, когда С. Г. Волконский был доставлен в Петербург, то его велено было именовать во всех бумагах «арестантом № 4»: царь и Комитет боялись открыть нижним чинам и канцеляристам, что на стороне восставших был генерал и князь, принадлежавший к одной из влиятельнейших фамилий. В «Журналах» много раз упоминается «арестант № 4». Сам Николай I, «соблюдая дисциплину», также долгое время маскировал эту фамилию. На «Записке» 26 января имеется следующая его резолюция: «От арестанта № 4 требовать, чтоб непременно все ныне же показал, иначе будет закован». Впоследствии все же Волконского стали называть в «Журналах» «своим именем», хотя время от времени снова появлялся «арестант № 4». Еще более явственно тактика власти обнаруживается при выработке главных формулировок обвинения. Хорошо известно, что следствие и суд старались затушевать, исказить главные цели декабристов — стремление к отмене крепостного права, введение конституции и т. д. Позже, в опубликованном «Донесении Следственной комиссии» были выпячены цареубийственные планы революционеров и в то же время совершенно скрыта их социально-политическая программа[302]. По «Журналам» хорошо виден процесс формирования этой правительственной концепции, которая отчетливо созрела примерно в феврале — марте 1826 г. Комитет занимался подробнейшими изысканиями по каждому намеку на цареубийство, недавними и давно забытыми проектами покушений на императора. Характерно царское NB, четырежды подчеркнутое, на полях против первого показания А. Поджио о проекте так называемого «обреченного отряда» цареубийц, формально стоящего вне общества (№ 64, 19 февраля). Даже в «Журналах», составлявшихся «pro domo suo», чрезвычайно опасались хотя бы мельком раскрыть главные декабристские проекты. Только как о документах, отправленных государю, сообщается в «Журналах» о знаменитых записках А. Бестужева, Штейнгеля и др., излагавших те «внутренние неустройства», которые вызвали восстание. Едва ли не единственным исключением является случайная запись в «Журнале»: «Гангеблов говорит, что 14 декабря в городе не был, но притом излагает причины, побудившие его вступить в тайное общество, как-то: бедственное состояние крестьян, злоупотребление помещиков, лихоимство гражданских чиновников, безнравственность белого духовенства и тому подобное» (№ 64, 19 февраля). В «Журналах» содержится богатый материал о разысканиях, касающихся заграничных связей декабристов. Возможно, этот мотив также предполагалось усилить при подведении итогов следствия, но не накопилось достаточно «убедительных» данных[303].* * *
Николай I читал представленные ему документы весьма внимательно, многое отчеркивал, комментировал, менял формулировки или решения (как видно, например, из стертой резолюции на «Записке» о 107-м заседании[304]), входил во все подробности. На «Записке» о существовании тайных обществ в 1-й армии он пишет: «Здесь ли Шишков, адъютант генерала Рудзевича?» (№ 8, 24 декабря). После этого, как известно, А. А. Шишков был взят, но улик не нашлось. Равным образом при представлении царю списка лиц, подлежащих аресту, царь дополнил его лично: «И отставного гвардейского егерского полка поручика Горсткина! Послать за ним» (№ 28, 13 января). Когда среди подозреваемых был упомянут генерал-майор фон Менгден, царь сделал на полях следующую надпись: «Этот дурак мне знаком; из меня [из-за меня?] не удержался». На предложение Комитета отпустить с оправдательным аттестатом штаб-лекаря Смирнова, в доме которого арестовали Оболенского и Цебрикова, царь реагирует следующим образом: «Смирнова перевести в Оренбург или куда далее» (№ 67, 22 февраля). После показания Дивова о том, что свободный дух в морском кадетском корпусе «может быть уже поселен Бестужевым 5-м», Николай тут же распорядился перевести младшего брата декабристов Бестужевых юнкером в пехотный полк (№ 88, 27 марта). Некоторые подробности, как уже отмечалось, имеются только в ежедневных «Записках» — главном рабочем документе следствия, и не помещены в «Журналах заседаний». Такова запись: «…по вызову князя Одоевского показать истину введен был он в присутствие; но исполнение не соответствовало его намерению. Он уверял только, что Рылеев — главный начинщик всего, и по скверному характеру, вероятно, покажет многие клеветы. Причем Комитет заметил некоторое расстройство в уме князя Одоевского и приказал послать к нему врача» (10 января). На другой день только в «Записках» есть строки, отчеркнутые карандашом Николая и сопровожденные «NB»: «Князь Трубецкой показал, что катехизис в духе испанского писан Никитой Муравьевым и что об отделении польских провинций от России слышал он от генерал-майора князя Лопухина…» В «Записке» о 51-мзаседании излагается деликатное обстоятельство, не внесенное в соответствующий «Журнал»: «[И.] Поджио признался, что был принят Давыдовым и Бестужевым-Рюминым против воли, потому единственно, что боялся отказом навлечь неприязь Давыдова, в племянницу которого (теперешняя его жена) он был влюблен» (№ 51, 5 февраля). О многом не решались писать даже в «Записках» для царя. Так, очевидно, обстояло дело с подозрениями насчет сочувствия заговорщикам адмирала Мордвинова, Сперанского и других сановников. В «Записке» о 68-м заседании первоначальный текст, по-видимому, содержал подробности о Мордвинове, но затем этот текст стерли и написали: «Сверх того [Дивов] показал одно обстоятельство относительно одного члена Государственного совета» (№ 68, 23 февраля). А. Д. Боровков писал: «Некоторые злоумышленники показывали, что надежды их на успех основывали они на содействии членов Государственного совета графа Мордвинова, Сперанского и Киселева, бывшего тогда начальником штаба 2-й армии, и сенатора Баранова. Изыскание об отношении этих лиц к злоумышленному обществу было произведено с такой тайною, что даже чиновники Комитета не знали; я сам собственноручно писал производство и хранил у себя отдельно, не вводя в общее дело»[305]. Мы привели далеко не все оттенки и различия «Записок» — «Журналов». Детальное сопоставление их может дать интересные результаты, особенно насчет роли Николая I в следствии. «Журналы» и «Записки» Следственного комитета, рассмотренные в сочетании со следственными делами, мемуарами и другими декабристскими документами, могут помочь углублению в существенные детали и проблемы. Именно в этом сочетании с другими материалами выявляется особенная ценность рассматриваемого источника. 12 томов напечатанных следственных дел[306], так же как воспоминания декабристов, — конечно, исключительно ценный материал. В то же время для подробного освещения истории следствия необходимо привлечение к этим документам и ряда еще не опубликованных, в том числе «Журналов» и «Докладных записок». Историкам, изучающим следствие над декабристами, необходимо обращение к не напечатанным еще полностью делам Штейнгеля, Батенькова[307] и других виднейших революционеров. К тому же для истории процесса «второстепенные дела» порою важны не меньше самых главных. Вот один из множества возможных примеров. На следствии переплелись допросы Ивана Пущина, Бориса Данзаса и Василия Зубкова. Первый — друг Пушкина — был осужден, его дело опубликовано. Два других пушкинских знакомца были освобождены, а их дела до сих пор не напечатаны. Это, безусловно, сужает в какой-то степени наши сведения как о Пущине, так и о Пушкине. Именно от Данзаса и Зубкова поэт, вероятно, узнал многие подробности следствия, в частности о допросах и очных ставках друзей-лицеистов, и нам не безразлично, что он мог от них узнать. Не напечатано до сих пор и дело А. А. Тучкова, будущего родственника и друга А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Не приходится сомневаться, что это дело интересно для изучения вопроса о декабристских традициях издателей «Колокола». Даже при беглом чтении «Журналов» привлекают внимание и другие ситуации, еще не полностью использованные исследователями. Таковы, например, допросы Гудимова и Львовых в связи с подозрениями на Мордвинова[308]. Таков вопрос о роли Ф. В. Булгарина в первые дни николаевского царствования: в «Журнале» 117-го заседания Комитета записано показание Искрицкого, «что дядя его, Булгарин, знал о существовании общества» (№ 117, 26 апреля). На полях соответствующей «Записки» по поводу этого показания — ни слова, нет имени Булгарина и в «Алфавите декабристов», кугда попадали все мало-мальски подозреваемые лица. Невозможно привести громадное число людей и эпизодов, которые не упомянуты в опубликованных следственных материалах и оттого недостаточно еще изучены. Но мало этого. Всякое дело находилось в многообразной системе взаимодействий с другими делами. Составители и редакторы сборников «Восстание декабристов» сделали очень многое для того, чтобы сопроводить текст каждого следственного дела извлечениями из других дел, а также «Журналов» Следственного комитета. Однако исключительно сложное сцепление разных документов следствия немыслимо и представить при рассмотрении отдельных дел. «Журналы» сами по себе не могут ликвидировать эту трудность, но могут явиться как бы путеводителем по всему комплексу декабристских следственных материалов. Пользуясь «Журналами», исследователь установит, какие именно опубликованные или неопубликованные показания разных декабристов (и за какие именно дни) ему необходимы для решения интересующей его проблемы. По «Журналам» отчетливо прослеживаются различные линии процесса, причем каждая представляет переплетение нескольких, иногда многих следственных дел. Такова линия моряков-декабристов (Завалишин, Арбузов, Беляевы, Дивов), линия Каховского (группа показаний и допросов, направленных на изобличение Каховского как убийцы Милорадовича), линия «москвичей» (Муханов, Митьков, Якушин и др.), комплекс показаний И. Поджио, Ентальцева, Давыдова, Волконского, А. Поджио, Пестеля и других о так называемом «обреченном отряде», линия выяснения вопроса о совещаниях тайного общества в 1820 г. и др. Во всех этих и других случаях «Журналы» позволяют лучше представить последовательность событий на процессе, место того или иного показания в общей системе следствия[309]. «Журналы» вместе с другими материалами могут, таким образом, стать важнейшим подспорьем для составления хроники декабристского движения в целом, декабристского процесса в особенности. Иногда только установление простой последовательности событий позволяет заметить важные вещи: как отмечалось, при публикации следственного дела Рылеева «Журналы» еще не привлекались. В деле Рылеева приводятся обширные его ответы на вопросные пункты, предложенные 24 апреля 1826 г. (см. ВД. I. С. 167–189). Показание это довольно откровенное, как будто в духе прежних признаний поэта-декабриста, сделанных им Комитету еще в декабре. Однако в конце этих показаний Рылеев винится в некотором упорстве, им прежде проявленном (см. ВД. I. С. 189). Следственное дело не дает ясного ответа, о чем тут идет речь. Между тем обращение к «Журналам» позволяет увидеть краткий трагический эпизод в борьбе Рылеева со своими тюремщиками. 24 апреля, прежде чем дать Рылееву вопросные пункты, его допрашивали в Комитете (в основном о планах цареубийства). «Журнал» сообщает, что Рылеев «на все отвечал не совершенно откровенно, и большую часть показаний, сделанных на него Торсоном, Арбузовым, Матвеем Муравьевым-Апостолом и другими, не признает справедливыми» (№ 115, 24 апреля). «Журнал» следующего заседания свидетельствует, что послано в Свеаборг за Торсоном (там находящимся в заключении) — для уличения Рылеева, а «Журнал» 118-го заседания уже констатирует, что Рылеев «совершенно и без малейшего запирательства сознается во всех своих замыслах, намерениях, предложениях и действиях…» (№ 118, 27 апреля). Краткий порыв поэта-революционера к сопротивлению был сломлен, но порыв был, — и это не безразлично для нас[310]. «Журналы» Следственного комитета по делу декабристов и ежедневные «Докладные записки» для императора — еще далеко не исчерпанные исследователями источники по истории декабристского движения вообще, истории следствия в особенности. Ежедневные «Докладные записки» Комитета царю были важнейшими документами, одной из форм фактического участия Николая I в следствии над декабристами. «Журналы» и «Записки» содержат ряд важных дополнений к следственным делам декабристов. Они облегчают систематизацию, установление последовательности и взаимосвязи разных следственных дел, являются существенным подспорьем для ориентации во множестве еще не опубликованных декабристских материалов. «Журналы» и «Записки» помогают установлению периодизации основных этапов семимесячного процесса над деятелями 14 декабря. Эти документы характеризуют идеологию победителей, влияние происшедших событий на внутреннюю политику правительства, государственное устройство, предысторию III Отделения и т. п. Научная публикация «Журналов» и «Записок» была бы очень полезна для исследователей истории России первой половины XIX в.Археографический ежегодник за 1972 год. М., 1974.

Не было — было (Из легенд прошлого столетия)
 Перелистываю старинные русские газеты. Известия внутренние, иностранные, коммерческие, корабельные, театральные…
«О прибытии в столицу и отбытии лиц первых 4-х классов…»
«Мы, Николай Первый, император и самодержец Всероссийский, великий князь Финляндии, и прочая, и прочая, и прочая, объявляем…»
«Привезено в г. Санкт-Петербург через заставы и бронтвахты в течение дня телят 150 штук, баранов 37, свиней 19, масла чухонского 17 пудов, яиц 19 000 штук…»
«Отпускается в услужение[311] горничная девка, умеющая шить и вышивать…»
«Отослан в Сибирь на поселение называющий себя г-на Стакельберга крестьянином Михайла Егоров: рост 2 аршина 2 вершка, лицом бел, глаза серые, нос невелик, от роду ему 17 лет. Имеющие на означенного человека доказательства могут предъявить оныя куда следует в установленный законом срок…»
Все обстоятельно и надежно. А остальное — не для печати: секретно или несущественно.
Две истории XIX века: явная и тайная.
Первая — в газетах, журналах, манифестах, реляциях. Вторую — в газету не пускают и не выпускают из цензуры, отчего она привычно переселяется в сплетню, анекдот, эпиграмму, наконец, в рукопись, расходящуюся среди друзей и гибнущую при одном виде жандарма.
Явная история кончины Петра III заключалась в геморроидальной колике, доконавшей отставленного императора. Соответственно, 11 марта 1801 г. Павел Петрович не выдержал апоплексического удара…
И все-таки тысячи людей знали во всех подробностях нигде не напечатанную тайную историю о том, кого и как колотили и душили на Ропшинской мызе 5 июля 1762 г. и в Михайловском замке ночью 11 марта 1801 г. и что действительно происходило на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.
«Народ мыслит, несмотря на свое глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушать мнения, которых ему не дают выразить». (Декабрист Михаил Лунин — в письме к сестре из сибирской каторги.)
14 декабря 1825 г. началось «секретное царствование» Николая I. «Мы существуем для упорядочения общественной свободы и для подавления злоупотреблений ею» (Николай I). Если бы некто вздумал восстановить историю тех лет по газетам, то недосчитался бы доброй половины событий, происшедших с 1825 по 1855 г. «Мы существуем для упорядочения общественной свободы и для подавления злоупотреблений ею»…
Не было голодных лет.
Не было государственного бюджета (никогда не публиковался!).
Не было декабриста Батенькова, разучившегося говорить за двадцать лет одиночного заключения.
Не было Герцена и Огарева, высланных в 1835-м.
Не было ужаса военных поселений.
Как бы и не было революций в Европе[312].
Особенно многого не было в 1831 г.
Перелистываю старинные русские газеты. Известия внутренние, иностранные, коммерческие, корабельные, театральные…
«О прибытии в столицу и отбытии лиц первых 4-х классов…»
«Мы, Николай Первый, император и самодержец Всероссийский, великий князь Финляндии, и прочая, и прочая, и прочая, объявляем…»
«Привезено в г. Санкт-Петербург через заставы и бронтвахты в течение дня телят 150 штук, баранов 37, свиней 19, масла чухонского 17 пудов, яиц 19 000 штук…»
«Отпускается в услужение[311] горничная девка, умеющая шить и вышивать…»
«Отослан в Сибирь на поселение называющий себя г-на Стакельберга крестьянином Михайла Егоров: рост 2 аршина 2 вершка, лицом бел, глаза серые, нос невелик, от роду ему 17 лет. Имеющие на означенного человека доказательства могут предъявить оныя куда следует в установленный законом срок…»
Все обстоятельно и надежно. А остальное — не для печати: секретно или несущественно.
Две истории XIX века: явная и тайная.
Первая — в газетах, журналах, манифестах, реляциях. Вторую — в газету не пускают и не выпускают из цензуры, отчего она привычно переселяется в сплетню, анекдот, эпиграмму, наконец, в рукопись, расходящуюся среди друзей и гибнущую при одном виде жандарма.
Явная история кончины Петра III заключалась в геморроидальной колике, доконавшей отставленного императора. Соответственно, 11 марта 1801 г. Павел Петрович не выдержал апоплексического удара…
И все-таки тысячи людей знали во всех подробностях нигде не напечатанную тайную историю о том, кого и как колотили и душили на Ропшинской мызе 5 июля 1762 г. и в Михайловском замке ночью 11 марта 1801 г. и что действительно происходило на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.
«Народ мыслит, несмотря на свое глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушать мнения, которых ему не дают выразить». (Декабрист Михаил Лунин — в письме к сестре из сибирской каторги.)
14 декабря 1825 г. началось «секретное царствование» Николая I. «Мы существуем для упорядочения общественной свободы и для подавления злоупотреблений ею» (Николай I). Если бы некто вздумал восстановить историю тех лет по газетам, то недосчитался бы доброй половины событий, происшедших с 1825 по 1855 г. «Мы существуем для упорядочения общественной свободы и для подавления злоупотреблений ею»…
Не было голодных лет.
Не было государственного бюджета (никогда не публиковался!).
Не было декабриста Батенькова, разучившегося говорить за двадцать лет одиночного заключения.
Не было Герцена и Огарева, высланных в 1835-м.
Не было ужаса военных поселений.
Как бы и не было революций в Европе[312].
Особенно многого не было в 1831 г.
1831
Польша восстала, Николай послал армию, война затянулась: Всеавгустейший монарх поспешил изъявить свое благоволение храбрым егерям в следующих словах: «А молодцам егерям громкое от меня „спасибо, ребята!“» Эпидемия холеры. «Покорствуя неисповедимым судьбам всевышнего, мы, Николай I… не преминули употребить все возможные усилия для подания помощи страждущим». «В городе Могилеве с 14 по 23 мая от холеры заболело 467, выздоровело 153 и умерло 98 человек. В городе Минске и в губернии заболело 1912, выздоровело 688 и умерло 996 человек. В городе Риге выздоровело 167 и умерло 678…»[313] Все это из газет[314]. В те же дни накапливалась и тайная история — военная, холерная, кровавая. 3 августа 1831 г. Пушкин, окруженный карантинами и заставами в Царском Селе, отправляет письмо П. Л. Вяземскому в Москву: «…нам покамест не до смеха: ты, верно, слышал о возмущениях новгородских и Старой Руси. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезали в новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт Старо-Русский еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. — Плохо, ваше сиятельство. Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы…» В те же дни Пушкин записывает известия о каком-то жандармском офицере, который взял власть над мятежниками и будто бы отговорил их от некоторых убийств… Только что в последних «болдинских» главах «Онегина» Пушкин простился с молодостью. Со старым будто покончено. В 1831-м «юность легкая» прекращена женитьбой, переездом в Петербург, стремлением к устойчивому, положительному вместо прежних шалостей и отрицаний. Совершенно искренние иллюзии, жажда иллюзий в отношении Николая («правительство все еще единственный европеец в России. И сколь грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания…». А. С. Пушкин — П. Я. Чаадаеву. 19 октября 1836 г. Черновик). Новгородский и старорусский бунт кажется «бессмысленным и беспощадным», пугает как возможность гибели той цивилизации, которой он, Пушкин, порожден и частью которой уж является. Присматриваясь к разбушевавшейся народной стихии, он понимает, что у тех — своя правда, свое право, свой взгляд на добро и зло, выработанный барщиной, розгой и рекрутчиной. «Он для тебя Пугачев… а для меня он был великий Государь Петр Федорович…» — отвечала древняя старуха на расспросы Пушкина. Мысль о грядущих катаклизмах поэта чрезвычайно занимает, и он пробует их разглядеть. Однажды великий князь Михаил Павлович рассуждал об отсутствии в России tiers état[315], «вечной стихии мятежей и оппозиции». Пушкин возразил: «Что касается до tiers état, что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много» (Дневник А. С. Пушкина, запись от 22 декабря 1834 г.). Мысль точная, замечательная и, конечно, обдуманная задолго до разговора с Михаилом: образованное меньшинство, составив революционную партию, может максимально усилить «первое новое возмущение». Четверть века спустя А. И. Герцен напишет: «Первый умный полковник, который со своим отрядом примкнет к крестьянам, вместо того чтобы душить их, сядет на трон Романовых». Герцен симпатизирует «умному полковнику». Пушкин пристально интересуется всеми случаями такого рода — всеми «белыми воронами» — дворянами и офицерами, которые меняли лагерь и уходили к Пугачеву или другим бунтовщикам: таков Шванвич, сын кронштадтского коменданта — «из хороших дворян» (Алексей Швабрин из «Капитанской дочки»); таковы, по слухам, были начальники, выбранные новгородскими военными поселениями «из инженеров и коммуникационных». Из таких же, наконец, Дубровский (1832 г.). Потом возникают и другие фигуры — реальные и вымышленные: дворяне, офицеры, насильно увлеченные в бунт, бунтовщики поневоле — полумифический «жандармский офицер», который будто бы умерял гнев новгородских поселян, и «совершенно реальный» Петруша Гринев. Летом 1831 г. много говорили о «силе духа императора…» и «усмирении с поразительным мужеством…». Явная история кокетничала с тайной. О бунтах поселян и других беспорядках не печаталось почти ничего, но слухи о храбрости монарха распространялись и поощрялись. Приводились (устные, рукописные) доказательства — вполне убедительные[316]. Царь храбрый или трусливый — это серьезный политический вопрос. Газеты не скрывали, что 14 декабря 1825 г. монарх проявил «великодушное мужество, разительное, ничем не изменяемое хладнокровие, коему с восторгом дивятся все войска и опытнейшие вожди их», шестилетнего же наследника «вынесли солдатам, что придало им твердость и мужество». В Петербурге на Сенной площади 22 июня 1831 г. — шумная толпа (слухи об отравителях!). Николай I является: «На колени!..» Все опускаются на колени. Через несколько недель снова «поразительное мужество монарха», на этот раз — в военных поселениях. Собственно, никто никогда не объявлял противоположного: что царь — трус. Он и не был трусом, но обстоятельства были темны, грязны, требовали поэзии. Храбрость привлекает, порою окрашивает в благородные цвета вовсе не благородные действия. Такое дело, как подавление бунта, требовало нежной окраски. «Николай Павлович, — по словам Герцена, — держал тридцать лет кого-то за горло, чтобы тот не сказал чего-то». И, держа за горло, все доказывал, доказывал… «Санктпетербург, 8 августа 1831 года. Высочайший манифест. Божией милостью, Мы, Николай Первый, император и самодержец Всероссийский… и прочая, и прочая, и прочая… В столице в середине июня простой народ, подстрекаемый злонамеренными людьми, покусился насильственно сопротивляться распоряжениям начальства и пришел в чувство только тогда, когда личным присутствием Нашим уверился в справедливом негодовании, с каким мы узнали о его буйстве… Злодейство, несвойственное доброму и православному народу русскому, совершено в городе Старой Руссе и в округах Военного поселения гренадерского корпуса. Ныне восстановлен уже там повсеместно должный порядок: виновные предаются в руки правительства самими заблужденными, и главнейшие из них подвергнутся примерному законному наказанию». Бенкендорф записывал (опубликовано шестьдесят лет спустя): «Государь приехал прямо в круг военных поселений и предстал перед собранными батальонами, запятнавшими себя кровью своих офицеров. Лиц ему не было видно; все преступники лежали распростертыми на земле, ожидая безмолвно и трепетно монаршего суда…» Сам Николай писал генералу П. А. Толстому (письмо, опубликованное в начале XX в.): «Я один приехал прямо в австрийский полк[317], который велел собрать в манеже, и нашел всех на коленях и в слезах и в чистом раскаянии… Потом поехал в полк наследного принца, где менее было греха, но нашел то же раскаяние и большую глупость в людях, потом в полк короля прусского; они всех виновнее, но столь глубоко чувствуют свою вину, что можно быть уверену в их покорности. Тут инвалидная рота прескверная, которую я уничтожу. Потом — в полк графа Аракчеева; то же самое, покорность совершенная и раскаяние… Кроме Орлова и Чернышева, я был один среди них, и все лежали ниц! Вот русский народ!.. Бесподобно. Есть черты умилительные, но долго все описывать». Выстроенные и обмундированные самим императором события получают право на существование. «Личное присутствие Наше» входит в историю явную. Однако еще не принято в тайную… Несколько кратких записей Пушкина о мятежниках 1831 г. долгое время считались материалами для несостоявшейся газеты «Дневник». Позже большинство специалистов сошлись на том, что Пушкин не стал бы рисковать, помещая в газете подобные заметки, и сейчас — в собраниях сочинений — их помещают среди дневниковых записей поэта. Среди этих записей находятся, между прочим, следующие строки: 26 июля 1831 г.: «Вчера государь император отправился в военные поселения (в Новгородской губернии) для усмирения возникших там беспокойств… Кажется, все усмирено, а если еще нет, то все усмирится присутствием государя. Однако же сие решительное средство, как последнее, не должно быть всуе употребляемо. Народ не должен привыкать к царскому лицу, как обыкновенному явлению. Расправа полицейская должна одна вмешиваться в волнения площади, — и царский голос не должен угрожать ни картечью, ни кнутом. Царю не должно сближаться лично с народом. Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими отношениями с государем. Скоро в своих мятежах она будет требовать появления его, как необходимого обряда. Доныне государь, обладающий даром слова, говорил один; но может найтиться в толпе голос для возражения…» В заметках Пушкина многое: страх, неприязнь к разгулявшейся народной стихии; призыв к правительству — действовать умнее, не разрушая народной веры в царское имя, «таинственную власть»; опасение — что со временем в толпе найдется «голос для возражения». Может быть, Пушкин нечто знает и намекает. Может быть, голос в толпе уже нашелся?.. А история покамест шла дальше — тайно и явно. Туман вокруг событий в военных поселениях не рассеивался. Пушкин, кажется, ничего больше не узнал о начальнике бунтовщиков «из инженеров, коммуникационных или жандармов». Явная история теснила тайную. Бунта в военных поселениях почти что не было. Не было и 150 человек, наказанных розгами, 1599 — шпицрутенами, 88 — кнутом, 773 — «исправительно». Не было и 129 мятежников, умерших «после телесного наказания и во время такового»[318]. Вскоре — разумеется, не случайно — Николай вообще новгородские военные поселения упраздняет. Из газет они исчезают. И уж не было военных поселений… Но тайная история не торопится. В эти самые дни мирно дремлют в запертых ящиках бумаги с устрашающими грифами: «Циркулярно», «Секретно», «Совершенно секретно». В тиши родовых поместий кто-то пишет воспоминания. В сибирском руднике кто-то запоминает рассказ товарища. И о многом уже догадываются молодые люди, у которых Былого еще немного, но Дум — достаточно.
1842
Пушкина нет. Явной истории остаются некрологи, тайной — все остальные обстоятельства. Почти полтора месяца ни одна газета не смела даже заикнуться о том, что Пушкин не просто умер, а убит на дуэли. Только в марте 1837-го появилось официальное сообщение о разжаловании и высылке Дантеса «за убийство камер-юнкера Пушкина», после чего возвращаться к этому сюжету считалось неуместным, цензуре же было предписано следить «за соблюдением в статьях о Пушкине надлежащей умеренности и тона приличия». Надворный советник Александр Герцен успел побывать в вятской ссылке, вернулся и только что отправлен в новгородскую: в письме к отцу он рассказал про одного полицейского, который убивал и грабил прохожих. Все было чистой правдой: и убийство и грабеж. Письмо было запечатано, отправлено, но «по дороге» распечатано и прочитано, автор же обвинен в оскорблении полиции и наказан. Впрочем, распечатанного письма и высылки из столицы, конечно, тоже не было. В Новгороде еще хорошо помнили «веселые» аракчеевские годы: строем на поля, строем, с песней, к обеду — и сквозь строй за малейшее отклонение от строя… Помнили, конечно, и холерный год. Герцен осторожно расспрашивал, читал казенные бумаги, но о подробностях мятежа, об офицере, «возглавившем бунтовщиков», об императорской храбрости почти все знали не больше положенного. «Государь был храбр. Государь все прекратил…» Государственная тайна.1858
Николая три года уже нет. Умирая, скорбел, что сдает наследнику «команду не в должном порядке». Империя сотрясена крымскими поражениями и крестьянским недовольством. Александр II вынужден объявить о готовящейся отмене крепостного права. По-прежнему, конечно, нет фантастических хищений, нет стародуров — губернаторов, нет засеченных — в деревне, армии и флоте; не было ничего плохого и в прошлом царствовании. Но запретная история все же как-то пошла теснить благонамеренную. Перелистываю газеты и журналы 1858 г. Число их утроилось, слог стал живее — даже по заголовкам и объявлениям видно, что кое-что можно… В журналах — особенно в «Современнике» — и после ножниц Цензора остается такой материал, который при Николае «Незабвенном» сочли бы за оригинальный способ самоубийства. Тайная история так оживляется, что принимается наверстывать упущенное и рассказывать нечто новое о прошедшем, но поскольку же на сей счет не имелось точно определенных правил, что можно, а чего нельзя, то 8 марта 1860 г. было издано специальное распоряжение: «Государь император высочайше повелеть соизволил: а как в цензурном уставе нет особенной статьи, которая бы положительно воспрещала распространение известий неосновательных и по существу своему неприличных о жизни и правительственных действиях августейших особ царствующего дома, уже скончавшихся и принадлежащих истории, то, с одной стороны, чтобы подобные известия не приносили вреда, а с другой, дабы не стеснить отечественную историю в ее развитии, периодом, до которого не должны доходить подобные известия, принять конец царствования Петра Великого. После сего времени воспрещать оглашение сведений, могущих быть поводом к распространению неблагоприятных мнений о скончавшихся августейших лицах царствующего дома…» Таким образом, можно было говорить почти все о Петре — прапрапрадеде царствующего монарха, но упаси боже задеть «неосновательно и неприлично» отца, дедов и прабабок. Однако в эту пору у тайной истории появляется свой печатный орган — Вольная русская типография в Лондоне, во главе с Герценом и Огаревым — политическими эмигрантами, революционерами, изгнанниками (чьи имена, даже в сопровождении ругательств, категорически запрещено упоминать в печати, и, стало быть, не было ни Герцена, ни Огарева). Ежегодно 300–400 страниц «Полярной звезды», дважды в месяц восемь страниц «Колокола» и несколько других вольных изданий стали «убежищем всех рукописей, тонущих в императорской цензуре, всех изувеченных ею» (Герцен). Десятками дорог движутся в Лондон письма, пакеты, анекдоты, эпиграммы, статьи, слухи, чтобы, не спросясь, вернуться в Россию «Полярной звездой», которую заметят тысячи, или «Колоколом», который услышат десятки тысяч. И никакого уважения к особам императорской фамилии после Петра I и к нескольким поколениям усердных цензоров. «Отечественная история не стеснялась в развитии…» «„Колокол“ принадлежит к дурному обществу. В нем нет ни канцелярской вежливости, ни секретарской учтивости» (Герцен).* * *
15 июня 1858 г. в Лондоне вышел 16-й номер «Колокола», а недели через две его уже читали в Петербурге и Москве. Обычный номер необычной газеты. Около десяти человек рискует свободой, передавая Герцену сведения, которые здесь печатались, — о том, что на самом деле происходит в столицах и Владимирской, Тамбовской, Харьковской губерниях. И тут же глава, и довольно большая, из российской тайной истории — о том, «чего не было». Заглавие: «Новгородское возмущение в 1831 году». Под заглавием примечание: «Этот необычайно любопытный документ писан самим очевидцем события и временным начальником возмущения инженерным полковником Панаевым, к подавлению которого он весьма много способствовал». Примечание сразу предлагает несколько задач: мемуары Панаева — «начальника возмущения, но способствовавшего подавлению», то есть человека верноподданного. Но такой, конечно, не станет посылать статью Герцену. Стало быть, кто достал и послал записки, конечно, не предназначавшиеся для печати? Ведь не было «новгородского возмущения» целых 27 лет. В «Колоколе» немало таких статей и корреспонденций, происхождение которых было тайной автора и редакции. «Новгородское возмущение 1831 г.» — 16 страниц мелкого, отчетливого шрифта в 16-м «Колоколе» и двух последующих.Инженерный полковник
«Опишу вам дело, хотя и не военное, но я лучше бы согласился вытерпеть несколько регулярных сражений, чем быть захваченным в народный бунт. Дни 16, 17, 18, 19 и 20 июля 1831 года для меня весьма памятны». Это начало. Панаев — видимо, в отставке, на покое — составляет записки, может быть, для друзей или родных («опишу вам…»). Военный человек виден очень ясно. Слог четкий, точный — словно в боевом донесении: «В 1820 году предположено было сформировать для гренадерского саперного батальона поселение: для того и назначен участок земли от гренадерского короля прусского, что ныне Фридриха Вильгельма полка». Надо будет разобраться: с какого года полк короля прусского стал «полком Фридриха Вильгельма» — может быть, удастся определить дату, когда Панаев эти строки писал («ныне»)… Бесхитростный, точный и страшный рассказ старого служаки не отпускает читателя. В чине инженерного подполковника Панаев (из рассказа видно, что зовут его Николаем Ивановичем) несколько лет командовал военными поселянами и солдатами, строившими здания и дороги. Вероятно, он был получше многих командиров, ибо разрешал подчиненным, сделав заданную норму, заниматься кто чем хочет. А вообще — «поселяне не любили начальство и ежели повиновались, то единственно из страха, ибо поселения были наполнены войсками». В 1831 г. войска ушли в Польшу, началась холера, среди людей, замотанных работой, жарой и побоями, идет слух, что лекаря вместе с офицерами — «отравляют». Даже исправный офицер Панаев понимает, что это, собственно говоря, повод, искра, ведущая к давно зревшему взрыву. Услыхав, что началось избиение офицеров, Панаев является в роту. Военные поселяне хотят убить и его, но он спасается благодаря нехитрому, но сильнодействующему приему: в последний миг громко кричит, что он не их командир, а инженер, так что пристрастий не имеет и готов возглавить мятежников, от их имени снестись с царем и доложить об отравителях. Желая спасти «отравителей-офицеров», он берет тех, что уцелели, под арест. Кое-кто из поселян чувствует подвох: «Не слушайте, кладите всех наповал, не надо нам и государя!» Но Панаев снова тем же приемом: «Как, разбойники! Кто осмелился восстать на государя? Ребята, кто верен государю, кричите „ура!“». Толпа кричит «ура» и избирает Панаева начальником. Затем несколько дней Панаев — бунтовщик поневоле. Он маневрирует, ловко дурачит солдат, но каждую секунду может сложить голову. Впрочем, иногда ему приходит в голову «пушкинская» коварная мысль — что можно было бы натворить, когда б он или другие офицеры в самом деле повели восставших. («Мне только стоило свистнуть. — вспоминал Панаев, — чтобы все Эйлеры и Депереры[319] полетели к черту».) Между тем Петербург уже извещен о мятеже, а начальству округа, в Новгород, Панаев отправляет секретный рапорт о своем положении. Поселяне, однако, выставляют на дорогах посты, перехватывают бумагу и требуют своего командира к ответу. Подполковник, втайне перекрестившись, выходит к ним. «Поселяне показали мне мои рапорты и спросили: я ли писал и почему к немцам <генералу Эйлеру>. Я отвечал им, что писал действительно я, но что они мужики, а не солдаты, что воинский устав приказывает начальникам, кто бы они ни были, писать рапортами, но что им этого не понять, и, обращаясь к одному унтер-офицеру с аннинским крестом и шевронами на рукаве, сказал: „Вот старый служивый так это знает. Не правда ли, старина, что начальник до тех пор, пока начальник, всегда получает рапорты и честь ему отдается?“ Тот отвечал: „Знаю, ваше высокоблагородие, да вот, как я служил в действующих и стояли в Киеве, то на главной гауптвахте сидел генерал, и мы все становились перед ним во фронт, снимали шапки и говорили: „Ваше превосходительство“, а как потом приехал майор с аудитором, да прочли бумагу, то его взяли и повезли в Сибирь“. Все поселяне стали извиняться перед мною, что они этого не знали, им показалось и бог знает что такое, а теперь будут знать». Снова люди, не разбирающиеся в обстановке, оглушены, обмануты; Панаева выручили воспоминания унтера о генерале, содержавшемся под арестом в Киеве (то есть, возможно, генерале-декабристе — Волконском или Юшневском, — арестованном в начале 1826 г. вместе с другими членами Южного общества). Трагическая, необыкновенная ситуация — все наизнанку, все наоборот: фальшивый, невольный предводитель мятежа усмиряет его, используя, может быть, историю настоящего революционера. Проходит еще день, другой — Панаев издает приказы, приводит учения, держит взаперти арестованных офицеров. Тут является сам император вместе с графом Алексеем Орловым, и начинаются сцены, которые Николай так эффектно описывал («Я был один среди них, и все лежали ниц!»). Панаев продолжает: «Я встретил его величество и подал рапорт о состоянии округа. Государь принял от меня рапорт, вышел из коляски, поцеловал меня и изволил сказать: „Спасибо, старый сослуживец, что ты здесь не потерял разума, я этого никогда не забуду“. Потом, увидев стоящих на коленях поселян с хлебом и солью, сказал им: „Не беру вашего хлеба, идите и молитесь богу“. Потом государь начал говорить поселянам, чтобы выдали виновных, но поселяне молчали. Я в то время, стоя в рядах поселян, услышал, что сзади меня какой-то поселянин говорил своим товарищам: „А что, братцы? Полно, это государь ли? Не из них ли переряженец?“ Услышав это, я обмер от страха, и кажется, государь прочел на лице моем смущение, ибо после того не настаивал о выдаче виновных и спросил их: „Раскаиваетесь ли вы?“ …И когда они начали кричать „раскаиваемся!“, то государь отломал кусок кренделя и изволил скушать, сказав: „Ну вот я ем ваш хлеб и соль; конечно, я могу вас простить, но как бог вас простит?“» Пушкин либо угадывал, либо знал, что в толпе «может найтиться голос для возражения»… Николай не решился сразу скрутить бунтовщиков — боялся сопротивления. Орлов советовал добиться выдачи зачинщиков самими поселянами. Панаев же, кажется, осмелился возражать влиятельному генерал-адъютанту[320]. В конце концов стало ясно, что восставшие напуганы, сбиты с толку: ведь офицеры, по их глубочайшему убеждению, в самом деле отравляли людей. Затем царь стягивает войска, бунтовщики покорно складывают оружие и надевают цепи. Военный суд — закрытый и скорый: шпицрутены, Сибирь для нескольких тысяч человек, 129 умерших «после телесного наказания и во время такового». В царском манифесте было объявлено, что «виновные предаются в руки правительства самими заблужденными». Описанием арестов и заканчиваются в 18-м номере «Колокола» воспоминания Панаева. Затем идет несколько заключительных строк, очевидно, написанных тем же незнакомцем, который переслал эти мемуары Герцену. «К этому простому рассказу прибавлять нечего; положение писавшего, его образ мыслей, роль, которую он играл, — все это придает особую важность его словам. Но мы не можем не прибавить одного. Николай никогда не прощал Панаеву то, что он видел его в минуту слабости, видел его побледневшим в соборе, когда начался глухой ропот. Панаев был свидетелем, как Николай, смешавшись, уступил и отломил кусок кренделя. Он не давал никакого хода человеку, который себя, в его смысле, вел с таким героизмом. Панаев умер генерал-майором, занимая место коменданта, кажется, в Киеве».
«Истинная правда»
Десятки тысяч читателей узнали наконец-то во всех подробностях настоящую историю летних событий 1831 г. Но об авторе записки, а также и о корреспонденте Герцена, в «Колоколе» совсем немного. В сущности, два факта: Упоминание о полке короля прусского, «что ныне Фридриха Вильгельма». Фраза: «Полковник Панаев умер в чине генерал-майора». В военном отделе Ленинской библиотеки я выкладываю свои просьбы дежурному библиографу — и через несколько минут получаю целую кипу книг: «Краткий список майорам по старшинству», «Краткий список полковникам…», «Краткий список генералам…». В кратком списке генералов на 26 июня 1855 г. быстро обнаруживается: «Генерал-майор Панаев Николай Иванович, родившийся в 1797 г., паж — с 1807 г., прапорщик — с 1812 г., полковник с 31 сентября 1831, генерал-майор с 25 июня 1850 г. Исправляющий должность коменданта города Киева и Киево-Печерской цитадели». В следующем списке генералов, служащих и отставных, составленном спустя несколько месяцев, в начале 1856 г., Панаева уже нет; очевидно, скончался во второй половине 1855 г. В другом справочнике сообщается, что у генерала было 13 детей и четыре ордена — не слишком высоких; при этом — Анну 4-й степени он получил в 15 лет, а Владимира 4-й степени — в 17, за кампанию против Наполеона. Несколько раз — по прошению — Панаеву выдавалась денежная помощь. В «Военно-историческом вестнике» за 1910 г. сообщается, что Николай Панаев был когда-то товарищем детских игр Николая I. В самом деле, карьеры Панаев не сделал. Товарищ императора, паж, к 17 годам — кавалер двух орденов, преданный слуга царя, безупречно — с точки зрения власти — действовавший во время бунта, он мог бы рассчитывать к пятидесяти годам на высокие чины и должности вплоть до генерал-адъютанта. Тот, кто приписывал к мемуарам Панаева заключительные строки, был прав: Николаю был неприятен свидетель его минутной слабости. «Я был один среди них, и все лежали ниц…» Панаев в этой формуле не помещался — и ему «не давали ходу», хотя до конца дней он оставался усердным и толковым командиром и, по свидетельствам современников, имел обыкновение поднимать за обедом тост за гибель всех врагов государя и отечества, басурманов и смутьянов. В тот момент, когда я завершаю знакомство с карьерой Панаева, библиограф приносит толстый том, давно, кажется с первых лет советской власти, никем не открывавшийся. «Очерк истории Санкт-Петербургского гренадерского короля Фридриха-Вильгельма III полка (1725–1870)». Издан в Петербурге в 1881 г. Подробные перечисления походов, битв, отцов-командиров, замечательных офицеров. Вскользь — нехотя — упоминание о позорных для полковой истории беспорядках 1831 г. Быстро нахожу искомое: именоваться полком Фридриха-Вильгельма полк стал сразу после смерти этого прусского короля, в 1840 г. Значит, Панаев вел записки не раньше 1840 г., но и не позже 1850. Анонимный автор статьи о Панаеве в «Военно-историческом вестнике», между прочим, сообщал про эти записки: «Панаев составлял их с тем, чтобы передать детям своим, случайно увидел их генерал-лейтенант Я. В. Воронец, тайно показал генерал-адъютанту Ростовцеву, а тот — наследнику престола» (будущему императору Александру II). Александр II отнес мемуары отцу, а Николай, «соблаговолив выслушать несколько страниц, изволил сказать потом: „Все истинная правда“». Разумеется, «истинная правда» не подлежала огласке. Ведь ее не было.
Корреспондент
Все-таки удалось по двум намекам кое-что узнать об истории записок. Ясно, что Панаев давал читать и, возможно, переписывать свой труд. В 1858 г., через три года после смерти генерала, некто пересылает интереснейшие мемуары в Вольную русскую прессу… В те времена существовала любопытная взаимозависимость вольной и легальной печати. Публикуют, положим, П. В. Анненков, П. И. Бартенов или Е. И. Якушкин прежде запрещенные стихи и биографические материалы о Пушкине или что-либо по истории XVIII столетия — цензура частично пропускает, но немало вырезает. Тогда изъятые и запрещенные куски благополучно отправляются в Лондон, там печатаются и возвращаются на родину нелегально. Проходит год, два, десять — власть и цензура смягчаются и пропускают то, что прежде придерживали: все равно опубликовано в «Полярной звезде» и «Колоколе», и все знают, и все читали — чего уж там… Так было и с историей военных поселян. В 1867 г. «Отечественные записки» печатают воспоминания протоиерея Воинова под заглавием «Рассказ очевидца о бунте военных поселян в 1831 г.». В 1870 г. выходит целый сборник «Бунт военных поселян в 1831 г. Рассказы и воспоминания очевидцев», в котором были впервые легально напечатаны записки Н. И. Панаева и некоторые другие. Все эти материалы были подготовлены к печати и изданы одним человеком, а именно — Михаилом Ивановичем Семевским. Братья Семевские, Михаил и Василий, были крупными историками. Василий Семевский в конце XIX и начале XX в. впервые в России писал большие, обстоятельные труды о крестьянах XVIII–XIX вв., о декабристах, петрашевцах. Его имя было хорошо известно студентам, пострадавшим за революционные убеждения: В. И. Семевский помогал много и многим, считался «деканом всех студентов, отставленных от университетской науки». Старший брат, Михаил Иванович Семевский, также был автором многих интересных трудов, особенно по «тайной истории» XVIII в. В 1870 г. он начал издавать известный исторический журнал — «Русская старина». В том, что один из Семевских пробил в печать еще одну запретную тему, не было ничего неожиданного. Но в предисловии к сборнику «Бунт военных поселян…» М. И. Семевский пишет: «Воспоминания Заикина, Панаева и Воинова изданы со списков, более исправных, нежели с каких некоторые из них были нами же прежде напечатаны в журналах». Если записки Заикина и Воинова были действительно прежде напечатаны Семевским в «Заре» и «Отечественных записках», то записки Панаева после «Колокола» публиковались впервые. Сверяя текст Панаева в «Колоколе» и в сборнике 1870 г., легко убеждаюсь, что никакого «более исправного» списка этих воспоминаний М. Семевский не имел. За исключением нескольких мелких грамматических исправлений тексты «Колокола» и сборника «Бунт военных поселений» совершенно совпадают: по-видимому, замечание об «исправном списке» — маскировка… Имею право заподозрить Михаила Семевского в том, что он корреспондент «Колокола». К тому же историк роняет одну любопытную фразу по поводу других воспоминаний о бунте1831 г. — записок капитана Заикина. «Рукопись, с которой печатается настоящий очерк, подарена пишущему эти строки лет десять назад ныне покойным его отцом: в молодости своей он служил, весьма, впрочем, короткое время, в военных поселениях». Эти строки М. Семевский опубликовал в 1869 г. Записки получены от отца «лет десять тому назад», то есть в конце пятидесятых годов — как раз в то время, когда в «Колоколе» появились мемуары Панаева. Очевидно, отец М. И. Семевского интересовался историей военных поселений и собирал материалы. Скорее всего записки Панаева также были переданы М. И. Семевскому его отцом. Михаил Семевский же, в свою очередь, передал интересные мемуары издателям «Колокола» (сопроводив текст примечаниями насчет того, почему Николай не давал хода Панаеву). Когда, при каких обстоятельствах записки Панаева попали в семью Семевских, каким путем удалось их переправить в Лондон — все это пока неизвестно. Герцен и Огарев не открывали тайн своих корреспондентов. Корреспонденты не болтали лишнего[321].
Вот и вся история — начавшаяся с газет, писем, слухов, легенд и умолчаний жаркого лета 1831 г. Один и тот же эпизод вызвал: Легенду о необыкновенной храбрости императора, изложенную им самим. Хвалебные оды этой необыкновенной храбрости (Бенкендорф и др.). Бесхитростные, точные воспоминания Панаева. Важные размышления Пушкина о русских народных движениях, их вождях и участниках. Любознательность и конспиративные усилия Михаила Семевского. Ценный материал для трех номеров «Колокола» — революционной газеты Герцена и Огарева. Разве мог предполагать Панаев, что первыми его публикаторами будут «смутьяны и лютые враги государя»? Но как бы генерал изумился, узнав, что Гринев, Швабрин и Дубровский некоторым образом ведут от него свою «родословную». Пожалуй, ни за что не поверил бы, хотя, если читал «Капитанскую дочку», возможно, говорил близким: «Да, чего только в жизни не случается. Вот со мною, например…»
Явная, разрешенная история николаевского царствования завершается в 1859 г. пышным сооружением барона Клодта — конной статуей императора, на постаменте которой в барельефах запечатлены его лучшие минуты: 14 декабря 1825 г., 1831 г. и прочее. Тайная же история ответила разоблачениями Герцена да еще стихами девятнадцатилетнего Дмитрия Писарева — будущего прославленного публициста, который, поиздевавшись над каждым из «подвигов-барельефов», заканчивал:
Прометей. М., 1967. Т. 3(перепечатано: Эйдельман Н. Обреченный отряд. М., 1987).

«Где и что Липранди?..»
Где и что Липранди? Мне брюхом хочется видеть его.А. С. Пушкин. 1823
Слушайте и судите, мы отдаемся на суд всех не служащих с Липранди.А. И. Герцен. 1857
 Про Ивана Петровича Липранди писали и не писали.
Писали потому, что этого человека никак нельзя было исключить из биографии Пушкина, декабристов, петрашевцев, Герцена.
Не писали же в основном по причинам эмоциональным. Вот перечень эпитетов и определений, наиболее часто употребляемых в статьях и книгах вместе с именем Иван Липранди: «зловещий, гнусный, реакционный, подлый, авантюрный, таинственный; предатель, клеврет, доносчик, автор инсинуаций, шпион».
Более мягкие характеристики употреблялись реже: «военный агент царского правительства, точный мемуарист, кишиневский друг Пушкина, военный историк».
По всему по этому задача исследователя применительно к Ивану Липранди кажется простой:
1. Нужно изучать печатное и рукописное наследство этого человека.
2. Изучая, надо извлечь из архивной руды то, что относится к Пушкину, Герцену, петрашевцам, декабристам. Все же остальное — то, что касается только самого Ивана Липранди, — это шлак, несущественные подробности, которые к делу не идут.
Следуя этим двум принципам, автор попытался найти в бумагах И. П. Липранди кое-что новое про знаменитых людей, но «удаление» Липранди от знаменитостей получалось плохо, находки крошились, ломались, от шлака не отделялись, настойчиво требовали: «Займись всей биографией Ивана Липранди, в том числе и теми главами ее, что к делу не идут».
Пришлось заняться, результаты же этих занятий сейчас будут доложены.
Про Ивана Петровича Липранди писали и не писали.
Писали потому, что этого человека никак нельзя было исключить из биографии Пушкина, декабристов, петрашевцев, Герцена.
Не писали же в основном по причинам эмоциональным. Вот перечень эпитетов и определений, наиболее часто употребляемых в статьях и книгах вместе с именем Иван Липранди: «зловещий, гнусный, реакционный, подлый, авантюрный, таинственный; предатель, клеврет, доносчик, автор инсинуаций, шпион».
Более мягкие характеристики употреблялись реже: «военный агент царского правительства, точный мемуарист, кишиневский друг Пушкина, военный историк».
По всему по этому задача исследователя применительно к Ивану Липранди кажется простой:
1. Нужно изучать печатное и рукописное наследство этого человека.
2. Изучая, надо извлечь из архивной руды то, что относится к Пушкину, Герцену, петрашевцам, декабристам. Все же остальное — то, что касается только самого Ивана Липранди, — это шлак, несущественные подробности, которые к делу не идут.
Следуя этим двум принципам, автор попытался найти в бумагах И. П. Липранди кое-что новое про знаменитых людей, но «удаление» Липранди от знаменитостей получалось плохо, находки крошились, ломались, от шлака не отделялись, настойчиво требовали: «Займись всей биографией Ивана Липранди, в том числе и теми главами ее, что к делу не идут».
Пришлось заняться, результаты же этих занятий сейчас будут доложены.
I
1809 год. Только что завершилась последняя в истории русско-шведская кампания (и вообще предпоследняя война с участием Швеции). Мир подписан, и жителям Финляндии сообщено, что отныне их повелитель — не Карл XIII шведский, но Александр I, император всероссийский. Шведские войска эвакуируются, русские же отдыхают после побед, пируют с побежденными, веселятся и проказят. В городе Або по тротуару, едва возвышающемуся над весенней грязью, движется компания молодых русских офицеров. Один из них, поручик Иван Липранди, весьма популярен у жителей и особенно жительниц города: от роду — 19 лет, участник двух кампаний, боевые раны, Анна IV степени и шпага за храбрость. Свободные часы он проводит в университетской библиотеке, читая на нескольких языках и ошеломляя собеседников самыми неожиданными познаниями… Навстречу по тому же тротуару идут несколько шведских офицеров, среди которых первый дуэлянт — капитан барон Блом. Шведы не намерены хоть немного посторониться, но Липранди подставляет плечо, и Блому приходится измерить глубину финляндской лужи. Дальше все как полагается. Шведы обижены и жалуются на победителей, «злоупотребляющих своим правом», русское командование не хочет осложнений с побежденными, и Липранди отправляется в шведское офицерское собрание, чтобы сообщить, как было дело. Шведский генерал успокоен, но Блом распускает слух, будто поручик извинился. Липранди взбешен. Шведы, однако, уходят из города, а международные дуэли строго запрещены… Договорились так: Липранди, когда сможет, сделает объявление в гельсингфорсских газетах, а Блом в Стокгольме будет следить за прессой. Через месяц президенту (редактору) газеты — за картами — подсовывают объявление: «Нижеподписавшийся (Липранди) просит капитана Блома возвратиться в Або, из коего он уехал, не окончив дела чести, и уведомить о времени своего прибытия также в газетах». Редактор, конечно, не подписал бы такого объявления, да у него стащили очки, у него не идет игра, и вообще подпись под каким-то объявлением — пустяк! На другой день вызывающая газета появляется. Командование с виду рассержено, но в общем — снисходительно. Дух времени: только что тут же, в Финляндии, граф Федор Толстой (он же в будущем «Федор-Алеут»; он же «химик, ботаник, князь Федор мой племянник»; он же, многими чертами, старший граф Турбин из «Двух гусаров» Толстого) с сожалением прострелил насквозь двух соотечественников из очень хороших дворянских семейств… Барон Блом отвечает в стокгольмских газетах, что 1 (13) июня 1809 г. прибудет и просит встречать по гельсингфорсской дороге. Весь город Або ждет исхода дуэли; в победе Швеции почти никто не сомневается. Липранди требует пистолетов, но Блом предпочитает шпагу. Поручик неважно фехтует, к тому же пистолет — более опасное оружие, и поэтому он на нем настаивает: «Если Блом никогда не имел пистолета в руках, то пусть один будет заряжен пулею, а другой — холостой, и швед может выбрать». Блом, однако, упирается. Разъяренный Липранди прекращает спор, хватает тяжеленную и неудобную шпагу (лучшей не нашлось), отчаянно кидается на барона, теснит его, получает рану, но обрушивает на голову противника столь мощный удар, что швед валится без памяти, и российское офицерство торжествует. Так изложена эта романтическая история, с добрым привкусом времен мушкетерских, в большой тетради, хранящейся в отделе рукописей Ленинской библиотеки в Москве. У тетради есть шифр — М2584. Есть и собственное имя — «Записка о службе действительного статского советника И. П. Липранди [1860 г.]». И есть загадка. На титульном листе читаем: «Подарено Румянцевскому музею Николаем Платоновичем Барсуковым 17 марта 1881 года». Почему известный историк Барсуков дарит Румянцевскому музею рукопись Липранди спустя десять месяцев после смерти ее автора? Это важно, но об этом — после… А пока заметим, что рассказ о лихой дуэли Липранди со шведским бароном — по свидетельству самого Ивана Петровича — очень нравился Пушкину. Поэт слышал про эту историю еще в Петербурге и «неотступно желал узнать малейшие подробности как повода и столкновения, так душевного моего настроения и взгляда властей, допустивших это столкновение (Александр Сергеевич, будучи почти тех же лет, как и [я] в 1810 году[322], находил […], что он сам, сейчас же поступил бы одинаково, как и я в 1810 году. Чтобы удовлетворить его настоянию, я должен был показать ему письма, газеты и подробное описание в дневнике моем, но этого было для него недостаточно: расспросы сыпались…» Еще бы расспросам не сыпаться! За воспоминаниями бывалых и особенно необыкновенных людей Пушкин охотился: рассказы Арины Родионовны про старых бар, приключения кавалерист-девицы Дуровой, дуэли Липранди — все это было по нем. Что думает и чувствует человек, идя на смертельный поединок, и каково это?II
Ташкент тогда уже существовал, но, кроме начитанного Липранди, вряд ли кто из офицеров-однополчан даже слыхал о таком городе. В Государственной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои хранится сейчас 189 томов с надписью «de Liprandy». Более полувека назад ташкентский историк и библиограф Е. К. Бетгер описал эти книги и выяснил, как попали они в Узбекистан. Дело в том, что в 50-х годах XIX в. библиотека Главного штаба купила у Липранди три тысячи томов, «специально относящихся к Турции». После завоевания Средней Азии российское командование попросило Петербург переслать в Ташкент книги по Востоку, и часть приобретенной библиотеки попала туда. Кроме того, в Москве, в рукописном отделе Ленинской библиотеки, хранится несколько красивых тетрадей (с бедуинами, крокодилами, янычарами и полумесяцами на обложках) — каталог западноевропейских, славянских, арабских, еврейских и турецких книг — «La Bibliotheque de Jean de Liprandy». И чего только нет! «Описание Персии» (Базель, 1596); «Сочинение об оттоманах» (Венеция, 1468); «О свойствах климата Валахии и Молдавии и так называемой язве, которая свирепствовала во второй русской армии в продолжение последней турецкой войны»… Где сейчас находится основная часть библиотеки Липранди — неизвестно. Между тем многие книги из этой библиотеки читал и, как говорят, снабжал своими заметками Пушкин. Е. К. Бетгер сообщал, что на многих книгах Липранди стоит печать королевской библиотеки французских Бурбонов в Нэльи. Война 1812 г. была лучшим временем в длинной жизни Липранди. Ему нет и двадцати двух, а он уже участник третьей кампании. Начинает ее поручиком, а два года спустя вступает в Париж подполковником. Был при Бородине, Малоярославце, Смоленске (где получил контузию), с небольшим отрядом взял немецкую крепость, за что имел право на высокий орден — Георгия IV степени (следовало лишь подать рапорт, но — молодость, храбрость, фанфаронство: «Не стану выпрашивать, пусть сами дадут…»). После разгрома Наполеона русский корпус во главе с графом Воронцовым несколько лет стоит во Франции. Воронцов как будто благоволит к 24-летнему подполковнику, что обещает карьеру в будущем. Префекту парижской полиции, мрачно знаменитому Видоку нужны помощники в борьбе с разными заговорщиками (бонапартисты, якобинцы и др.). Префект обращается к русскому командованию, которое рекомендует Липранди. Тайные заговоры — это в его духе. Получив должные полномочия, Липранди действует. Заговорщики схвачены. По ходу дела Видок знакомит русского с трущобами и тайнами Парижа, а несколько лет спустя Липранди расскажет близким приятелям о встречах со знаменитым сыщиком. Когда Вяземский и Пушкин (еще через десять лет) станут высмеивать Булгарина — «Видока Фиглярина», тут, может быть, вспомнились рассказы Ивана Петровича. Позже, оправдываясь в неразборчивости своих знакомств и дружбе с первым сыщиком Франции, Липранди будет твердить одно: было полезно и интересно узнать все это… Во Франции девиз Липранди тот же — просвещение и храбрость, книги и дуэли. С книгами была удача: в его руки, очевидно, тогда-то и попали драгоценные тома из старинной библиотеки Бурбонов. Может быть, они были взяты в пустующем замке или Видок поднес в награду за помощь? Фолиантам XVI–XVIII вв. из королевской французской библиотеки суждено будет в течение нескольких десятилетий перекочевать за тысячи верст, до середины Азии, в библиотеку Ташкента… С дуэлями вышла неудача. Перед возвращением русской армии на родину Липранди подстрелил кого-то, кого нельзя было подстреливать. Блистательная карьера сразу тускнеет. Подполковник Генерального штаба, заметная фигура в русском оккупационном корпусе, превращается в подполковника армейского (что намного хуже!) и попадает в недавно присоединенную Бессарабию. По понятиям обитателей Москвы, Петербурга и Парижа, то был край столь же дикий и далекий, каким сейчас нам представляется, например, Полинезия. Беда не приходит в одиночку. В то же время умирает жена Липранди. Ничего мы не знаем о его женитьбе и обстоятельствах смерти жены, но, видимо, вся история была какая-то необыкновенная, в духе других историй, сопровождавших молодость этого человека: Пушкин в программе своих записок среди воспоминаний, которые считал важными, специально отметил: «Липранди… Смерть его жены». Все это стало бы понятным, если б нашлись письма Липранди за те годы. Но нет этих писем. Был еще дневник, о котором много лет спустя, 20 ноября 1869 г., престарелый Липранди писал: «Дневник — современные записки, которые Н. П. Барсуков видел; они велись с 6 мая 1808 г. по сей день, включая в себя все впечатления дня до мельчайших и самых разных подробностей, никогда не предназначавшихся к печати»[323]. Но нет дневника. 21 августа 1820 г. 30-летний подполковник попадает в Кишинев[324], и к прежним чертам романтического превосходства прибавляется еще недовольство судьбой, одиночество, меланхолия. Ровно через месяц прибывает в Кишинев высланный из Петербурга Александр Пушкин.III
Громадная тетрадь в черном переплете, записки И. П. Липранди, хранится теперь в Институте русской литературы (Пушкинском доме), что у стрелки Васильевского острова в Ленинграде. Более содержательных и точных воспоминаний о пребывании Пушкина в Кишиневе мы не знаем. Записки эти появились почти через полвека после первой встречи Липранди с Пушкиным, в журнале «Русский архив» 1866 г., и появились, можно сказать, случайно. Издатель журнала Петр Иванович Бартенев, один из лучших знатоков и собирателей пушкинского наследства, вспомнил о 76-летнем отставном генерале Липранди и послал ему свою статью «Пушкин в Южной России». Статью эту Бартенев составил по крупицам из документов, отдельных рассказов и воспоминаний нескольких спутников пушкинской молодости. Липранди отозвался и написал громадный комментарий к бартеневской статье. С истинно военной точностью он поправлял, иногда опровергал, часто значительно расширял и дополнял сведения Бартенева. Он все помнил: что познакомился с Пушкиным 22 сентября 1820 г., а 23-го обедал с ним у М. Ф. Орлова; что чиновник Эйхфельдт наливал в чайник рому и в конце концов погиб, соревнуясь в количестве выпитого; что знаменитая куртизанка Калипсо Полихрони не могла напеть Пушкину «Черную шаль» (как утверждал Бартенев), ибо приехала в Кишинев в середине 1821 г., а «Черная шаль» была сочинена в октябре 1820 г.; что Пушкин надолго брал из библиотеки Липранди сначала Овидия, затем Валерия Флакка, Страбона и Мальтебрюна; что Пушкин выучил бранным словам не сороку (Бартенев), а попугая, принадлежавшего генералу Инзову; что из поездки в Аккерман и Измаил Липранди и Пушкин вернулись 23 декабря 1821 г. в 9 часов вечера, а в Измаиле перед сном выпили графин систовского вина, но Пушкин, проснувшись рано, сидел неодетый, «окруженный лоскутками бумаги» и «держал в руке перо, которым как бы бил такт, читая что-то»; что стотридцатипятилетний Искра рассказывал Пушкину и его спутникам про шведов и Карла XII… Один из таких эпизодов сделался уже знаменит: Пушкин, Липранди и другие 11 марта 1821 г. обедают у генерала Д. Н. Бологовского — одного из участников удушения Павла I, каковое состоялось ровно за 20 лет до того обеда, то есть 11 марта 1801 г. «Вдруг, никак неожиданно, Пушкин, сидевший за столом возле Н. С. Алексеева, приподнявшись несколько, произнес: „Дмитрий Николаевич! Ваше здоровье“. — „Это за что?“ — спросил генерал. „Сегодня 11 марта“, — отвечал полуосовевший Пушкин. Вдруг никому не пришло в голову, но генерал вспыхнул». Липранди не скрывал, откуда он все помнит: «Заметки эти взяты из моего дневника и в некоторых местах дополнены по памяти». А дневника нет[325]. Если бы Бартенев не догадался послать свою статью Липранди или сделал бы это слишком поздно, мы, возможно, никогда и не прочитали бы эти воспоминания, «Воспоминания № 1» о кишиневском периоде жизни Пушкина[326]. Они исчезли бы, как дневник, как две пушкинских повести, которые были у Липранди. Липранди вот что рассказал о них в «Русском архиве»: «Не вижу в собраниях сочинений [Пушкина] даже и намека о двух повестях, которые он составил из молдавских преданий по рассказам трех главнейших гетеристов: Василья Каравия, Константина Дуки и Пендадеки […] Пушкин часто встречал их у меня и находил большое удовольствие шутить и толковать с ними. От них он заимствовал два предания, в несколько приемов записывая их, и всегда на особенных бумажках». Далее Липранди сообщает, что Пушкин уже в Одессе показал ему составленные повести: «Предмет повестей вовсе не занимал меня: он не входил в круг моего сборника; но чтобы польстить Пушкину, — я попросил позволения переписать и тотчас послал за писарем. На другой день это было окончено […]. У меня остались помянутые копии, одна, под заглавием „Дука, молдавское предание XVII века“, вторая „Дафна и Дабижа“, молдавское предание 1663 г.». К этому месту липрандьевских «Записок» П. И. Бартенев сделал примечание, свидетельствующее, что он ознакомился с помянутыми рукописями (и, может, у себя оставил?). «От себя Пушкин ничего не прибавил тут. П. Б.» (т. е. Петр Бартенев). Трудно понять точную мысль Бартенева: то ли весь текст представляет изложение молдавских преданий и никаких рассуждений самого Пушкина в нем не видно, то ли в писарской рукописи Липранди нет добавлений рукою Пушкина? Странно и непонятно, как Бартенев мог не сохранить записи древних преданий, сделанных Пушкиным. Б. В. Томашевский и Г. Ф. Богач несколько лет назад установили, о каких преданиях идет речь. Содержание первых пушкинских повестей нам, стало быть, известно, но, увы, только содержание, а не форма… Среди бумаг Липранди, сохранившихся в Ленинграде в Центральном историческом архиве, немало материалов о Молдавии. Когда я начал их просматривать — появилось ощущение, что сейчас обязательно появится нечто о Пушкине: уж слишком знакомые мелькают имена и названия, встречающиеся не раз в пушкинских заметках, письмах, сочинениях: Кирджали, Ипсиланти, Иоргаки, Олимпиот, битва при Скулянах… Пушкинские повести мне, разумеется, так и не попались, но все же на одном листке мелькнуло имя поэта[327] (судя по примечанию к той же рукописи[328], листок заполнялся в 1870 г.). И. П. Липранди толкует об известном вожде греческого восстания против турок — князе Александре Ипсиланти, находившемся накануне восстания в Бессарабии. Отношение Пушкина к этому деятелю, как известно, менялось: сначала восторг, позже — разочарование… Иван Липранди же с присущим ему взглядом «сверху вниз» находит князя вообще человеком «совершенно ничтожным» и сообщает при этом неизвестную подробность: «С приездом из Измаила через Скуляны князя Александра [Ипсиланти] многое переменилось в общественной жизни его братьев. В касино [то есть казино] обыкновенно составлялись кадрили из трех братьев Ипсиланти, с перемежкой князей Георгия и Александра Кантакузиных или полковника Ф. Ф. Орлова, без ноги полковника л. гв. уланского полка, брата М[ихаила] Ф[едоровича], тогда дивизионного начальника в Кишиневе. Состав таких кадрилей бесил Александра Пушкина, и если тут чего не последовало, то конечно обязаны В. П. Горчакову и Н. С. Алексееву, удерживавших его, и можно почти безошибочно сказать, что, если Ал. Пушкин впоследствии имел столкновение с Ф. Ф. Орловым, то начало подготовлено было уже тем, что „Орлов собою, — как Пушкин выражался, — затыкал недостающего четвертого князя“. К некоторым он очень не благоволил, между тем как с князем Георгием Кантакузиным был очень хорош». Интересный штрих, деталь, неизвестное воспоминание: Пушкин, которого бесят чванливые аристократы… Но повестей нет. Может быть, Липранди не взял их обратно у Бартенева, а Бартенев подарил кому-либо (когда у него не бывало денег, он порою расплачивался с авторами кусочками пушкинских автографов!)? Кишиневское и одесское житье-бытье Пушкина и отношения его с Липранди, конечно, привлекали исследователей. Наиболее ценную работу на эту тему опубликовал перед самой Отечественной войной П. А. Садиков[329]. Читая его статью и другие материалы, можно убедиться в следующем: Липранди быстро стал важной персоной для начальства южного края, соседствующего с Турецкой империей. Делать все хорошо, лучше других — этот самый принцип проявился здесь в том, что вскоре Иван Петрович стал первейшим знатоком Молдавии, славянских государств, подвластных Турции, а также самой Турции. Он все изучает и записывает: и молдавские пословицы, и болгарские песни, и турецкий этикет, и сербскую кухню; быстро осваивает все языки Оттоманской империи, принимает и отсылает своих собственных агентов, знает через них обо всем, что хочет знать, заводит важные знакомства и связи среди знатных и влиятельных людей в подчиненных султану областях; подкупает турецкое начальство, получая специальные кредиты от своего начальства; без устали приобретает восточные книги и рукописи — и все это происходит в колоритной Бессарабии, где сталкивались Азия и Европа, римские развалины и славянские предания, среди пестрой толпы цыган, молдавских крестьян и бояр, армянских и еврейских купцов, среди греческих гетеристов, всегда готовых к действиям, и российских чиновников, склонных к лени и бездействию, рядом с Пушкиным, с декабристами-южанами Владимиром Федосеевичем Раевским, Михаилом Федоровичем Орловым… Это было время надежд, когда, по словам Чаадаева, «пора великих разочарований еще не наступила». Ожидание близких, коренных перемен в жизни страны определяло мысли, чувства, настроения многих людей. «В это время, — вспоминает декабрист Якушкин, — свободное выражение мыслей было принадлежностью не только всякого порядочного человека, но и всякого, кто хотел казаться порядочным человеком». Случалось, что убежденные, давние противники власти, такие, например, как Владимир Раевский, оказывались в одном тайном союзе с людьми, чье недовольство носило куда более личный, случайный характер. Таков был, по всей видимости, Иван Липранди, не простивший властям опалы, разжалования, ущемленного самолюбия. При иных обстоятельствах такие люди оказывались в самом пекле мятежей и восстаний, объективно играли самую революционную роль. А в других ситуациях… Так или иначе, но в начале 1820-х годов Иван Липранди и его брат Павел (тоже служивший на юге) фактически были членами тайного общества (что засвидетельствовано В. Ф. Раевским и С. Г. Волконским). Командир одной из дивизий, расположенных в Бессарабии, генерал С. Ф. Желтухин впоследствии с ненавистью писал о Липранди-заговорщике, который не скрывал, что «в коротких связах и переписке был с Муравьевым-Апостолом» и «кричал громко, что один Орлов[330] достоин звания генерала, а то все дрянь в России»[331]. 2 января 1822 г. Пушкин вручил Липранди, отправлявшемуся в столицы, письмо, адресованное П. А. Вяземскому: «Липранди берется доставить тебе мою прозу, — писал Пушкин. — Ты, думаю, видел его в Варшаве. Он мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) нелюбим нашим правительством и в свою очередь не любит его». О своей поездке и недовольстве властью Липранди писал 2 сентября 1822 г. генералу П. Д. Киселеву, своему начальнику и доброжелателю: «Будучи в продолжение более трех лет гоним сильным начальником, я нынешний год ездил в Петербург, дабы узнать сам лично тому причины, но во всем получил отказ. Не предвидя ничего в будущем и не будучи в состоянии переносить более унижения, при том расстроенном положении дел моих, болезни и претерпенные мною потери […] я подал в отставку. […] Я решительно служить не могу и посему исполнением сией моей просьбы Вы душевно обяжете»[332]. Пушкин и Липранди, «гонимые сильными начальниками», конечно, сходились во многих мнениях. «Чаще всего я видел Пушкина у Липранди, человека вполне оригинального по острому уму и жизни», — вспоминал А. Ф. Вельтман. «Где и что Липранди? — спрашивает Пушкин полтора года спустя из Одессы. — Мне брюхом хочется видеть его». Вероятно, рассказы Липранди оживляли воображение и поднимали дух в часы одесского уныния и унижения. Пушкина, очевидно, занимала демоническая таинственность Липранди, его воспоминания о финской и многих других дуэлях, о Бородинском и многих других сражениях, о парижских трущобах; вспомним обширность самых неожиданных познаний, не забудем о часах уединения над могилой жены — и мы поймем интерес Пушкина к этому человеку и причину того, что его имя занимает заметное место во «второй программе записок» поэта (Болдино, 1833 г.): «Кишинев — приезд мой из Кавказа и Крыма — Орлов — Ипсиланти — Каменка — Фонт[333] — греческая революция — Липранди — 12 год — mort de sa femme — le rénégat[334] — Паша арзрумский»[335]. «Я не могу оценить Пушкина как поэта, но как человека я ставлю его исключительно высоко», — записывал позже Липранди. Надо думать, Пушкин очень дорожил именно такой характеристикой. Конфликт с правительством приводит затем к отставке Ивана Липранди (обстоятельства ее не совсем ясны). Он собирается в Грецию или еще дальше — в Южную Америку, к Боливару — сражаться на стороне восставших, в духе лорда Байрона; настроения Липранди, как и прежде, созвучны переживаниям Пушкина, который не ладит с Воронцовым, подвергается новой опале и переводится в Михайловское. 5 апреля 1824 г. одесский чиновник Михаил Иванович Лекс сообщает своему приятелю И. П. Липранди о невозможности выдать ему заграничный паспорт… Если Франция 1814 г. была апогеем успехов Ивана Петровича, то теперь как будто — перигей. 14 декабря 1825 г. — бунт в Петербурге, затем — восстание Черниговского полка. Иван Липранди в них не участвует, но его имя называет на допросе бывший член Союза благоденствия Комаров; следует арест и крепость. Еще немного, и вся его последующая биография определится, как у тех приятелей, которые уходят в Сибирь или на Кавказ. Дамоклов меч не только повисает, но, казалось, обрушивается на опального полковника[336]. Начальник его граф Воронцов, узнав об аресте, выражает уверенность, что Липранди «при дивизионном командире [декабристе М. Ф. Орлове] не скрывал свободомышления своего…». Под арестом Иван Липранди пробыл больше месяца, затем освобожден (как Грибоедов, с которым он был заперт в одном помещении, как некоторые другие). Кишиневские декабристы молчали, Владимир Федосеевич Раевский на допросах даже имен друзей «не помнил», единственное показание Комарова было сочтено недостаточным… 25 февраля 1826 г. тридцатишестилетний полковник Липранди становится вновь полноправным подданным Николая I. Ему выдают годовое жалованье вместе с аттестатом «о непричастности», и вскоре он возвращается в Одессу. С Пушкиным, как известно, происходит нечто похожее. Выпущенный из Михайловского, он возвращается туда осенью 1826 г. уже по своей воле и 1 декабря 1826 г., задержавшись в Пскове по пути в Москву, отправляет друзьям несколько писем и одно — общему кишиневскому приятелю Николаю Степановичу Алексееву («черному другу»): «Милый мой, ты возвратил меня Бессарабии! Я опять в своих развалинах — в моей темной комнате, перед решетчатым окном […]. Липранди обнимаю дружески, жалею, что в разные времена съездили мы на счет казенный и не столкнулись где-нибудь». К Липранди — точно известно — Пушкин тоже писал, и не раз. Но нет писем…[337] Увидеться им больше не пришлось: Липранди на юге, Пушкин — в столицах, другие времена, другие обстоятельства… В другом месте Липранди вспоминает, что последнее письмо от Пушкина получил из Орла в 1829 г. Всего было, кажется, пять писем.IV
Но когда южные воспоминания удалялись и даже как будто начали забываться, — тогда «тень Липранди» вдруг снова являлась Пушкину. Это имя мы встречаем в программе пушкинских записок начала 1830-х годов. К этому времени могут относиться слова А. О. Смирновой-Россет: «Липранди, о котором [Пушкин] так часто мне говорил»[338]. Наконец, рассказ «Выстрел» (Болдинская осень, 1830 г.). О том, что сюжет «Выстрела» связан с Липранди, писали неоднократно: рассказ сообщен «Ивану Петровичу Белкину», как известно, «подполковником И. Л. П.» (переставленные инициалы и чин Липранди — все сходится). Необыкновенные дуэли — обычная сфера рассказов Липранди; герой, Сильвио, — типичный Липранди или уж во всяком случае напоминает его: иностранное имя, характер, бретерство, возраст (30–35 лет, «а мы все были моложе»); Сильвио, бывший военный, но ведь и Липранди с ноября 1822 г. — в отставке. У Сильвио играют в карты — а «к Липранди собиралась вся военная молодежь, в кругу которой жил более Пушкин. Живая, веселая беседа ecarté и иногда pour varier „направо и налево“[339], чтобы сквитать проигрыш» (воспоминания А. Ф. Вельтмана). Пытались даже усмотреть тонкий намек в следующих строках «Выстрела»: «Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью, с галуном, то, что французы называют „bonnet de police“». «Bonnet de police» — бескозырка, полицейская шапка: Пушкин-де чувствовал, что Липранди — Сильвио — политический агент правительства. Но еще П. А. Садиков доказал ясно, что Пушкин не мог иметь таких подозрений, во-первых, потому, что в те годы Липранди политическим агентом не был, а во-вторых, подозревая, Пушкин не посылал бы приветов старому другу. Интересно другое. В рассказе «Выстрел» разлита очень тонкая ирония автора. Пушкин рассказывает романтическую историю необыкновенной дуэли и рокового, загадочного Сильвио не совсем серьезно, с легкой улыбкой: не Пушкин ведь рассказывает, а добрый малый Иван Петрович Белкин, которого несколькими страницами прежде («Выстрел» — первый рассказ в «Повестях Белкина», идущий сразу после предисловия «От издателя»!) представляли читателю: «Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его навеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая…»[340] Пушкин улыбается. Болдинской осенью 1830 г. улыбается над романтическими годами и настроениями, своими и друзей своих. И то, что казалось некогда очень серьезным, например личность Липранди, — может быть, вовсе не так серьезно… Может быть, роковой герой и совсем не такой роковой, а таким лишь представлялся в молодости. Развязку истории Иван Петрович Белкин узнает в деревенской глуши от графа — противника Сильвио, — причем, обращаясь к собеседнику, Белкин раз двадцать повторяет: «Ваше сиятельство… Ваше сиятельство», что опять вызывает улыбку. Угадывал, что ли, Пушкин, как может измениться романтический герой в иные времена? Впрочем, Пушкин предпочел эти мысли не развивать; ему, вероятно, еще неясно было, что произошло с прототипом Сильвио в новые, николаевские годы. Если б поэт снова увиделся с Липранди, другое дело… А пока что Пушкин не желает даже переносить своего героя в настоящее время; может быть, с этим обстоятельством и связан первоначальный замысел рассказа — ограничить его первой главой: Белкин расстается с Сильвио — и это все… В конце концов читателю сообщается, что Сильвио погиб в сражении при Скулянах (греки-гетеристы против турок; 17 июня 1821 г.). Липранди в самом деле эту битву наблюдал, но остался цел и невредим. Прочитав у Бартенева, что сюжет «Выстрела» сообщен Пушкину И. П. Липранди, последний написал: «Не помню этого рассказа и желал бы знать источник». Он был точный человек, Иван Петрович Липранди; действительно, рассказа именно о такой дуэли он не помнил. Пушкин же, видимо, чувствовал несоответствие рокового, романтического героя 1820-х годов и новых, весьма прозаических обстоятельств 1830-х годов… Тот человек должен исчезнуть, погибнуть, и Пушкин, словно спасая Сильвио от незавидной судьбы, ожидающей его в царствование Николая I, приказывает ему не жить после 1821 г. С реальным же Сильвио, Иваном Петровичем Липранди, случилось еще хуже: он погиб при жизни — и прожил после того еще очень долго.V
С Липранди после 1826 г. происходит вот что. Во-первых, нет средств к существованию: отсутствует имение, отставному платят мало; во-вторых, пребывание под стражей производит свое действие… Власть крепка, заговорщики — в Сибири; в-третьих, новый император порождает надежды. Это в плохих учебниках все просто и ясно: Николай I — зверь, реакционер, и все тут. А ведь, вступив на престол, он не только расправился с декабристами, но многих сумел обнадежить:VI
Николай был недоволен своей тайной полицией, и когда в 1848 г. получил сведения о подозрительных сборищах на квартире титулярного советника Буташевича-Петрашевского, то поручил заняться этим делом не III отделению, а министерству внутренних дел. Перовскому было приятно высочайшее доверие, поскольку же дело было скользкое и секретное — оно пошло к Ивану Петровичу Липранди. Четверть века назад его имя вошло в историю декабристов, теперь — попадает в историю петрашевцев, но с полной «переменой знака». Липранди нашел поручение лестным, ибо чиновники, понятно, «работать не могут». Велено сохранить тайну — это также в его духе. Часто встречаясь с Л. В. Дубельтом, вторым человеком в III отделении и своим старинным приятелем (еще по 1812 году!), Липранди в течение нескольких месяцев ни словом не обмолвился о деле Петрашевского. Он служил честно. Дальше все просто: перед Иваном Липранди неприятель, как в 1808, 1812, 1828-м, только не в шведских или турецких мундирах, а в российских партикулярных одеждах. Такой же неприятель, каким, например, в 1826-м был сам Липранди для какого-нибудь жандармского генерала или «скалозуба». Надо действовать, и действовать хорошо. Липранди находит простое решение. На «пятницы» Петрашевского он засылает провокатора, студента Антонелли. Позже Липранди напишет, что трудно было найти подходящего человека для этой роли: «Агент мой должен был стать выше предрассудка, который в молве столь несправедливо и потому безнаказанно пятнает ненавистным именем доносчиков таких людей, которые, жертвуя собой в подобных делах, дают возможность правительству предупреждать те беспорядки, которые могли бы последовать при большей зрелости подобных зловредных обществ». Впрочем, несколько лет спустя Иван Липранди оправдывался, подчеркивая, что никого из петрашевцев не знал лично (в противном случае было бы не совсем честно засылать в кружки провокатора!), он не знал никого, кроме Толя, который пытался устроиться учителем к детям Липранди… Чиновник действует спокойно и последовательно: он предан самодержавию, считает его благом для России, — значит, все, что против этой власти, вредно для блага России. Противник должен быть искоренен любым способом, но причины, противника породившие (это умный Липранди понимал), от сего не истребляются. И тут снова: «С идеями надо бороться идеями же!» Беспощадная расправа, плюс серия идеологических контрмер — вот что предлагает Иван Липранди. А то, что правительство интересовалось только первой частью этой программы и не очень желало вникать в идеи, — это уже от Липранди не зависело. За несколько месяцев провокатор доставляет массу сведений о «пятницах» Петрашевского. Вырисовывается зародыш тайного общества, хотя еще не развившийся. И вот начальству представляется доклад. Как всегда, быстрый, деловой, со справками. Неприятель разбит: в ночь на 11 апреля 1849 г. 38 человек арестовано — Петрашевский, Спешнев, Достоевский… Арестованных собирают в зале вокруг чиновника, устраивающего перекличку. Кое-кому удается заглянуть через плечо жандарма в список, и среди фамилий они видят: «Антонелли — агент по данному делу». Не заботилась власть о своих людях: через день-два о дуэте Антонелли — Липранди известно и заключенным и множеству незаключенных… Все повернулось совсем не так, как считал действительный статский советник Иван Петрович Липранди. Всю жизнь он будет проклинать тот день и час, когда взялся за дело петрашевцев. («Для меня дело Петрашевского было пагубно, оно положило предел всей моей службе и было причиной совершенного разорения»[342].) Успешным разоблачением петрашевцев оказались недовольны многие лица, совершенно не разделявшие взгляды арестованных (что, конечно, нисколько не помешало вынести этим арестованным суровый приговор). Сослуживцы негодовали, что их коллега «из кожи лезет»; III отделение было недовольно (общество открыл чиновник другого ведомства — министерства внутренних дел). Недоволен был министр государственных имуществ М. Н. Муравьев-«вешатель» и кое-кто из других высших начальников (среди замешанных оказались их чиновники). Поэтому не следует удивляться, что в «Комиссии о злоумышленниках» даже Дубельт был мягок и старался уменьшить значение общества Петрашевского. Сам же Липранди, понятно, всеми силами старался доказать, что он открыл действительно серьезную и опасную тайную организацию. Для этого 17 августа 1849 г. он подал специальное мнение в Комиссию и приложил к нему выдержки из множества документов, изъятых у преступников. Временно замещавший Липранди статский советник Муравьев (сын министра государственных имуществ) пустил слух об упущениях Липранди на службе. Обвиненный негодовал, Перовский ему сочувствовал, но с соседним министром ссориться не стал. А затем на месте Перовского очутился другой министр — Бибиков. В архиве сохранилась отчаянная записка Липранди на имя нового министра с перечислением сотен дел, великолепно им выполненных. Сохранились воспоминания Липранди о том, как министр Муравьев говорил с ним «собачье-начальническим тоном», а министр Бибиков подвел его в 1852 г. под «сокращение штатов». «Жаловаться на него, — записывает пострадавший, — значило бы самому же ему». В конце концов Липранди оказался в отставке и почти без средств. Тут-то он и продал свою громадную библиотеку Генеральному штабу, а Генеральный штаб несколько лет не платил ему денег: все тот же слух, будто Иван Липранди на руку нечист, получал взятки от раскольников, при конфискациях «себя не обидел» и что надо сначала проверить его бумаги. Проверили — все чисто, но… После этого Липранди продолжает бедствовать… Перовский по старой памяти пристраивает его при министерстве уделов, но вскоре умирает, а следующий шеф не хочет держать «слишком способного» чиновника. Липранди буквально засыпает в эти годы прошениями и соображениями крупнейших сановников. Сановники читают, пишут автору любезные ответы, но служить не берут («что-то там, говорят, у него нечисто, раскрыл злоумышленников, сгустил краски, какие-то деньги пропали, Михаил Николаевич Муравьев его не любит…»). Он пытается привлечь к себе внимание проектом перестройки тайной полиции. Смысл прост: III отделение устарело, нужна действенная организация, опирающаяся не столько на своих сыщиков, сколько на активную поддержку населения, которое надо воспитывать в соответствующем духе. Записку читает очень влиятельный генерал-адъютант Ростовцев (некогда предавший своих друзей-декабристов) и несколько раз консультируется с Липранди, но не более того… И когда Иван Петрович в 1854 г. просится в Крым, где в обороне Севастополя видную роль играет его младший брат Павел Петрович, ему снова отказывают (хотя сам граф Киселев аттестует Липранди как «одного из лучших офицеров Генерального штаба»). Снова — «тайное недоброжелательство». Месть судьбы… Весьма любопытный эпизод имеется в «Записке о службе» И. П. Липранди: перед коронацией Александра II в 1856 г. был пущен слух о готовящихся в Москве беспорядках. Третьему отделению выгодно, чтобы беспорядки в самом деле замышлялись, но, благодаря его бдительности, не осуществились… Тут-то вспомнили о Липранди, который, как полагали, обнаружит преступников даже на необитаемом острове. Опальный генерал предстал перед шефом жандармов Долгоруковым и 8 августа 1856 г. помчался в Москву. Производя восьмидневную разведку во второй столице, ревизор вернулся и представил правдивый отчет, что все вздор и никаких беспорядков не предвидится. Позже ему прямо намекнули, что начальство было неприятно удивлено, не получив требуемых сведений… Так после дела Петрашевского имя Ивана Липранди приобрело всероссийскую недобрую славу — и лучше бы ему погибнуть под Скулянами в 1821 г. Создав Вольную печать, Герцен и Огарев естественно избрали Ивана Липранди мишенью для обстрела, именуя его «поэтом шпионов», «трюфельной ищейкой», «доносчиком по особым поручениям»… В автобиографии Липранди имеются довольно интересные признания о том, как удары Вольной русской печати еще более ухудшили его шансы на возвращение к делам. Горестно вспоминая (в 1860 г.), что некогда отказался от губернаторской должности, которую ему предлагал Перовский, Липранди писал: «А ныне, как один из вельмож отозвался: что скажет о сем Герцен?..» Опального чиновника наказывали министры и революционеры, Герцен и враги Герцена, те, кого он арестовал, и те, кто арестовывал вместе с ним… Далеко не всегда Немезида наказывает так явно, так просто. Случай с Липранди — словно возмездие из какой-нибудь древней притчи о грехе и расплате. В VII книге «Полярной звезды» Герцена и Огарева, вышедшей в конце 1861 г., было напечатано «Секретное мнение» Липранди по делу петрашевцев. Есть данные, что Липранди был даже доволен появлением своего «Мнения» во враждебной печати. Гипотеза о том, что он сам послал свою «оправдательную записку» в Лондон, конечно, допустима, однако скорее всего копию этого документа добыли друзья Герцена — историк, библиограф, пушкинист Петр Александрович Ефремов и знаменитый собиратель русских сказок Александр Николаевич Афанасьев[343].VII
26 августа 1866 г. историк Николай Платонович Барсуков описывал посещение петербургской квартиры Липранди в письме к своему дяде П. И. Бартеневу: «Липранди… это живая картина славной эпохи… Как мизерно показалось мне в эти минуты наше умствующее и немощное поколение. Мне очень понравилась его величественная и внушающая доверие наружность… и простота его обстановки». Издатель «Русского архива» счел, однако, нужным охладить восторги племянника и отвечал (7 сентября 1866 г.): «Насчет Липранди, пожалуйста, не очень увлекайся: тут блох много водилось, и, вероятно, еще водится. Ради бога, любезный Коля, не будь брюзгливым старцем. Ты называешь нынешнее поколение умствующим и немощным; может, оно и так, но клеймить его было бы грешно…» Н. П. Барсуков смущенно оправдывался: «Липранди меня подкупил своими увлекательными рассказами и близкими отношениями с Пушкиным»[344]. Генералу было что рассказать… На восьмом-девятом десятке лет он почти каждое письмо сопровождает примечаниями такого рода: «26 августа 1875 года, 63 года назад, стоял я на Бородинском поле…» или: «19 марта 1873 года, 59 лет назад, в этот день мы вступили в Париж». Он давно потерял друзей — и жадно ловил читателя или собеседника. Он хочет остаться, сохраниться благодаря печати, людской памяти. Последнее двадцатилетие его жизни едва ли не самое плодовитое в литературном отношении. Отставной генерал публикует заметки, соображения, критические статьи, воспоминания о всех войнах с 1807 по 1877 г., о политическом положении, о снабжении провиантом, о Пушкине, о религиозных сектах, о тайной полиции… Но сколько ни печатает, еще больше остается в рукописях на его квартире (громадные коллекции статей, вырезок, иллюстраций о войне 1812 г.; копии большинства дел, которые он когда-то вел; сотни писем, дневник и т. д.). «Заходите, — пишет он одному историку, — много, много для вас интересного…». Гонорара за статьи Липранди не берет принципиально и печатает из призвания. Старается пристроить в печать как можно больше, ибо многое уже исчезло безвозвратно. Кое-что из его писаний имеет успех. Так, однажды к Липранди неожиданно приходит по почте «Война и мир» с посвящением Л. Н. Толстого: «В знак искреннего уважения и благодарности». Н. П. Барсуков сообщал Бартеневу (16 апреля 1868 г.), что Липранди это, конечно, приятно, но он «не знает, за что [Толстой] его благодарит». Бартенев все объяснил: «Граф Толстой благодарит Липранди за его добросовестные труды по истории 1812 г., коими Толстой пользовался, изучая для своего романа ту эпоху»[345]. Но Липранди нужен не этот успех. Он пытается жить как деятель. Считает себя обиженным, непонятым: ведь преданность престолу, знания и ум как будто не нужны, и он в ужасе от всего этого. Он боится за династию, ибо уверен, что видит ее будущее лучше других и обязан спасти. Самое позднее из сочинений Ивана Липранди хранится в Центральном историческом архиве (среди пятисот с лишним других его бумаг) — «Грустные думы ветерана великой эпохи с 1807 года». Это рукопись, приготовленная 3 августа 1878 г. для «верхов». Записке не откажешь в ясности и четкости изложения. 88-летний «ветеран» подводит итоги. Он грустен, полагая, что видит больше, чем другие. Видит же он расширение и развитие того дела, зародыш которого он пытался пресечь в деле петрашевцев (главной фигурой процесса считает Спешнева). Впрочем, в поисках «истоков» Липранди не забывает и декабристов, полагая, что идея объединения бунтующих дворян с другими слоями населения принадлежит «Фонвизину и Муравьевым Александру и Михаилу» (последний упомянут не зря: это будущий министр и враг Липранди). У петрашевцев он считает важным, что «здесь, в первый раз возле гвардейских и других военных офицеров, начальников отделений министерства иностранных дел, чиновников, помещиков — сидели учителя, студенты, архитекторы, купцы, мещане и даже лавочники»[346]. На старости лет он познакомился не только с шестидесятниками, но и с участниками хождения в народ, представшими на знаменитом «процессе 193-х». В тысячный раз Липранди повторяет, что против идей надо бороться идеями, и рекомендует власти использовать растущую грамотность населения в своих целях, иначе новые читатели будут вкушать крамолу. «Против идей идеями» он понимает так: больше религиозной пропаганды, больше правительственных книг и газет, как во Франции, где власть после 1848 г. наводнила страну брошюрами. Липранди очень нравится Катков, которому правительство в свое время разрешило отвечать Герцену. Ветеран склонен даже увлечься: «Когда разрешено было печатно возражать на издания Герцена, проникавшие к нам разными путями, которых правительство не могло преградить, и сводившие с ума не одну молодежь — несколько здравых статей „Московских ведомостей“ и „Русского вестника“ было достаточно, чтобы образумить восторгавшихся Герценом „со товарищи“, и издания его пали»[347]. Самодержавие кое-что делало «против идей идеями». Гигантскими тиражами выходили книжки «Голенький ох, а за голеньким бог!» или «Царь освободил, а мужик не забыл». Однако Иван Липранди почему-то не очень верил в действенность таких книжек и был грустен. Его собственные мысли, оказывается, не для печати (III отделение и так находило, что Липранди открывает слишком многое из тайной истории прежних царствований, и кое-что не пропускало…). Поэтому старик старался оставить побольше своих бумаг, чтобы их прочитали, поняли, приняли меры: войны ведутся неправильно; тайная полиция организована не так; с крамольниками нужно иначе бороться; с раскольниками и сектантами надо обращаться так, как Липранди еще 25 лет назад советовал. Он выше других, он, конечно, «лучше понимает»… И вот он шлет письмо за письмом А. Ф. Вельтману в Москву, расспрашивает кишиневского приятеля, писателя и ученого, нельзя ли передать часть рукописей в сборник старинного и влиятельного Общества истории и древностей российских. Итак, одну часть своих бумаг Липранди опубликовал или передал в библиотеки, музеи, ученые общества… Вторую крупную часть он отдал Н. П. Барсукову. Из довольно полно сохранившихся бумаг историка видно, что интимные документы (дневник и некоторые письма) Иван Петрович, очевидно, ему не дал: оставил дома или переслал в надежное место за границу. Стремление обнародовать или сохранить одни материалы, понятно, сочеталось у Липранди с желанием многое скрыть: загадочно исчезают важнейшие материалы, и архив отставного действительного статского советника доступен и одновременно таинствен: двойственный, как вся его биография.VIII
Фамилия Липранди — редкая; кажется, была одна эта семья во всей России. Адресный стол Ленинграда отвечал, что лиц с такой фамилией в городе и области нет. Зато в Москве я быстро получаю адрес Константина Рафаиловича и Антонины Петровны Липранди, тут же отправляюсь в старинный маленький домик в Скатертном переулке, не без труда нахожу дверь где-то между лестницей и фундаментом, представляюсь. Навстречу мне поднимается стройный седой человек. Отношения выясняются быстро. Константин Рафаилович — внук Павла Петровича Липранди, младшего из братьев, который тоже был в числе кишиневских приятелей Пушкина и декабриста В. Ф. Раевского, а позже, в чине генерала, сражался под Севастополем. — Но вас интересует Иван Петрович, мой двоюродный дед, — говорит хозяин. — Трудность в том, что семьи наши не очень-то знались друг с другом. Разные темные слухи про Ивана Петровича не способствовали родственным чувствам. Впрочем… Константин Рафаилович вспоминает, что совсем молодым, примерно в 1909–1910 годах, он встречался в Петербурге с двумя своими престарелыми дядьями — детьми Ивана Петровича Липранди. Дяди звались Александр Иванович и Павел Иванович. Александр Иванович вскоре умер, Павел Иванович был очень стар… — Остались ли потомки? — У Александра Ивановича не было, у Павла Ивановича имелся сын — литератор довольно консервативного направления Александр Павлович Липранди (он подписывал свои статьи в украинской печати «А. Волынец»). Да, выходит, наследником этой ветви был Александр Павлович, и была у него великолепная библиотека… Константин Рафаилович припоминает, что бывал в доме на окраине столицы (в Новой деревне) и не раз слыхал, будто бы в библиотеке того дома — книги с пометками Пушкина… В тот вечер и при других встречах мы долго говорим о предках. Константин Рафаилович — участник революции, в свое время заместитель начальника Амурской флотилии — поражает меня своими родственными связями: «Когда я бываю в Эрмитаже, в галерее героев 1812 года, я нахожу портрет Талызина. Вы знаете Талызина? Это мой прадед. Он душил императора Павла… А троюродный брат мой — покойный маршал Тухачевский. Мы с ним родня через Арсеньевых: вы знаете Арсеньеву, бабушку Лермонтова? Да, выходит, что Лермонтов мой четвероюродный прадедушка…». Времена вдруг сближаются. Убийство Павла, 1812 год, Лермонтов — это будто вчерашний день. Знакомые и родня (кстати, с потомками Пушкина, а стало быть, посмертно, и с самими Пушкиным тоже породнились…). Ивана Липранди мы оба ничуть не собираемся реабилитировать, но изумляемся сложному сплетению разных жизненных обстоятельств в его биографии: друг декабристов — и яростный сторонник самодержавия; приятель Пушкина — и губитель петрашевцев; крупный военный писатель — и авантюрист; честолюбие — и фанатическая убежденность; личность незаурядная и страшная… Константин Рафаилофич думает, что прямых потомков у Ивана Петровича не осталось, хотя кто знает: внучатый племянник помнил только двух сыновей Ивана Петровича, я же точно знаю, что было три взрослых сына. А. П. Липранди (А. Волынец) еще летом 1917 г. переехал из Петрограда в Харьков вместе с библиотекой (а может быть, рукописями). Мы договариваемся с Константином Рафаиловичем о взаимной помощи, и он время от времени сообщает по телефону или в письмах новые подробности, а я все выспрашиваю и все не утрачиваю веры в находки, открытия и прочую романтику. Между прочим, К. Р. Липранди сообщает мне, что о судьбе прямых потомков Ивана Петровича и его бумаг могла бы сообщить его родственница Мария Вадимовна Девлет-Кильдеева; запрашиваю Ленинград и узнаю, что Мария Вадимовна умерла «месяц назад» в возрасте 80 лет. Никогда нельзя откладывать поиски… Константин Рафаилович скончался несколько лет назад. В последнем разговоре со мною, по телефону, он, во-первых, с большой точностью определил дату своей скорой смерти, а во-вторых, просил «непременно сыскать двоюродного дедушку»… Люди уходили, бумаги дожидались.IX
Фонды Липранди хорошо знают многие исследователи, я же с первых минут своих занятий этими бумагами стал досаждать любезным московским и ленинградским архивистам вопросами — когда и откуда эти бумаги взялись? Ведь если бы знать откуда, то можно было бы отправиться в те хранилища, через которые эти бумаги прошли. Может быть, в тех хранилищах как раз задержались, отложились и другие рукописи (дневник!). Могло быть, думаю, так: Липранди умер, правительство же, хорошо зная, что у него хранятся очень важные бумаги, посылает чиновников министерства внутренних дел, чтобы эти бумаги описать и наиболее секретные изъять. Вот если найти опись бумаг, сделанную в 1880 г., и сравнить с тем, что осталось… Но как я ни старался узнать, когда бумаги Липранди попали в государственный архив, ничего не получалось. Выяснилось только, что в 1918 г. они уже были налицо; известно также, что еще до революции архивом Липранди пользовался издатель полного собрания сочинений Герцена Михаил Константинович Лемке. В общем, о том, когда и как впервые попали в архив примерно 70 документов Липранди, мы пока ничего не знаем… Но читатель вправе удивиться: «Почему 70? Ведь в архиве, как отмечено выше, более 500 „единиц хранения“!» Вот и я удивился и получил ответ, что до революции было только 70 единиц в фон де Липранди, а 441 документ поступил много позже, в 1932 г., из Библиотеки Академии наук. Несколько дней листаю десятки дел из фон да № 673. Среди старых, «коренных» документов этого фон да преобладают всякие секретные записки, политические материалы, и это понятно — что же могло заинтересовать министерство внутренних дел, как не «политика»! Зато бумаги, поступившие из академии, совсем другие: тут сохранились исторические и литературные материалы, большей частью черновые, по восточному вопросу. Аккуратный Липранди, конечно, не стал бы передавать в академию конспекты и отдельные записи, порой неразборчивые. В ответ на мой вопрос о «прошлом» 441 единицы хранения — Библиотека Академии наук отвечала: «Фонд И. П. Липранди поступил в библиотеку в 90-х годах XIX в. В 1895 г. А. А. Куник докладывал о поступлении в 1-е отделение библиотеки „коллекции рукописей И. П. Липранди, состоящей из 160 нумеров“, и об уплате Александру Ивановичу Липранди (через поручика Мостовского) 150 рублей. Тогда же Василий Петрович Мостовский предлагал Академии наук купить „коллекцию древних карт и планов Восточной Европы и Турции“, составленную генералом И. П. Липранди. Коллекция была куплена. В 1896 г. майор А. И. Липранди продал за 400 рублей „Сборник 1812 г.“ его покойного отца (2474 номера), а в 1898 г. предлагал собрание гравюр, составленное его отцом, что было отклонено». Итак, майор Александр Иванович Липранди, старший сын Ивана Петровича, распорядился оставшимися после отца рукописями. Хотя часть бумаг давно ушла в Москву, хотя другую часть забрали в министерство внутренних дел, но и без того на квартире умершего генерала должно было многое остаться[348]. (Одни только материалы «О тождестве человека с животными» превышали 10 тысяч листов!) Кстати, еще в феврале 1883 г. А. И. Липранди послал известному коллекционеру П. Я. Дашкову «каталог бумагам, оставшимся после смерти моего отца», но через месяц затребовал каталог обратно[349]. Александр Липранди, возможно, имел дневник отца, десятки важных рукописей и писем… При этом рукописями распоряжался и Василий Петрович Мостовский — лицо совершенно неизвестное. Где-то, совсем рядом, лежали драгоценности. Дневник за 60 или 70 лет, наполненный сведениями о Пушкине и множестве других людей и событий. Молдавские повести Пушкина «Дафна и Дабижа» и «Дука». Письма Пушкина к Липранди. Библиотека Липранди… Но обладатель этих сокровищ, словно в отместку человечеству, решил не открывать своих главных тайн — и кто знает, насколько это ему удалось… Так прожил жизнь человек, который не привлек бы нашего внимания, не выделился бы из полузабытой массы верных слуг престола, если бы не два обстоятельства. Во-первых, исключительность и одновременно типичность его биографии, сквозь которую хорошо просматриваются некоторые важные закономерности исторического развития русского общества и самодержавия в XIX в. Во-вторых, как мы видели, долгая сумрачная жизнь Ивана Петровича Липранди была более или менее заметным биографическим фактом для Пушкина, декабристов, петрашевцев, Герцена, Толстого. Об этом мы еще далеко не все знаем; хотелось бы узнать побольше… 9 мая 1880 г. Иван Липранди скончался в Петербурге на 90-м году жизни. Еще за 12 лет до того, в черную минуту, он признался Вельтману, что соединил свои записки, «собранные из дневника», под названием «Заметки умершего».Пути в незнаемое. М., 1972. Сб. 9(перепечатано: Эйдельман Н. Обреченный отряд. М., 1987)

В предчувствии краха
 «Старая русская власть делилась на безответственную и ответственную.
Вторая несла ответственность только перед первой, а не перед народом.
Такой порядок требовал людей верующих (вера в помазание), мужественных (нераздвоенных) и честных (аксиомы нравственности). С непомерным же развитием России вглубь и вширь он требовал еще — все повелительнее — гениальности.
Всех этих свойств давно уже не было у носителей власти в России. Верхи мельчали, развращая низы…»
Александр Блок сделал эту запись в своем дневнике в 1917 г., через два месяца после Февральской революции.
Тремя десятилетиями раньше нечто подобное высказал в своем дневнике государственный секретарь и председатель Русского исторического общества Александр Половцов[350].
Большой поэт и крупный государственный чиновник — люди столь чужие и далекие, что на перекрестке их суждений вероятна встреча с истиной. (Впрочем, поэт с дневника, записной книжки только «начинается», завершаясь в своих произведениях; для государственного же человека дневник, напротив, итог, предел, вершина искренности…)
Александр Половцов вел дневник почти всю жизнь, доверяя сокровенные мысли и знания своим тетрадям, но не скрывая надежды, что когда-нибудь дневник прочтут и оценят. Это «когда-нибудь» наступило сейчас: пролежало несколько десятилетий в архиве и ныне напечатано более тысячи страниц важного документа. Документ позволяет еще и еще раз поразмыслить о русском историческом процессе, о корнях и судьбах «ответственного и безответственного» российского деспотизма.
Автор дневника не только видит, как делается политика, но и сам — один из ее делателей. Половцов фактически управлял делами Государственного совета, состоя в качестве «гувернера» при номинальном председателе, великом князе Михаиле Николаевиче. Главной обязанностью Половцова было, однако, дело весьма деликатного свойства: царь Александр III желал сам разобраться во всех многосложных вопросах, обсуждавшихся Советом, но разобраться не мог, и Половцову были поручены секретные мемории, то есть переводы протоколов с непонятного делового на простой царский язык. (Прежде так не делалось — цари либо сами разбирались, либо «не вникали».) Мемории были государственной тайной и после использования уничтожались, составитель же их, естественно, имел прямой доступ к царю и часто с ним встречался с глазу на глаз. Во время маневров у Нарвы русская и германская императорские семьи жили в доме Половцова. На общественных весах, кроме этих обстоятельств, немало тянуло многомиллионное состояние государственного секретаря, который охотился и завтракал с великими князьями, был в родстве с несколькими очень знатными фамилиями и «на ты» с Победоносцевым.
«У Половцова, — справедливо отмечает во вступительной статье профессор П. А. Зайончковский, — мы не встречаем каких-либо ярких и глубоких мыслей, обобщений, которые имеются в дневниках Валуева и Милютина, однако записи Половцова подробнее и содержат больше фактов, — и в этом заключается особая ценность его дневника как исторического источника».
Дневник переносит читателя в одну из самых таинственных и благоденствующих российских сфер. Этот мир сильно отличался от всех других российских миров неповторимыми чертами быта, морали, меню и лексикона.
В дневнике, однако, не только быт, но и время. Время сравнительно тихое: позади остались реформы шестидесятых и террористы семидесятых годов, цареубийство 1 марта 1881 г. Впереди — неизвестность…
В сравнительно тихие и глухие восьмидесятые годы «врагом внутренним» не только пугали — его и в самом деле боялись.
Половцов прибывает со двором в Москву в дни коронации Александра III и сообщает немало колоритных подробностей.
Перед въездом царской четы в город министр внутренних дел «осмотрел подвалы всех церквей и принял всевозможные средства безопасности. От Петровского дворца до Кремля будет, кроме войска и наемных агентов, находиться 23 тыс. добровольно принявших на себя охрану крестьян. Организациею этой охраны заведует гр. Бобринский. Каждый домовладелец дает список лиц, допущенных им в дом для того, чтобы смотреть на въезд. На крышах народа не будет, а на чердаках повсеместно расположены солдаты. Несмотря на все эти предосторожности, от единичной динамитной бомбы никто уберечься не может, но полиция уверена, что заговора среди нигилистов на это время нет».
Десятого мая 1883 г. совершается въезд, торжественный, но слишком быстрый. Придворные в Кремле гадают: будет бомба или не будет? «При входе императорской четы всякий из нас невольно творит крестное знамение. Государь с императрицей, войдя в Успенский собор, под силою только что пережитого впечатления останавливаются как бы в раздумье. Вел. кн. Владимир Александрович подходит к ним и напоминает о том, что надо прикладываться к образам… У всякого свалился с сердца камень, все идут по домам с улыбкою на устах, чуть не христосуются на улицах».
Осенью того же года «некстати» умер И. С. Тургенев. Дальновидный Половцов советует похоронить писателя на казенный счет и, «забрав дело церемении в свои руки, отклонить всякие противоправительственные демонстрации», однако министр внутренних дел Дмитрий Толстой находит, что «Тургенев недостаточно велик для подобной государственной почести, указывая на последние его сочинения как на противоправительственные поступки». Кроме того, министр откровенно признается Половцову, что «совершенно спокоен, зная, что террористическая партия никакого участия принимать не намерена, а участие партии либеральной означает лишь пустую болтовню». Наконец 30 сентября 1883 г. Половцов вносит в дневник замечательно составленную фразу: «У Толстого ликуют об успехе тургеневских похорон».
В дневнике много таких историй, много известных политических событий, но зафиксированных в непривычном для нас «виде сверху». И много страху. Страхи были и перед настоящей опасностью, и перед несуществующей… Тут не простая трусость, а определенная логика: запрет «на все» оборачивается страхом «перед всем».
Запреты, страхи, успехи и неуспехи власти складывались в равнодействующую, именуемую внутренней политикой. В те времена генеральный вопрос внутренней политики был такой: уступать или зажимать? Либерально или охранительно?.. Думали: не дать свободы опасно — как бы сдавленные пары не взорвали и котел и всю постройку. Но и дать опасно — а вдруг пары прорвутся в предложенную щель и все разметут.
Александр II уступил — дал реформы; эхом народовольческих выстрелов были конституционные проекты Лорис-Меликова. Но в тот день, когда царь подписал документ, с которого могла начаться неосуществленная российская конституция 1881 г., — в тот день царя взорвали. Конституционные проекты маячили и после. Однако к 1883 г. вдруг открылось, что можно и ничего не дать. Считалось, что царя убили «из-за уступок», что если б не влияние либерального брата Константина, то Александр II остался бы жив. Мысль о «безумной», «слепой» идее «палаты представителей» развил впоследствии и Победоносцев.
Тогда-то стали «зажимать» и вдруг заметили, что получается; что вроде бы прав был Пушкин, писавший о русском правительстве: «Сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания».
Тогда-то сделалась тривиальной, самоочевидной мысль, что жесткий курс успокоил страну, и часто сопоставляли железного Николая I, при котором был порядок и никто не смел покушаться, с «мягким Александром II», который уступал и был преследуем, как лесная дичь, пока не сделался охотничьим трофеем народовольцев.
Но как ни превозносились николаевские времена, серьезно никто не верил (разве что в мечтах, беседах), что можно их полностью вернуть, — и дело тут не в доброте или злобе правителей, а в необратимости происходящих исторических процессов.
Самодержавие Александра III было плохим, но не могло стать еще хуже. Половцова этот вопрос, кстати, очень занимал: онвздрагивал при исторических аналогиях. На премьере оперы Рубинштейна «Купец Калашников» царь был доволен, государственный же секретарь был недоволен царем: «…самые сцены могут возбудить в толпе одно лишь отвращение к дикому произволу. Все это представление нечто вроде „Le roi s’amuse“[351], переложенное на татарские нравы. Какая надобность отождествлять это с принципом верховной власти и притом по возможности в наглядной форме?!» Для Половцова Павел I, Иван Грозный («одичалый до грубости своенравец») — это ужасные явления, которые не должны повторяться в России. Выступая против своевольного вмешательства верховной власти в гражданское правосудие, он замечает, что «легко переступить ту черту, которая отделяет правительства монархические, самодержавные от деспотических, азиатских правительств с отличающею их спутанностью и беспорядочностью…».
Решительно, в истории ходы обратно не берутся, и даже когда кажется, что берутся, это уж совсем другие ходы. Уяснив эту истину, Половцов — как и некоторые другие важные лица — хотел понять, куда же движется его страна и ее режим и что надо бы сделать. Дневник поэтому сохранил интересные размышления государственного секретаря о настоящем и будущем.
Половцов обладал тремя качествами, в которых, по мнению Блока, нуждались императорские сановники: он был — или старался быть — идейным, верующим в эту власть, был мужественным («нераздвоенным») и честным (признавал аксиомы нравственности). Своей идейностью Половцов гордится и желает, чтобы коллеги его чаще исходили в своих поступках из категорий «Россия», «дворянство», «царская фамилия», а не из пятидесяти тысяч годовых и количества комнат в казенной квартире. Он считает, что Дмитрий Толстой, никогда не думавший об отечестве и об окладе порознь, а всегда вместе, — много хуже, чем жандармский подполковник Судейкин, прибегавший к провокациям, иезуитским допросам, но, по мнению Половцова, несший службу «не по обязанности, а по убеждению, по охоте».
Половцов хочет, чтобы в его кругу волновались из-за больших вопросов, чтоб говорили «не о ком-нибудь, а о чем-нибудь».
О чем же хочет говорить образованный идейный царедворец за четверть века до гибели режима?
«Конституционные бредни» и «послабления низам» Половцов отвергает решительно, убежденно, иногда обгоняя в этом самого Победоносцева: например, он возражает против открытия Томского университета («центр неудовольствия» вблизи сибирской ссылки).
Но государственный секретарь в отличие от многих соратников поднялся до важной мысли: одной негативной программы мало. Хочет же Половцов вот чего:
во-первых, укрепления и расширения того узкого фундамента, на котором стоит монархия (для этого прежде всего — экономические реформы);
во-вторых, хочет он самодержавного царя, окруженного умными, дельными советниками (подразумевает самого себя и себе подобных).
В экономической программе Половцова много такого, что позже осуществили Витте и Столыпин. Государственный секретарь достаточно разбирается в делах, чтобы понять, что голод 1891–1892 гг. — не только и не столько из-за случайностей неурожая; с великим князем Владимиром Половцов толкует однажды «об упадке наших ценностей за границей»: «…я стараюсь убедить его, что упадок этот есть результат нашей экономической и международной политики, но он остается при убеждении, что упадок этот есть результат вражды Бисмарка, который руководит еврейскими проделками». Автор дневника понимает также, что в России нет средств для войны, он решительно против «табунного ковыряния земли», то есть общины, и даже пытается сокрушить своей логикой патриархальные пристрастия Александра III: защита общины «…это все идеи Французской революции, идеи равенства, которого не может и не должно существовать на земле. Отношения между бедными и богатыми должны устанавливаться под влиянием религии, нравственности, а не полицейских распоряжений. Существование собственников крупных еще более, чем мелких, представляет гарантии для правительства, отнимает почву у анархистов всякого рода». (Любопытная идеологическая реакция на народнические теории «общинного социализма».)
Мысль о том, что надо ускорить экономическое развитие, кажется, не могла быть ошибочной. Как раз по финансовой и торгово-промышленной части в конце XIX столетия делалось немало (финансовые реформы Вышнеградского и Витте, промышленный подъем девяностых годов). Половцов, как позже Столыпин, надеялся, что новые богачи укрепят старую империю. Однако если посмотреть на экономические мечтания в духе Половцова со стороны, имея в виду, что стало потом, то легко заметить, как хотелось умным сановникам некоторыми экономическими реформами избежать крупных политических реформ. Столыпин просил «двадцать лет», чтобы преобразовать Россию: за двадцать лет, может, и преобразовал бы, создал бы новый «фундамент». Но не было у них этих «двадцати лет». Мало было одних ограниченных экономических реформ: политические преобразования, вовремя осуществленные, были бы последним шансом для того мира спастись. Половцов смутно, инстинктивно ощущает, что в России, где «все — сверху», нужно бы не только экономическое оживление, но и какие-то перемены в управлении. Хорошо бы, размышляет Половцов, чтобы верховную власть окружали умные советники и чтобы время от времени приглашались сведущие люди с мест, люди, может быть, даже выбранные (страшно сказать!) своими сословиями. Ему кажется, что круг советников Екатерины II и Николая I был именно таков, какой нужен их наследникам, но с тех пор — «боярин оскудел». Внимание Половцова обращается к Государственному совету — чисто совещательному органу при царе; учреждению такого типа, которое существует при самой сверхдеспотической власти, — и при фараонах, и при Нероне, и при Иване Грозном, существует по той простой причине, что даже самый угрюмый деспот не может управлять в одиночку. Но Половцов склонен к иллюзиям — ему кажется, что именно в Совете, где собраны умные сановники, прежде занимавшие высокие правительственные посты, может быть осуществлена идея семейного единения двух властей — «ответственной и безответственной». Он даже докладывает царю, что в Государственном совете можно… свободнее критиковать власть, чем в парламентах.
Государственный секретарь, следуя за своими иллюзиями, стремился как-то повысить авторитет Государственного совета — пытался, например, чаще приглашать солидных экспертов «со стороны». Однажды, когда для обсуждения пошлин на химические продукты был привлечен Д. И. Менделеев, Половцов осторожно пытался сделать из этого факта принципиальные выводы: «Я чужд конституционных, парламентских бредней. Я сегодня говорю Вам, государь, в таком смысле, чтобы, так сказать, расширить Вашу власть в отношении Вашего Совета. Почему Вы должны слушать советов, только исходящих от чиновников с медными пуговицами? Будто кроме их нет в России людей, могущих сказать полезное при обсуждении того или другого законопроекта слово».
Но царь и большинство людей «первого ранга» не умели и не желали перестраиваться. Когда речь шла, например, о реформе местных учреждений, то Александр III возмущался, что столь важное дело обсуждается в столь большой комиссии: чем важнее дело, тем меньше людей должно его обсуждать.
Дневники Половцова позволяют разглядеть любопытное явление времени. Пока в обществе не созрела мысль о существенных переменах, наверху было больше убежденных людей. Когда же дух преобразований бродит в умах, тогда и наверх постепенно проникает яд сомнения. Самые тупые держиморды и те не могут быть так уверены в своей правоте, как их деды и прадеды, и начинается «раздвоение»: у самых умных — сознательное, у прочих — подсознательное. Понимают, что надо бы многое «переменить», но не желают. Отдельные лица — как Половцов — беспокоятся, пытаются хоть что-то сделать, другие же не беспокоятся и оттого становятся циниками. Цинизм в этой ситуации — социальное явление: нередкое раньше соединение — «сторонник власти, но порядочный человек» — теперь все менее возможно, а при дальнейшем развитии событий совсем почти невозможно…
Портреты большинства коллег нарисованы Половцовым весьма впечатляюще. Председателя Государственного совета Михаила Николаевича земские, городские, судебные дела занимают неизмеримо меньше, нежели то обстоятельство, что министр двора «распорядился нынче летом запереть нам… нижнюю дорожку, по которой ездили все члены императорской фамилии». О министре просвещения Делянове: «Подлый, ничтожный Деляшка… какой стыд для России иметь подобного человека во главе народного просвещения!» После Дмитрия Толстого появляется «Лжедмитрий» Дурново, искренне полагающий, что на Урале существуют «бронзовые рудники».
О страшной Карийской трагедии Половцов записывает следующее: «Прошу дать мне записку, представленную Дурново, о восстании нигилистов в Сибири и о том, как была высечена женщина, которая отравилась, а по ее примеру и другие, опасавшиеся подвергнуться той же участи. Дурново на мое замечание, что эти факты, появясь в заграничной печати, могут подать повод к парламентским запросам, отвечает, что это невозможно, потому что закон разрешает сечь ссыльнокаторжных женщин. Я ему возражаю, что оправдание хуже тяжести первоначального обвинения, что, разумеется, войны из-за таких парламентских интерпелляций никто не объявит, но что это придаст нравственный авторитет нигилистам в собственных их глазах…»
Судя по дневнику, его встревоженный автор беспрерывно агитировал двух братьев царя, обладавших известным здравым смыслом, чтобы они повлияли на Александра III и чтобы подумали, как оздоровить страну. Однако «вел. князь Алексей отвечает мне, что чувствует себя не довольно для того образованным и слишком ленивым».
Великий князь Владимир: «Родина сама выпутается».
Половцов: «Я бы только хотел, чтобы она выпуталась во главе со своей правящей династией».
«Родина выпутается» — российский вариант французского «После нас хоть потоп» — приводил Половцова в уныние.
Все сильнее его желание выйти в отставку и все мрачнее его предчувствия.
«Самодержавие, о котором так много толкуют, есть только внешняя форма, усиленное выражение того внутреннего содержания, которое отсутствует. В тихое, нормальное время дела плетутся, но не дай бог грозу, не знаешь, что произойдет».
Мрачные, апокалиптические пророчества в дневнике делового, государственного человека — по закону контраста — звучат особенно внушительно.
Если б люди поважнее Половцова могли предвидеть, высмотреть точную картину того, что станет с ними и их детьми в 1917 г., они бы…
Они бы все равно не переменились, они бы решительно не поверили в предсказания, даже заверенные лучшими предсказателями: «Родина выпутается…»
Они безнадежно просрочили время и проиграли. Среди проигравших были очень неглупые люди. Но к такого рода умам применима реплика Ивана Андреевича Крылова (баснописца как-то уговаривали, что Сенковский умен):
— Умный! Да ум-то у него дурацкий…
«Старая русская власть делилась на безответственную и ответственную.
Вторая несла ответственность только перед первой, а не перед народом.
Такой порядок требовал людей верующих (вера в помазание), мужественных (нераздвоенных) и честных (аксиомы нравственности). С непомерным же развитием России вглубь и вширь он требовал еще — все повелительнее — гениальности.
Всех этих свойств давно уже не было у носителей власти в России. Верхи мельчали, развращая низы…»
Александр Блок сделал эту запись в своем дневнике в 1917 г., через два месяца после Февральской революции.
Тремя десятилетиями раньше нечто подобное высказал в своем дневнике государственный секретарь и председатель Русского исторического общества Александр Половцов[350].
Большой поэт и крупный государственный чиновник — люди столь чужие и далекие, что на перекрестке их суждений вероятна встреча с истиной. (Впрочем, поэт с дневника, записной книжки только «начинается», завершаясь в своих произведениях; для государственного же человека дневник, напротив, итог, предел, вершина искренности…)
Александр Половцов вел дневник почти всю жизнь, доверяя сокровенные мысли и знания своим тетрадям, но не скрывая надежды, что когда-нибудь дневник прочтут и оценят. Это «когда-нибудь» наступило сейчас: пролежало несколько десятилетий в архиве и ныне напечатано более тысячи страниц важного документа. Документ позволяет еще и еще раз поразмыслить о русском историческом процессе, о корнях и судьбах «ответственного и безответственного» российского деспотизма.
Автор дневника не только видит, как делается политика, но и сам — один из ее делателей. Половцов фактически управлял делами Государственного совета, состоя в качестве «гувернера» при номинальном председателе, великом князе Михаиле Николаевиче. Главной обязанностью Половцова было, однако, дело весьма деликатного свойства: царь Александр III желал сам разобраться во всех многосложных вопросах, обсуждавшихся Советом, но разобраться не мог, и Половцову были поручены секретные мемории, то есть переводы протоколов с непонятного делового на простой царский язык. (Прежде так не делалось — цари либо сами разбирались, либо «не вникали».) Мемории были государственной тайной и после использования уничтожались, составитель же их, естественно, имел прямой доступ к царю и часто с ним встречался с глазу на глаз. Во время маневров у Нарвы русская и германская императорские семьи жили в доме Половцова. На общественных весах, кроме этих обстоятельств, немало тянуло многомиллионное состояние государственного секретаря, который охотился и завтракал с великими князьями, был в родстве с несколькими очень знатными фамилиями и «на ты» с Победоносцевым.
«У Половцова, — справедливо отмечает во вступительной статье профессор П. А. Зайончковский, — мы не встречаем каких-либо ярких и глубоких мыслей, обобщений, которые имеются в дневниках Валуева и Милютина, однако записи Половцова подробнее и содержат больше фактов, — и в этом заключается особая ценность его дневника как исторического источника».
Дневник переносит читателя в одну из самых таинственных и благоденствующих российских сфер. Этот мир сильно отличался от всех других российских миров неповторимыми чертами быта, морали, меню и лексикона.
В дневнике, однако, не только быт, но и время. Время сравнительно тихое: позади остались реформы шестидесятых и террористы семидесятых годов, цареубийство 1 марта 1881 г. Впереди — неизвестность…
В сравнительно тихие и глухие восьмидесятые годы «врагом внутренним» не только пугали — его и в самом деле боялись.
Половцов прибывает со двором в Москву в дни коронации Александра III и сообщает немало колоритных подробностей.
Перед въездом царской четы в город министр внутренних дел «осмотрел подвалы всех церквей и принял всевозможные средства безопасности. От Петровского дворца до Кремля будет, кроме войска и наемных агентов, находиться 23 тыс. добровольно принявших на себя охрану крестьян. Организациею этой охраны заведует гр. Бобринский. Каждый домовладелец дает список лиц, допущенных им в дом для того, чтобы смотреть на въезд. На крышах народа не будет, а на чердаках повсеместно расположены солдаты. Несмотря на все эти предосторожности, от единичной динамитной бомбы никто уберечься не может, но полиция уверена, что заговора среди нигилистов на это время нет».
Десятого мая 1883 г. совершается въезд, торжественный, но слишком быстрый. Придворные в Кремле гадают: будет бомба или не будет? «При входе императорской четы всякий из нас невольно творит крестное знамение. Государь с императрицей, войдя в Успенский собор, под силою только что пережитого впечатления останавливаются как бы в раздумье. Вел. кн. Владимир Александрович подходит к ним и напоминает о том, что надо прикладываться к образам… У всякого свалился с сердца камень, все идут по домам с улыбкою на устах, чуть не христосуются на улицах».
Осенью того же года «некстати» умер И. С. Тургенев. Дальновидный Половцов советует похоронить писателя на казенный счет и, «забрав дело церемении в свои руки, отклонить всякие противоправительственные демонстрации», однако министр внутренних дел Дмитрий Толстой находит, что «Тургенев недостаточно велик для подобной государственной почести, указывая на последние его сочинения как на противоправительственные поступки». Кроме того, министр откровенно признается Половцову, что «совершенно спокоен, зная, что террористическая партия никакого участия принимать не намерена, а участие партии либеральной означает лишь пустую болтовню». Наконец 30 сентября 1883 г. Половцов вносит в дневник замечательно составленную фразу: «У Толстого ликуют об успехе тургеневских похорон».
В дневнике много таких историй, много известных политических событий, но зафиксированных в непривычном для нас «виде сверху». И много страху. Страхи были и перед настоящей опасностью, и перед несуществующей… Тут не простая трусость, а определенная логика: запрет «на все» оборачивается страхом «перед всем».
Запреты, страхи, успехи и неуспехи власти складывались в равнодействующую, именуемую внутренней политикой. В те времена генеральный вопрос внутренней политики был такой: уступать или зажимать? Либерально или охранительно?.. Думали: не дать свободы опасно — как бы сдавленные пары не взорвали и котел и всю постройку. Но и дать опасно — а вдруг пары прорвутся в предложенную щель и все разметут.
Александр II уступил — дал реформы; эхом народовольческих выстрелов были конституционные проекты Лорис-Меликова. Но в тот день, когда царь подписал документ, с которого могла начаться неосуществленная российская конституция 1881 г., — в тот день царя взорвали. Конституционные проекты маячили и после. Однако к 1883 г. вдруг открылось, что можно и ничего не дать. Считалось, что царя убили «из-за уступок», что если б не влияние либерального брата Константина, то Александр II остался бы жив. Мысль о «безумной», «слепой» идее «палаты представителей» развил впоследствии и Победоносцев.
Тогда-то стали «зажимать» и вдруг заметили, что получается; что вроде бы прав был Пушкин, писавший о русском правительстве: «Сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания».
Тогда-то сделалась тривиальной, самоочевидной мысль, что жесткий курс успокоил страну, и часто сопоставляли железного Николая I, при котором был порядок и никто не смел покушаться, с «мягким Александром II», который уступал и был преследуем, как лесная дичь, пока не сделался охотничьим трофеем народовольцев.
Но как ни превозносились николаевские времена, серьезно никто не верил (разве что в мечтах, беседах), что можно их полностью вернуть, — и дело тут не в доброте или злобе правителей, а в необратимости происходящих исторических процессов.
Самодержавие Александра III было плохим, но не могло стать еще хуже. Половцова этот вопрос, кстати, очень занимал: онвздрагивал при исторических аналогиях. На премьере оперы Рубинштейна «Купец Калашников» царь был доволен, государственный же секретарь был недоволен царем: «…самые сцены могут возбудить в толпе одно лишь отвращение к дикому произволу. Все это представление нечто вроде „Le roi s’amuse“[351], переложенное на татарские нравы. Какая надобность отождествлять это с принципом верховной власти и притом по возможности в наглядной форме?!» Для Половцова Павел I, Иван Грозный («одичалый до грубости своенравец») — это ужасные явления, которые не должны повторяться в России. Выступая против своевольного вмешательства верховной власти в гражданское правосудие, он замечает, что «легко переступить ту черту, которая отделяет правительства монархические, самодержавные от деспотических, азиатских правительств с отличающею их спутанностью и беспорядочностью…».
Решительно, в истории ходы обратно не берутся, и даже когда кажется, что берутся, это уж совсем другие ходы. Уяснив эту истину, Половцов — как и некоторые другие важные лица — хотел понять, куда же движется его страна и ее режим и что надо бы сделать. Дневник поэтому сохранил интересные размышления государственного секретаря о настоящем и будущем.
Половцов обладал тремя качествами, в которых, по мнению Блока, нуждались императорские сановники: он был — или старался быть — идейным, верующим в эту власть, был мужественным («нераздвоенным») и честным (признавал аксиомы нравственности). Своей идейностью Половцов гордится и желает, чтобы коллеги его чаще исходили в своих поступках из категорий «Россия», «дворянство», «царская фамилия», а не из пятидесяти тысяч годовых и количества комнат в казенной квартире. Он считает, что Дмитрий Толстой, никогда не думавший об отечестве и об окладе порознь, а всегда вместе, — много хуже, чем жандармский подполковник Судейкин, прибегавший к провокациям, иезуитским допросам, но, по мнению Половцова, несший службу «не по обязанности, а по убеждению, по охоте».
Половцов хочет, чтобы в его кругу волновались из-за больших вопросов, чтоб говорили «не о ком-нибудь, а о чем-нибудь».
О чем же хочет говорить образованный идейный царедворец за четверть века до гибели режима?
«Конституционные бредни» и «послабления низам» Половцов отвергает решительно, убежденно, иногда обгоняя в этом самого Победоносцева: например, он возражает против открытия Томского университета («центр неудовольствия» вблизи сибирской ссылки).
Но государственный секретарь в отличие от многих соратников поднялся до важной мысли: одной негативной программы мало. Хочет же Половцов вот чего:
во-первых, укрепления и расширения того узкого фундамента, на котором стоит монархия (для этого прежде всего — экономические реформы);
во-вторых, хочет он самодержавного царя, окруженного умными, дельными советниками (подразумевает самого себя и себе подобных).
В экономической программе Половцова много такого, что позже осуществили Витте и Столыпин. Государственный секретарь достаточно разбирается в делах, чтобы понять, что голод 1891–1892 гг. — не только и не столько из-за случайностей неурожая; с великим князем Владимиром Половцов толкует однажды «об упадке наших ценностей за границей»: «…я стараюсь убедить его, что упадок этот есть результат нашей экономической и международной политики, но он остается при убеждении, что упадок этот есть результат вражды Бисмарка, который руководит еврейскими проделками». Автор дневника понимает также, что в России нет средств для войны, он решительно против «табунного ковыряния земли», то есть общины, и даже пытается сокрушить своей логикой патриархальные пристрастия Александра III: защита общины «…это все идеи Французской революции, идеи равенства, которого не может и не должно существовать на земле. Отношения между бедными и богатыми должны устанавливаться под влиянием религии, нравственности, а не полицейских распоряжений. Существование собственников крупных еще более, чем мелких, представляет гарантии для правительства, отнимает почву у анархистов всякого рода». (Любопытная идеологическая реакция на народнические теории «общинного социализма».)
Мысль о том, что надо ускорить экономическое развитие, кажется, не могла быть ошибочной. Как раз по финансовой и торгово-промышленной части в конце XIX столетия делалось немало (финансовые реформы Вышнеградского и Витте, промышленный подъем девяностых годов). Половцов, как позже Столыпин, надеялся, что новые богачи укрепят старую империю. Однако если посмотреть на экономические мечтания в духе Половцова со стороны, имея в виду, что стало потом, то легко заметить, как хотелось умным сановникам некоторыми экономическими реформами избежать крупных политических реформ. Столыпин просил «двадцать лет», чтобы преобразовать Россию: за двадцать лет, может, и преобразовал бы, создал бы новый «фундамент». Но не было у них этих «двадцати лет». Мало было одних ограниченных экономических реформ: политические преобразования, вовремя осуществленные, были бы последним шансом для того мира спастись. Половцов смутно, инстинктивно ощущает, что в России, где «все — сверху», нужно бы не только экономическое оживление, но и какие-то перемены в управлении. Хорошо бы, размышляет Половцов, чтобы верховную власть окружали умные советники и чтобы время от времени приглашались сведущие люди с мест, люди, может быть, даже выбранные (страшно сказать!) своими сословиями. Ему кажется, что круг советников Екатерины II и Николая I был именно таков, какой нужен их наследникам, но с тех пор — «боярин оскудел». Внимание Половцова обращается к Государственному совету — чисто совещательному органу при царе; учреждению такого типа, которое существует при самой сверхдеспотической власти, — и при фараонах, и при Нероне, и при Иване Грозном, существует по той простой причине, что даже самый угрюмый деспот не может управлять в одиночку. Но Половцов склонен к иллюзиям — ему кажется, что именно в Совете, где собраны умные сановники, прежде занимавшие высокие правительственные посты, может быть осуществлена идея семейного единения двух властей — «ответственной и безответственной». Он даже докладывает царю, что в Государственном совете можно… свободнее критиковать власть, чем в парламентах.
Государственный секретарь, следуя за своими иллюзиями, стремился как-то повысить авторитет Государственного совета — пытался, например, чаще приглашать солидных экспертов «со стороны». Однажды, когда для обсуждения пошлин на химические продукты был привлечен Д. И. Менделеев, Половцов осторожно пытался сделать из этого факта принципиальные выводы: «Я чужд конституционных, парламентских бредней. Я сегодня говорю Вам, государь, в таком смысле, чтобы, так сказать, расширить Вашу власть в отношении Вашего Совета. Почему Вы должны слушать советов, только исходящих от чиновников с медными пуговицами? Будто кроме их нет в России людей, могущих сказать полезное при обсуждении того или другого законопроекта слово».
Но царь и большинство людей «первого ранга» не умели и не желали перестраиваться. Когда речь шла, например, о реформе местных учреждений, то Александр III возмущался, что столь важное дело обсуждается в столь большой комиссии: чем важнее дело, тем меньше людей должно его обсуждать.
Дневники Половцова позволяют разглядеть любопытное явление времени. Пока в обществе не созрела мысль о существенных переменах, наверху было больше убежденных людей. Когда же дух преобразований бродит в умах, тогда и наверх постепенно проникает яд сомнения. Самые тупые держиморды и те не могут быть так уверены в своей правоте, как их деды и прадеды, и начинается «раздвоение»: у самых умных — сознательное, у прочих — подсознательное. Понимают, что надо бы многое «переменить», но не желают. Отдельные лица — как Половцов — беспокоятся, пытаются хоть что-то сделать, другие же не беспокоятся и оттого становятся циниками. Цинизм в этой ситуации — социальное явление: нередкое раньше соединение — «сторонник власти, но порядочный человек» — теперь все менее возможно, а при дальнейшем развитии событий совсем почти невозможно…
Портреты большинства коллег нарисованы Половцовым весьма впечатляюще. Председателя Государственного совета Михаила Николаевича земские, городские, судебные дела занимают неизмеримо меньше, нежели то обстоятельство, что министр двора «распорядился нынче летом запереть нам… нижнюю дорожку, по которой ездили все члены императорской фамилии». О министре просвещения Делянове: «Подлый, ничтожный Деляшка… какой стыд для России иметь подобного человека во главе народного просвещения!» После Дмитрия Толстого появляется «Лжедмитрий» Дурново, искренне полагающий, что на Урале существуют «бронзовые рудники».
О страшной Карийской трагедии Половцов записывает следующее: «Прошу дать мне записку, представленную Дурново, о восстании нигилистов в Сибири и о том, как была высечена женщина, которая отравилась, а по ее примеру и другие, опасавшиеся подвергнуться той же участи. Дурново на мое замечание, что эти факты, появясь в заграничной печати, могут подать повод к парламентским запросам, отвечает, что это невозможно, потому что закон разрешает сечь ссыльнокаторжных женщин. Я ему возражаю, что оправдание хуже тяжести первоначального обвинения, что, разумеется, войны из-за таких парламентских интерпелляций никто не объявит, но что это придаст нравственный авторитет нигилистам в собственных их глазах…»
Судя по дневнику, его встревоженный автор беспрерывно агитировал двух братьев царя, обладавших известным здравым смыслом, чтобы они повлияли на Александра III и чтобы подумали, как оздоровить страну. Однако «вел. князь Алексей отвечает мне, что чувствует себя не довольно для того образованным и слишком ленивым».
Великий князь Владимир: «Родина сама выпутается».
Половцов: «Я бы только хотел, чтобы она выпуталась во главе со своей правящей династией».
«Родина выпутается» — российский вариант французского «После нас хоть потоп» — приводил Половцова в уныние.
Все сильнее его желание выйти в отставку и все мрачнее его предчувствия.
«Самодержавие, о котором так много толкуют, есть только внешняя форма, усиленное выражение того внутреннего содержания, которое отсутствует. В тихое, нормальное время дела плетутся, но не дай бог грозу, не знаешь, что произойдет».
Мрачные, апокалиптические пророчества в дневнике делового, государственного человека — по закону контраста — звучат особенно внушительно.
Если б люди поважнее Половцова могли предвидеть, высмотреть точную картину того, что станет с ними и их детьми в 1917 г., они бы…
Они бы все равно не переменились, они бы решительно не поверили в предсказания, даже заверенные лучшими предсказателями: «Родина выпутается…»
Они безнадежно просрочили время и проиграли. Среди проигравших были очень неглупые люди. Но к такого рода умам применима реплика Ивана Андреевича Крылова (баснописца как-то уговаривали, что Сенковский умен):
— Умный! Да ум-то у него дурацкий…
* * *
Приведенные наблюдения над дневником Половцова, конечно, далеко не исчерпывают значения этого интересного документа. Дневник Половцова очень ценен как источник, как пособие для исследования истории России прошлого века. Редактор издания, автор биографического очерка и комментариев проф. П. А. Зайончковский давно и успешно разрабатывает одну из самых неизученных тем — историю государственной внутренней политики России в прошлом столетии. Серьезные труды П. А. Зайончковского о крестьянской и военной реформах, о кризисе самодержавия в семидесятых — восьмидесятых годах доказывают внимание и уважение исследователя к историческому факту. Об этом нужно сказать особо, так как в свое время в нашей исторической литературе распространился примерно такой взгляд: факты — это нечто доступное историкам любого направления (поскольку факты умеют находить и буржуазные и дворянские историки, а пока речь о фактах — спорить с ними почти не о чем). Важнее фактов — концепция, ибо, как только начинается концепция, возникают разногласия, появляется «классовая правда» и «классовая ложь», а факты легко группируются и истолковываются… Концепции, выраставшие из фактов, усиливали науку, но «недостатки — продолжение достоинств», и все чаще — по разным причинам — концепции от фактов начинали отрываться. Порою они совсем не вытекали из фактов, еще немного — и концепции начинали сами группировать и даже создавать факты… Так вползали в науку работы-оборотни, не завершавшиеся, но начинавшиеся с выводов. На этом опасном пути было много потерь. Однако лучшие советские историки никогда не позволяли концепции съесть факты. Они писали свои книги, где доказывались теоремы, а не иллюстрировались общеизвестные положения. Но, кроме того, они представляли читателям и сами факты в первозданном виде. П. А. Зайончковский, например, почти каждый свой труд сопровождает изданием использованного в нем ценного источника. Работа над книгой «Военные реформы 1860–1870 гг. в России» сопровождалась четырехтомным изданием дневника военного министра Д. А. Милютина. Трудам об отмене крепостного права и книге «Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880 годов» сопутствовало двухтомное издание дневника министра внутренних дел П. А. Валуева. Сейчас П. А. Зайончковский работает над книгой о самодержавии Александра III, внутренней политике восьмидесятых годов[352]: «параллельное издание» — дневник А. А. Половцова. В последнее время издание источников расширилось, напечатано и печатается множество материалов о русском освободительном движении (в частности, «Колокол», «Полярная звезда», сборники о крестьянском и рабочем движении), изданы десятки томов мемуарной литературы. Издание источников ценно уже тем, что заключает в себе элемент уважения к читателю, предоставляя право ему самому во всем разобраться. Это право может быть усилено или ослаблено качеством издания — точностью воспроизведения текста, богатством и полнотой комментария, вступительной статьи, именного указателя. Образцовое издание дневников Половцова — несомненно, важное научное и общественное событие.Новый мир. 1967. № 7.

В данном сборнике произведения Н. Я. Эйдельмана печатаются по текстам первых публикаций. При наличии прижизненных переизданий учтены внесенные в них автором исправления. Названия архивов унифицированы, в ряде случаев старые издания источников заменены в ссылках новыми, более полными и исправными. Редакционные примечания оговорены пометой «Ред.»
Список сокращений
ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки ОР ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина РО ГНБ АН Украины — Рукописный отдел Государственной научной библиотеки АН УССР РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы Российской АН (Пушкинского дома) ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления (ныне ГАРФ — Государственный Архив Российской Федерации) ЦГИА — Центральный государственный исторический архив

История продолжается… … 5 Розыскное дело … 50 «Счастья баловень безродный…» … 82 Колокольчик Ганнибала … 89 Брауншвейгское семейство … 130 Мемуары Екатерины II … 154 17 сентября 1773 года … 181 Лже… … 201 Где секретная конституция Фонвизина-Панина? … 214 Вослед Радищеву… … 227 Дворцовый заговор 1797–1799 годов … 266 Записки Беннигсена … 285 «Идет куда-то…» … 316 Вспоминающая Россия (Размышления над книгой) … 336 Пестель и Пален … 341 К биографии Сергея Ивановича Муравьева-Апостола … 349 Не ему их судить… … 372 Журналы и докладные записки Следственного комитета по делу декабристов … 382 Не было-было (Из легенд прошлого столетия) … 410 «Где и что Липранди?..» … 429 В предчувствии краха … 465 Примечания … 477




Последние комментарии
13 часов 28 минут назад
22 часов 20 минут назад
22 часов 23 минут назад
3 дней 4 часов назад
3 дней 9 часов назад
3 дней 10 часов назад